Книга: Чёрная вдова
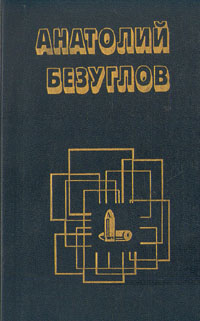
Чёрная вдова
Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актёры.
У них свои есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Набитый донельзя автобус, как это бывает в часы пик, проскользил юзом до остановки, и, когда дверцы, сдерживаемые сплотившимися телами, наконец отворились, Лена не сошла — её буквально вынесло потоком нетерпеливых пассажиров. Сразу стало свободно и легко. Оттого что позади длинный рабочий день, душный переезд в переполненном «Икарусе» и впереди, метрах в пятидесяти, родная девятиэтажка.
Лена поправила на голове сбившуюся песцовую шапку, что никак не удавалось сделать в автобусе, вдохнула морозный воздух, пахнувший почему-то молоком, и быстро зашагала по дорожке, проложенной среди редких голых берёзок и рябин.
Снег падал косо, из-за чего казалось, что их дом не стоит на месте, а движется вбок и вверх. Почти все окна горели уютным жёлтым светом, и здание походило на корабль, пробирающися сквозь непогоду по студёному северному морю.
Лена не заметила, что убыстряет шаги. Непроизвольно отыскала два окна на шестом этаже. Потухшие, как глазницы покойного.
«Может, он в спальне?» — тешила себя надеждой Лена, забегая в подъезд и машинально набирая номер кода входной двери. Окно из спальни выходило на другую сторону дома.
Вот так последнее время каждый день она обманывала себя надеждой, что Глеб вернулся в положенный час и ждёт её, как было прежде, в первые годы её замужества.
Лифт поднимался медленно-медленно, мучительно долго не открывались автоматические двери.
Лена уже приготовила ключи, вставила один из них в верхний замок, импортный «аблоу».
«Глеба нет».
Потому что, если кто-нибудь из них дома, «аблоу» поставлен на жучок.
Неповторимый запах родной квартиры. Одеколона «Арамис», которым муж освежает лицо после бритья, её французской туалетной воды и едва-едва — сигарет «Космос»: других Глеб не курит. Но дом пуст, и от этих запахов становится ещё грустней. Это запах одиночества…
Лена повесила свою дублёнку на вешалку, сняла сапоги, положила вдруг ставшую мокрой и съёжившейся шапку на столик в углу прихожей и поплелась в комнату. Когда она бывала одна, то включала все светильники: люстру с хрустальными висюльками, огромную фарфоровую настольную лампу на журнальном столике, бра у тахты. Полумрак, нравившийся Лене, если в квартире находился муж, сегодня угнетал её.
И все же этот праздник света, выявлявший всю прелесть хорошего дерева мебели, глубину тонов ковров на стенах и полу, тонкость расцветки и узора обоев, не вносил в душу покоя.
Лена пошла в спальню, зажгла плафон на потолке, ночники у изголовья широкой кровати, застеленной диковинным покрывалом с золотистыми драконами, и, бросив равнодушный взгляд на это уютное гнёздышко, стала переодеваться в домашнее.
И, уже облачившись в длинный, ладно облегающий её тело халат, посмотрела на своё отражение в зеркалах трельяжа, показывающих её с трех сторон.
Себе она не понравилась.
«В самом деле толстею», — вздохнула Лена.
Особенно тоскливо было идти на кухню. Неведомо откуда (с детских лет?) в ней жило ощущение, что кухня в семье — самый заветный уголок, определяющий человеческие отношения. А скорее — выявляющий. Какие там происходят разговоры, как ведёт себя Глеб на кухне — это для Лены барометр того, что происходит между ними.
И ещё — кухня была всегда желанным полем деятельности. От бабушки и от матери Лена унаследовала талант кулинарки.
Сколько Лена себя помнила, особой заботой в их семье была еда — покупалось больше, чем надо, готовилось в изобилии, вкусно, жирно и сладко.
Лену прочили в кулинары, уже загодя, с семилетки, выбирая соответствующее учебное заведение, но стала она инженером-химиком. Совершенно случайно, из-за солидарности с ближайшей подругой. Вместе приехали в Средневолжск, областной город, где вдовствовала её бабушка по матери, поселились у неё в просторной двухкомнатной квартире (где теперь жила Лена с Глебом) и вместе подали документы в университет на химфак, куда поступили с первого захода. На втором курсе между ними «пробежала чёрная кошка», и подруга ушла в общежитие. Дружба больше так и не вернулась. На память о прежней привязанности осталась профессия.
— Может, и хорошо, что химик, — говаривала покойная бабушка. — А ублажать вкусной едой будешь мужа и деток. На службе небось надоедало бы кормить других, для дома не оставалось бы пороху…
Глеб и очаровал бабушку тем, что при первом их знакомстве (привести на «смотрины» кавалера внучку заставила сама бабушка) заинтриговал знанием рецептов древних римских гастрономов.
Ещё тогда, когда они только встречались на вечерах, ходили вместе в кино, театр, Лена мечтала, как будет холить и нежить своего мужа. В Глеба она влюбилась, как говорится, с первого взгляда, а любовь у Лены прочно связывалась с понятием «замужество». Правда, к глажке, шитью и уборке квартиры душа у неё не лежала. Да и замечено: кто любит поварёшку и кухонный нож, тот не особенно жалует иголку, швабру и утюг. И наоборот. Однако выполнять любую работу по хозяйству её приучили. Но услышанное где-то, ещё девочкой, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, давало Лене основание надеяться: в этом она добьётся своего наверняка. И вот — не получилось. Глеб оказался не тем мужчиной. Похоже, ему не нравилось и пристрастие жены к еде. С неделю назад, за обедом, — дело было в воскресенье — он вдруг сказал:
— Господи, ну разве мыслимо так много есть!
Лена убежала из-за стола, бросилась на тахту и разревелась, как девчонка.
Глеб пришёл виноватый, сел рядышком и стал гладить её по голове.
— Ну-ну, Фери, не надо разводить сырость. Я же любя… — извиняющимся тоном говорил он, употребив самое ласковое прозвище, которое взял бог знает откуда. — Сама ведь жалуешься, что платья надо расставлять.
Лучше бы он не касался этого. Самое больное её место.
В понедельник муж пришёл рано, и Лена решила, что теперь-то он будет больше уделять ей внимания. Куда там! Во вторник Глеб вернулся домой за полночь, в среду — ещё позже. Словом, опять забыл о жене. Диссертация перевесила супружеский долг.
Ох уж эта диссертация! Третий год пошёл аспирантуре Глеба. Как он выразился, впереди — финишная прямая.
Он целыми днями пропадал в библиотеках, да ещё засиживался в архиве.
Вчера у неё терпение кончилось. Когда Глеб заявился без четверти два, она закатила ему скандал: библиотеки уже давно закрылись…
— У патрона был, — невозмутимо сказал Глеб, выслушав её упрёки.
Патроном он называл доцента кафедры Михаила Емельяновича Старостина, своего научного руководителя.
Муж, отказавшись даже от чашки чая, сразу направился в спальню. А она весь вечер ждала, приготовив его любимые (единственное желанное для Глеба) пирожки с капустой и яйцами.
— Неужели ты не мог хотя бы позвонить? — хрустя пальцами, увещевала Лена супруга, когда он, усталый и равнодушный, скидывал одежду. — Ведь у Михаила Емельяновича телефон.
Глеб, не удосужив её ответом, свалился в постель, отвернулся и накрыл голову одеялом. Ей стало до того тоскливо и обидно, что она разревелась. И уже не помнила, что говорила мужу. Умоляла сказать правду, если разлюбил, нечего обманывать себя и её. Цепляться за него она не станет.
Глеб вдруг всхрапнул. Лена думала — притворяется. Но нет. Он действительно спал. Она пошла на кухню, сварила крепкий кофе и до утра размышляла о том, что семья рушится, если уже не рухнула совсем, и не диссертация является причиной его поздних возвращений, а наверняка женщина, и, может быть, не одна.
Лена пыталась отнестись к своему открытию спокойно, философски. Но…
Как можно думать о таких вещах отвлечённо, если она любит Глеба! Любила!
Лена пила кофе, страдала, ела пирожки (такая привычка: когда худо на душе, она ела ещё больше) и дождалась на кухне холодного синего рассвета. Уехала на работу с опустошённым, израненным сердцем, тщетно попытавшись скрыть косметикой тёмные впадины под глазами.
Слава богу, предаваться своим паническим мыслям не было времени — на комбинате приближался срок сдачи новой технологической линии. И, как это всегда бывает в предпусковые дни, обнаруживались неполадки за неполадками. Никто из инженеров не пошёл даже на обеденный перерыв. И только в автобусе по дороге домой в душе с новой силой вспыхнула тоска и боль. Опять пустая квартира, запах одиночества…
Лена толкнула дверь на кухню, щёлкнула выключателем. Мягкий свет абажура осветил стол, на котором лежала какая-то бумажка. Лена взяла её в руки.
Два билета во Дворец спорта. Первый ряд. На завтра.
Она повертела билеты в руках, удивляясь, чего это Глеба потянуло на спортивные соревнования. И тут зазвонил телефон. Аппараты стояли во всех помещениях — блажь мужа. Лена взяла трубку.
— Фери! — раздался чуть загадочный голос Глеба. — Ты довольна?
— Устала… — попыталась проявить строгость и независимость Лена, но на самом деле волна спокойствия и радости уже поднималась к горлу. — Что мы не видели во Дворце спорта?
— Вот те на! — искренне удивились на том конце провода. — Юрий Антонов!
— Да ну? — невольно вырвалось у Лены.
Весь город только и говорил о гастролях популярного эстрадного певца. Девчонки на комбинате умрут от зависти. Всего два концерта! Спекулянты, как она слышала, взвинтили цены до двадцати рублей за билет. Да и за такие деньги трудно достать.
— Глебушка, милый, — заворковала Лена, начисто забыв о всех обидах, которые ей пришлось вынести в последнее время. — Я безумно рада! Антонов! Да ещё первый ряд!..
— И будешь ты царицей мира, — весело пропел в трубку Глеб, — подруга верная моя.
— А мой неверный опять сегодня?.. — не удержалась Лена.
— Это почему же неверный? — обиделся Глеб.
— Не цепляйся к словам. — Лена уже пожалела о сказанном. — Задержишься?
— Фери, ты даже не представляешь, что у меня в руках! — восторженно произнёс муж.
— Какой-нибудь раритет? — спросила Лена, зная увлечённость мужа.
— Не раритет, но… В общем, я у Арсения Карловича. Дай бог управиться до трех часов. Не сердись и не хмурь бровей.
— Ладно уж. Ты на машине?
— Разумеется.
— Глеб, умоляю, осторожнее. Жуткая гололедица.
— Двадцать кэмэ в час, не больше! — пообещал Глеб и положил трубку.
Лена подошла к окну. Снег, холодный, искрящийся, кружил и кружил, тихо шелестел о стекло и напоминал о том, как неуютно там, на дворе.
— Эгоистка! — сказала Лена своему отражению в окне.
Она представила мужа в огромной квартире у старого, всеми уважаемого в городе библиомана Арсения Карловича Воловика, заставленной (даже на кухне!) шкафами с редчайшими книгами.
Значит, муж действительно занят делом. Как она могла подумать?
Устыдившись своих подозрений, Лена открыла холодильник.
Но есть не хотелось. Душа её тихо ликовала.
Весь следующий день Лена провела на работе в каком-то розовом тумане. Неувязки с новой линией словно бы и не трогали. Даже когда их распекал главный инженер, Лена думала о том, что ожидает её вечером. Конечно же она не удержалась и раззвонила сослуживцам о походе с мужем на Антонова. Девчонки завидовали, и это было Лене — как маслом по сердцу. Вот только Вера Сухотина… Нет, она тоже радовалась за Лену, но нельзя ощущать своё счастье до конца, если рядом обделённый человек. А Вере Лена сочувствовала глубоко и искренне. Деваха хоть куда — красивая, стройная и неглупая. Но не дай бог кому мыкать горе, как она! Всего двадцать четыре года, а уже вдова при живом муже. Прожили они полтора года. Он пил беспробудно, спустил все, что было в доме, и в один прекрасный день ушёл. Вера вздохнула было с некоторым облегчением, но… Ребёнок, девочка… Дефективная (по мнению врачей, из-за алкоголика-отца), в пять лет она в своём развитии оставалась на уровне годовалого дитя. И никакой надежды на выздоровление! Вот этот ужас безнадёжности так и поселился навсегда в чудных голубых глазах Веры.
«Господи! — думала Лена, глядя на Сухотину. — А я ещё жаловалась на свою жизнь! Подумаешь, Глеб весь отдаётся диссертации. Так ведь временно! Стремится выбиться в люди не только для себя, но и для меня».
Лена старалась избегать её взгляда, но получилось так, что из проходной они с Верой вышли вместе. И тут же увидели бежевую «Ладу-Спутник», за рулём которой сидел Глеб.
Давненько он не заезжал за женой после работы. Лена вспыхнула было счастьем, но тут же устыдилась его перед подругой. А Глеб весело махал из машины, приглашая обеих в салон: Вере было по пути, и раньше они иногда подвозили её.
Сухотина на этот раз отказалась, пробормотав что-то насчёт магазина, и пошла прочь, жалко опустив плечи.
Глеб, в темно-сером костюме, чёрной водолазке, оттеняющей его белое холёное лицо, тёплый в нагретой и уютной машине, чмокнул жену куда-то в висок и медленно тронул с места.
— Ну что же ты, мать, — улыбнулся он. — Если бы я не проявил мудрость и не заехал за тобой, опоздали бы.
Глеб щёлкнул по циферблату своих фирменных часов: Лена действительно задержалась минут на двадцать.
— У нас аврал. Я думала взять такси.
Утром она ушла, когда Глеб ещё спал, потому что приехал от Воловика около четырех часов ночи. Даже будучи вся во власти сна, Лена почувствовала, что у мужа отличное настроение. Сейчас он тоже был улыбчив, несколько ироничен — значит, дела шли хорошо.
«Какая я все-таки дура! — счастливо ругала себя Лена. — Не ценить того, что мне выпало…»
Она вспомнила, когда Глеб подошёл к ней впервые. Это было на университетском вечере по случаю первомайского праздника. Лена ещё раньше приметила этого высокого аспиранта с темно-русыми волосами и серыми глазами. Может быть, потому, что, ей казалось, он походил на артиста Олега Янковского. Правда, чем больше они были знакомы, тем меньше сходства она находила. Но то, первое, впечатление осталось. Лена не могла и мечтать о том, что красивый аспирант остановит своё внимание на ней: по нему вздыхали несколько её подруг и вздыхали безнадёжно. Исключительной красавицей Лена себя не считала. Талия коротковата, плечи широковаты… Правда, все хвалили её карие глаза, густые волнистые волосы, прямой нос. Она бы ещё добавила: рот тоже неплох, и зубы. Ровные, белые, они составляли предмет особой гордости Лены. Но чтобы он (Глеб Ярцев!) протанцевал с ней весь вечер, не отходил ни на шаг и вызвался провожать — это было как в сказочном сне.
За те четыре-пять часов она наслушалась столько интересного, сколько, пожалуй, не узнала за всю предыдущую жизнь. Глеб был историком, но он с такой же лёгкостью говорил о музыке и литературе, как и об истории. Впрочем, о неведомых ей вещах — тоже.
Глеб очаровал не только её. Бабушку, родителей. Правда, отец отнёсся к выбору дочери более сдержанно, чем женщины, но все же симпатизировал зятю. Во всяком случае, беседовал с ним с большим удовольствием.
Поженились они за два месяца до получения Леной диплома. И за полгода до смерти бабушки. Её квартира досталась молодожёнам.
Глеб свернул к их дому, подрулил к подъезду и предупредил жену:
— Фери, у тебя максимум пятнадцать минут. Я жду в машине.
— Беру обязательство управиться за десять, — засмеялась Лена.
Но она едва-едва уложилась в полчаса: не давалась причёска, платье, которое Лена наметила для концерта, оказалось неглаженым.
Прихватив бутерброд, она спустилась к машине, когда до начала концерта оставалось всего ничего. Глеб жал на всю железку.
После первого отделения, в антракте, они пошли в буфет. В фойе яблоку негде было упасть. Лена с некоторым удивлением для себя обнаружила, что молодёжи среди зрителей меньше, чем солидных, степенных людей, хотя это — эстрада, а не какой-нибудь серьёзный концерт.
— Наивнячка ты у меня, — объяснил Лене Глеб, когда они потягивали у высокого столика пепси-колу из бутылочек. — Билеты ведь в основном кому достались? Блатовикам! А студенты и школьники связями не обзавелись, а посему остались с носом.
Лена ещё больше зауважала себя и мужа. Не только попали на концерт, но сидели на первом ряду! Впрочем, к подобным вещам она привыкла и принимала как должное. Её Глеб имеет право быть везде первым. И она — с ним.
Даже ректор университета — и это знали все студенты и преподаватели — всегда здоровался с Глебом за руку, не забывая справиться о семье и передать привет отцу. Многие считали, что причиной тому — Ярцев-старший и не верили Лене, когда она говорила, что Глеб никогда не использует имя отца, ничего у него не просит. Все, чего её муж добивается, делается только своими руками и своей головой.
— Приветствую вас, молодые люди! — раздался рядом низкий, с хрипотцой голос.
Глеб и Лена обернулись — коренастый крепкий мужчина с редкими седыми волосами, тщательно зачёсанными назад, держал в руках бутылку минеральной воды с надетыми на неё двумя тонкими стаканами и картонную тарелочку с пирожными. Возле него стояла высокая женщина в темно-синем шерстяном платье с воротником и манжетами из елецких кружев.
— Добрый вечер! — обрадовался Глеб, сдвигая на мраморной столешнице пустую посуду. — Пристраивайтесь к нам.
Это был начальник областного управления внутренних дел генерал-майор Игнат Прохорович Копылов с женой Зинаидой Савельевной.
Лена тоже обменялась с ними приветствиями.
— Духотища! — промокнул лоб платком Копылов, наливая себе и супруге минеральной воды.
Без мундира генерал не смотрелся. Впрочем, Глеб чаще видел Копылова в домашнем и теперь не мог решить, как обращаться к нему — по имени-отчеству или же просто дядя Гоша.
— Говорила тебе, овчинка выделки не стоит, — с укоризной произнесла Зинаида Савельевна. — По телевизору лучше.
— Скажешь тоже, — покачал головой генерал. — Да и транслировать не будут. Я узнавал.
— Его чуть ли не каждый день показывают, — не сдавалась жена.
— Вам не нравится Антонов? — округлила глаза Лена.
— Ничего особенного, — пожала плечами Зинаида Савельевна. — Такой ажиотаж, а из-за чего? На уровне художественной самодеятельности.
— Это ты зря, Зинаида, — сказал Игнат Прохорович. — Действительно, простоват вроде, а что-то есть. За душу берет.
— Он прекрасный мелодист! — подхватила Лена, потому что не могла сдержать своего восторга от концерта.
— Антонов подобрал удачный образ, — вставил Глеб. — Свой парень, доступный, понятный… Словно ваш друг и поёт только для вас. Людям всегда приятно то, что они легко воспринимают. А вообще-то о вкусах не спорят. Чарли Чаплин считал, что к искусству надо относиться по принципу — нравится или нет.
— Это кто понимает и имеет своё суждение, — продолжала спорить Зинаида Савельевна. — Но скажи честно, Глебушка, неужели это, — она кивнула на дверь в зал, — стоит того, чтобы с выпученными глазами бисировать, кричать, выскакивать на сцену, как та девчонка? Разве нормальный человек…
Во время концерта одна девица несколько раз выбегала с цветами, даже пыталась поцеловать руку певцу.
— Фанатичка, — поддержал её Глеб. — Но в таланте Антонову не откажешь.
Жена генерала относилась к Глебу как к родному сыну (своих детей у Копыловых не было), и не только потому, что знала его чуть ли не с пелёнок. Детский врач, Зинаида Савельевна спасла в своё время Глеба, когда у него был заворот кишок.
— Господи, да покажи тебя несколько раз по телевизору, тут же станешь звездой! Экран — вот что делает славу! — сказала она, имея в виду домашние таланты Глеба: он неплохо играл на гитаре, и голос у него был — несильный, но приятный.
— А что? — усмехнулся Игнат Прохорович. — Данные у тебя подходящие. Прогремел бы на весь Союз! И деньги бы лопатой грёб.
— Я не завидую, — улыбнулся Глеб. — Каждому своё.
— Вообще с этими артистами — что в кино, что на эстраде — форменное помешательство, — развивала свою мысль Зинаида Савельевна. — Молятся на них, как на идолов, честное слово! Считается, посмотреть их вблизи — словно прикоснуться к святым мощам. А уж познакомиться!.. — Она махнула рукой. — Я ещё понимаю — поклоняться гениальному уму учёного, таланту гениального писателя, изобретателя! Разве может идти в сравнение то, что дают человечеству они и что дают эти! Какой-нибудь академик всю жизнь бился и разрешил проблему, как накормить, согреть миллионы людей… И что же? Кто его знает? Кто забрасывает его цветами, ловит на улице — подпишите фотографию? Никто. А тут — спел шлягер, сразу на руках носят, все блага в кармане. Без пота, как говорится, и крови.
— Насчёт пота ты, Зиночка, того, — почесал затылок Игнат Прохорович. — Видела, как у Антонова он по лицу ручьями лился? Нет, этот парень трудяга. Они тоже бесплатно завтраки не получают.
— И музыку сам пишет! — поддержала генерала Лена.
— Между прочим, — вставил своё веское слово Глеб, — Тургенев, наш писатель-классик, сравнивал работу певца с тяжёлым крестьянским трудом. Юрий Гагарин как-то зашёл к Зыкиной после концерта за кулисы и говорит: «Ну и перегрузки у тебя, Люда! Под стать космическим».
Спор был прерван звонком, возвещавшим о конце антракта. Зрители шумно повалили в зал. Двинулись и Ярцевы с Копыловыми.
— Как батя на новом месте? — спросил у Глеба генерал, когда они медленно продвигались с толпой по фойе.
— Мой старикан доволен, — ответил Глеб.
— Старикан, — усмехнулся Копылов. — Хочешь сказать, мы уже вышли в тираж, пора на пенсию?
— Что вы, Игнат Прохорович, и в мыслях не было, — смутился Глеб.
— Знаем мы вас, молодёжь, — шутливо погрозил пальцем генерал. — Не терпится занять наше место. — Он вдруг погрустнел, посерьёзнел. — Не спешите. Годы, они, брат, так быстро летят — не успеешь оглянуться. Вот, кажется, давно ли мы с твоим батей были такими же зелёными, как ты? Словно бы вчера, ан видишь… — Игнат Прохорович провёл рукой по совершенно седой, без единого тёмного волоса, голове.
Они разошлись по своим местам.
После концерта поговорить с генеральской четой больше не пришлось. В раздевалке образовалась огромная очередь. Копыловы пристроились где-то в хвосте. А к Ярцевым, как только они вышли из дверей зала, протиснулась старушка-гардеробщица с дублёнкой Лены и волчьей шубой Глеба. Надевая шапку у зеркала, Лена поймала на себе удивлённый, не без оттенка зависти взгляд Зинаиды Савельевны.
— Что скажешь, Фери? — спросил Глеб, когда они отъехали от Дворца спорта.
— Полный кайф! — зажмурив от счастья глаза, сказала Лена.
Она была ещё во власти праздничной атмосферы концерта, переживала блеск огней, музыку, аплодисменты и цветы, к чему, казалось, имела сама непосредственное отношение. Происходило это, наверное, оттого, что они сидели с мужем в двух шагах от рампы, рядом с самыми именитыми, избранными людьми города. И ещё Лену возвышало в её глазах сознание того, что остальные несколько тысяч зрителей долго будут давиться в очереди за своими пальто, потом ждать автобуса и трястись в нем до дома, а они с Глебом катят в уютном теплом автомобиле, свободные и независимые от обстоятельств.
— Говорят, эстрадные певцы зарабатывают кучу денег, — нарушила она молчание.
— Тебя это волнует? — недовольно покосился на неё Глеб.
— Я так… — стушевалась Лена, досадуя, что вылезла со своими глупыми мыслями.
Глеб не любил мелкотравчатых мещанских разговоров. Она ждала упрёков, насмешки, но он неожиданно задумчиво произнёс:
— Ты знаешь, а Зинаида Савельевна в чем-то права. Действительно, иным лавры достаются слишком легко. Да, миллионы телевизоров, транзисторов, магнитофонов и из пигмея делают великана! Угадай, кого я сейчас вспомнил?
Лена знала, что не угадает, потому что не умела даже приблизительно проследить за ходом его мысли. Она отрицательно покачала головой.
— Островского… Я имею в виду — драматурга, — сказал Глеб. — Талантище, конечно, огромный! Вклад его в русскую литературу не оценить. А он признался как-то, что тридцать лет работает для русской сцены, написал более сорока пьес, давно уже не проходит ни одного дня, чтобы в нескольких театрах России не шли его пьесы, которые дали сборов только в императорских театрах более двух миллионов рублей, а он не может позволить себе отдохнуть хотя бы один месяц в году! Представляешь?
— Неужели ему не хватало на жизнь? — удивилась Лена.
— Островский так и писал: я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю сюжет вперёд, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, то есть без куска хлеба с огромной семьёй. Вот так, мать…
«Боже мой, — с нежностью подумала Лена, — какая у Глеба светлая голова. Все помнит».
Он молча вёл «Ладу», внимательно следя за скользкой дорогой. Лене хотелось слышать его голос, и она спросила:
— Откуда твой папа знает Копыловых?
— Тысячу лет знакомы. Вместе начинали работать в Ольховском районе. После войны. Дядя Гоша служил обыкновенным постовым милиционером.
— Стоял на перекрёстке и регулировал движение на дороге?
— Да, Фери, — усмехнулся Глеб. — Ты у меня эрудит. Спутать регулировщика из ОРУДа и постового…
— Не все же такие умные, как ты, — обиделась Лена.
— Не фырчи, — миролюбиво сказал муж. — Понимаешь, постовой милиционер отвечает за порядок на каком-нибудь участке города. Например, на нашей улице. Чтоб на ней было все спокойно.
— Понятно, — кивнула Лена. — А кем в Ольховке работал твой папа?
— О, отец был на три головы выше Копылова! Зампред райисполкома! Потом дядя Гоша ездил учиться, вернулся уже в Средневолжск. И отца повысили, перевели в облисполком. Так они и шли оба вверх. — Глеб усмехнулся. — Да, история развивается по спирали. Отец снова работает в Ольховке. Так сказать, на круги своя…
— Вернётся, вернётся ещё в Средневолжск, — успокоила мужа Лена. — Такой квартирой не бросаются.
Когда Семена Матвеевича, её свёкра, направили в Ольховский район, в городе осталась за ним квартира. Четырехкомнатная, в самом центре, на проспекте Свободы. В этом же доме проживали и Копыловы. Глеб был прописан на площади отца и иногда заезжал туда, чтобы проверить, все ли спокойно и на месте.
— Да, думаю, что старикан долго в Ольховке не задержится, — сказал Глеб, сворачивая к их девятиэтажке.
Он обогнул дом, подъехал к гаражу. Заперев машину, они поднялись к себе.
— Мать, я страшно голоден! — признался Глеб, целуя жену в губы.
Лену обдало сладостной волной: муж давно не был так ласков.
— Глебушка, милый, что тебе приготовить? — спросила Лена, схватив его руку и прижимая её к своей груди. — Табака пожарить? Или лангет? Можно отбить и в кляре.
— Действуй, мать, а я полезу в ванну.
Лена пошла в спальню. Она слышала, как Глеб включил в большой комнате телевизор, затем в ванной комнате послышался шум воды.
Она сняла праздничное платье, повесила в шкаф, накинула на себя прозрачный пеньюар, подаренный мужем ко дню рождения, присела на пуфик у трельяжа и посмотрелась в зеркало. Глаза у неё были счастливые и оттого глупые. Лена подумала, что в них слишком уж видно желание.
«Ну и пусть!» — улыбнулась она, уже предвкушая всем своим горячим, нетерпеливым телом сладостные безумные минуты.
Лена выдвинула ящичек, где хранила украшения, сняла серебряный витой браслет, серебряные серёжки с бирюзой и такой же кулон, сложила все это в коробочку из-под французских духов, потом открыла длинный футляр из старинной тиснёной кожи с потускневшей от времени монограммой — витиевато переплетёнными заглавными буквами «Л» и «Г», — чтобы положить туда перстень, и обомлела.
Футляр был пуст.
— Странно, — пробормотала Лена, машинально шаря в ящичке.
Затем она стала проверять другие коробочки с такой же монограммой.
Они тоже были пусты.
— Глеб! — закричала Лена. — Глеб!
Но муж, вероятно, не слышал.
Она бросилась в ванную. Глеб уже разделся до трусов, пробуя рукой пенящуюся от шампуня воду.
— Ничего не понимаю… — испуганно сказала Лена.
— Ты о чем? — повернулся к ней муж.
— Драгоценности! Ну, бабушки Лики! Их нет!
— Брось, — недоверчиво посмотрел на неё Глеб.
— Сам пойди посмотри.
Глеб торопливо вытер полотенцем пену с рук и двинулся вслед за женой в спальню.
Лена в какой-то нервной лихорадке вынимала из трельяжного ящика свои украшения — клипсы, серёжки, браслеты, кольца, нитки жемчуга, броши. Все это было в основном недорогое, для разных нарядов. Подарки самого Глеба, его и её родителей. Но драгоценности, что хранились в футлярах с монограммой, исчезли. Кроме перстня, который Лена надевала на концерт.
— Видишь, нет! — истерично крикнула она, демонстрируя пустые коробки.
— Нету!
— Успокойся, Фери! — проговорил Глеб. Он побледнел, на лбу резко обозначились две продольные морщины. — Может, ты сунула куда-нибудь? Вспомни!
— Что я, чокнутая, да? Перед отъездом на концерт видела! Понимаешь, тут все лежало, на месте!
Швырнув пустые футляры на трельяж, она прижала кулаки к глазам и тонко заголосила.
— Фери, Фери… — растерялся Глеб. Он обнял жену за плечи, но она оттолкнула его, плюхнулась на постель и заплакала навзрыд.
— Что… скажу… папе? — сквозь слезы выдавила она из себя. — Прокутили, да?
У Глеба на скулах заходили желваки. Он зябко поёжился, переступая с ноги на ногу.
— Ну, делай же что-нибудь! — взвизгнула Лена. — Чего стоишь? Конечно, это не твоё!
— Заткнись! — вдруг заорал Глеб.
Лена от неожиданности замолчала и со страхом посмотрела на мужа.
— Прости… — пробормотал он. — Прости, Фери… Я понимаю… Но нельзя же так убиваться. — И стал гладить её по голове.
Лена схватила его руку, прижала к губам.
— И ты извини, — тихо прошептала она. — Я вела себя отвратительно. Дурочка, это точно. Но… Это ведь не какая-нибудь бижутерия! Сам знаешь — бриллианты, платина, золото. Отец с ума сойдёт!
Глеб распахнул шкаф.
— Ты что? — удивилась Лена.
— Нас обворовали! Понимаешь, здесь кто-то был! — зловеще-спокойно сказал он.
И только теперь до неё дошёл жуткий смысл происшедшего. Лена встала и принялась вместе с мужем осматривать вещи.
Его и её кожаные пальто висели на месте. Мохеровая шаль и свитер — тоже. Нетронутыми остались и многочисленные платья Лены, коробки с туфлями, костюмы Глеба, его кожаный пиджак и ни разу не надёванные мужские немецкие сапоги «саламандра».
— Тут все вроде цело, — мрачно констатировал Глеб. — А в комнате?
— Глеб, вода! — вспомнила Лена.
Со словами «ах, черт!» он побежал в ванную. И вовремя. Пенная шапка уже вываливалась из ванны. Глеб закрыл краны и вернулся к жене.
— Оденься, — сказала она. — Простудишься.
Он натянул на себя спортивный костюм «адидас», и оба супруга пошли ревизовать большую комнату.
Первым делом занялись стенкой. Лена дотошно пересчитывала хрустальные вазы, фужеры, наборы с богемскими рюмками и бокалами. Затем осмотрела ледериновые коробки с серебряными столовыми приборами.
Все было на месте. Как и прочие дорогие и недорогие безделушки: фарфоровые статуэтки, настольные зажигалки, паркер с золотым пером, китайское блюдо семнадцатого века, севрский сервиз.
Радиоаппаратура — а она стоила очень дорого, все японского производства: «сони» и «джи-ви-си» — не заинтересовала вора.
— Смотри, и дублёнка моя здесь, — показал на вешалку в прихожей Глеб.
— Наверное, фасон не понравился, — мрачно сострил он.
— Ты ещё шутишь, — вздохнула Лена.
— Что же теперь — вешаться? — усмехнулся муж. — Но как они вошли? — Он осмотрел входную дверь, замки. — Вроде все цело.
— Что гадать, — сказала Лена и, неожиданно для себя, решительно произнесла: — Вот что, Глеб, звони-ка Игнату Прохоровичу! Срочно!
— Погоди, — отмахнулся он.
— Так время!.. Понимаешь? Время дорого! Воры успеют скрыться!
— Не волнуйся, — осклабился Глеб, — уже скрылись.
— Ну, знаешь! — возмутилась Лена.
— Ради бога! Пожалуйста! — Глеб направился в комнату, снова начиная злиться. — Сейчас примчится куча милиционеров, начнутся вопросы, допросы. — Он снял, трубку. — Только я хотел бы знать, как к этому отнесётся Антон Викентьевич?
— А как? — удивлённо спросила Лена. — Я думаю, папа поступил бы именно так.
— Ты уверена? — Глеб, играя трубкой, внимательно смотрел на жену.
И Лена вдруг почувствовала, что твёрдой уверенности на этот счёт у неё нет.
Она почему-то представила себе не отца, а бабушку. Бабу Лику, Леокадию Модестовну. Властную, надменную старуху, которая в свои восемьдесят лет ходила прямо, гордо неся красивую седую голову. И этот вензель на футлярах
— Леокадия Гоголева — ассоциировался у Лены с чопорностью и загадочностью матери отца.
Баба Лика занимала отдельную комнату — самую светлую в квартире. Лену приучили входить к бабушке только с её разрешения. Но Лену туда и не тянуло, хотя у Леокадии Модестовны было множество диковинных, красивых вещей. Ширма, обтянутая шёлком, разрисованная хризантемами, фарфоровый божок с монгольским лицом, который долго качался, если его тронуть; веер из чёрных пушистых перьев: негритёнок в чалме, атласных шароварах и с серебряной саблей в руке; альбом семейных дагерротипов в красном сафьяновом переплёте.
Баба Лика редко выходила из своего обиталища. Она словно презирала мир настоящего, оставаясь там, в своём прошлом.
В дни бабушкиных именин (не рождения, а именин!) отец с утра просил Лену одеться понаряднее и навестить Леокадию Модестовну с поздравлением. Старуха сидела у окна в кресле в торжественном тёмном платье из кастильских кружев. Она, касаясь холодными сухими губами лба девочки, говорила:
— Спасибо, моя милая… — И закрывала глаза, словно засыпала.
Лена, боясь нарушить малейшим звуком её забытьё, тихо удалялась.
Месяца за три до смерти — Лене тогда было пятнадцать лет — баба Лика неожиданно сама пригласила её в своё логово (так про себя называла девочка комнату старухи). Усадив внучку на старенькое канапе, она достала резной, инкрустированный перламутром и серебром ларец, открыла его ключом, висевшим на шнурке на шее.
— Елена, — торжественно проговорила Леокадия Модестовна, — это все достанется тебе…
Негнущимися, малопослушными пальцами она разложила на диванчике красивые футляры с золочёной монограммой.
— Что это? — наивно спросила девочка.
— Посмотри…
На лице бабушки, пожалуй, впервые промелькнуло что-то наподобие улыбки.
Лена осторожно открыла длинный футляр. И замерла, очарованная красотой золотого колье и перстня, усыпанных драгоценными камнями.
— Шпинель, — дотронулась до самого крупного из них искривлённым ревматизмом пальцем старуха. Камень таинственно чуть желтовато искрился лучиками, исходившими из его глубины. — А это — бриллианты… Бразильские…
Они венчиком окружали шпинель.
В других коробочках были серёжки, тоже с бриллиантами; ещё один перстень из платины с изумрудом; золотой кулон в виде сердечка, выложенного по краям кроваво-красными рубинами и крупным бриллиантом посередине, а также — что больше всего понравилось Лене — браслет из золота с голубой эмалью и александритами.
Дав насладиться девочке этой завораживающей красотой, старуха сложила драгоценности в ларец, заперла его и сказала:
— Когда я умру, а это будет скоро…
— Что вы, бабушка! — запротестовала было Лена, но та остановила её властным жестом.
— Я знаю… Я чувствую… Так вот, после моей смерти все это достанется тебе. Храни до конца дней своих. — Она указала на портрет своего отца в рамке из красного дерева, стоявший на столе. — Его подарки.
Через день или два, Лена не помнит точно, отец привёз в дом нотариуса.
После этого баба Лика уже не выходила из своей комнаты. Умерла она через три месяца.
В завещании, которое прочитал Лене отец, была выражена последняя воля Леокадии Модестовны: все свои сбережения и имущество она оставляла сыну, Антону Викентьевичу Гоголеву, за исключением драгоценностей, которые переходили по наследству к её внучке Елене Антоновне Гоголевой по достижении восемнадцати лет. Список драгоценностей приводился полностью и с дотошным описанием камней.
Тогда ещё Лена не придавала значения наследству и не имела понятия о его стоимости. Да ещё была обижена за мать, которую свекровь, будучи даже на смертном одре, не простила за что-то.
— Подумаешь — завещание! — сказала Лена матери. — Предрассудки! Носи что хочешь!
— Нет, Леночка, — наотрез отказалась мать. — Ни за что! Душу будут жечь.
Она тоже не могла забыть и простить. Что именно, Лена так и не узнала.
Отец вручил (пустая формальность, конечно, коробочки с вензелем как лежали в шкафу, так и остались там лежать) фамильные драгоценности дочери в тот день, когда Лене исполнилось восемнадцать. Но одеть их ей в общем-то так ни разу и не удалось. По настоятельной просьбе Антона Викентьевича.
— Прошу тебя, доченька, — сказал он, — не дразни гусей. Люди завистливы, и при моем положении могут подумать бог знает что.
И теперь, когда надо было решать, стоит ли заявлять в милицию о похищении драгоценностей, Лена засомневалась.
— Давай посмотрим на вещи трезво, — сказала она.
— Если смотреть на вещи трезво, то голова пойдёт кругом, — заметил Глеб.
— Может, позвонить папе? — неуверенно предложила Лена. — Посоветоваться…
— Хочешь, чтобы его хватила кондрашка? — усмехнулся муж.
— Не дай бог! — замахала она руками. — Как же быть? Что я скажу, где драгоценности?
— С чего это он вдруг заинтересуется ими?
— А если все-таки спросит?
— Будем надеяться, что в ближайшее время не спросит. Словом, как-нибудь выкрутимся.
— Как?
— Закажем у ювелира.
— Это же безумные деньги!
— На золото найдём. А уж камни придётся вставить поддельные. В дальнейшем же…
— Нет! — решительно отказалась Лена.
Бабушкино наследство было её единственной надеждой. Вдруг Глеб уйдёт от неё? Что тогда?
— Значит… — вопросительно посмотрел на неё муж.
— Звони Копыловым!
— Неудобно! — поёжился Глеб. — Пользоваться добрым его отношением… — Видя недовольство жены, он добавил: — Я позвоню дяде Гоше завтра на работу. А сейчас — дежурному по городу.
Глеб набрал 02.
Дежурный по горуправлению внутренних дел принял сообщение от Ярцева в двадцать два часа семь минут. Через три минуты из ворот горуправления милиции вылетела спецмашина с оперативной группой в составе следователя Воеводина, эксперта-криминалиста Баранчикова, оперуполномоченного уголовного розыска Богданова и кинолога Васильева со служебно-розыскной собакой по кличке Король.
В двадцать два часа двадцать пять минут они уже звонили в квартиру потерпевших.
Открывшая дверь хозяйка ахнула: так быстро работников милиции не ждали.
— Я думала, что подобная оперативность существует только в кино, — слабо улыбнулась Лена.
В прихожей сразу стало тесно: помимо сотрудников милиции зашли ещё дворник и соседка по лестничной площадке — в качестве понятых.
Следователь Воеводин попросил рассказать о случившемся. Лена повела работников милиции в спальню и поведала о пропаже.
— Когда вы видели ваши ценности в последний раз? — спросил Воеводин.
— Сегодня. В половине седьмого. Понимаете, собиралась на концерт Антонова. Из бабушкиных драгоценностей я надела лишь перстень. Остальное лежало в футлярах.
Эксперт-криминалист занялся фотографированием и снятием отпечатков пальцев на футлярах, трельяже, на ручках дверей — входной и той, что вела в спальню.
— Кто помимо вас был ещё в квартире? — продолжал спрашивать следователь.
— Никого. Муж, — показала Лена на Глеба, стоявшего в коридоре, — ждал меня внизу, в машине.
— Кто закрывал дверь?
— Я.
— На сколько замков?
— На два, — ответила Лена. — Как всегда. Верхний — «аблоу», нижний — нашего производства.
— Хорошая машина, — заметил Баранчиков, внимательно осматривая верхний замок. — Финны умеют делать.
— Капризный, — заметил Глеб. — Чуть перекос — заклинивает.
— Есть такое, — согласился эксперт-криминалист, щёлкая фотоаппаратом со вспышкой.
— Когда вы обнаружили пропажу? — спросил Воеводин.
— Когда вернулись. Без двадцати пяти десять, — ответила Лена.
— Откуда такая точность?
— Муж включил телевизор. Заканчивалась программа «Время». Погоду говорили.
— Сколько у вас ключей от входной двери? — продолжал вести допрос следователь. — Я имею в виду — комплектов?
— Два, — ответила Лена. — У меня и у мужа. — Она зачем-то открыла сумочку, показала связку.
— Хорошо, — кивнул Воеводин. — Вспомните, вы когда-нибудь давали ключи посторонним? — Он посмотрел на Лену, потом на Глеба.
— Вроде нет, — ответила Лена.
— А точнее?
— Нет, — твёрдо сказала Лена.
— Я тоже, — сказал Глеб.
— Что ещё пропало, помимо драгоценностей?
— Ничего! Ни иголки! — заверила Лена. — Мы с мужем проверили. Сразу!
Воеводин заглянул в открытый платяной шкаф, потом прошёл в большую комнату, огляделся, вышел в коридор и сделал знак Васильеву.
Кинолог поднял сидевшую до сих пор спокойно собаку. Король обнюхал трельяж, ткнулся носом в предложенные ему футляры с монограммой и грозно направился к Лене.
— Фу! — коротко приказал Васильев.
— Поработайте ещё, — сказал Воеводин и продолжил допрос потерпевших. — Кто знал о наличии у вас драгоценностей?
Этот вопрос поставил Лену в затруднение: она и впрямь не помнила, кому говорила или показывала бабушкино наследство. Разве что той, давней подруге, с которой не виделась со времён окончания университета — она сразу уехала в другой город. Лена решила, что её приплетать не стоит.
— Никто, — ответила она.
— Что, не надевали? — несколько удивился следователь.
— Только перстень. Да и то раза три, не больше, — уточнила Лена.
Наказ отца она выполняла строго.
— А вы что скажете? — обратился Воеводин к Глебу.
Тот пожал плечами:
— Меня её украшения не интересуют.
— Может, все-таки говорили кому-нибудь? — настаивал следователь.
— Нет, — ответил Глеб.
Воеводин попросил описать похищенные вещи. Лена не только их описала, но и нарисовала по памяти, попутно рассказав, как они к ней попали.
— И во сколько вы оцениваете пропажу? — спросил следователь.
— Точно сказать не могу. Папа считает, что сейчас это стоит тысяч шестьдесят, не меньше. А ему можно верить.
— Он что, ювелир?
— Директор универмага.
Воеводин кивнул. Лене показалось, что он усмехнулся. И вероятно, историю с завещанием поставил под сомнение.
«Ох, надо ли было вызывать милицию? — подумала она. — Наверное, будут допрашивать папу, наводить справки и так далее, и тому подобное. А у него давление».
— Следов взлома не обнаружено, — доложил следователю эксперт-криминалист. — Скорее всего, дверь открывали ключами.
— Но откуда у воров наши ключи? — удивилась Лена.
— Не знаем, не знаем, — задумчиво протянул Воеводин.
Лене опять показалось, что он ей не верит. И снова пожалела, что заварила всю эту кашу.
— Когда вы вернулись с концерта, в каком виде нашли квартиру? — задал ещё один вопрос Воеводин. — Может, заметили что-нибудь подозрительное?
— Ничего подозрительного мы не заметили, — сказала Лена. — Все было на своих местах.
Следователь принялся составлять протокол осмотра места происшествия, набросал схему квартиры.
Раздался звонок в дверь — это вернулся оперуполномоченный уголовного розыска Богданов. По его лицу следователь понял, что вернулся он с пустыми руками.
На прощание Воеводин протянул хозяевам листок бумаги.
— Вот мой служебный телефон. Если что припомните — звоните.
— Конечно, конечно! — пообещала Лена.
— А когда у меня появятся вопросы, я приглашу вас к себе.
Оставшись вдвоём, Ярцевы долго молчали. Лена вдруг почувствовала невероятную усталость. Она свалилась в кресло и обхватила голову руками.
Глеб стоял у окна, глядя вниз на отъезжающий «рафик» с мигалкой на крыше. Жена почувствовала в его позе укор себе. И расплакалась — это была разрядка нервного перенапряжения. Ей стало нестерпимо жалко себя, отца. Отца даже больше.
— Пропади они пропадом, эти бриллианты! — всхлипывая, проговорила Лена.
Муж сел в кресло напротив, положив подбородок на сцепленные кисти рук. Он словно говорил: ведь предупреждал…
Часы показывали четверть третьего ночи.
А в машине, возвращавшейся в горуправление внутренних дел, Богданов рассказывал следователю о том, что ему удалось выяснить у соседей. Никто из них не видел, чтобы к Ярцевым заходили посторонние, когда хозяева были на концерте. И вообще не заметили подозрительных людей ни возле дома, ни в подъезде.
— И Король оплошал, — вздохнул Воеводин. — След не взял.
Васильев сконфуженно хмыкнул.
— Не думаю, чтобы эта Леночка не похвасталась перед кем-нибудь своими драгоценностями, — сказал эксперт-криминалист. — Такого не бывает. Женщина есть женщина. Вы верите, что действительно наследство? — спросил он у следователя.
— А зачем ей врать? — ответил Воеводин. — Проверить не трудно. Меня сейчас занимает другое. Я почти уверен, что похититель знал о существовании драгоценностей. Вероятно, тщательно готовился к краже.
— Похоже, что так, — согласился Баранчиков. — Ключи… Потом, ему было известно, что в этот вечер Ярцевы поедут на концерт.
— Обратите внимание, — сказал оперуполномоченный уголовного розыска, — он больше ничего не взял из квартиры. А там было чем поживиться. Хотя бы радиоаппаратура.
— Тысяч на десять, не меньше, — подтвердил эксперт-криминалист.
— Больше! — сказал следователь.
— И откуда столько добра? — покачал головой кинолог Васильев. — Ведь они совсем молодые. Мой пацан давно просит хотя бы самый дешёвый магнитофон, а я не могу себе позволить.
— Ты же не директор универмага, — усмехнулся Баранчиков.
— Ярцев, Ярцев, — вспомнил Богданов. — Не папаша ли этого Глеба? Ну, начальник облсельхозтехники? — спросил он у Воеводина.
Тот пожал плечами и задумчиво произнёс:
— Ох, чует моё сердце, придётся поломать голову с этим делом.
Глеб проснулся в начале одиннадцатого. Он даже не слышал, как ушла жена. Сон у Глеба был чуткий. Его всегда раздражал по утрам скрип дверей, возня Лены у трельяжа. А тут — не помнит ни звука.
Легли они в четыре часа, и Глеб словно провалился в бездну.
В спальню лился яркий солнечный свет. В комнате стоял запах французской туалетной воды.
Глеб босиком пошёл в ванную комнату. Привычка ходить по дому босиком осталась с детства.
Чувствовал он себя разбитым после кошмарной ночи. Полез под душ, пуская попеременно то горячую, то холодную воду — это всегда отлично помогало.
Действительно, контрастный душ взбодрил тело. Но на сердце было скверно. Он вспомнил объяснение с работниками милиции. Ощущение — словно тебя увидели голым…
Глеб сварил крепчайший кофе, с трудом проглотил холодную котлету без хлеба и с удовольствием убрался из квартиры — тянуло скорее на люди.
Выйдя на улицу, он зажмурился от ослепительного сверкающего снега. Дорога — словно каток. Глеб решил не выводить машину — гололедица, ещё вмажут по его новенькой «Ладе».
В университет он поехал на городском транспорте. И сразу пошёл в библиотеку.
Люся Шестопалова за столом выдачи зарумянилась при виде Глеба, заулыбалась (он уже привык к обожанию) и протянула ему книгу и две тоненькие брошюрки.
— Вчера весь день пролежали, — с укоризной сказала библиотекарша. — Сделали заказ, а не пришли.
— Эх, знал бы, что на выдаче вы, обязательно пришёл бы! — одарил её улыбкой Ярцев и вручил японский календарик с лукаво подмигивающей девицей: Люся коллекционировала карманные календари.
Она смутилась ещё больше, горячо и бессвязно поблагодарила за подарок.
Он нашёл свободный столик в читальном зале, углубился в чтение, но сосредоточиться не мог — все время прокручивал в голове ночное событие. Обрадовался, когда на его плечо легла чья-то рука.
— Покурим?
Это был Аркадий Буримович, аспирант кафедры философии.
— Айда, — поднялся Ярцев.
В курительной комнате стояла холодина: форточка была открыта настежь. Глеб достал «Космос», и Аркадий тут же полез за сигаретой. Он, как персонаж из пьесы Островского «Без вины виноватые», курил один лишь сорт — чужие…
— Ну что, румяный мой философ? — шутливо спросил Глеб.
— Да так как-то все, братец историк, — в тон ответил Буримович словами из «Ревизора».
Он был небольшого роста, кругленький, с распадавшейся посередине головы пышной шевелюрой и розовыми пухлыми щёчками. По его виду нельзя было подумать, что он занимается такой серьёзной наукой. Разве что умные пытливые глаза за сильными линзами очков.
Болтать с ним — одно удовольствие. Аркадий чуть ли не каждый день делал очередное открытие — гениальное, как он выражался. Однако оно жило недолго: его или быстро опровергали, или же выяснялось, что подобная идея давно была высказана кем-то другим.
Если этого толстяка что-нибудь увлекало, то он непременно стремился зажечь кого-нибудь ещё. Кто попадётся под руку.
Сегодня это был Ярцев.
— Слушай, старик, это грандиозно! — теребя Глеба за рукав пиджака, горячо начал Аркадий. — Я понял…
— С какого конца есть сваренные всмятку яйца? — сыронизировал Глеб.
— Не скалься! — не обиделся Буримович. — Ну, вот скажи мне, почему неистребим шабашник?
— Проще пареной репы. Налево больше платят.
— Фу! — поморщился Аркадий. — Рассуждаешь как обыватель. А тут политэкономия! Целая научная система!
Глеб улыбнулся.
Приняв улыбку Глеба на свой счёт, Буримович покачал головой:
— Я серьёзно, старик.
— Давай, давай, я слушаю, — сказал Ярцев.
— Понимаешь, шабашничать экономически выгодно, — стал развивать свою мысль Аркадий. — Смотри, — он начал загибать пальцы. — Строитель какого-нибудь СМУ из каждой заработанной десятки отдаёт государству в виде налога и других удержаний — на содержание управленческого аппарата, армии, милиции, на здравоохранение, образование и прочее — определённую сумму. Скажем, рубля три…
— Ну, а как же иначе?
— Верно, все это надо, — согласился Буримович. — И что же? В результате, работая в государственной системе, строитель получает на руки, допустим, семь рублей из десяти. А шабашник? Армию он не содержит, милицию
— тоже, больницы, школы… В больницу же ходит, как и мы, детей своих учит бесплатно! Заметь, на мои и твои деньги! Выходит, что десятка, которую он получает у частника, остаётся целёхонькой. Да плюс ещё те рубли, которые он должен был отдать врачу и учителям своих детей. То есть он получил все тринадцать целковых за тот же труд, который потратил бы на государство.
— Ты хочешь сказать, эти три рубля он украл из общественного фонда? — проявил знание предмета Глеб.
— Скажем — вocпoльзовался, — пoпрaвил Аркадий. — А я хочу сказать насчёт этого общественного фонда потребления. Видишь ли, старик, по моему глубокому убеждению, тут у нас перегиб. Так сказать, забегание вперёд. За счёт общественных фондов выплаты и льготы населению выросли с тысяча девятьсот сорокового года почти в двадцать раз. С двадцати четырех рублей до четырехсот семидесяти пяти на душу населения. Вникни!
— Это же хорошо, — сказал Глеб.
— Сам рост — да, — кивнул Буримович. — Но вот как происходит распределение? И потом, нужно ли продолжать этот курс? Не забывай, что основной принцип социализма — каждому по труду. Однако принцип этот, увы, соблюдается далеко не всегда. Например, построили дом, как сейчас говорят, с улучшенной планировкой. Очередь в исполкоме подошла для академика и шофёра. Оба получили одинаковые квартиры. Справедливо?
— Демократия…
— Погоди! — остановил собеседника жестом Буримович. — Общественная значимость, вклад обоих разве равен?
— Нет, — согласился Глеб.
— Вот именно! Принцип — каждому по труду — нарушен! Более того, уменьшается степень непосредственного стимулирования. Зачем какому-нибудь изобретателю ломать голову, не спать по ночам, проталкивать на нервах свою идею, если он за свои муки получит такую же квартиру, путёвку в такой же дом отдыха, что и безынициативный коллега? Горишь ты на работе или делаешь её тяп-ляп, все равно получаешь те же блага из общественного фонда потребления.
— Ну и что же ты предлагаешь? — спросил Глеб.
— Сократить общественные фонды потребления! — рубанул воздух рукой Аркадий.
— Позволь, позволь, — возразил Ярцев. — Это одно из важнейших достижений нашего общества! Бесплатное лечение — а значит, доступное всем, понимаешь! А жильё? Копейки…
— А зачем? — с вызовом спросил философ. — Объясни, почему за жильё установлена символическая плата?
— Потому что это одна из основных потребностей человека! Как хлеб! Как одежда! Их должны иметь все. Умные и не очень, здоровые и больные, многодетные и одинокие.
— Позволь, позволь! — распалился Аркадий. — Я не спорю, квартиры должны иметь все. Но вот какие — это вопрос!
— Нормальные! Со всеми удобствами!
— Я не о том. Смотри, что получается. У нас в семье шесть человек. Живём в двухкомнатной квартире. Правда, стоим на очереди. А соседка напротив — одна в трехкомнатной! У неё умер муж, а дети давно ушли, получив свою площадь.
— Что же делает соседка одна в трех комнатах?
— Сдаёт! А вот если бы она платила не символическую плату, а реальную
— черта с два занимала бы три комнаты! Переехала бы, миленькая, в однокомнатную!
— А ты бы — в её? — усмехнулся Глеб.
— Почему в её? Может быть, в пятикомнатную. Или — семи! Словом, такую, какая необходима для нашей семьи.
— Не дадут! И не просите.
— И вообще, почему мы должны просить у кого-то квартиру? Почему? — запальчиво произнёс Буримович. — Мать с отцом вкалывают за милую душу. Моя жена… Ну, и я не бездельничаю. Так дайте же нам возможность самим выбирать ту или иную услугу, благо…
— Многого хочешь, — раздался насмешливый голос.
Они обернулись.
— Привет, Женя, — поздоровался с высоким худым парнем Глеб.
Это был лаборант с химфака. Буримович молча кивнул ему.
— Я не конкретно о себе, — пояснил философ. — О тебе, о нем… О каждом. Потому что убеждён: чрезмерное сокращение принципа возмездности, эквивалентности и оплаты получаемых услуг, ограничение сферы товарно-денежных отношений, замена их прямым административным распределением приносит больше отрицательных, чем положительных результатов. И мы ещё удивляемся, откуда берутся так называемые «деловые» люди, разные проныры и прохиндеи! Надо за квартиру брать столько, сколько она стоит в действительности, за путёвку в санаторий — тоже. Хочешь иметь дачу — плати за землю не символический налог, а сумму, соответствующую затратам на благоустройство посёлка, проведение дорог, электричества, газа и тому подобное. Причём — дифференцированно. Желаешь поближе к городу или, например, у речки — дороже, подальше — дешевле!
— С моей зарплатой я могу рассчитывать на клочок болота за триста километров, — рассмеялся лаборант. — Да и мать, хоть она и доцент, тоже не разгуляется.
— Конечно, все эти меры не могут быть проведены при сохранении теперешних окладов, — сказал Аркадий. — Их нужно увеличить. Как и другие регулярные выплаты — пенсии, стипендии… Пусть каждый получает по труду и платит по потребности! Пора уже снять с плеч государства отдельные функции распределения.
— И будет рай! — воздел руки Женя.
— Порядок будет! — сказал Аркадий. — Исчезнет блат. Многие проблемы самоурегулируются…
Глеб вдруг спохватился — заседание кафедры, на котором он должен сделать сообщение. Глянул на часы — в запасе было минут двадцать. Он оставил Буримовича разворачивать свои идеи перед лаборантом, сдал литературу Люсе и пошёл в буфет. Перехватить чашку кофе.
По пути в буфет Глеб вспомнил, что нужно позвонить Копылову. У телефонов-автоматов толклись студенты. Не объясняться же с генералом при народе… Ярцев зашёл на кафедру русского языка и литературы, к знакомой лаборантке. Она собиралась идти обедать и, узнав, что требуется телефон, сказала:
— Звони… Будешь уходить, захлопни дверь на английский замок.
— Непременно, — улыбнулся Глеб, протянув ей пачку иностранной жевательной резинки.
— Ну, Ярцев, ну, душка! — лаборантка сделала ему ручкой и убежала.
Оставшись один, Глеб набрал номер служебного телефона Игната Прохоровича. Ответил помощник генерала. Соединил он с начальником управления весьма неохотно.
Ярцев поздоровался с Игнатом Прохоровичем деревянным голосом: повод не очень приятный, да и не знал он, о чем просить Копылова.
— Знаю, Глеб, знаю, — сказал генерал. — История, конечно, скверная. Передай Лене, пусть не вешает нос. Следователь опытный. Но и вы должны ему помогать.
— Само собой, Игнат Прохорович. Я звоню почему — просто поставить вас в известность.
— Нет, хорошо, что позвонил, — сказал Копылов, хотя Глеб чувствовал, что этот звонок вряд ли что изменит. — От бати вестей нет?
— Он не любитель писем. Я сам собираюсь в Ольховку. Надо же навестить.
— Добре, добре, — обрадовался чему-то генерал. — Передай большой привет Матвеевичу!
Глеб понял, что Игнат Прохорович занят, и поскорее закончил разговор.
В буфете — не протолкнуться. Глеба окликнул доцент Старостин. Научный руководитель Ярцева устроился в уголке.
— Приятного аппетита, Михаил Емельянович, — поздоровавшись, сказал Глеб.
Тот молча кивнул, указал на стул рядом.
— Куда ты, батенька, запропастился? — спросил доцент, прожевав кусок сосиски. — Интересовался зав…
— В библиотеке, — улыбнулся Глеб, усаживаясь за стол и потягивая тёплый кофе. — Яко книжный червь. Знаете, очень любопытные сведения удалось разыскать о Суворове.
— Да? — заинтересовался Старостин.
— Генералиссимус был скромен в еде и не любил давать парадных обедов…
— Знаю, знаю… Прижимист был полководец.
— Совершенно верно. — Глеб рассмеялся. — Особенно к нему набивался в гости Потёмкин. Суворов все отшучивался, но был вынужден наконец принять светлейшего князя. Понятное дело, фаворит государыни! Суворов призвал к себе метрдотеля Потёмкина, Матоне, заказал роскошный обед и просил не щадить денег. Для себя же Александр Васильевич попросил своего повара сготовить два постных блюда. Настал день приёма. Обед получился изумительный! Такие блюда подавали, что даже Потёмкин ахал! А уж кто-кто, но этот вельможа привык к роскоши! Как выразился о том обеде Суворов, «река виноградных слез несла на себе пряности обеих Индий». Сам же он, сославшись на нездоровье, клевал приготовленное собственным поваром. Назавтра Матоне прислал ему счёт. Генералиссимус ужаснулся — тысяча рублей! Платить он отказался, написав прямо на счёте: «Я ничего не ел». И отправил его Потёмкину. Светлейший князь посмеялся и оплатил счёт, сказав при этом: «Дорого стоит мне Суворов».
Глеб замолчал, заметив вдруг, что Старостин его не слушает.
— Забавно, не правда ли? — на всякий случай сказал он.
— Да, да, — встрепенулся Старостин.
— Что это с вами, Михаил Емельянович?
— Так, ничего… — доцент отодвинул тарелку с недоеденной сосиской. — Понимаешь, инспектор из Министерства высшего образования пожаловал. Проверять.
— Кого и зачем?
— Очередную кляузу, — кисло поморщился Старостин и вздохнул. — И дёрнул же меня черт согласиться на участие в приёмной комиссии! Лучше бы докторскую закончил! Осталось всего ничего, чепуха…
«Затянул старую песню», — подумал Глеб. Насчёт докторской он слышит от патрона уже четыре года. С тех пор, как стал на последнем курсе посещать студенческий научный кружок, которым руководит Михаил Емельянович.
Ярцев ожидал, что патрон опять заведёт сказку про белого бычка, то бишь про свою докторскую диссертацию, но Михаил Емельянович заговорил о его, Глеба, делах.
— С тобой надо что-то решать. Сегодня будем утверждать план защит на будущий год.
— Сделайте все, чтобы меня вставили, — зажёгся Ярцев.
— Когда, милый? — усмехнулся доцент.
— Ну, хотя бы в третьем, в крайнем случае — в четвёртом квартале.
— Успеем ли, — покачал головой Старостин. — И потом, публикаций у тебя
— раз-два и обчёлся. Сам понимаешь: уж если идти, то наверняка!
— Публикацию мне в Москве обещали. Около печатного листа. И в записках нашего университета выйдет в мае лист. Это — во! — провёл ладонью над макушкой Глеб, но, видя, что патрон сомневается, хмуро добавил: — По-моему, вы заинтересованы в защите товарища Ярцева не меньше, чем он сам. За два года вы не имеете ни одного кандидата наук из своих подопечных. И потом, срок аспирантуры у меня кончается. Что, в преподаватели подаваться? На сто двадцать рэ в месяц? К тому же существует наш уговор…
Старостин вытер бумажной салфеткой рот и поднялся:
— Ладно.
Телефон не прозвенел, а прошептал на тумбочке возле кровати. Ставя аппарат около себя на ночь, следователь Воеводин убирал громкость почти до конца, чтобы в случае экстренного вызова не поднимать на ноги весь дом. Сам он уже натренировался просыпаться от этого шёпота.
— Разбудил? — раздался в трубке голос оперуполномоченного угрозыска Богданова.
— Разбудил, — тихо ответил Воеводин, засовывая ноги в шлёпанцы. — Погоди…
С аппаратом в руках он вышел в коридор — шнур был длинный, хватало до кухни — и, плотно притворив дверь, чтобы не слышала жена, устроился на сиденье под вешалкой.
— Ну, здорово! — сказал следователь уже громче.
— Доброе утро, — с опозданием приветствовал его Богданов. — Понимаешь, Станислав Петрович, надо встретиться.
— Прямо сейчас?
— Часиков в восемь. Чтоб спокойно обмозговать. А то потом будут дёргать.
— Сколько сейчас?
— Семь.
— Лады, — ответил Воеводин.
Расспрашивать оперуполномоченного, чем вызвано его желание увидеться до работы, он не стал — причина, значит, была.
Он прошёл на кухню, автоматическим движением включил две конфорки электроплиты. На одну поставил чайник, на другую — сковороду для бесхлопотной яичницы. И тут только увидел на столе лист бумаги с одним словом, написанным большими буквами: «ЁЛКА!!!» — с тремя восклицательными знаками.
— Вот незадача! — сказал вслух расстроенный Воеводин.
Это было напоминание дочурки, что отец обещал сегодня купить пушистую красавицу к Новому году. Он хотел пойти на ёлочный базар в восемь часов, к открытию, — это было рядом, за углом, — а потом уже на работу. Ёлки привозили поздно вечером, торговать начинали утром, и к обеду оставались лишь самые захудалые с несколькими жалкими ветками на макушке.
Звонок Богданова нарушил планы.
С ёлкой тянуть дальше было нельзя — на календаре 27 декабря.
Ровно в восемь следователь открыл дверь своего кабинета, где за столом коллеги уже восседал капитан Богданов.
— Вот, Алексей Павлович, — сказал следователь, вешая пальто на крючок за шкафом, — был зван и прийдох…
За окном было ещё совсем темно из-за туч, плотно заблокировавших небо и принёсших такую привычную предновогоднюю оттепель.
— Небось вчера отсыпался весь день? — спросил Богданов, вертя на столешнице зажигалку, с которой не расставался никогда, хоть и бросал курить время от времени.
— После дежурства свалился как убитый, — признался следователь. — А потом бегал, искал ёлку. Все впустую.
— А у меня поспать не получилось. Разделся, лёг, да только извертелся весь. Не идёт из головы эта кража, и все тут! И ещё приказание Копылова… Ты же знаешь генерала — «отыскать и доложить!».
— Что, дело у него на контроле? — удивился Воеводин.
— Да, короче, вернулся я в управление, потолковал с ребятами, может быть, есть или было что похожее… — Богданов щёлкнул зажигалкой, некоторое время смотрел на длинный язычок синеватого пламени.
— Ну и как?
— Никаких аналогий, — ответил оперуполномоченный. — Поехал на Большую Бурлацкую, в дом Ярцевых. Поговорил с участковым, дворником. С соседями потерпевших — с первого этажа и на их лестничной площадке. Результат — ноль!
— Спасибо! — отвесил шутовской поклон следователь. — И ради этого ты вытащил меня на час раньше?
— Терпение, Петрович, терпение, — улыбнулся Богданов. — Потом я махнул на комбинат химволокна, где работает Ярцева. Хотел уточнить кое-что. Может, она отдавала драгоценности в ремонт ювелиру? Только рот раскрыл, а эта Леночка заявляет: «Знаете, кто украл?» — «Нет», — говорю. А она мне: «Мужчина!» Спрашиваю, откуда ей это известно. И Ярцева поведала такую историю… Оказывается, в день кражи около восьми часов вечера к ней домой позвонила по телефону её подруга Людмила Колчина. Ей ответил низкий мужской голос. Колчина попросила позвать к телефону Лену, но мужчина сказал, что её нет. «А Глеб?» Мужчина ответил, что его тоже нет, они на концерте Антонова.
Оперуполномоченный уголовного розыска замолчал, насмешливо глядя на следователя.
— Оригинал этот ворюга, — сказал Воеводин. — Даёт справки знакомым, где находятся хозяева в то время, как он их очищает. Ну а Колчина? — спросил недоверчиво следователь. — Подтвердила?
— Да, да! — кивнул Богданов. — Я говорил с ней. Она ещё кое-что сообщила. Эта самая Колчина поднималась к Ярцевым около семи часов вечера. Говорит, после работы, не заходя домой, заскочила к Лене, чтобы взять журнал мод. Их не было. Колчина пошла к себе. Она живёт в такой же девятиэтажке, только её дом слева, под углом к ярцевскому. Из квартиры Колчиной, которая находится на седьмом этаже, видны окна Ярцевых. Около восьми Людмила увидела в них свет, позвонила. Тогда и состоялся разговор с любезным похитителем.
— Но она хоть поинтересовалась, с кем говорит?
— Не догадалась.
— Жаль! Интересно, что бы ей ответили…
— Колчина была уверена, что это приятель Ярцевых или родственник.
— А она не заметила из своих окон, сколько человек в квартире Ярцевых?
— Нет, окна были зашторены. Закрутилась, говорит, сына купала, спать укладывала. Потом — телевизор. О журнале мод вспомнила только на следующее утро, на работе. И тут же позвонила Лене. Та ей поплакалась насчёт кражи. Ну а Колчина сообщила о звонке… Вот такая, Петрович, история, рассказанная вашему покорному слуге и зафиксированная по всем правилам.
Богданов протянул следователю протокол допроса. Воеводин открыл сейф, достал папку с делом. Протокол допроса Колчиной стал в ней четвёртым по счёту документом.
— Негусто, — заметил следователь, и было непонятно, к чему относились эти слова, к сообщению оперуполномоченного или к количеству материалов в деле.
— О, человеческая неблагодарность! — трагически вздохнул капитан, приняв это все-таки на свой счёт. — Смотри: теперь мы знаем, что вор был отлично осведомлён о походе Ярцевых на концерт. Это раз! Он прекрасно знал, что в квартире есть ценности. И немалые! Это два!.. Похитителю было известно, где они лежат. Потому что, по словам Ярцевых, он больше ни к чему не прикасался. Это три!.. Напрашиваются кое-какие выводы. Или вор из числа знакомых семьи Ярцевых, или его кто-то навёл.
— Все так, Алексей, — Воеводин подошёл к окну. Буквально на глазах светлело. Тротуары заполнили спешащие на работу люди. Машины прокладывали колеи в жидком месиве потемневшего снега. — Все так, — повторил следователь. — Но почему ты уверен, что Колчиной ответил вор?
— А кто же, по-твоему? — удивился Богданов. — Выходит, помимо воров квартиру посещал ещё кто-то? Без ведома хозяев?! Или ты хочешь сказать, что Ярцевы что-то скрыли от нас?
— Понимаешь, меня смущает этот воспитанный похититель. Ну, представь себе, какой дурак, забравшись в квартиру для грабежа, будет отвечать на телефонный звонок?
— Почему дурак? — пожал плечами капитан. — А может, умный! Отличный психолог!
— Ничего себе психолог! — усмехнулся следователь. — Голос — это улика!
— Только записанный на магнитофон, — возразил Богданов. — Я вот подумал, а если он из тех самоуверенных типов, кто перед уходом из ограбленной квартиры выкурит сигарету да ещё опрокинет рюмочку-другую из бара жертвы, а? Правда, этот не курил и не пил, но самоуверенности ему, видно, не занимать.
— Возможно, ты прав, — задумчиво произнёс Воеводин. — Что и говорить, вор необычный. Незаурядный домушник.
— Точно, — согласился оперуполномоченный. — Взял лишь старинные драгоценности… А ведь там было ещё чем поживиться!
Они перешли к тому, каким образом преступник проник в квартиру. Отмычка или взлом, по утверждению эксперта, исключались. Через форточку или балконную дверь — тоже: были заперты изнутри. Да и соседи с верхнего и нижнего этажей в это время находились дома, так что заметили бы.
— Выходит, вор воспользовался ключами, — констатировал следователь. — А вот как он их заполучил? Поговори ещё с Леной. Не теряла ли? Не давала ли кому на время?
— Бу сделано! — пообещал Богданов. — А с Глебом?
— Я сам приглашу его сегодня на допрос.
Капитан покинул кабинет Воеводина, когда здание ожило, наполнилось голосами, шумом шагов, хлопаньем дверей.
Станислав Петрович набрал номер квартиры Ярцевых. Трубку взял Глеб. Голос у него был хрипловатый, заспанный. Поздоровавшись и назвавшись, следователь сказал:
— Мне бы хотелось с вами встретиться.
— Ради бога, — ответил Ярцев.
Но по кислому тону Воеводин понял, что особой охоты идти в милицию он не испытывает.
— Через час сможете? — спросил следователь.
Он услышал в трубке какое-то бормотанье, разобрав лишь слова «библиотека» и «университет». Наконец Глеб внятно произнёс:
— Хорошо.
Станислав Петрович стал наспех набрасывать план допроса, но раздался звонок внутреннего телефона — вызывал начальник следственного отдела. Воеводин проторчал у него битый час. Начальник поинтересовался и кражей на Большой Бурлацкой.
— Пока похвастать нечем, — откровенно признался Воеводин.
— Форсируйте, Станислав Петрович, форсируйте, — строго сказал шеф и, чтобы несколько смягчить приказание, добавил: — Меня тоже теребят. Генерал сегодня лично интересовался.
— Буду стараться, товарищ подполковник, — ответил следователь.
Возвращался он к себе несколько задетый словами начальника отдела. Ведь тот отлично знал, что помимо кражи у Ярцевых в производстве у Воеводина находилось ещё шесть дел. И упрекать следователя в прохладном отношении к службе повода вроде бы не имелось.
Подготовиться к разговору с потерпевшим Воеводин так и не успел: Глеб Ярцев явился минут на пять раньше назначенного времени. Он был без шапки, в мохнатой волчьей шубе, которая очень ему шла — этакий положительный киногерой, покоряющий суровые северные просторы.
— Можете раздеться, — указал на свободный крючок следователь.
— Благодарю, — с достоинством ответил Ярцев, но шубу не повесил, а небрежно кинул на стол соседа Воеводина по кабинету. Станиславу Петровичу это не понравилось, но замечание он делать не стал, благо коллега сегодня отсутствует, уехал в город по делу.
Занося в бланк протокола допроса данные потерпевшего с его слов, Воеводин отметил про себя, что глаза у Ярцева красные, веки чуть припухли. Подумал было: может, он кутил всю ночь? Но перегаром от Глеба не пахло, и на похмельного он не походил. А вот недоспал — явно. Словно в подтверждение мыслей следователя, Ярцев пару раз прикрыл рот рукой, маскируя с трудом сдерживаемую зевоту.
— Ну, Глеб Семёнович, хотелось бы услышать ваше мнение…
— Относительно?.. — вопросительно посмотрел на следователя Ярцев.
— Кто мог украсть драгоценности вашей жены. Вы, наверное, прикидывали, а? И время у вас было.
— Ни в Шерлоки Холмсы, ни в Мегрэ не гожусь, ей-богу! — развёл руками Глеб.
— Даже не мечтали никогда?
— Разве что на заре юности. И то мимолётно. История — это, простите, серьёзнее, глубже.
— Историк, простите, тоже в своём роде следователь, сыщик. Разве не так?
— Да, — после некоторого размышления сказал аспирант, — в наших профессиях есть кое-что общее. Хотя бы загадка смерти Наполеона. Тут действительно историкам приходится быть и криминалистами…
— Вот видите, — заметил следователь, — криминалистика и история рядом. Попробуйте вспомнить, проанализировать события, предшествующие краже. Кто бывал у вас дома? Часто заходят?
— Мы с женой не затворники. Вполне коммуникабельные люди. Сами бываем в гостях, и к нам, естественно, приходят. Но, смею вас заверить, порядочные люди. Я вообще не завожу сомнительных знакомств. Да и жена… Ведь ещё древние говорили: скажи, кто твой друг…
— И я скажу, кто ты, — закончил Воеводин. — Стало быть, вы за всех ручаетесь?
— Скажем по-другому: верю. Просто не допускаю мысли, что кто-то из них… — Ярцев подумал и твёрдо произнёс: — Нет, не допускаю!
— И все же, — мягко настаивал следователь, — кто чаще всего бывал у вас? Конкретно, по фамилиям?
— Конкретно? — недовольно передёрнул плечами Глеб и, посмотрев в потолок, стал перечислять: — Да хоть бы Лев Сафронов, Светлана Ненашкина…
— Кто они, где работают? — уточнил следователь, делая запись в блокноте.
— Оба аспиранта. Мои коллеги.
— Хорошо. Кто ещё?
Ярцев назвал ещё с десяток человек, заключив с иронией:
— Как видите, они не из тех, кто проникает в дом через форточку или с помощью отмычки.
— Вашу дверь открыли ключами, — сказал следователь, не обратив внимания на иронию. — Понимаете, Глеб Семёнович?
— Разумеется, — посерьёзнел Ярцев. Стряхнув с колен несуществующие соринки, он с обидой произнёс: — Уж не хотите ли вы сказать, что я самолично любезно предоставил вору свои ключи?
— Он мог снять с них слепки и изготовить такие же. Или, имея ключи на руках какое-то время, изготовить копии. Вспомните, вы никому не давали ключи?
— Я уже говорил. Когда вы были у нас, — холодно ответил Ярцев. — Могу лишь повторить: не давал никому!
— Когда вы не дома, где их держите? — продолжал допрос Воеводин.
— В кармане.
— Чего?
— Осенью и зимой — плаща, пальто, шубы или дублёнки… Если тепло — в пиджаке. Ну, ещё в брюках… Исчерпывающе?
— Вполне. Допустим, вы сдаёте плащ, пальто или дублёнку в гардероб… С ключами?
Этот вопрос озадачил Ярцева. Он помолчал, потом расплылся виноватой улыбкой.
— Никогда бы в голову не пришло! Действительно, ключи я отдаю вместе с одеждой. Бывает, на целый день. — Он с уважением посмотрел на следователя.
— Вот видите, какой уж из меня Мегрэ! — Глеб махнул рукой. — Значит, вы считаете, что могли сделать ещё один комплект?
— Могли, — кивнул Воеводин. — Где вы чаще всего бываете?
— В университете, в публичной библиотеке, — стал припоминать аспирант.
— В архиве… Раз в неделю посещаю сауну.
— Какую?
— Во Дворце спорта. Одно время ходил в Научно-исследовательский институт машиностроения, но там хуже. И обслуживание не то… Вот, пожалуй, и все места, где я обретаюсь постоянно.
— Больше ничего не припомните?
— Ну, может, в кафе, в ресторанах. Но это очень редко, так сказать, эпизодически.
— Хорошо. Когда вы в последний раз видели драгоценности жены? Я имею в виду пропавшие?
— О-о! — протянул Глеб. — Давненько. Когда мы только поженились.
— И больше не видели? — удивился следователь.
— Представьте себе, нет! И вообще, у нас с Леной правило: её вещи, письма и прочее меня не касается. Так же ведёт себя жена по отношению к моим личным делам. По-моему, иначе и не может быть у интеллигентных людей.
— А что, разве она не надевала эти украшения?
Ярцев рассказал о тесте, о его щепетильном отношении к своей репутации честного человека, о просьбе к дочери, чтобы она не носила бабушкины драгоценности.
— И Лена, поверьте, его просьбу выполняла, — заключил Глеб. — Исключение — перстень. Его она надевала, но редко.
— А не могли драгоценности исчезнуть раньше? — спросил Воеводин.
— Не понял…
— Может, они пропали до того дня, когда вы ходили на концерт? — уточнил следователь.
— Извините, — сухо произнёс Ярцев. — Странное предположение. Вы считаете, я должен поставить под сомнение слова жены?
Воеводин пожал плечами.
— Думаете, она обманывала меня? — хмуро продолжал Глеб. — И вас? Но зачем? С какой целью? Драгоценности не застрахованы, так что… И потом, надо было видеть её лицо! Честное слово, самая гениальная актриса не смогла бы так сыграть!
— Глеб Семёнович, может, у вашей жены в последнее время возникли денежные затруднения? Например, хотела купить себе что-нибудь, а денег не было.
— Ну и вопросы вы задаёте! — с откровенным раздражением заметил Ярцев.
— Кажется, все ясно: похищены ценности… Так ищите их! Зачем подвергать сомнению честность моей жены?! Мою, между прочим, тоже! Я верю Лене! Когда ей что-то надо, она обращается ко мне.
— Но вы же сами сказали, что не лезете в дела друг друга.
— Говорил, — вдруг устало провёл по лицу рукой Глеб. — Но я не представляю себе повода, зачем было жене разыгрывать комедию. Уж если честно, натура она простая, бесхитростная. Обдумывание и исполнение какой-либо сложной ситуации — не для неё. — Он потёр пальцами глаза, вздохнул. — По правде говоря, мне вся эта история до лампочки.
— Шестьдесят тысяч, — усмехнулся следователь. — Целое богатство!
— Нет, я, конечно, переживаю, но только из-за Лены. По существу же какой от этих бриллиантов толк? Лежат себе, и все! Надеть — значит насмерть обидеть отца. Продать — нельзя тем более. — Глеб вдруг виновато посмотрел на следователя. — Простите меня, Станислав Петрович, за резкость. Устаю. Диссертацию надо подбивать, вчера утвердили срок защиты, а дел ещё невпроворот. Хорошая машинистка — и то проблема. Я уж не говорю о самой защите. Для меня главное — работа, а тут надо произвести впечатление, играть какую-то роль.
— И все же я попрошу вас: подумайте, кого могли заинтересовать драгоценности вашей жены, — сказал Воеводин в завершение.
Ярцев промямлил:
— Постараюсь… Попробую…
Подписав протокол допроса, он удалился, галантно раскланявшись со следователем. Станислав Петрович видел, как Глеб вышел из подъезда управления, подошёл к новенькой «Ладе», стоящей у тротуара, снял шубу и, кинув на заднее сиденье, уселся за руль. Машина медленно тронулась с места.
У следователя осталось странное впечатление от Глеба. «Пропажа на шестьдесят тысяч, — размышлял Воеводин. — А ему, видите ли, до лампочки! Разве это естественно? А если действительно ему безразлично? Или играет?.. Может, с женой у него не ладится, тогда и впрямь потеря не трогает».
Станислав Петрович записал в план следственных мероприятий по делу: «Связаться с родителями Лены». Но, подумав, зачеркнул. Потому что вспомнил просьбу самой Лены и Глеба не сообщать пока Гоголевым это неприятное известие, которое могло бы серьёзно сказаться на здоровье Антона Викентьевича.
Позвонил Богданов.
— Я с комбината химволокна, — сообщил он. — Беседовал с Ярцевой… Ключи она держит в сумочке, а с сумочкой никогда не расстаётся.
— Понятно, — сказал следователь. — Куда теперь?
— К ювелиру. Год назад Лена отдавала бабкин перстень в мастерскую, чтобы увеличили размер. Думаю такую дорогую вещь он вспомнит.
— Хорошо, — согласился Воеводин. — Но у меня есть несколько адресов, по которым тебе необходимо работать.
И он вкратце рассказал о разговоре с Глебом, попросив зайти в университет, библиотеку, архив и во Дворец спорта.
— Постарайся разузнать, где ещё бывает Ярцев и оставляет пальто с ключами.
— Это же сколько времени потребуется! — присвистнул капитан.
— Что поделаешь, Алексей. Ключи — это у нас пока единственный ход…
В этот же день после работы Лена уехала в Кирьянов, к родителям. С того самого момента, как пропали драгоценности, она больше всего опасалась визита отца или матери: вдруг поинтересуются бабушкиными украшениями! Родители имели привычку навещать под Новый год единственную дочь и привозить гостинцы к праздничному столу: пироги, жареного гуся или индейку, банки с домашними соленьями и маринадами. В обязательном порядке вручались подарки. Лене — что-нибудь из белья, а Глебу — рубашку. И вот она решила, так сказать, упредить родителей, намереваясь вернуться в Средневолжск в субботу вечером (воскресенье было рабочим днём, так как отдых перенесли на тридцать первое декабря).
Лена уехала в скверном настроении. Как она ни храбрилась, Глеб видел, что кража выбила жену из колеи. Он решил по её возвращении провести вечер дома. Купил её любимый торт «Пражский», охладил бутылку шампанского, до которого жена была большая охотница. Надо было развеять её хандру. В конце концов, с кражей бриллиантов жизнь ведь не кончалась! Не в этих блестящих побрякушках счастье!
Часу в седьмом, когда Лена вот-вот должна была переступить порог, раздался телефонный звонок.
— Глеб? — послышался в трубке медлительный отдышливый голос. — Здравствуй! Узнал?
— Как же! Добрый вечер, Николай Николаевич! — обрадовался Ярцев. — Из Москвы звоните?
— Зачем же… Я тут, в Средневолжске.
— В Плёсе?
— Нет, в «Волжской».
В Плёсе, живописнейшем пригороде Средневолжска, располагалась дача, на которой жило приезжее высокое начальство. Там обычно и останавливался Николай Николаевич Вербицкий. Правда, гостиница «Волжская» самая лучшая в городе, но все же…
— Давно у нас? — полюбопытствовал Глеб.
— Третий день… В командировке… Послушай, Глеб, ты не мог бы навестить старика?
— О чем речь! С удовольствием! В каком вы номере?
— Тридцать втором.
— Буду у вас через пятнадцать минут! — не дал договорить ему Ярцев.
Глеб быстренько переоделся и, досадуя, что опять обрекает Лену на одиночество, черкнул ей записку: «Фери! Приехал Вербицкий, зачем-то вызвал меня в гостиницу. Целую».
«Ничего, — успокаивал себя Глеб, спускаясь к машине, — не обидится. Должна понять. Не кто-нибудь, сам Николай Николаевич!»
По дороге в центр, к «Волжской», Глеб мучительно размышлял, зачем он понадобился Вербицкому. Тот был другом отца. Собственно, дружбы-то особой не замечалось. В своё время Вербицкий занимал должность председателя облисполкома, а Семён Матвеевич работал управляющим облсельхозтехники. Их связывала, насколько понимал Глеб, скорее уж служба. Потом Николай Николаевич перебрался в Москву, стал начальником главка и членом коллегии министерства. Наезжал в Средневолжск редко, последний раз — в прошлом году. Для отца это были счастливые дни: Ярцев-старший мечтал переехать в столицу, надеясь на помощь Николая Николаевича Вербицкого. Тот вроде обещал, но…
«Может, теперь Вербицкий вытащит отца снова хотя бы в область? — подумал Глеб. — Дай-то бог».
Единственно, что смущало Ярцева, почему начальник московского главка остановился не в Плёсе? А вдруг он уже не член коллегии? Тогда…
И все же Глеб волновался, когда постучал в дверь тридцать второго номера гостиницы: он сам втайне надеялся, что знакомство с Николаем Николаевичем может сыграть роль в его, Глеба, судьбе.
— А ты, я смотрю, все такой же добрый молодец! — с улыбкой встретил Глеба столичный гость. — Располагайся.
Глеб сел в кресло, огляделся. Номер «люкс» производил впечатление: толстый ковёр на полу, цветной телевизор, хрустальный графин со стаканом на столе, бар-холодильник. В полуоткрытую дверь была видна солидная деревянная кровать под роскошным покрывалом.
— Тоже вполне, — сказал Вербицкий, словно отвечая на невысказанный вопрос Глеба. — Дачи нынче не в моде. — И, покончив с этим, спросил: — Ну, рассказывай, как живёшь?
— Спасибо, Николай Николаевич, все нормально. Вы знаете, папа…
— Знаю, знаю, — кивнул Вербицкий, — мне Копылов сказал, что он в Ольховке. У тебя в семье, надеюсь, полный порядок?
— Лично я доволен, — на всякий случай улыбнулся Глеб.
— А жена? Лена, кажется? — подмигнул Николай Николаевич.
— Да, Лена. Вы же знаете, она из Кирьянова. Инженер. А я ввёл её в круг интересных людей. Потом у меня самого есть перспектива. На будущий год защищаюсь.
— Кандидат наук — звучит, — благосклонно кивнул Вербицкий.
— Сто семьдесят в месяц.
— Для твоего возраста весьма и весьма.
— И сразу засяду за докторскую. Мой научный руководитель считает, что материала у меня достаточно.
— А идей? — усмехнулся Николай Николаевич.
— Ну, этого добра больше чем достаточно! — прихвастнул Глеб. Впрочем, так же, как и насчёт мнения Старостина о докторской диссертации Ярцева. Но почему бы не покрасоваться перед Вербицким? Для будущего… Ведь если сам себя не похвалишь, от других не дождёшься. Скромность, конечно, украшает, но вот помогает ли?
— Что ж, успеха тебе, — пожелал Николай Николаевич. — Голова у тебя на месте, я всегда говорил.
Глеб слышал это впервые, и от слов Вербицкого сладостно защемило в груди. Авось!
— А вы как? — в свою очередь, спросил Глеб. — Татьяна Яковлевна, Вика?
— Мы с Татьяной Яковлевной стареем. Она, как ты, наверное, знаешь, на пенсии. Я, правда, не думаю. Да и не отпустят. Ну а Вику ты увидишь завтра.
— Как? — вырвалось у Глеба.
— Как говорится, не в службу, а в дружбу — сможешь встретить её? Она едет поездом.
— Конечно! О чем речь! — радостно закивал Ярцев, подумав, что это, вероятно, и есть причина, зачем он понадобился бывшему председателю облисполкома. — Но как же… А Новый год?
— Отпразднуем здесь. Знаешь, Глеб, как она иной раз тоскует по Средневолжску!
— Понятное дело, город детства.
Вербицкий встал, подошёл к бару. Фигура Николая Николаевича была довольно смешной: длинное худое тело, узкие плечи и заметно выдающийся живот, обтянутый шерстяным спортивным костюмом с белой полосой вдоль рукавов — мода пятнадцатилетней давности.
Он достал бутылку минеральной воды, открыл и предложил гостю:
— Будешь?
— Полстаканчика, если можно, — сказал Глеб и, приняв тяжёлый хрустальный стакан, осторожно поинтересовался: — Вика замужем?
Вербицкий отпил пару глотков воды, вздохнул.
— Я и сам не знаю, — как-то виновато улыбнулся он. — Дочь у нас своеобразный человек. Дитя своего времени. Мы вас плохо понимаем. Короче, увидишь, поговоришь сам. Одно гарантирую — прежнюю Вику ты не узнаешь.
Слова Вербицкого заинтересовали Глеба.
Вика… Виктория… Они учились в одной школе, только Глеб — двумя классами старше. Была худая, угловатая, с прямыми чёрными волосами. За её большой рот кто-то назвал девочку Щелкунчиком. Прозвище пристало надолго.
Это теперь Глеб понимал, сколько слез, вероятно, было пролито из-за насмешек сверстников. Но тогда…
Дети жестоки. Не сознавая того, они могут причинять нестерпимую боль и обиду друг другу, которая иной раз не выветривается из души и памяти всю жизнь.
Вику даже не защищало то, что она прекрасно рисовала. Старшеклассники, и те восхищались красочно оформленными стенгазетами, к которым приложила свою руку Вербицкая.
У Глеба с Викой была своя тайна. Когда он учился в десятом классе (она соответственно в восьмом), то получил от дочери предисполкома записку. Невинную по форме, но значительную по смыслу (о, Глеб уже был избалован обожанием девчонок и умел расшифровывать недомолвки!): «Не взялись бы Вы достать пригласительные билеты на концерт учащихся музыкальной школы для меня и моей подруги?»
Во-первых, Вика могла бы обратиться к нему с такой просьбой устно. Во-вторых, билеты не были проблемой. Но главное заключалось в другом. Это была записка к мальчику…
Глеб был избалован, но циником не был. Он передал в запечатанном конверте просимые билеты через посредника, но во время концерта к двум восьмиклассницам не подошёл. А сколько было благодарности, призыва и в то же время смущения во взглядах Вербицкой, которые она бросала на него!
К своей чести (а Ярцев ставил себе это в заслугу), он никому никогда не говорил об этом случае. Даже отцу, который более чем прозрачно намекал сыну, что весьма желал бы дружбы между Глебом и дочерью председателя облисполкома. Сиречь, хотел бы видеть её в своих снохах.
— Папа, — отмахивался Ярцев-младший, — да ты посмотри на неё!
— Что ты понимаешь! У Вики красивые глаза, рот…
— Рот?! — смеялся Глеб. — Ой, умру, ой, держите меня!
Летом, после того концерта, Вербицкие уехали в Москву. С тех пор Глеб не видел Вику. А прошло уже семь лет!
Единственное, что о ней знал Глеб (из разговора отца с Николаем Николаевичем), — Вика училась в художественном институте имени Сурикова в Москве.
— И все-таки в такой праздник уезжать сюда… — Глеб с сомнением покачал головой. — Провинция, она и есть провинция. Тут даже апельсинов или мандаринов не достанешь.
— По мне хоть бы их и век не было, — махнул рукой Николай Николаевич.
— Не понимаю, что на них так бросаются? Ну что может быть лучше хорошей антоновки или семиренки! Я всегда говорю: везём за тридевять земель, с другой, можно сказать, стороны земного шара всякие там бананы, манго, папайю! А своё добро — душистое, ароматное и полезное, да-да, в тыщу раз полезнее! — яблоки, груши и другую прелесть собрать и сохранить не можем! Частник предлагает заготовителям почти бесплатно: берите, пользуйтесь! ан нет! Для своего не хватает транспорта, тары и ещё черт знает чего! Вот, ей-богу, дай мне ананас, так я откажусь от него в пользу крыжовника! — Видя, что Глеб улыбается, Вербицкий прервал свою филиппику. — Ты не согласен?
— Да нет, просто вспомнил… — сказал Ярцев. — Был когда-то такой граф Завадовский, по-моему, в начале прошлого века… Так его сын прямо-таки помешался на ананасах. Потреблял их в несметном количестве. Сырыми, варёными…
— Как варёными? — удивился Вербицкий.
— Более того, их для него даже квасили. В бочках, как капусту… А потом варили из них щи или борщ.
— Нет, ты серьёзно? — все ещё не верил Николай Николаевич.
— Исторический факт!
— Это же… Это же стоило, наверное, кучу денег!
— Совершенно верно. Сын Завадовского умер чуть ли не в нищете!
— Да, — вздохнул Вербицкий. — Русская натура. — Не остановишь. — Он усмехнулся. — Вот что, Глеб, квашеными ананасами я тебя угостить не могу. А вот ужином…
— Нет-нет, — запротестовал Ярцев. — Спасибо. Я дома…
— Ох уж эта провинциальная скромность, — недовольно заметил Николай Николаевич. — Возьмём что-нибудь лёгкое, перекусим. От этого не растолстеешь. Понимаешь, не люблю я есть в одиночестве. Ну как?
— Уговорили! — засмеялся Глеб.
— Вот и ладненько, — потирая руки, произнёс Вербицкий. Он снял трубку, позвонил в ресторан и заказал ужин в номер. А Глеб, пока Николай Николаевич перечислял блюда, гадал, чем все-таки вызвана такая милость? Почему Вербицкий столь любезен с ним?
Вербицкий, положив трубку, продолжил разговор о дочери:
— Открою ещё один секрет. Вика едет поработать на пленэре. Ну, рисовать с натуры, на воздухе. Так это у них называется.
— Знаю, — кивнул Ярцев.
— У неё талант. Не как отец говорю… Послушай, как у тебя завтра день? — неожиданно перескочил он.
— Располагайте мною сколько вам надо, — с готовностью откликнулся Ярцев.
— Ну как же… Перед Новым годом… У тебя жена, — все ещё сомневался Вербицкий.
— Николай Николаевич, — обиделся Глеб. — Если я говорю…
— Хорошо, хорошо, — поднял вверх руки Вербицкий. — Сможешь подбросить нас с Викой в Ольховку?
— Запросто! Я бы рекомендовал прямо к отцу.
— Я так и хотел, — улыбнулся Николай Николаевич. — Примет?
— Господи! Доставьте ему такую радость! — воскликнул Ярцев, размышляя, кокетничанье это или просто элементарная вежливость? Уж кто-кто, а Вербицкий отлично должен знать, как к нему относится Ярцев-старший, испытанный приятель и бывший подчинённый.
За ужином договорились, что Глеб заедет за Николаем Николаевичем завтра к одиннадцати часам утра. Потом они встретят Вику и сразу отправятся в Ольховку.
— Стряхну с себя московские заботы, поброжу с ружьишком по лесу, — мечтательно произнёс Вербицкий. Он был заядлым охотником.
Глеб засиделся у Николая Николаевича до начала двенадцатого.
— Не мешало бы позвонить отцу, — прощаясь, сказал Глеб. — Предупредить.
— Ой, — поморщился Вербицкий, — эти пышные встречи, застолья… Я же знаю Семена Матвеевича! Мы тихо, скромненько.
Он проводил Глеба до лифта.
А когда Ярцев вернулся домой, Лена бросилась ему на шею, довольная поездкой к родителям, радостная от того, что хоть остаток вечера они проведут вместе, попивая холодное шампанское. По её словам, отец действительно собирался в Средневолжск накануне Нового года, но теперь не приедет. И вообще до весны не выберется. Глеб сообщил, что завтра повезёт Вербицких в Ольховку.
— А как же праздник? — жалобно вырвалось у Лены.
— Так в запасе целых двое суток! Успею вернуться десять раз!
— Смотри, — шутливо погрозила мужу Лена, — положит на тебя глаз московская художница.
— Вот уж чего не приходится опасаться! Ты бы видела эту страшилу!
Жена встала, подошла к нему сзади и тёплыми руками обняла за шею. Её волосы, мягкие, пушистые, пахнущие шампунем, щекотали Глеба.
— Боже мой, — не то прошептала, не то простонала Лена, — какая же я счастливая!
Он ощутил трепет молодого, жаждущего ласки тела.
— Ну? — тихо произнесла жена.
— Пойдём, — так же тихо и ласково ответил Глеб.
Ровно в одиннадцать Ярцев подкатил к гостинице «Волжская». Вербицкий, стоявший под большим бетонным козырьком, приветствовал его поднятием руки и солидно подошёл к машине.
— По тебе можно сверять часы, — сказал он, довольный, устраиваясь рядом с Глебом и энергично пожимая ему руку.
Глеб отметил про себя, что Николай Николаевич одет не по-полевому. Рассчитывает на амуницию отца?
— Ну и погодка! — озираясь, сказал Вербицкий.
— Все же лучше, чем гололедица, — ответил Глеб.
С неба сыпался не то снег, не то дождь. Из-под колёс автомобилей веером разлетались серые брызги. Дворники едва успевали смахивать с лобового стекла грязные потёки.
— Завтра обещали мороз. Так что гололёд обеспечен.
— Но мы уже будем в Ольховке.
Так, перебрасываясь незначащими фразами, доехали до вокзала, где пришлось протомиться в ожидании опоздавшего поезда три часа. Наконец объявили прибытие московского.
Когда возле них медленно остановился мягкий вагон, Николай Николаевич радостно замахал кому-то в окне и бросился к двери.
Глеб едва поспевал за ним. Пришлось ждать, пока выйдут скопившиеся в проходе пассажиры. Потом они зашли в опустевший вагон, пахнущий цитрусовыми: все пассажиры были увешаны авоськами с апельсинами и мелкими бледными мандаринами.
— Привет, — спокойно сказала стоящая у входа в купе женщина в джинсах, высоких сапогах, меховой короткой курточке и огромной лисьей шапке.
Вербицкий запечатлел на её полных, сочных губах нежный поцелуй, потрепал по щеке и нырнул в купе, откуда донеслось нетерпеливое радостное собачье повизгивание.
— Ну, здравствуй, Глеб! — протянула ему длинную изящную кисть незнакомка, чудесные глубокие серые глаза которой смотрели с чуть насмешливым любопытством.
— Вика! — Глеб задержал её ладонь в своих руках, от неожиданности растеряв все слова, которые приготовил для встречи. — Сколько лет, сколько зим!
— Я тебя сразу узнала, — сказала Вика, остановив свой взгляд на его ямочке на подбородке.
— А я тебя нет, — ответил Ярцев с улыбкой. — Честное слово! Ну прямо…
Договорить ему не дали: дородная женщина с двумя чемоданами разделила их. Вика отступила в купе. И когда Глеб вошёл в него, то увидел трогательную картину: Николай Николаевич расположился на сиденье, а в его колени упирался лапами лохматый пёс, стараясь лизнуть хозяина в лицо. Но псу не удавалось это из-за намордника.
— Познакомься, — показала на собаку Вика. — Дик.
Услышав своё имя, пёс повернул голову. Был он весь какой-то круглый, с плотным лоснящимся мехом и кольцом закрученным хвостом.
— Лайка, — скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Ярцев.
— Порода! — протянул Николай Николаевич, потрепав собаку по загривку.
— Носильщика, наверное, надо?
— Зачем? — деловито взялся за чемодан Глеб, обозревая немногочисленный багаж Вики. — Управимся.
— Конечно, — поддержала она, надевая на плечо зачехлённое ружьё и беря в руки спортивную сумку. — А ты, папа, возьми мольберт. Надеюсь, донесёшь?
— усмехнулась дочь.
— Мы ещё можем! — бодро ответил Николай Николаевич, подхватывая деревянный плоский ящик, и, скомандовав собаке: «Рядом!» — первый двинулся к выходу.
Ярцеву помимо чемодана досталась ещё целлофановая сумка с рекламой сигарет «Кент», полная огромных, чуть ли не с голову ребёнка, грейпфрутов.
В машине Вербицкий сел рядом с Глебом, а Вика расположилась с собакой на заднем сиденье.
— Как мать? — поинтересовался Николай Николаевич у дочери. — Небось сердится на нас, что бросили?
— По-моему, даже довольна, — ответила Вика, не отрывая глаз от окна. Первый Новый год не будет торчать у плиты. Её пригласили Колокольцевы. Ты же знаешь, зимой у них на даче — прелесть!
— Ещё бы! Барвиха! — Заметив, что дочь не налюбуется родным городом, Вербицкий сказал: — Средневолжск-то, а? Не узнать! Строят не хуже, чем в матушке-Москве.
— Угу, — кивнула Вика, оглядывая громаду проплывающего мимо Дворца спорта. — Но я люблю набережную, Рыбачью слободу…
— Это ты сейчас увидишь, — пообещал Ярцев, сворачивая к Волге.
Слова гостьи несколько задели его: намеренно показывал Вике новые современные строения в городе, чтобы поняла, каким он стал, а ей, видишь ли, подавай провинциальные прелести.
Впрочем, это, наверное, и есть ностальгия по детству, с которым связаны и великая река, и тихие окраины, утопающие в садах и рощах. Совсем ещё юными они каждую весну ходили смотреть на ледоход, а в Рыбачьей слободе ботаничка проводила занятия на свежем воздухе.
Правда, сейчас стояла зима, и все же Вика не смогла сдержать восторга, когда они ехали по набережной, потом — по кривым улочкам предместья.
Глеб видел её лицо в зеркале заднего обзора и вдруг вспомнил замечание своего отца, когда-то сделанное в адрес Вики. Насчёт её глаз и рта.
«А батя-то был прав, — подумал Ярцев. — Какие чувственные, манящие губы… Глаза тоже красивые, ничего не скажешь. Николай Николаевич не соврал: Вику не узнать. Как в сказке Андерсена — из гадкого утёнка вырос прекрасный лебедь».
Всегда чувствующий себя выше женщин, с которыми ему до сих пор приходилось встречаться, Глеб ощущал — теперешняя Вика словно бы смотрит на него сверху вниз. Он старался понять — отчего? Может, столичность? Принадлежность к кругу людей, занимающих высокое положение? Вращение в художественной элите?
— Глеб, сделай милость, остановись, — попросила Вика.
Они уже пересекли городскую черту. Ярцев встал на обочине.
— У Дика очень важные дела, — с улыбкой объяснила девушка, выходя с собакой из машины.
Пёс бросился к молодым сосенкам, растущим у дороги, и бесцеремонно задрал ногу у первого же дерева.
Николай Николаевич вопросительно посмотрел на Ярцева — что он скажет о Виктории? Но Глеб отвёл глаза.
Он наблюдал за девушкой, которая в ребячьем восторге лепила снежки и бросала в Дика, который, покончив со своими делами, кидался за белыми кругляшами и радостно повизгивал. А мысли Глеба снова переключились на своего отца, и он не мог не признать, что Семён Матвеевич понимал толк в женщинах, в их красоте. То, что Глеб чувствовал ещё в раннем детстве, с годами открылось во всем своём точном и полном смысле: батя был увлекающимся (мягко выражаясь) мужчиной.
Судя по старым фотографиям, Калерия Изотовна, мать Глеба, была красивая, очень женственная, в её облике чувствовалась какая-то светлая одухотворённость. Ярцев не помнит, чтобы она хоть раз повысила голос, сделала резкий жест, сказала грубое слово. Даже в те, прямо скажем, не редкие периоды, когда отец вдруг на некоторое время превращался в сверхзанятого человека, заявлялся домой под утро, а то и вовсе не ночевал. Детям — старшему Родиону и младшему Глебу — с непонятной виноватостью Семён Матвеевич объяснял, что его замучили работа и вымотали командировки. Но они каким-то шестым чувством (особенно Родя) ощущали, что не в этом причина. По окаменелости матери, по её повышенной ласковости и нежности к сыновьям…
Глеб до сих пор не знает, кто от кого ушёл: Семён Матвеевич от матери или Калерия Изотовна от него. В один прекрасный, как говорится, день Глебу сказали, что батя уехал в длительную командировку. Однако это была липа, причём шитая белыми нитками. Глеб видел отца в служебной машине в Средневолжске, а один раз столкнулся с ним чуть ли не нос к носу на улице.
Открыл глаза младшему брату старший. Вызвал его пройтись по городу и, остановившись на набережной, глядя на вечернюю холодную Волгу, хриплым срывающимся голосом произнёс:
— Ты уже не сосунок. И должен знать, что этот… Этот бабник нас бросил.
Словно кипятком ошпарили душу Глеба эти слова. Он знал, о ком речь. Но его поразила ненависть брата к отцу. А ещё больше, что тот ушёл от него, младшего сына, своего любимца!
— Врёшь, — тихо сказал Глеб.
— Спроси у него самого, — презрительно ответил Родион и пошёл прочь, в ярости стуча сжатым кулаком по парапету.
Ему тогда был двадцать один (недавно вернулся из армии), а Глебу — пятнадцать.
Глеб не знает, почему он тут же бросился в учреждение Семена Матвеевича. Привычка всегда слышать, что отец работает допоздна?
Батя действительно находился ещё там, хотя время было около девяти.
Увидев полные слез глаза сына, его перекосившееся лицо, Семён Матвеевич ласково сказал:
— Здравствуй, Глеб… Садись.
Тот послушно сел, не заметив, однако, особого смущения отца. Скорее уж в Семёне Матвеевиче ощущалась решимость. Видимо, поставить последнюю точку.
— Для твоего ума это пока очень сложно, — продолжал Ярцев-старший. — Дай господи, чтобы понял потом. Поверь только, бросать я никого не собирался. Так получилось. Словом… — Он махнул рукой.
— А Родион говорит… — с клёкотом вырвалось у Глеба.
— Эх, Родька, Родька, — вздохнул отец и неожиданно жалобно спросил: — Ты-то хоть будешь со мной?
— Конечно, папа, конечно! — бросился к отцу Глеб.
— Ну и слава богу, — с облегчением произнёс тот, прижимая к себе сына.
Отец расспросил о школе, поинтересовался, есть ли в чем нужда — в деньгах, вещах. Прощаясь, он сказал:
— Не переживай шибко, скоро все утрясётся…
Смысл «утрясётся» прояснился только через полгода. А в тот день Глеб вернулся домой за полночь: бродил по городу с потрясённой, переворошённой душой и разумом. На вопрос встревоженной матери, где он пропадал, Глеб сказал, что был у отца.
— Ну и хорошо, — почему-то спокойно произнесла она. Была с Глебом ровна, нежна, но ничего не объясняла.
Полгода отец не жил на своей квартире по улице Свободы. За это время Родион женился на женщине старше себя на четыре года, с ребёнком. Они работали на одном заводе. Вскоре старший брат со своей супругой получили трехкомнатную квартиру от предприятия. Глеб потом узнал, что в этом помог Родиону отец. Через Николая Николаевича Вербицкого. Мать переехала жить к старшему сыну. Вот тогда-то и вернулся Семён Матвеевич в свой дом. С двадцатисемилетней Златой Леонидовной. Она была красавица. И очень соответствовала внешностью своему имени — золотые кудри, персиковый цвет лица и светло-янтарные глаза.
Глеб остался с ними. Единственным чадом, так как Ярцев-старший с новой женой детей не заимели.
Вопрос же, кто кого оставил, так и остался для Глеба открытым, потому что Родион как-то сказал брату, что Калерия Изотовна сама, мол, указала отцу на дверь, не в силах дольше терпеть его измены.
Первое время после разъезда семьи Глеб метался, считая, что совершил предательство по отношению к матери. Развалилась и его дружба с братом, который не скрывал своего неудовольствия, когда Глеб приходил к ним. Как всегда, мать оказалась мудрее всех.
— Не принимай слова Роди близко к сердцу, — сказала она сыну однажды.
— Брат есть брат.
И то, что младший сын остался с отцом, она не осуждала. С Глеба словно сняли непосильную ношу. Вскоре у Родиона в семье произошло прибавление. И какое — сразу двойня!
Никогда Глеб не забудет того дня, когда он, выходя из школы, попал в объятия брата. И хотя стоял лютый мороз, тот был весь нараспашку, без шапки, с невероятно радостным и глупым лицом.
— Поздравляю дядьку! — Он схватил Глеба поперёк тела и попытался подбросить вверх. — Слышь, дядька, у тебя два племяша! Яшка и Аркашка! Знай наших!
Родион потащил брата разыскивать живые цветы (выложил кругленькую сумму улыбчивому и загадочному человеку с южной внешностью), и они вместе пошли в роддом, чтобы передать букет роженице.
Глебу казалось, что теперь-то они снова будут близки с братом, как в детстве, вернётся к ним радостное единение. Но то оказалось лишь единичной, последней вспышкой братской дружбы.
Родион окунулся в заботы (шутка ли, двое детей) и Глеба словно не замечал. Но былое отчуждение исчезло — и то слава богу! Осталось лишь равнодушие. Правда, отца старший сын так и не простил…
— Ну, тронулись? — сказала Вика, хлопая дверцей и утихомиривая расходившегося пса.
Глеб, оторвавшись от своих мыслей, включил зажигание.
— Ой, Виктория, — недовольно заметил Николай Николаевич, — загубишь ты охотничью собаку! Тебе бы все играться.
— Сам виноват, — парировала дочь. — Не стоило, живя в Москве, обзаводиться охотничьей собакой.
— Что поделаешь, люблю, — вздохнул Вербицкий и, обращаясь к Глебу, сказал: — Охотничьи собаки — моя страсть.
Пёс, словно поняв, что говорят о нем, радостно взвизгнул.
Николай Николаевич стал расписывать достоинства лаек. Действительно, собаки были его коньком. Глеб сделал вид, что внимательно слушает, но его больше занимала дорога. И это не ускользнуло от Вики.
— Папа, в этом деле ты профессор, но не отвлекай нашего водителя.
— Молчу, молчу! — поднял руки Вербицкий.
А шоссе было действительно тяжёлым для водителя. Подмораживало, и надо было быть предельно осторожным. Летом Глеб добирался до Ольховки часа за три, теперь же они прибыли в райцентр через добрых четыре. Отсюда до совхоза «Зеленые дали», где директорствовал Семён Матвеевич Ярцев, было ещё километров двадцать. Так что когда бежевая «Лада» Глеба въехала на центральную площадь совхоза, уже стемнело.
— Заглянем к бате в контору или сразу домой? — спросил Глеб.
— Домой, только домой! — воскликнул Вербицкий. — Не будем афишировать наш приезд.
— Все равно через минуту весь посёлок узнает, — улыбнулся Глеб, сворачивая в боковую улочку. — Деревня есть деревня.
Они миновали ровный ряд добротных домов с мезонинами, гаражами и аккуратными хозяйственными постройками.
— Богато живут, — не удержался от замечаний Вербицкий.
— Вот и приехали, — сказал Глеб, останавливаясь у ажурных металлических ворот, за которыми виднелся роскошный двухэтажный особняк с большими окнами, светившимися уютно и зазывно.
Ярцев вышел из машины, нажал на кнопку звонка. Трепыхнулась занавеска на одном из окон, и чьё-то лицо прильнуло к стеклу. Через полминуты створки ворот сами раздвинулись, и Ярцев подал «Ладу» к дому, из которого уже выходила радостная хозяйка в накинутом на плечи оренбургском платке.
— Господи! — всплеснула руками Злата Леонидовна, увидев, что из машины помимо пасынка выходят Вербицкий и его дочь. — Николай Николаевич, дорогой! Вот радость-то!
Николай Николаевич галантно поцеловал ей руку, указал на Вику:
— Узнаете?
— А как же! — заключая в объятия дочь Вербицкого, проговорила с торжественными модуляциями в голосе Ярцева. — Дай-ка я на тебя посмотрю!.. Расцвела!
Вика ответила просто:
— Я очень рада видеть вас, тётя Злата.
Дошла очередь до Глеба. Мачеха чмокнула его в щеку, прошлась пятернёй по волосам.
— Забываешь нас, сынуля.
— Диссертация, — начал было оправдываться Глеб.
— А позвонить нет времени?
Потом был представлен Дик, вызвавший у хозяйки дома совершеннейший восторг.
— Ну, в дом, в дом! — провозгласила Злата Леонидовна.
Не успели вынуть из машины вещи, как у ворот взвизгнул тормозами примчавшийся как бешеный «уазик».
Сработал невидимый сельский телеграф.
— Вот черти! — гремел баском широко шагающий к дому Ярцев-старший в расстёгнутой дублёнке. — Ну хороши, ничего не скажешь! Даже не сообщили!
— Сюрприз, так сказать, — улыбнулся Вербицкий, обнимаясь с хозяином. — Но ты как узнал?
— У меня разведка поставлена, будь здоров, — засмеялся Семён Матвеевич. — Батюшки, Вика! — развёл он руками. — Уважили, братцы! Ей-ей! Такой подарок к Новому году!
Он поцеловал девушку в лоб.
— Приглашай в свои апартаменты, — сказала мужу Злата Леонидовна, кивая на дом.
— Дом твой, — хохотнул Ярцев-старший. — А я прописан в Средневолжске.
— Милости просим, дорогие гости, — нараспев произнесла Злата Леонидовна.
Все потянулись в особняк, радуясь, что утомительная дорога позади и их ждут уют и гостеприимство.
Утром следующего дня — а это было 30 декабря — гости, в том числе и Глеб, проснулись поздно. Семён Матвеевич давно уже уехал в контору, так что потчевала приезжих завтраком одна хозяйка.
За ночь убрались куда-то тучи, небо очистилось, и на дворе стоял волшебно-прозрачный солнечный день.
Завтракали в просторной кухне, обшитой деревом и украшенной огромными блюдами семеновской росписи, играющими пламенными красками от яркого света, льющегося из широкого окна.
— Какая у вас тут красота, тётя Злата! — восторгалась Вика, глядя через окно на голубые ёлочки у самого дома, усыпанные сверкающим снегом.
— А тишина! — добавил Николай Николаевич.
— И красота и тишина в наличии, — усмехнулась Злата Леонидовна, подавая всем кофе со сливками. — Особенно хорошо, если на недельку-другую.
— В город тянет? — спросил Вербицкий.
— Ещё бы, — со вздохом призналась хозяйка. — Я же городская до мозга костей. Дачку здесь иметь не отказалась бы, а вот жить постоянно…
— И Семён Матвеевич того же мнения? — продолжал интересоваться Вербицкий.
— Спросите у него, — ответила Ярцева и переменила тему. — А вам как в Москве? Небось совсем превратились в коренных столичных жителей?
— Да как сказать, — неопределённо ответил Николай Николаевич. — В Москве, конечно, масштабы другие. Но, признаюсь честно, никак не привыкну к сутолоке, коловороту людскому. А транспорт! Переполненное метро, автобусы… Иной раз это просто убивает! Выбраться куда-нибудь в гости — целая проблема.
— Но вас, наверное, это не касается, — перебила гостя Злата Леонидовна.
— В каком смысле? — не понял Николай Николаевич.
— Ну, видимо, у вас персональная машина.
— Никакой персональной.
— Как? — изумилась хозяйка. — Начальник главка! Член коллегии!
— Ну и что, — пожал плечами Вербицкий. — Персональные только у министра и его заместителей. Я же пользуюсь одной «Волгой» на двоих. И, чтобы не ссориться, мы договорились, что каждый ездит через день.
— Ну и ну! — все ещё удивлялась Ярцева. — Ведь вы вершите огромной отраслью! На всю страну! Это же выше, чем председатель облисполкома!
— В принципе — да, — кивнул Николай Николаевич.
— Но ведь в Средневолжске у вас была персональная! И, насколько я знаю, даже два шофёра!
— Было, было, — улыбнулась Вика. — Случалось, едешь в папиной машине, регулировщики честь отдают.
— Не тебе же, — усмехнулся Вербицкий.
— Вот я и говорю: самой машине козыряли! — засмеялась Вика. — Здесь папа был кум-королю! Знаете, я очень стеснялась. Особенно в школе. Везде меня совали первой. Учителя помнили день моего рождения, поздравляли. Ученики добивались дружбы. А за спиной — шептались. — Она вздохнула. — Спросите у Глеба, что обо мне говорили за глаза. Так ведь, а?
Все посмотрели на Ярцева. А он не знал, что ответить.
— Что ты, Вика, — пробормотал Глеб, ошарашенный вопросом, и вспомнил её прозвище — Щелкунчик.
— Брось, — махнула рукой Вика. — Я знаю. — Видя, что щекотливая тема не очень пришлась к столу, она улыбнулась. — Тётя Злата, в Москве другие кумиры. Вот взять хотя бы папиного министра. В своём кабинете он Зевс-громовержец! А вышел на улицу — никто! Другое дело — Вячеслав Тихонов, Иосиф Кобзон, Инна Чурикова или Алла Пугачёва. Их узнают, млеют от восторга.
— Это понятно — звезды, — с почтением произнесла хозяйка.
— Ну, ещё космонавты или дикторы телевидения, — добавил Вербицкий.
— Так что наш папуля… — сказала Вика и замолчала, прислушиваясь к чему-то.
В прихожей раздался какой-то странный шум.
— Злата Леонидовна! — послышался голос.
— Это ёлка, — сказала хозяйка, выходя из кухни.
— Ёлка? — обрадовалась Вика и бросилась в переднюю.
Глеб тоже вышел и увидел парня с высокой, под потолок, лесной красавицей.
— Познакомьтесь, это Рудик, мой незаменимый помощник, — представила парня Злата Леонидовна.
Тот вежливо поздоровался, с трудом удерживая в руках ёлку, густые ветви которой шуршали по стенам.
Дом наполнился запахом хвои.
— Куда? — спросил Рудик.
— В большую комнату.
Все забыли о завтраке и собрались в просторной гостиной, где «помощник» по-хозяйски освобождал место для новогодней красы. К дереву была уже прилажена деревянная крестовина. Поместили ёлку в углу, передвинув диван, журнальный столик и кресла.
— Я пойду, Злата Леонидовна, — сказал парень. — Семён Матвеевич просил вас отыскать шампуры, я их прихвачу.
— Сейчас, сейчас, — засуетилась хозяйка. — Кофе выпьешь?
— Спасибо, — улыбнулся белозубым ртом Рудик, приглаживая русые вихры.
— Я уже чаёвничал… И ещё Семён Матвеевич просил передать, что скоро будет.
Получив из рук Ярцевой связку шампуров, он ушёл. Буквально минут через пятнадцать приехал на своём «уазике» хозяин дома.
— Ну как, гости дорогие? — весело произнёс он, застав всех ещё в гостиной. — Выспались?
— Давненько не задавал такого храпака, — признался Вербицкий.
— Теперь я весь в вашем распоряжении, — провозгласил Ярцев-старший.
— Так закинем ружьишки за плечи — и в лес! — обрадовался Николай Николаевич.
— Э, Николай Николаевич, быстро сказка сказывается, — усмехнулся Семён Матвеевич. — И потом, ты сам виноват. Предупредил бы заранее.
— За чем же остановка? — удивился Вербицкий.
— Не будем же мы палить по зайчишкам на совхозных полях! — рассмеялся Ярцев. — Надо подальше, в лес. Там у меня избушка на такой случай имеется. А избушку ту трэба, как говорят хохлы, протопить, прибрать. Да и не доберёшься к ней на машине, вон сколько снега за последние дни навалило.
— Сани, я думаю, найдутся? — спросила Вика. — Моя мечта — прокатиться в розвальнях. Так, кажется?
— А ты что, тоже собираешься с нами? — удивился отец.
— Конечно!
— Охотиться? — уточнил Семён Матвеевич.
— Зачем? Писать зимний лесной пейзаж… и вообще…
— Сани, конечно, можно, — посмотрел на Вербицкого хозяин. — А это значит, ещё двоих кучеров.
— Нет-нет! — запротестовал Николай Николаевич! — Вика, что за барство?
— сделал он выговор дочери. — Отрывать людей. Да и лишние разговоры ни к чему…
— Я тоже так подумал, — сказал Семён Матвеевич. — Сейчас к той избушке очищает дорогу бульдозер. И раз с нами Вика — поедем на двух машинах. Вы на Глебовой «Ладе», а я со всем снаряжением — на «уазике». Сам за рулём. Устраивает?
— Во-во! — обрадовался Вербицкий. — Никого из посторонних.
— Не беспокойся, — заверил его Семён Матвеевич. — Все свои. Рудик — парень проверенный.
— А что Рудик? — не понял Вербицкий.
— Который ёлку принёс, — объяснила Злата Леонидовна. — Это шофёр Семена… Он поехал на бульдозере в Кабанью рощу, где охотничий домик. Поверьте, Николай Николаевич, на него можно положиться, как на родного сына.
— Короче, часика через два тронемся, — подытожил хозяин. — Дотемна, может быть, ещё успеем поохотиться. Переночуем в той избушке, а уж завтра, с утречка, загоним зверя поосновательней. И вернёмся. К праздничному столу и… — он указал на ёлку. — Принимается?
— Отлично! — потёр руки Вербицкий.
Каждый занялся своим делом. Виктория отправилась с Диком на околицу посёлка: ей не терпелось взяться за фломастер. Семён Матвеевич и Николай Николаевич принялись готовить охотничье снаряжение. Злата Леонидовна достала коробки с ёлочными украшениями. Дела не было только у Глеба. Но мачеха нашла — попросила разобраться с электрогирляндой: несколько лампочек не горели, надо было заменить их.
Но сначала он позвонил в Средневолжск, на работу жене, и сказал, что вернётся завтра вечером. Та поворчала и попросила, чтобы приезжал пораньше. Не к самому застолью — ведь приглашены гости, их надо кому-то развлекать, так как на её плечах праздничная готовка. Глеб пообещал.
А тем временем Семён Матвеевич у себя в кабинете на втором этаже забросал гостя вопросами: что думают и говорят в Москве о перестройке, какие ходят слухи.
— А ты не можешь задать мне вопросы полегче? — усмехнулся Вербицкий.
— Могу. Тогда скажи, что делается в вашем ведомстве?
— Что касается нашей конторы, то в ней в основном перестраивают кабинеты, — осклабился Вербицкий. — Да ускоренным темпом плодятся новые инструкции и указания.
— Это уж точно, бумаг заметно прибавилось, — согласился Ярцев. — На себе чувствую. И все же, перемены какие-нибудь будут?
— Ой, Матвеевич, о чем ты говоришь! — усмехнулся Николай Николаевич. — Вспомни, сколько на нашем с тобой веку провозглашалось разных новых широковещательных программ! И что из того?
— Как же так? — несколько растерялся хозяин. — А переход на хозрасчёт, самофинансирование, самоокупаемость?
— Это всего лишь новая упаковка, а содержание старое, — пожал плечами Вербицкий. — Пока живы министерства, без наших инструкций, указаний, одним словом, директив, вам не обойтись.
— Значит, ты считаешь… — вопросительно посмотрел на него Семён Матвеевич.
— Поговорят, пошумят, а в основном все останется по-прежнему.
Слова гостя удовлетворили Ярцева. И он стал нахваливать ружьё Николая Николаевича.
— Ты же знаешь, — сказал тот, — я всегда предпочитал бельгийские. Именно эти — «франкотт». Штучное производство. Отделка-то, отделка, а?
— Классная, — кивнул Семён Матвеевич, рассматривая рельефную художественную гравировку на металлических частях. — Пробовал?
— В Белоруссии. Отличная балансировка, посадистость. Я уже не говорю о постоянстве боя! А ты что возьмёшь? — спросил Вербицкий, оглядывая солидную коллекцию оружия хозяина.
— Моего «Джемса Пэрдэя», — ответил Семён Матвеевич, переламывая двустволку и глядя стволы на просвет. — Верная штука, ни разу не подводила. Между прочим, отдал за него семь с половиной тысяч.
— Семь с половиной? — присвистнул Вербицкий, беря ружьё из рук хозяина.
— Копейка в копейку, — подтвердил Ярцев. — Уверяю тебя.
— Девятый калибр, — сказал Николай Николаевич, рассматривая ружьё. — Думаешь, подстрелим кабанчика?
— Или лося, — подтвердил Ярцев. — Попадаются частенько. Ещё хочу прихватить вот это. — Он взял плоский футляр из кожзаменителя, открыл его и бережно вынул красиво инкрустированное и гравированное ружьё. — Испытаю в первый раз.
— Дай-ка, дай-ка! — загорелись глаза у Вербицкого. — ТОЗ-34 Е… Какая прелесть!
— Новинка.
— Слыхал, а вот держать в руках не приходилось. Молодцы, туляки, что возрождают производство уникального оружия! Где достал? — спросил Николай Николаевич с завистью.
— Где достал — секрет, — улыбнулся Семён Матвеевич. — Но вот если хочешь, сделаю и для тебя.
— Спрашиваешь! Конечно, хочу! — Вербицкий не мог налюбоваться ружьём.
— Смотри, ведь могут же у нас. И ещё как! Получше всяких там «зауэров», «манлихеров» и «винчестеров»!
— Патриот, — похлопал его по плечу Ярцев. — А у самого — «франкотт».
— Так если бы у нас раньше выпускали такую красотищу! — потряс ТОЗом Николай Николаевич. — Ведь туляки всегда делали отличное оружие, но серийное. А я люблю, чтоб редкое. И отделка. Кому нравится шаблон?
— Ты прав, — согласился Ярцев.
— Послушай, — вдруг спросил Вербицкий, отдавая ружьё, — как ты сюда…
— Скатился? — с кислой улыбкой закончил за него Семён Матвеевич. — Обстоятельств несколько. А началось все с того времени, когда создали областной агропром. С Лагутиным, председателем, у нас сразу начались трения. Уж кто-кто, а ты его знаешь как облупленного. Твой бывший зам.
— Занозистый мужик, — нахмурился Вербицкий. — Он и под меня копал. Да не по зубам я ему оказался. И что же вы с ним не поделили?
— Во-первых, как ты правильно сказал, любви к тебе он особой не питал. А я вроде бы твой кадр.
— Не думал, что он такой злопамятный, — покачал головой Николай Николаевич. — Дальше?
— Дальше, — усмехнулся Ярцев. — Это уже из порядка причин не личного характера. Понимаешь, у Лагутина свои, местные заботы и проблемы, а у моего республиканского начальства — свои. Да что объяснять! Сам отлично знаешь эти увязки-неувязки. Словом, господа грызутся, а у слуг щеки от оплеух горят. А тут пленум обкома… Нового первого избрали. При старом я бы удержался. Новый же поддержал Лагутина. Вообще сейчас прополка идёт — о-е-ей! А мой участок всегда был трудным. Раньше я умел ориентироваться, а тут чувствую — надо делать ход конём. Понимаешь, из проигрыша сделать выигрыш. Хотя бы для видимости…
Ярцев замолчал, укладывая ружьё в футляр.
— Ну и? — нетерпеливо спросил Вербицкий, слушая Ярцева с большим вниманием.
— В октябре прошлого года хоронили Костюкова, директора «Лесных далей»… Представляешь, только что повесили на грудь вторую Звезду Героя, а он…
— О, Костюков был голова! — закивал Вербицкий.
— Что ты! Оставил хозяйство — любо-дорого посмотреть! Я сейчас забот не знаю! У меня главный агроном — хоть завтра в академики ВАСХНИЛ! А жилищный фонд! А культура! Не говоря уже о самом производстве!
— Так ты сам сюда напросился?
— А что оставалось делать? Ждать, пока дадут по шапке и предложат какой-нибудь колхоз поднимать?
— Что ж, ход правильный, — после некоторого размышления одобрил Вербицкий. — Отличный ход, ты на виду… Сам себе голова. Вокруг все с тобой здороваются каждый день, уважают. Понимаешь, знают, как говорится, в лицо. И сделать можно много хорошего. Главное — видишь результаты своего труда. А природа чего стоит! Так что живи себе на здоровье. — улыбнулся он.
— Радуйся жизни.
— Легко сказать, — вздохнул Ярцев. — Я из таких, кому подавай простор. Пусть область, но все же размах! Порох-то есть! А тут, как ни верти, понижение… даже снится, что я снова в Средневолжске. Ведь столько трудов там положено! Возьмите хотя бы квартиру — в центре, четырехкомнатная! Такую теперь не получишь. Потолки под четыре метра! Не могу с ней расстаться, и все тут!
— Это ты правильно сделал, что сохранил её за собой, не выписался, — одобрил Вербицкий. — Хотя дом у тебя тут — шикарный! Шесть комнат!
— Ну уж дураком меня не назовёшь, — усмехнулся Семён Матвеевич. — А в этой хатке, — он оглядел стены, — Злата прописана. Так что комар носа не подточит. Правда, она рвётся в Средневолжск — спит и видит!
— Говорила… Насколько я понял, ты считаешь это временным, так сказать, тактическим отступлением? — пристально посмотрел на приятеля Вербицкий.
— Мы предлагаем, а бог располагает.
— И все же какие планы?
— Ну, через годик хорошо бы сюда, — Ярцев ткнул себя в грудь, — Героя… Поможешь, а?
— Это можно. А потом?
— И дальше рассчитываю на дружескую помощь, — хохотнул Семён Матвеевич, однако не очень смело. — Верные люди тебе небось нужны? Я имею в виду Москву.
— Хочешь честно? — посуровел Вербицкий.
— Разумеется, — несколько напрягся хозяин.
— Когда ты ещё возглавлял облсельхозтехнику, я делал заход насчёт тебя в министерстве. В кадрах обещали поддержать. А тут вдруг — бац! Узнаю, что ты теперь в Ольховке. Ну сам подумай, как я теперь буду ставить вопрос? — Увидев, что Ярцев нахмурился, он добавил: — Понимаешь, должность — не проблема, а вот прописка, квартира…
— Неужели твой министр не может снять трубку и позвонить председателю Моссовета? — с надеждой посмотрел на приятеля Ярцев.
— Министров много, а председатель один. И потом, за кого просить? Директора совхоза?
— Насколько я помню, однажды один товарищ с должности директора совхоза попал прямо в кресло министра сельского хозяйства Союза, — серьёзно проговорил Ярцев и улыбнулся. — Но я, как ты понимаешь, в министры не набиваюсь.
— Ладно, вернусь в Москву, провентилирую, — пообещал Вербицкий.
— И на том спасибо, — обрадовался Семён Матвеевич. — Что это мы все обо мне да обо мне… Сам-то как живёшь?
— Жаловаться грех.
— Понимаю, — хитро посмотрел на Вербицкого Ярцев, — значит, правда, что тебя хотят в замминистры?
— Ну ты даёшь! — хмыкнул Николай Николаевич. — Действительно, разведка у тебя работает отменно! Ведь насчёт этого и в Москве-то в курсе лишь узкий круг.
— Выходит, скоро?
— Не знаю, не знаю… — ответил неопределённо Николай Николаевич. — В ЦК решается. Только прошу тебя, об этом пока…
— Ни-ни! — приложил обе руки к груди Семён Матвеевич. — Ни одной душе!
— Даже Злате! — поднял палец Николай Николаевич.
— Будь спокоен, — заверил Ярцев и радостно потёр руки. — Поохотимся мы с тобой на славу! Гарантирую!
В Кабанью рощу добрались не так быстро, как предполагали. Бульдозер хоть и расчистил дорогу, но для сугубо городской машины, какой являлась «Лада», она была нелёгкой. Семён Матвеевич, ехавший впереди, несколько раз останавливался, чтобы помочь увязавшему в снегу сыну. Однако эти помехи никому не испортили настроения: уж больно прекрасно было все вокруг — и погода, и торжественно-величественный лес, и ожидающие впереди удовольствие и отдых.
Наконец показался домик на берегу озера, а возле него — бульдозер.
— Как в сказке! — с восторгом произнесла Вика. — Избушка, дымок из трубы и укутанные снегом ели!
Встречать их вышел Рудик. Он помог отнести в дом сумки с продуктами и снаряжение для охоты.
— Солидно, — сказал Вербицкий, когда они зашли в «избушку».
Это был огромный сруб, разделённый перегородками на несколько вместительных комнат. Самая большая — нечто вроде горницы, только вместо русской печи — камин, отделанный чеканкой. В нем яростно пылал огонь.
На стенах висели шкуры медведя и крупного лося, рога которого были прибиты над входом. На полу лежал грубый палас. Из мебели — лишь простой стол и тяжёлые стулья из толстых досок.
Рудик выдал всем тулупы и валенки, что привело Вику в восторг.
— Можем играть трагедию, — заметил Глеб, когда они облачились в тулупы.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Вика.
— По-гречески козёл — трагос, — объяснил Глеб. — В Древней Греции во время праздников, или дионисии, как их называли, актёры разыгрывали представления. Одеты они были в козлиные шкуры. Отсюда и пошло название — трагедия.
— Так это же овчина! — засмеялся Семён Матвеевич, одёргивая на сыне тулуп.
— Да? — смутился Глеб и поправился с улыбкой: — Что ж, мы можем разыграть русскую трагедию. Не в козлиных, а в бараньих шкурах.
Ярцев-старший повёл всех посмотреть баню, которая стояла на самом краешке берега. А дальше простиралось плоское блюдо озера. До противоположного берега было километра три.
— Русская баня — это хорошо, — одобрительно отозвался Николай Николаевич, осмотрев предбанник, парилку и самоварную. — А то в Москве все помешались на саунах… И что прямо у воды, тоже здорово! Попарился — и сразу бултых в озеро!
— Так и задумано, — кивнул Семён Матвеевич. — У меня тут в августе отдыхал Элигий Петрович…
— Соколов? — удивился Вербицкий.
— Начальник управления? — уточнила Вика.
— Он самый, — ответил довольный Ярцев-старший. — Был в полном восторге от баньки.
— Кстати, — сказал Глеб, — знаете, как в России многие раскусили, что Лжедмитрий чужестранец?
— Интересно, — повернулся к нему Вербицкий.
— Потому что он не любил баню, — объяснил Глеб. — Об этом писал знаменитый учёный и путешественник Адам Эльшлегер, известный больше под именем Олеарий.
— Действительно, перефразируя Гоголя — какой русский не любит баню! — засмеялся Николай Николаевич. Он посмотрел на солнце и предложил: — Ну, Матвеич, махнём в лес? А то светило скоро закатится.
— Я готов!
Взяв ружьё и приладив к валенкам лыжи, они отправились в лес, сопровождаемые возбуждённой собакой.
Вика, чтобы не терять времени даром, тут же устроилась на берегу озера с этюдником. Глеб наблюдал за её работой. На бумагу ложились быстрые линии, штрихи, складываясь постепенно в пейзаж, который Ярцев видел перед собой. Девушка молчала.
— Не мешаю? — на всякий случай спросил Глеб.
— Нисколько… Даже люблю поговорить, когда пишу. — откликнулась Вика.
— Послушай, а тебе не будет скучно на Новый год с…
— Предками? — с улыбкой подхватила девушка.
— Начнётся «а помнишь?», «а вот в наше время», — сказал Глеб, у которого вдруг мелькнула мысль увезти Вику в Средневолжск; пусть гости, которых он пригласил к себе, знают, какие у него, Глеба, знакомства!
— Знаешь, надоели компании, суета… Так здорово встретить Новый год в деревне!
— Обычно ты где встречаешь? — поинтересовался Глеб.
— Где только не встречала! И в Доме кино, и в ЦДЛ, и в Доме работников искусств, и в Доме композиторов! Публика вроде разная и в то же время одинаковая. — Она криво усмехнулась. — Сплошные знаменитости, аж плюнуть некуда!
«Красуется? — подумал Глеб. — Вроде не похоже».
Сам бы он многое отдал, чтобы встретить новогодний праздник в любом из тех творческих клубов в Москве, которые назвала Вербицкая.
Вдруг издалека, из леса, прогремел выстрел, затем второй. И это показалось таким неестественным среди белой царственной тихой природы.
— Тешатся наши старики, — усмехнулась Вика.
— Пусть им… Разрядка…
— Нет, я рада за отца, — проговорила, как бы оправдываясь, девушка. — Работает он действительно на износ. И такая разрядка у него только в командировках. Когда едет, обязательно прихватывает с собой ружьё. В прошлом году охотился даже на Камчатке. Привёз оригинальный трофей — голубую выдру. Вернее, шкурку. Её там охотники ему выделали.
— Голубую? — удивился Глеб. — Никогда не слышал.
— Папа говорит, очень редкий экземпляр.
— И что ты из неё сделала?
— Пока лежит.
— Знаешь, Вика, — предложил Ярцев, — пошли-ка в дом.
— Я не замёрзла.
— Не заметишь, как отморозишь нос или щеки.
А мороз на самом деле густел, щипал лицо. Вербицкая с сожалением оторвалась от своего занятия.
В избе после холода показалось особенно уютно. Рудик сидел у портативного телевизора.
— Прохватывает? — спросил он, когда Глеб и Вика скинули с себя тулупы и устроились у камина.
— Хорошо! — тряхнула головой девушка и протянула к теплу руки. Она блаженствовала.
— Неплохо бы перекусить, а? — предложил Глеб.
— Стоящая идея, — улыбнулась Вика.
— Организуем, — деловито поднялся шофёр.
Не суетливо, но споро и ловко он накрыл стол — поставил солёные грибочки, огурцы, помидоры, домашнюю ветчину и колбасу.
— Закусывайте пока, — сказал Рудик и исчез на кухне.
— Расторопный малый, — заметил Глеб.
— Внимательный, — кивнула Вербицкая, уплетая аппетитную снедь за обе щеки.
Все ей нравилось, все её умиляло. И больше всего — шашлык, приготовленный тут же, в камине.
Болтали о разном и не заметили, как за окном стемнело. Рудик зажёг свет. Вика вдруг забеспокоилась за отца и за Семена Матвеевича. Но тут дверь распахнулась, и в дом ввалились охотники. Румяные от быстрой ходьбы, радостные и усталые. Дик выражал свою собачью радость тем, что бросился к Вике и стал лизать лицо.
— Лежать! — приказал Вербицкий, показывая дочке трофей — глухаря. — Красавец, а?
— Чудо! — сказала Вика, оглядывая великолепную птицу, веером раскинувшую большие крылья.
Семён Матвеевич передал Рудику свою добычу — беляка и, потирая руки, сказал:
— Ну, Николай, за стол!
— Заповедь охотника какая? — спросил Вербицкий и сам же ответил: — Сперва накорми собаку.
— Рудик накормит.
— Не-не! Только хозяин, — решительно заявил Николай Николаевич.
Дали есть Дику и наконец уселись обедать. Все ещё не остыв от азарта, оба охотника, перебивая друг друга, рассказывали, где и как они выследили дичь, и как добыли её.
— А пёс у тебя экстра-класс! — нахваливал Ярцев-старший. — Зайца поднял, навёл на глухаря…
— Так он же записан в книге ВРКОС! — с полным ртом ответил Вербицкий.
— А что это такое?
— Всероссийская родословно-племенная книга охотничьих собак, — пояснила Вика.
— Смотри-ка, есть и такая? — удивился Рудик, который сел за стол лишь вместе со своим шефом.
— Надо же вести учёт породистым собакам, — сказал Николай Николаевич.
— В этой книге — только самые лучшие, имеющие полную четырехколенную родословную, имеющие дипломы за испытание рабочих качеств и высокую оценку по экстерьеру… Между прочим, Дик записан в самую высшую группу из русско-европейских лаек.
— И много таких групп? — полюбопытствовал Глеб.
— Пять, — ответил Вербицкий. — В группе, куда входит и Дик, около пятидесяти собак. И все они имеют по нескольку дипломов первой степени! У моего пса дипломы по медведю, утке, копытным и пушным зверям.
— Значит, многостаночник, — улыбнулся Ярцев-старший. — Что же, испытаем его завтра на зверя покрупнее…
Так, за охотничьими разговорами прошёл обед. После еды встал вопрос: чем заняться? Вику разморило. От впечатлений, свежего воздуха, тепла. Она пошла в одну из комнат прилечь.
— Эх, пулечку бы расписать, — мечтательно произнёс Николай Николаевич.
— Это можно устроить, — улыбнулся Семён Матвеевич. — Карты есть…
— А третий? — спросил Вербицкий.
Ярцев-старший кивнул на сына.
— Играешь в преферанс? — обратился Николай Николаевич к Глебу. Тот кивнул. — Рискнёшь с нами?
— Можно…
— Смотри, мы с твоим отцом имеем приличный стаж, — предупредил Вербицкий.
— На ковёр, на ковёр, — потёр руки Ярцев-старший.
Тут же появилась нераспечатанная колода, бумага, карандаш.
— Только просьба, братцы, — попросил Николай Николаевич, — поменьше курите. — Он показал на сердце.
— Конечно, конечно, о чем речь! — откликнулся Семён Матвеевич, расчерчивая лист бумаги. — По сколько?
— По копейке, а? — неуверенно предложил Вербицкий, кинув взгляд на Глеба: мол, он ещё молод и на большее не потянет.
— Боишься, без штанов оставим? — засмеялся Ярцев-старший. — Не будем мелочиться.
— Лично я готов, — усмехнулся московский гость, ловко тасуя карты и сдавая их для игры. — Ну, Матвеич?
— Я — пас.
Глеб стал торговаться. Николай Николаевич не уступал, и игра досталась ему.
— Разложимся, папа, — сказал Ярцев-младший, раскрывая карты.
Вербицкий остался без двух[1].
Раздали снова. На этот раз играл Глеб, притом успешно.
— Однако же, — заметил Вербицкий. — Наш гуманитарий не только в истории разбирается… Я думал, у тебя в голове лишь всякие там битвы при Ватерлоо, Бородино…
— Как говорится, нам, гуманитариям, ничто человеческое не чуждо, — улыбнулся молодой историк.
Время летело быстро. Вербицкий нервничал, Семён Матвеевич хмурился.
— Покурим, Глеб, — предложил он.
Отец с сыном вышли на улицу.
— Ты что, спятил? — спросил Ярцев-старший. — Я прикинул: раздел гостя уже рублей на двести…
— Карта идёт, — оправдывался Глеб.
— Умерь пыл! Видишь, он расстроился.
— Трус не играет в хоккей, — отшутился было сын.
— Кончай мне эти хохмы! — не на шутку рассердился отец. — Дай ему отыграться. Понял?
— Попробую…
— Не попробую, а сделаешь! — твёрдо приказал отец.
Они курили в накинутых на плечи тулупах, глядели на синеву морозной ночи, не нарушаемой ни единым звуком.
— Понимаешь, Вербицкий может помочь мне выбраться отсюда, — продолжал Семён Матвеевич. — И даже не в Средневолжск, а в Москву…
— Иди ты! — не поверил Глеб.
— Факт! Так что смотри… Нужно его ублажать. Пусть выиграет сотню-другую. Вербицкому радость, а мы не обеднеем. И не бойся просадить побольше — я тебе компенсирую дома.
— Идёт! — согласился Глеб. И, помолчав, попросил у отца: — Батя, может, я с утра махну домой?
— А гости? Нас ведь трое да плюс собака, ружьё и прочее. И потом, в «уазике» холодно.
— Попроси Рудика, чтобы прислал кого-нибудь с машиной, когда поедет в посёлок.
— Ни в коем случае! — отрезал Семён Матвеевич. — Почему, ты думаешь, Николай Николаевич попросил привезти их сюда именно тебя? Да заикнись Вербицкий в Средневолжске — десяток машин выделили бы! И ещё спасибо сказали бы, что удостоил. Понимаешь, время сейчас такое… Каждый тени своей боится.
— Понял, понял, — сказал Глеб, и впрямь наконец-то сообразив, почему Вербицкий не остановился в «Плёсе», почему так любезничал с Глебом.
— А Николай Николаевич тем более не хочет никакой огласки. Нельзя ему
— вот-вот назначат замминистра.
— Ух ты! — вырвалось у Глеба.
— Факт. Так что этот человечек мне нужен. И тебе, между прочим, тоже может пригодиться. Сам говорил, что диссертации в Москве утверждают. Усёк?
— Все-все! — с улыбкой поднял руки вверх Глеб.
— Знаю, Леночка твоя скучает. Сочувствую. Но дело есть дело. Я вон сам уехал от коллектива. Сегодня же у нас в клубе новогодний бал. Обижаться будут, что директор даже не поздравил. А что поделаешь? У самого сердце болит… Так что обслужим москвичей по высшему разряду. Договорились?
— Со всей душой!
Вернулись в дом. Играли ещё пару часов: завтра надо было рано вставать. Когда подвели итог, Вербицкий оказался в выигрыше — около трехсот рублей.
— Детишкам на молочишко, — весело проговорил Николай Николаевич и погрозил Глебу пальцем. — А с тобой нужно держать ухо востро.
Но больше гостя радовался Семён Матвеевич, однако вида не показал.
Открытки с новогодними поздравлениями стали приходить за три дня до праздника. Вынимая поздравления из почтового ящика, Лена каждый раз вспоминала отца. Он считал обычай рассылать десятки открыток по праздникам нелепым: отнимает массу времени на ненужную писанину, да и искренность «сердечных» пожеланий весьма сомнительна. Настоящим близким и друзьям заверения в любви не нужны. По его мнению, открыточная эпидемия — изобретение подхалимов, но, к сожалению, оно охватило буквально всех. И теперь уже не поздравить (вернее, не откликнуться на поздравление) стало как-то неприлично. Вот и переводятся впустую тысячи тонн бумаги.
Сама Лена жила в предновогодние дни как в лихорадке. Готовилась к приёму гостей. За их совместную с Глебом жизнь этот праздник они решили провести дома впервые. Раньше — то у родителей мужа, то — у её, в Кирьянове, то в ресторане.
Приём гостей — дело очень серьёзное и хлопотливое Лена, во всяком случае, относилась к этому ответственно.
Первое — кого пригласить? Споры были долгими. Список получался огромным, более двадцати человек.
— Так не пойдёт, — решительно заявил Глеб. — Ярмарка получится…
Решили пригласить Люду Колчину с мужем и Федю Гриднева. Гриднев, инженер-электронщик, был почти своим в доме. Золотые руки: навесить полки, провести параллельные телефонные аппараты, сделать раздвижную дверь — для него раз плюнуть. Он ещё не был женат, а вот придёт один или нет, Ярцевы не знали.
С гостями вроде бы утряслось, но в последнюю минуту, перед самым отъездом с Вербицким в Ольховку Глеб позвонил жене на работу и сказал, что будет ещё гость, какой-то профессор из Москвы — Валерий Платонович Скворцов-Шанявский. О нем Лена слышала впервые. Для расспросов не было времени: муж очень торопился. Единственное, о чем он успел предупредить — московский гость вегетарианец. И это повергло Лену в ужас: что для него приготовить?
Наверняка этот Скворцов-Шанявский — важная птица, во всяком случае, нужен Глебу, если он пригласил его на такой интимный праздник. Видимо, будущий оппонент на защите диссертации…
К этим заботам прибавились и другие: муж позвонил из совхоза «Лесные дали» и сказал, что возвратится вечером тридцать первого. А это значит, ей придётся мотаться по магазинам и рынкам на общественном транспорте. О такси нечего и думать — нарасхват.
Колчина помогала Лене готовить. Лена вообще не представляла, что бы делала без подруги. И не только потому, что нужны были руки, просто очень уж тоскливо одной в квартире. А тут рядом живой человек, с кем можно болтать и не думать о том, где и что делает сейчас Глеб. Честно признаться, нет-нет да и кольнёт у Лены в груди. Муж был далеко, в компании с девушкой. Глуши не глуши в себе ревность, она все равно рвётся наружу.
Людмила не обладала кулинарными способностями, но помощницей была расторопной. Болтали обо всем. Людмила поинтересовалась, нашла ли милиция вора. Лена высказала сомнение, что драгоценности вообще когда-нибудь отыщутся.
— Не волнуйся, найдут, — успокоила подруга. — А чем же все-таки ты собираешься кормить профессора?
— Свежие помидоры, огурцы, — загибала пальцы Лена, — на рынке купила. Ну ещё цветная капуста, зелень и дыня…
Пока в духовке и на конфорках жарилось, парилось, варилось и тушилось, Колчина украшала квартиру. Тут она была мастер — посещала кружок икебаны.
По её совету традиционную ёлку решили не ставить. Людмила принесла хвойные лапы, купленные специально на ёлочном базаре, цветы, красивые свечи.
То, что она соорудила из этого, привело Лену в восторг.
На тумбочке, журнальном столике и горке Колчина поставила блюда. В них ухитрилась расположить горизонтально и вертикально ветки, которые украсила цветами, блестящими шарами, завершив сооружение свечками. Потушили свет, зажгли свечи — зрелище получилось удивительным!
— Оригинально! Просто потрясающе! — восхищалась Лена, гася свечи и включая люстру.
Колчина побежала проведать своего малыша, находящегося на попечении матери и мужа.
Когда Лена осталась одна, тоска навалилась с ещё большей силой. Шёл девятый час, а Глеба все не было.
«Может, с ним в пути что-нибудь случилось? — с тревогой думала она. — Перед праздником такая спешка, такая коловерть на дорогах. А сколько пьяных?..»
Беспокойство постепенно переросло в панику. Она позвонила на междугородную и заказала Ольховский район. По срочному тарифу.
Дали минут через десять. В трубке послышалось грудное контральто Златы Леонидовны.
— Леночка! — обрадовалась мачеха Глеба. — Здравствуй, милая! Поздравляю тебя с наступающим…
— Спасибо. И вас также…
— Не знаю даже, что и пожелать тебе в новом году, — продолжала Злата Леонидовна, а Лена с трудом сдерживалась, чтобы не перебить её вопросами о Глебе. — Конечно же, здоровья, счастья, исполнения всех, всех желаний!
Поблагодарив, Лена со своей стороны наговорила ей массу хороших слов и наконец поинтересовалась:
— Глеб давно выехал в Средневолжск?
— А он будет с нами встречать.
— Как?! — вырвалось у Лены.
— Понимаешь, золотко, мой благоверный и Николай Николаевич решили поохотиться. Вика увязалась за ними. Нет, не на охоту, а чтобы побыть в лесу… Поняла?
— Да, — машинально ответила Лена, хотя пока ничего не понимала, а в голове билась одна лишь мысль: Глеба не будет, и это связано с Викой.
— Короче, они вернутся домой часам к десяти, и куда уже Глебу ехать в Средневолжск… Не скучай, золотце. Как только они приедут, я заставлю Глеба тебе позвонить.
Злата Леонидовна щебетала ещё о чем-то, Лена отвечала, почти не вникая в смысл слов. А когда положила трубку, разревелась. Обида жгучей волной захлестнула душу. «К черту всех гостей! К черту встречу! — твердила она про себя. — Отменить!»
Уже потом, рассуждая более трезво, подумала: «А как же новое платье? Надо же показаться в нем гостям? А закуски куда девать? И вообще — чего сидеть одной? Да и перед приглашёнными было бы неудобно, особенно перед этим профессором. Лена даже не знала, где, у кого он остановился.
Она посмотрела на новое платье, и ей стало нестерпимо жалко себя. Все, ну буквально все сделала, чтобы понравиться мужу, доставить ему приятное, а он… Перед глазами возникло расплывчатое видение: счастливый Глеб обнимает…
Вику она никогда не видела, но теперь представляла красивой и коварной обольстительницей.
Лена встала, топнула ногой и сказала вслух:
— Буду встречать Новый год с гостями! Буду танцевать! Буду кутить! Буду веселиться!
Пришла Людмила. Увидев заплаканную, с покрасневшими глазами подругу, встревожилась.
— Глеб не приедет. Машина сломалась.
Для Глеба день тянулся невыносимо медленно. Отец с Вербицким отправились в лес поздно: с утра повалил снег, и охотники едва не отказались от намерения поохотиться. Но часам к двенадцати снегопад прекратился, и старики укатили с Диком, а Вика засела за свои этюды. Даже Рудик и тот поехал домой — ждала семья.
Глеб некоторое время наблюдал за тем, как гостья рисует, потом включил телевизор, который тоже вскоре наскучил. Разнообразие внёс обед с Викой. Однако она быстро покончила с едой и снова пошла писать, оторвавшись от своего занятия лишь когда совсем стемнело. Глеб попытался растормошить девушку анекдотами, забавными историями, но она была рассеянна, задумчива, и Глеб совсем загрустил. Он был раздосадован тем, что торчит без толку в этом дурацком домике, пытается безуспешно развеселить гостью, которой это совсем не нужно.
Мысли его теперь были далеко, в Средневолжске, где Лена готовилась к встрече гостей и где ему, Глебу, было бы сейчас куда уютней и спокойнее. А главное, он там нужнее.
И вообще получилось некрасиво: назвал гостей, а сам укатил бог знает куда. Ну, Колчины и Федя простят. А Скворцов-Шанявский? Придётся оправдываться перед профессором…
Разожгли камин. Но и это не развеяло скуку. И когда уже Глеб готов был бросить все к чертям и махнуть домой, в город, снаружи у двери послышались голоса и шум.
— Слава богу! — невольно вырвалось у него.
— Глеб! — заглянул в дом Семён Матвеевич. — Помоги…
Шапка у Ярцева-старшего съехала набок, волосы были мокрые от пота. На рукаве полушубка — кровь.
Глеб и Вика вскочили встревоженные и бросились к двери.
Возле крыльца лежало что-то большое, тёмное. Вербицкий, тяжело отдуваясь, говорил, довольный:
— Вот это трофей! Отвели-таки душеньку!
— Господи! — выдохнул Глеб. — А мы перепугались!
— Помотал он нас, — вытирая пот со лба, хрипло проговорил Семён Матвеевич.
Приглядевшись, Глеб узнал лося. Его царственные рога неестественно заломились на спину. Свет, падающий из двери, сверкал точечками на остекленевших глазах.
— Как же вы его дотащили? — удивился Глеб.
— Жерди приспособили, — ответил отец. — Давай его сразу в машину.
Трое мужчин с трудом заволокли тушу на заднее сиденье «уазика». Туша зверя почти уже закоченела.
Во время этой процедуры Вика не проронила ни слова. А когда зашли в дом, спросила у отца:
— Неужели вам не жалко было его?
— Милая Вика, — улыбаясь, сказал Семён Матвеевич, снимая перепачканный кровью тулуп, — шашлычок любишь? Или бифштекс, а?
— Но… Понимаете, это совсем… — попыталась было что-то сказать девушка, но Семён Матвеевич перебил.
— Так ведь барашков и коровок тоже… — он провёл ребром ладони по горлу.
— И все же, — вздохнула Вика, — стрелять в живого…
— А бифштекс разве из падали? Брось, дочка, — устало опустился на стул Вербицкий. — Ты мне напоминаешь тех чистоплюев, что вещают по телевидению или строчат статейки в газетах: мол, охота — это варварство, жестокость…
— Во-во! — поддержал гостя Семён Матвеевич. — Такую чушь порют! Сами же ни черта в этом не понимают!.. Охота — древнейшее занятие.
— И чем выстрел хуже удара ножа на бойне? — уже с раздражением спросил у Вики отец.
— Или электричества, — поддакнул Ярцев-старший.
— Да нет, я вообще… — смутилась девушка и замолчала.
— Мы его добыли по всем правилам, — продолжал Николай Николаевич. — По-мужски… Километров десять шли за ним.
— Сдаюсь и преклоняюсь, — подняла вверх руки Вика и улыбнулась. — Умывайтесь и садитесь есть.
— Вот это другой разговор! — повеселел Николай Николаевич.
Вербицкая захлопотала у стола.
Семён Матвеевич вышел в другую комнату и вернулся с двумя бутылками коньяку.
— Заслужили, а? — вопросительно посмотрел он на гостя.
— С удовольствием! — потёр руки Вербицкий. — Теперь — не грех.
— Кутнём! — радостно произнёс Ярцев-старший. — Все свои… Дела в этом году сделаны. Как говорится, потехе — час!
Вика тоже охотно согласилась выпить. Глеб стал отнекиваться, ему ведь предстояло вести машину.
— Кончай сачковать, — отмахнулся отец, наливая ему полную рюмку. — Тут мы сами себе ГАИ и ОРУД!
Только успели выпить по первой, Семён Матвеевич налил ещё.
«Действительно, — подумал Глеб, — какая тут, в лесу, милиция!»
От коньяка стало веселее. Уплывало, растворялось чувство вины перед женой и приглашёнными гостями.
Вика тоже оживилась. Щеки у неё раскраснелись, глаза заблестели.
— Запомни, доча, — размахивая вилкой с насаженным на неё куском мяса, проповедовал Вербицкий, — настоящие охотники — друзья природы! Понимаешь, настоящие, а не паршивые браконьеры! Вот взять хотя бы лося… Да, прекрасный зверь! Сильный! Но пусти его размножаться самотёком, знаешь, сколько вреда он принесёт лесу?
— Это точно, — поддакнул Семён Матвеевич. — Губит молодую поросль…
— Что молодую? Крепкие деревья сводит. Обдирает кору — хана деревьям.
— А кто регулирует его численность, — поднял вверх палец Ярцев-старший. — Мы, охотники. Наука тоже за нас! Вот так, милая Вика! А какое отдохновение и удовольствие доставляет сам процесс идти по следу или караулить зверя! Недаром Тургенев, Пришвин боготворили охоту.
— Лев Толстой как-то сказал, — вставил своё слово Глеб, «не запрещайте вашим детям заниматься охотой. Это увлечение убережёт их от многих ошибок и пороков молодости».
Вербицкий вдруг встал, подошёл к нему и смачно поцеловал в макушку.
— Молодец! — произнёс Николай Николаевич прочувствованно. — Золотые слова!
И все поняли: он уже изрядно навеселе. Впрочем, остальные тоже были под хмельком. Кто больше, кто меньше.
Время летело незаметно. Ярцев-старший выставлял бутылку за бутылкой. Сам он, казалось, больше не пьянел, зато Вербицкий уже, как говорится, лыка не вязал.
— Пора в посёлок, — напомнила Вика. — Тётя Злата, наверное, заждалась.
— Нет! — решительно заявил Семён Матвеевич. — Ещё одно важнейшее мероприятие… Банька!
При этих словах Николай Николаевич оживился. Насколько это было возможно в его состоянии.
Растопили баню быстро, благо Рудик приготовил сухие берёзовые поленья. Парились одни мужчины, оставив Вику у телевизора, по которому перед Новым годом показывали развлекательные передачи.
С жару, с пару Семён Матвеевич выбегал во двор, бросался в снег. И снова в парилку… Он уговаривал последовать его примеру сына и гостя, но те не решились.
Потом пили чай из самовара. Хмель заметно выветрился. Что касается Ярцева-старшего, так он выглядел совершенно трезвым.
Вернулись в дом. Вербицкий предложил дочери пойти поблаженствовать в бане, но Вика не захотела: в одиночестве вроде как-то не с руки.
— После баньки сам бог велел по сто грамм! — откупорил новую бутылку Семён Матвеевич.
Предложение было встречено мужчинами с восторгом.
Ярцев-старший подхватил Вику и закружил в танце под ритмичную музыку из телевизора.
— Батя у тебя — во мужик! — показал большой палец Вербицкий. — За него! — чокнулся он с Глебом.
«Да, мне бы столько энергии в его возрасте», — с завистью подумал Глеб. И понял, почему мачеха вышла за Семена Матвеевича замуж, будучи младше чуть ли не на двадцать лет. В Ярцеве-старшем была какая-то неувядающая сила, задор, мужественность и постоянная готовность к риску.
«Есть ли все эти качества у меня?» — прикидывал Глеб. Хотелось думать, что есть. Хотя иной раз он и замечал с грустью, что многое взял от матери. Её мечтательность и мягкость. То, что отец всеми силами старался вышибить из сына.
Любимая поговорка Семена Матвеевича — победителей не судят!
Так он и жил — стремясь всегда побеждать и даже из своих поражений делать победу. Над обстоятельствами, над женщинами…
Музыка кончилась. Семён Матвеевич галантно довёл партнёршу до стула, наполнил коньяком рюмки.
— Славно! — произнёс он с чувством. — Славно, друзья!.. Пью за то, чтобы дорогие гости в скором времени опять посетили эту уютную обитель!
— Да я бы здесь остался навсегда! — совершенно искренне признался Николай Николаевич.
— Я тоже, — поддержала его Вика.
Дружно сдвинули рюмки и выпили «посошок» на дорогу.
— По коням! — торжественно провозгласил Семён Матвеевич, постучав пальцем по своим наручным часам.
Стрелки показывали половину одиннадцатого.
Последние часы перед Новым годом для любой хозяйки самые суматошные. И когда вся посуда была перетерта, поставлена на праздничный стол, а Людмила Колчина ушла домой переодеться, дел Лене оставалось ещё достаточно.
Первым из гостей явился Федя Гриднев. Со своим «волшебным», как называла его Ярцева, чемоданчиком и трогательным букетиком распустившегося багульника. Инженер был в своём сером скромном костюме, который Лена видела на нем уже третий год.
— Я специально пораньше, — сказал Федя.
— И отлично, — чмокнула его в щеку хозяйка. — Одной тоскливо.
Она сказала, что Глеб скорее всего не приедет. Гриднев огорчился.
— А я такой сюрприз приготовил.
— Какой? — загорелись глаза у Лены.
— Увидишь, — загадочно улыбнулся Федор. — Прошу, не заходи, пожалуйста, некоторое время в комнату.
— Ладно, — кивнула Лена.
— А чтобы тебе было веселее, вот… — Федор поставил на холодильник маленький, с папиросную коробку, телевизор, который смастерил сам.
Лена принялась резать закуску, овощи, заправлять салаты.
Инженер возился со своим сюрпризом минут двадцать. И когда он появился на кухне, Лена спросила:
— Теперь можно посмотреть?
— Все равно ничего не увидишь. Он сработает неожиданно.
— Ну и интриган же ты, Федор. Давай, тащи все это на стол…
Они принесли готовые блюда в комнату. Как ни старалась хозяйка увидеть, что же сотворил инженер-электронщик, но так ничего и не обнаружила. А он только улыбался.
Федор помог Лене расставить угощение, попутно починил кран в ванной, из которого текло, подкрутил расшатавшуюся дверную ручку в спальне.
— Из тебя муж — просто клад! — нахваливала его Ярцева. — Действительно, почему не женишься?
— А куда приведу жену? — усмехнулся Гриднев. — У нас на тридцать два квадратных метра пять человек. Я, мама, сестра с мужем и ребёнком.
— Первое время можно снимать…
Федор присвистнул:
— На какие шиши? Сто тридцать в месяц — не разбежишься.
— Ну, возьми с квартирой.
— Как будто невесты с квартирой валяются на дороге. И потом, насмотрелся я на сестру. Все, буквально все проблема! Племяшка грудная была
— пелёнок не достать. Хотели в ясли пристроить, сказали, что очередь подойдёт не раньше, чем через два года. Из-за этого у сестры прервался рабочий стаж: сидела дома. Хорошо, хоть теперь в детсад определили. Ну и другое прочее… Представляешь, ботиночки ребёнку не купишь! Поневоле задумаешься, заводить семью или нет.
Вопрос о детях для Лены был больной: она очень хотела ребёнка, но Глеб считал, что это помешает его научной работе. Никакие мольбы и слезы не помогали. А ей часто снилось, особенно в последнее время, что у них дитя — светловолосый мальчишка, ужасно похожий на Ярцева.
— Я тебя оставлю в одиночестве минут на десять, — сказала Лена, показывая на халат.
— Пора уже, — кивнул Федор. — Наверное, вот-вот гости нагрянут.
Лена пошла переодеваться. И только успела сделать причёску и нанести, так сказать, последние штрихи, в дверь позвонили.
Она пошла открывать.
На лестничной площадке стояли три человека. Мужчина лет шестидесяти пяти, среднего роста, в строгом драповом пальто с воротником-шалькой и нерпичьей шапке. Второй — высокий парень атлетического сложения, в кожаном пальто, щегольских сапожках и без головного убора. С ними была женщина в шубе искусственного меха и шерстяном платке. В руке у неё была какая-то нелепая кошёлка.
— Если не ошибаюсь, Леночка? — спросил старший, протягивая ей огромный букет чуть распустившихся роз. — Валерий Платонович…
— Да! Да! Проходите, пожалуйста. Спасибо. Очень рада. Какие чудные розы, — несколько растерялась Ярцева: она ожидала, что профессор придёт один, а тут ещё два гостя.
В прихожей началась церемония раздевания и представления.
Скворцов-Шанявский был в темно-синем костюме, прекрасно сшитом и ладно сидящем; на ослепительно белой рубашке выделялся галстук-бабочка.
— Простите, дорогая хозяюшка, что я не один. Понимаете…
— Очень хорошо, — перебила его Лена. — Мы всегда рады гостям.
— Позвольте представить — Орыся, — показал он на молодую женщину, но объяснять, кто она, не стал.
Орыся пожала протянутую руку и смущённо проговорила:
— Вы уж извините… Меня затащили к вам…
Выговор у неё был южный, с фрикативным «г». Сняв шубу, она оказалась в скромном, несколько мешковатом платье, которое, однако, не могло скрыть её ладную фигуру.
Очередь дошла до парня.
— Эрнст Бухарцев, — сказал профессор. — Моя жизнь в его руках…
— В каком смысле? — не поняла Лена.
Эрнст расплылся в улыбке и покрутил обеими руками, словно держался за баранку.
— Очень приятно! — протянула ему руку Лена.
— Можно просто Эрик, — гоготнул парень.
На нем были фирменные джинсы и свитер. Без пальто Бухарцев выглядел ещё внушительнее: могучий торс, мощные бицепсы и, как говорится, буйволиная шея.
На что обратила внимание Лена — нос у него был слегка деформирован.
«Боксёр, что ли?» — подумала она и указала на дверь в комнату:
— Прошу. Сядем, проводим старый год.
— А Глеб? — огляделся профессор.
Лена объяснила, что муж уехал к отцу в Ольховский район, где задержался по не зависящим от него причинам.
— Оригинально, — усмехнулся профессор несколько растерянно. — Пригласил, а сам укатил.
— Ничего, — успокоила его хозяйка. — Посидим без него.
— Все-таки неудобно, — сказал Скворцов-Шанявский, заходя в комнату, где Федор уже зажёг свечи.
Профессор так и застыл на пороге, восхищённо глядя на сверкающий хрусталь, фарфор и ёлочные шары.
— Это наш большой приятель, — представила Лена. — Мастер на все руки.
Тот назвался, пожал всем руки.
— Чудно! Просто великолепно! — восторженно говорил Скворцов-Шанявский, обходя комнату.
Он похвалил вкус хозяйки, сказал, что ему нравится все-все. И обстановка, и сервировка, и праздничное оформление. Когда он приблизился к бару, дверцы его неожиданно растворились. Профессор от неожиданности застыл, потом рассмеялся.
Лена бросила взгляд на Федю. Тот с улыбкой кивнул и сказал, обращаясь к московскому гостю:
— Возьмите, что вам нравится.
Освещённые лампочкой и отражённые в зеркальной стенке, в баре стояли бутылки виски, джина, вермута — все импортное.
— Благодарю, но, увы, я не пью. Тем более крепкое, — вежливо отказался профессор.
— А вот «Чинзано», — подошла к бару Лена.
Она взяла в руки красивую длинную бутылку, и тут же невидимый голос произнёс: «Пейте на здоровье! Но Минздрав предупреждает, что алкоголь — яд!»
Сюрприз, приготовленный инженером, был принят со смехом и восторгом. И, усаживая Гриднева рядом с Орысей, Лена шепнула ему на ухо:
— Здорово! Глебу очень понравится.
Пришли Колчины.
— А это наши соседи и добрые друзья, — представила их Лена. — Прошу любить и жаловать — Людмила и Пётр… Ну, слава богу, все в сборе. Мужчины, разливайте вино.
Федя и Пётр откупорили шампанское, стали наполнять фужеры. Профессор отказался:
— Рад бы в рай, да грехи не пускают.
— Даже глоток шампанского? — огорчилась хозяйка.
— Жёлчный пузырь… — виновато улыбнулся Валерий Платонович и показал на запотевший графин. — Это что? Сок?
— Морс, — пояснила Лена. — Из черноплодной рябины.
— Прекрасно! Что может быть лучше! — сказал профессор, наливая себе морс.
Накрыла свой фужер рукой и Орыся, когда Гриднев собрался наполнить его.
— Так нельзя, — запротестовал инженер. — Надо обязательно проводить старый год, чтобы вместе с ним ушли все беды и неприятности.
— Спасибо, но, честно, не могу, — приложила руку к груди Орыся. — У меня в четыре утра поезд.
— Всего один бокал! — уговаривал Федя.
Орыся вздохнула:
— Ладно… Но только один!
Эрик тоже не пил.
— За рулём, — кратко объяснил он.
Настаивать никто не стал. Лена предложила сказать тост Скворцову-Шанявскому. Он отнекивался, мол, сам не пьёт, но все же поддался настойчивым просьбам.
— Что же, — поднялся он, — будем считать, что в этом бокале вино… Дорогие друзья! Я впервые в этом доме, поэтому прежде всего выпьем, чтобы в нем всегда царили любовь и согласие! Я желаю Леночке и Глебу много-много счастья! Разумеется, благополучия и успехов тоже! Провожая старый год, пусть они, а заодно и мы, расстанемся с печалями и неприятностями. Пожелаем Ярцевым в новом году триста шестьдесят пять дней радости и исполнения всех желаний!
Все встали, сдвинули бокалы.
— И чтобы нашлись твои украшения! — добавила Люда Колчина, ещё раз чокаясь с Леной.
— Дай-то бог, — вздохнула хозяйка.
После тоста дружно принялись за еду. Профессор положил себе немного лобио, овощей, не притронувшись к мясу.
— О каких украшениях идёт речь? — полюбопытствовал он у Лены, которая сидела рядом.
— Не стоит об этом в такой вечер, — уклонилась было она от ответа.
— Почему? — возразила Людмила и рассказала, что Ярцевых обокрали.
— Представляете, — с жаром говорила она, — я, лично я говорила с вором!
— Как?! — удивился профессор.
— Понимаете, я позвонила сюда по телефону как раз в тот момент, когда их грабили! Из наших окон видно их окно в спальне. Я думала, что Лена дома. А мне ответил какой-то мужчина. Голос такой странный, глухой. Вроде как по междугородной…
— Почему вы думаете, что это был вор? — спросил Валерий Платонович.
— А кто же ещё? И милиционер сказал, что это был вор! — ответила Колчина, довольная тем, что завладела вниманием компании. — Я запомнила голос, честное слово! Тут же узнаю! Меня два раза расспрашивал оперуполномоченный.
— Ладно, ладно, — недовольно осадил её муж. — Милиция и без тебя справится.
— Ну и это… — проговорил с полным ртом Бухарцев, обращаясь к Лене. — Что милиция?
— А! — махнула она рукой. — Следователь какой-то недотепанный. Представляете, все допытывался, куда я хожу, Глеб, в каких ресторанах бываем, кафе…
— Зачем? — удивился Федор.
— Видишь ли, его осенила гениальная идея, — усмехнулась Ярцева, — будто кто-то из гардеробщиков снял слепки с наших ключей. Двери-то открыли ключами, без отмычки.
— Любопытная версия, — начал было Гриднев, но Лена его перебила:
— Хватит об этом в конце концов! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь весёлом! Кушайте, прошу!
— Едим, едим, — откликнулся Пётр.
— Вкуснота-а! — протянул Эрик, накладывая себе снова полную тарелку.
— Изумительно! — поддакнула Людмила.
— А вы, Орыся? — спросила Лена. — Отлыниваете…
— Нет, что вы, я ем, — поспешно ответила гостья, беря на вилку маленький кусочек индейки, хотя Федор навалил ей всего.
И вообще, Лена обратила внимание, что инженер очень внимателен к своей соседке, даже слишком. Сколько она помнит Федю, за ним такого не водилось.
Приглядываясь к Орысе, Лена все больше убеждалась, что она красива. И красота её не стандартная, городская, а самобытная. Выразительные карие глаза, чувственные губы, мягкий овал чуть смуглого лица.
«Ей бы модную причёску да эффектное платье…» — подумала Ярцева.
Ещё она отметила, что гостья не то чем-то огорчена, не то просто устала. А это никогда не красит женщину.
«Что-то не получается веселья, — с грустью подумала Лена. — Эх, Глеба нет! Уж он-то умеет завести компанию!»
Мысли о муже не отпускали её. То охватывало отчаяние (не дай бог, с ним что-нибудь случилось!), то ревность (ох уж эта девица из Москвы!). Лена ждала, что вот-вот раздастся телефонный звонок от мужа. Но время шло, а Глеб не звонил.
— Грустите? — Скворцов-Шанявский положил на руку Лены свою тёплую сухую ладонь.
— А? — встрепенулась Лена, отрываясь от своих невесёлых размышлений. — Нет… Ничего… — На экране телевизора появилась Спасская башня, и часы стали отбивать двенадцать ударов. — Товарищи, товарищи! — спохватилась она.
— Наливайте, а то провороним Новый год! Валерий Платонович, вам слово!
Федя и Пётр спешно налили шампанского тем, кто пьёт. Профессор чинно поднялся и, когда прозвучал последний удар Кремлёвских курантов, прочувственно сказал:
— С Новым годом! С новым счастьем!
Люда чмокнула мужа в щеку, полезла целоваться с Леной, Фёдором и остальными. Лене показалось, что Петру это не очень понравилось, особенно когда его жена прикоснулась губами к щеке Эрика.
— Целуйтесь, целуйтесь! — требовала Колчина. — Так принято!
— Это на пасху христосуются, — буркнул её муж.
Но его замечание потонуло в звуках музыки начавшегося новогоднего представления по телевизору.
А профессор уже наклонился к хозяйке, чтобы запечатлеть на её щеке поцелуй. Потом к ней подошёл Гриднев, тоже с поцелуем.
Концерт начался с вальса.
— Потанцуем, — вдруг предложил Лене Скворцов-Шанявский.
— С удовольствием! — охотно согласилась она. — Обожаю вальс!
Профессор закружил её в танце. Федор немедленно пригласил Орысю, которая сначала отнекивалась, но потом сдалась, так как инженер был очень настойчив.
Скворцов-Шанявский вёл партнёршу легко, изящно. В одном из пируэтов их тела прижались друг к другу, её грудь коснулась его груди, и Лена вдруг увидела странное выражение в глазах профессора. Всего на какой-то миг…
Она хорошо понимала эти мужские взгляды, которые иногда ловила на себе.
Лена растерялась, опустила глаза. Но в ней самой тоже что-то произошло. Она даже не осознала что. Во всяком случае, момент этот был приятен.
— Валерий Платонович, — сказала она, чтобы как-то замять эту нечаянность, — все хочу спросить. Вы будущий оппонент у Глеба? Или как там называется…
— Нет, — улыбнулся он. — Ваш муж не по моей епархии.
— Значит, вы не историк? — округлила глаза Лена.
— Сожалею, что разочаровал вас, — с иронией заметил профессор.
— Вовсе нет, — смутилась Лена. — А чем вы занимаетесь, если не секрет?
— Не секрет, — снова улыбнулся Скворцов-Шанявский. — Торговля. Кстати, тоже наука. Но мой профиль — ценообразование. А если ещё точнее — на овощи и фрукты. Езжу по стране, бываю за границей. Даю рекомендации, как лучше обеспечить покупателя вкусной витаминной продукцией.
— Да вы патриот своего дела, — засмеялась Ярцева. — Настолько, что даже мяса не едите.
— Понимаете, Леночка, люди продлевают старость, а я хочу подольше жить молодым, — полушутя-полусерьёзно пояснил профессор.
Вальс кончился, и они вернулись к столу. Людмила, слышавшая их разговор, обратилась к профессору:
— Вы уж извините… Я прямо… Что творится с овощами? До того дошло, что осенью, в разгар, так сказать, урожая за капустой очередь километровая стояла!
— Люда! — укоризненно сказал Пётр.
— Что Люда, что Люда? — оборвала его жена. — Я просто интересуюсь.
— Пожалуйста, пожалуйста, — кивнул профессор.
— Помидоры, перец, виноград — болгарские, яблоки — венгерские, — продолжала Колчина. — Неужели своих нет? Ведь огромные площади! Астраханская область, Ростовская, Краснодарский край, Кавказ, Средняя Азия! А Молдавия?.. Выполняют, перевыполняют, а где они, овощи и фрукты?
— Больной вопрос, — вздохнул Скворцов-Шанявский. — Что вы сказали, правда. Увы, печальная. И виной тому плохая организация. Понимаете, вырастить урожай — полдела, а вот сохранить его, доставить покупателю — тут у нас ого сколько огрехов!
— Но почему частник умеет сохранять? — горячилась Люда. — И доставлять? За примером далеко ходить не надо, — она показала на помидоры, огурцы и виноград на столе. — За тысячи километров привезли.
— Все верно, — согласился профессор. — Верно. И все понимают: нужно что-то делать. Есть люди, мои коллеги, а также отдельные руководители, которые знают, как исправлять… Но требуется время! Коренная перестройка. Слава богу, сейчас взялись за неё серьёзно.
— Я считаю, надо всем вкалывать по-настоящему, — вставил Пётр.
— Что значит «вкалывать»? — чуть усмехнулся Валерий Платонович. — Вот я был в Японии, беседовал с бизнесменами… То, что японцы идут впереди всех стран капиталистического мира по производительности труда, — не секрет. Я спросил у одного менеджера, как им это удаётся? Очень просто, ответил он, необходимо, чтобы условия заставляли эффективно работать, а не управляющие.
— Там конкуренция, — сказал Федор. — Железный закон: будешь делать плохо — прогоришь.
— Не такой уж плохой закон, — серьёзно произнёс Скворцов-Шанявский. — При социализме тоже не годится работать некачественно.
Зазвонил телефон. Лена бросилась к нему, думала, звонит Глеб. Но это был отец.
— Подожди, — сказала Лена, — я возьму трубку в другой комнате.
И она побежала на кухню.
Антон Викентьевич поздравил дочь и зятя с праздником, пожелал всяческих благ. Потом взяла трубку мать Лены. Её интересовало, как проходит встреча Нового года, что на столе, довольны ли гости.
— Все хорошо, мама! — ответила Лена. — Весело, настроение отличное!
Она скрыла отсутствие Глеба и, когда разговор закончился, подумала, что этот вечер представляла себе совсем иначе: будет смех, танцы, розыгрыши, а она — королева компании, весёлой, интересной…
«И что за гости? — удивлялась Ярцева. — Этот Эрик… Или глупо улыбается, или молчит. Пришибленная Орыся… Вот профессор действительно светский человек».
Внимание Скворцова-Шанявского льстило ей.
— Можно? — заглянул он на кухню.
— Ой, извините за беспорядок! — стала оправдываться хозяйка.
— Очень милый беспорядок, — улыбнулся Валерий Платонович. — В моей огромной холостяцкой квартире полный порядок, и, увы, скучно.
Лене показалось, что о своём холостяцком положении профессор обмолвился не просто так.
— Глеб? — кивнул на телефон профессор.
— Родители… Вы знаете, я уже волнуюсь, — призналась Лена. — Почему он не звонит? Неужели в пути? Такая гололедица… Пьяные за рулём…
— Да, да, — сочувственно кивнул Валерий Платонович. — Но вы не переживайте. Не забивайте себе голову страхами.
В комнате включили магнитофон. Яростный рок-н-ролл заполнил всю квартиру.
— Вообще-то, — улыбнулся профессор, — бросить в новогоднюю ночь такую очаровательную жену… — Он покачал головой.
— А ну его! — вырвалось у Лены, у которой обида на мужа перерастала в злость.
— Мне так нужно с ним переговорить, — вздохнул профессор.
— Попробую заказать разговор, — сказала Ярцева, жалея, что не сдержалась.
На междугородной сообщили, что линия перегружена, и приняли заказ только по срочному тарифу.
— Подождём здесь, — сказала Лена, опуская трубку на рычаг. — Там шум.
— Она заметила, что Скворцов-Шанявский пристально смотрит на неё, смутилась.
— Франция? — спросил он, имея в виду платье.
— Шила у портнихи. Здесь.
— Да ну! — не поверил профессор. — Честное слово, подумаешь, что от Диора! Летом я был в Париже. Зашёл в магазин на Елисейских полях. Тут же подбегает продавец: что угодно? А в зале — ни одной души… Какие платья! Мечта! Я вежливо поблагодарил и вышел.
— Валюты не было?
— Была-а, — протянул со вздохом профессор. — Не для кого покупать…
Лена засмеялась. Валерий Платонович удивлённо вскинул брови.
— Обычно бывает наоборот, — пояснила Лена. — Есть для кого, но не на что.
— Вам идут красивые вещи, Леночка, — сказал профессор. — Вас надо одевать, как куколку.
Лена от таких приятных слов зарделась.
— Думаю, мой муж будет в состоянии…
— Дай-то бог. Хотя наука, увы, занятие не очень рентабельное. Я имею в виду материальное вознаграждение.
— Глеб в этом году станет кандидатом, — с гордостью сказала Лена и, увидев ироническую улыбку профессора, добавила: — И тут же сядет за докторскую.
— Вы знаете, когда я был ещё без учёной степени, мне казалось: вот защищусь, стану кандидатом — деньги некуда будет девать… И что же? Четыре года угрохал на диссертацию! Света, можно сказать, белого не видел. Получил корочки. И вместо восьмидесяти стал получать сто семьдесят!
— А когда стали доктором?
— Четыреста. Но что такое четыреста рублей? Вот, например, вам нужны сапоги. Ведь дешевле ста пятидесяти нет! Я имею в виду сапоги так сапоги…
Арифметика, которую привёл профессор, обескуражила Лену.
— Глеб говорит, что будет писать монографии, а ведь за них платят?
— Милая моя, о чем вы говорите! — покачал головой профессор. — Хорошо платят за художественную литературу. Да и то тем писателям, которые, так сказать, в обойме. Уверяю вас, их не так уж много. А большинство… — он махнул рукой. — Есть у меня знакомый. Поэт. Выпустил за двадцать лет пять тоненьких книжек… Как-то он признался мне, что если бы не зарплата жены, положил бы зубы на полку. А что касается научной литературы… во-первых, очень трудно опубликовать. Во-вторых, платят копейки. А если работа плановая — вообще ничего.
— Неужели все так? — не могла поверить Ярцева. — Ну а вы? Машина у вас?..
— Леночка, я профессор уже семнадцать лет. Консультирую Госагропром. Живу один! — подчеркнул Валерий Платонович. — И потом, бываю за границей. Имею возможность привозить кое-что.
Громко и часто зазвонил телефон. Лена взяла трубку, готовясь высказать мужу все, что у неё накопилось. Но телефонистка жестяным голосом произнесла:
— Ваш абонент в Ольховском районе не отвечает.
— Как не отвечает? — вырвалось у Лены.
— Могу соединить с другим номером. Говорите, с каким?
— Другого нет…
— Что делать с заказом? Снимать?
— Можно повторить? Через полчаса?
— Хорошо, я повторю.
Послышались гудки. Лена стояла в растерянности, продолжая прижимать трубку к уху. Она не знала, что и думать. Почему нет дома даже Златы Леонидовны?
— Леночка, не переживайте, — сочувственно сказал профессор. — Пойдёмте к гостям… Отвлечётесь…
— Да-да… Сейчас… Вы идите, Валерий Платонович, — кивнула Лена, кладя трубку на рычаг.
— Я буду ждать, — улыбнулся Скворцов-Шанявский, покидая кухню.
Лена едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Она была почти уверена: все это неспроста. Заговор… Против неё…
Колчин включил магнитофон и прибавил громкость телевизора. Все уставились на экран. Новогоднее представление было на редкость неинтересным. Но другого развлечения не было.
Опять зазвонил телефон. Лена взяла трубку.
— Ольховку заказывали? — спросила телефонистка.
— Да, да! — заволновалась Лена.
— Номер опять не отвечает… Что будем делать?
— Повторите, пожалуйста. Через полчаса.
— Хорошо.
Все напряжённо смотрели на Лену. Ей стало неловко и стыдно перед гостями.
— Гуляют, наверное… В деревне принято ходить из дома в дом, — произнесла она натянуто-весело. — Как насчёт чая?
— С удовольствием, — потёр руки профессор.
Другие тоже охотно согласились.
Ярцева попросила Людмилу помочь ей, и, когда они зашли на кухню, закрыла дверь поплотнее.
— Твой Петя весь кипит, — сказала она негромко.
— Ой, беда с ним! — вздохнула Колчина. — Каждый раз одно и то же! Ну потанцевала разок с другим, так что с этого?
— Ладно, ладно… Не дразни его…
Потом смотрели телевизор, пили чай. Пироги хозяйки шли на «ура».
Федор снова включил магнитофон и пригласил Орысю танцевать. Эрик встал, хотел подойти к Людмиле, но Колчин неожиданно заявил, поднимаясь:
— Лена, спасибо огромное за угощение…
— Как, уже уходите? — удивилась она.
— Ты же знаешь, мама там одна. И Гришка что-то капризничал. Неважно себя чувствовал, — объяснил Пётр, глядя в сторону.
Люда поджала губы. Всем стало неловко.
— Да и мне пора, — сказала Орыся. — На вокзал.
— Мы вас подбросим, — отозвался профессор.
— И вы тоже? — огорчилась хозяйка.
— Пора и честь знать, — улыбнулся Скворцов-Шанявский.
Все гурьбой повалили в прихожую.
Лена тоже оделась: решила спуститься вниз, проводить гостей. Федор бросился в кухню и вернулся со своим портативным телевизором.
— Орыся, возьмите, — произнёс он взволнованно. — На память.
— Нет, нет, нет! — замахала она руками.
— Прошу!.. Я сам сделал… — растерянно умолял инженер.
— Нехорошо обижать, — заметил профессор с улыбкой. — Человек предлагает от всей души.
— Прямо не знаю… — зарумянилась Орыся.
Воспользовавшись нерешительностью женщины, Федя сунул подарок в её кошёлку.
«Крепенько зацепило парня», — подумала Ярцева.
С этой своей игрушкой Гриднев никогда не желал расставаться, даже когда приятель Глеба предложил за неё триста рублей.
Перед самым уходом зазвонил телефон. И опять — междугородная. Телефон в Ольховке не откликался. Лена в сердцах сняла заказ.
В лифт все не поместились. Первыми уехали Колчины, попрощавшись наскоро. Потом спустились остальные.
У подъезда стояла новенькая чёрная «Волга» с московским номером. Сиденья были обтянуты красной кожей, на щитке с приборами имелся телефон.
Орыся с неожиданной нежностью поцеловала Лену.
— Спасибо, Леночка! Душу у вас отогрела.
— Да что там… Мало посидели, — смутилась Ярцева, удивляясь словам гостьи.
— Будете в Трускавце, обязательно заходите. Адрес…
— Я дам Глебу, — сказал Эрик.
Федя потянулся к Орысе прощаться, но профессор спросил:
— Разве вы не поедете с нами?
— С удовольствием, — обрадовался Гриднев.
Бухарцев сунул Лене руку:
— Повидаемся в Москве. Давай к нам в столицу с Глебом…
— Спасибо, спасибо, — закивала Лена.
Скворцов-Шанявский поцеловал ей руку и загадочно улыбнулся.
— Вы подарили мне очаровательный вечер, Леночка, — проговорил он с чувством.
— Мне очень приятно, если это так, — сказала Ярцева.
Профессор со спутниками сели в машину. Они махали ей руками, Лена отвечала. До тех пор, пока автомобиль не свернул за дом.
Она поднялась к себе. Глядя на праздничный стол, где оставалось ещё много еды, подумала, что лучше бы позвала подруг с работы. Было бы непринуждённо, весело, девчонки воздали бы должное угощению. Да и не разбрелись бы так рано.
Лена стала убирать со стола. Забила холодильник, часть блюд определила на балкон. Потом перемыла посуду, расставила все по местам. И когда вся квартира была прибрана, сердце сжала невыносимая тоска. Праздник отгорел как свеча. Остался оплывший огарок кратковременного, так и не состоявшегося счастья. Еле сдерживая слезы, Лена прошла в спальню, сняла халат, достала ночную рубашку, ещё новенькую, в целлофановом пакете — подарок матери. Мягкая невесомая ткань ласкала тело.
— Для чего это все? Для кого? — шептала Лена, глядя в зеркало.
Жалость рвала душу. Жалость к себе, за свои неоправдавшиеся желания. Снова накинув халатик, она пошла на кухню. Взяла из оставленной кем-то пачки сигарету, закурила. Второй раз в жизни. Дым саданул горло, но вместе с ним входило какое-то странное успокоение, перед глазами поплыло…
И вдруг — дверной звонок. Лена побежала в прихожую, уверенная, что сейчас увидит Глеба.
На пороге стоял Скворцов-Шанявский.
— Ой! — воскликнула она, запахивая полы халата. — Извините, я уже…
— Это вы меня извините, — смущённо проговорил профессор. — Примете?
— Пожалуйста! — пропустила его в квартиру Ярцева. — Я переоденусь…
— Нет-нет! Не надо… Я, собственно, на пару минут. Что Глеб? — спросил он озабоченно, снимая пальто.
Лена развела руками, мол, все так же.
— Он мне так нужен, — сказал Валерий Платонович, приглаживая обеими руками волосы.
— Я все ещё надеюсь, позвонит, — грустно сказала Лена и спросила: — Ну как, проводили?
— Да-да, — ответил профессор, направляясь за Леной в комнату. — Посадили в вагон. Ваш Эдисон остался. Мне кажется, Орыся сразила его наповал.
— А Эрик где?
— По-моему, уже спит, — улыбнулся профессор. — Понимаете, Леночка, мне показалось, что вам было грустно оставаться одной. Или я ошибаюсь? — Скворцов-Шанявский внимательно посмотрел на неё.
— Спасибо, что вернулись, — смущаясь, но все же выдержав этот взгляд, ответила хозяйка.
Валерий Платонович взял её руку и запечатлел на ней поцелуй.
— Чай, кофе? — предложила Лена.
— Что вы! Обкормили, опоили… Если разрешите, немного музыки?.. Негромко?
— С удовольствием, — поднялась было Ярцева, но профессор опередил её.
Он нажал клавишу кассетника и чуть приглушил звук. Заиграла музыка, на которой прервалось их общее сидение. Играл один из модных западных ансамблей. Мелодию разобрать было трудно, но звуки, раздававшиеся из колонок, возбуждали чувственность. Хрипловатый голос не то мужчины, не то женщины модулировал, придыхал, словно исполнитель был в любовном экстазе.
Скворцов-Шанявский протянул Лене обе руки. Она встала, и он медленно повёл её в танце, все сильнее и сильнее прижимая к себе. И опять она почувствовала его волнение, как тогда, в первый раз. Волнение партнёра передалось и ей.
— Молодые думают, что они умеют любить, — говорил Валерий Платонович, почти касаясь губами её уха. — Но пожилые любят тоньше и глубже… Боже мой, Леночка, вы даже не можете себе представить, сколько в вас обаяния, женственности!
— Да? — почему-то шёпотом спросила она.
— Поверьте, — тоже тихо продолжал Скворцов-Шанявский. — Почему я не встретил вас лет тридцать назад!
— Меня просто-напросто ещё не было! — улыбнулась Лена, которой хотелось, чтобы он говорил и говорил, глядя на неё заворожёнными глазами.
У неё кружилась голова. Оттого, что такой человек (профессор! Из Москвы!) дарит ей своё внимание и влюблённость.
— Милая, чудная! — ласкал её взглядом Валерий Платонович. — Вы — мой последний взлёт! Что я могу для вас сделать? Что? Просите, что угодно!
— Ничего мне не надо! — смеялась Лена. — Ни-че-го-шень-ки!
— У меня сердце разрывается, что вы страдаете из-за тех безделушек, которые у вас украли! Боже мой, да вы… да вы… — он замолчал, не находя слов.
— Шут с ними! — отмахнулась Ярцева. — Я больше переживаю из-за того, что папа с мамой узнают! Это для них такой удар!
Музыка кончилась.
— Насколько я понял, это был гарнитур? — спросил профессор.
— Да, — кивнула Лена. — Остался только перстень.
— Можете показать?
— Пожалуйста.
Она пошла в спальню, профессор — за ней. Лена достала из трельяжа футляр с монограммой.
Скворцов-Шанявский долго рассматривал кольцо, вертел им так и этак.
— Изумительно! — наконец выговорил он. — Изумительно! Старинную работу сразу видно. Леночка, у меня в Москве есть ювелир. Мастер высочайшего класса! Художник! Скопирует любую вещь! Вы смогли бы подробно нарисовать пропавшие вещи?
— Конечно! — загорелась Ярцева. — Я вообще неплохо рисую. Но зачем рисовать? — Лена достала альбом с фотографиями и нашла снимок, где она снялась в бабушкиных драгоценностях. — Вот…
— Прекрасно! — обрадовался профессор. — Можно, я заберу фото? Приезжайте ко мне в гости, я сведу вас с тем ювелиром.
— Фотографию можете взять, — кивнула она и вдруг спохватилась: — А где я возьму золото, камни?
— Это уж моя забота, — сказал Скворцов-Шанявский, беря её руку и прижимая к груди.
Из комнаты доносилась музыка. Ещё более страстная, чем предыдущая.
— Я не могу принять ваше предложение, — не отнимая руки, сказала Лена.
— Почему же?
— Не могу… Неудобно…
— Это будет счастьем для меня. — Валерий Платонович стал целовать её руку, поднимаясь все выше, выше, к локтю, плечу, потом надолго приник губами к её родинке возле уха, где пульсировала, билась жилка.
Как в тумане, слушала Лена его слова, нежные, страстные… В ней бушевал страх вперемежку с желанием, отчего было так жутко и сладостно, что кружилась голова и мир стал терять реальные границы и очертания.
Руки Валерия Платоновича гладили её грудь, шею. Она почти не помнила, как был снят халат, рубашка. Профессор целовал обнажённое тело и тоже, казалось, терял рассудок…
Собирались безалаберно и суматошно. Вике почему-то все казалось смешным. Она смеялась всему — тому, как Николай Николаевич с охапкой ружей ухнул в снег и долго барахтался, пока не встал с помощью Ярцева-старшего на ноги, хохотала над тем, как Семён Матвеевич перепутал тулупы и все никак не мог влезть в маленький, её, Викин. Состояние смешливости передалось и мужчинам.
— Наверное, со стороны мы похожи на толпу идиотов, — заметил Глеб.
Заднее сиденье «уазика» занимал лось. Семён Матвеевич взял ещё с собой в машину «Джейс Пэрдэй», с которым почему-то не хотел расставаться. Остальные вещи сложили в «Ладу». Рядом с Глебом села Вика, а Вербицкий устроился на заднем сиденье с Диком. Николай Николаевич снова захмелел. Он все норовил обнять пса, которому это явно не нравилось.
Семён Матвеевич махнул сыну рукой: поехали, мол. «Уазик» тронулся с места, Глеб двинулся следом.
— Папа, оставь в покое Дика, — сказала девушка, услышав недовольное ворчание собаки.
— Замолчи! Вы, женщины, ни черта не понимаете! — с трудом ворочая языком, произнёс Вербицкий. — Мы сами разберёмся… Да, Дикуша?
— Ты же знаешь, он не выносит пьяных. Забыл, что ли, как Дик набросился на Колокольцева?
— А меня Дик любит!
— О господи! — вздохнула Вика и, перегнувшись через сиденье, отстранила отца от собаки.
Вербицкий не сопротивлялся. Он улыбнулся и вдруг запел, безбожно фальшивя:
Когда я на почте служил ямщиком, Был молод, имел я силёнку-у
Последний звук перешёл в странное завывание, отчего Глеб и Вика невольно обернулись. И расхохотались. Задрав голову вверх, Дик «подпевал» своему хозяину.
— Молодец! Давай, давай! — подбодрил пса Ярцев.
А тот выдал такую руладу, что Вербицкий замолчал, поражённый.
— Глеб! — вдруг закричала девушка.
Ярцев мгновенно нажал на тормоза. «Лада» проскочила несколько метров по снежной колее, едва не врезавшись в остановившийся «уазик», замерев от него буквально в сантиметре.
Но это обстоятельство, как ни странно, не испугало — тоже вызвало смех.
Семён Матвеевич подошёл к машине сына, открыл дверцу.
— Вот что, — сказал он, — махнём-ка через озеро. Сэкономим километров восемь.
— У меня же клиренс[2], — возразил было Глеб.
— Ерунда! Пробьёмся!
— А, давай! — решился Ярцев-младший.
Ему не хотелось пасовать перед девушкой. И вообще, состояние — море по колено.
Семён Матвеевич вернулся в «уазик». Из выхлопной трубы вырвался белый дым. «Уазик» резко свернул с дороги и двинулся к озеру. Глеб ехал по его следам.
Вербицкий снова запел. Дик, казалось, только и ждал этого, чтобы опять продемонстрировать свои вокальные способности, что, неизвестно почему, разозлило Николая Николаевича.
— Передразниваешь?! — погрозил он псу. — Уволю!
Вика даже постанывала от смеха. Глеб вытер рукой выступившие слезы.
Берег был крут, и «Лада» сползала вниз под собственной тяжестью.
— Как на санках, — прокомментировала Вика.
Они выкатили на лёд. Он был чуть припорошен: ветры сдули снежный наст.
Семён Матвеевич прибавил ходу. Глеб тоже нажал на акселератор. Он включил приёмник. Передавали эстрадный концерт.
— Как настроение? — Глеб посмотрел на девушку.
— Чудесное! — весело откликнулась Вика. — Нет, ты посмотри, как здорово! — показала она рукой вокруг. — Белая, белая плоскость и убегающие вперёд красные огни! Потрясающий сюжет!
Семён Матвеевич здорово оторвался от них. У Глеба взыграло самолюбие. Он резко прибавил скорость. Расстояние между «уазиком» и «Ладой» быстро сокращалось. Тёмный силуэт леса на противоположном берегу озера ширился, надвигался, за ним уже было видно слабое зарево электрических огней посёлка.
— Минут через пятнадцать — двадцать будем дома! — победно произнёс Глеб.
— Это хорошо, — кивнула Вика. — Успеем проводить старый и встретить Новый год. Примета… Как встретишь Новый год, так весь его и проживёшь.
Машина Ярцева-старшего была метрах в тридцати. Видимо, Семён Матвеевич решил не уступать.
Глеб ещё увеличил скорость.
— Восемьдесят! — крикнул он Вике, указывая на спидометр.
«Лада» наконец нагнала «уазик», обошла его. И хотя лица Семена Матвеевича не было видно, Вербицкий состроил ему «нос», довольно гогоча.
Ярцев-старший не сдавался. Он поровнялся с машиной сына и даже чуть обогнал. Но Глеб снова ушёл вперёд.
— Ура! — радовалась Вика, перекрикивая музыку.
— Вперёд! Не уступать! — командовал Николай Николаевич.
Всех увлёк азарт погони. Девушка даже раскраснелась, подзадоривала водителя, то и дело поглядывая назад, чтобы убедиться, не нагнал ли их Семён Матвеевич. И вдруг закричала:
— Стой! Стой, Глеб!
От неожиданности он резко нажал на тормоз. Машину развернуло, она крутанулась вокруг своей оси, прочерчивая фарами круг на льду, и остановилась задком к берегу.
А Вика безмолвно раскрывала рот, тыча пальцем в стекло.
На их глазах освещённый фарами «уазик» медленно, как-то боком, погружался под лёд.
Глеб на мгновение оцепенел. Затем рывком распахнул дверцу и выскочил из машины. Он не устоял на ногах от слишком резкого движения и растянулся во весь рост. А когда поднялся, то увидел: машины отца нет. На том месте была чёрная полынья, и к ней уже мчался Дик длинными прыжками.
Глеб рванулся вперёд и снова упал. Поднялся. И вдруг увидел показавшуюся у кромки льда голову отца.
— Держись! — закричал сын на ходу. — Держись, папа! Я сейчас…
Сзади, прерывисто дыша, бежала Вика.
Семён Матвеевич цеплялся за лёд, но руки соскальзывали. Дик на брюхе подполз к нему, вцепился в рукав тулупа и стал тащить, упираясь всеми четырьмя лапами в скользкий лёд.
Тут Глеб услышал за спиной звук упавшего тела, стон. Он обернулся — девушка барахталась на снегу и никак не могла подняться. Это задержало Глеба. Он помог Вике встать, и дальше они побежали вместе.
Семён Матвеевич был уже на крепком льду. Он что-то крикнул, показывая на полынью. А вот дальнейшее никак не укладывалось в голове: Ярцев-старший сбросил тулуп и… нырнул в чёрную дыру.
— Куда! — вырвалось у Глеба. — Ты с ума сошёл! Зачем?! — Но было уже поздно.
Они остановились метрах в двух от полыньи, не отрывая от неё глаз. Дик метался вокруг кромки изломанного льда и лаял.
— Что случилось? — донёсся голос Вербицкого.
Он пробирался к ним, падая и поднимаясь снова. Но Глебу и Вике было не до него. Они напряжённо вглядывались в тёмную воду, на которой плавали куски льда.
Проходили секунды, минуты, а Семён Матвеевич не появлялся.
Ожидание становилось нестерпимым. Глеб вдруг понял, надо что-то предпринимать, и как можно скорее…
— Вы что же… — тяжело отдуваясь, добрался до них Вербицкий и буквально повис на дочери. — Бросили… меня… одного…
— Не видите? — закричал Глеб, показывая на полынью. — Отец там! — И метнулся к «Ладе», бросив на ходу: — Трос надо, трос!
Он не помнил, как добрался до машины, как добежал назад с тросом для буксировки. Вернувшись, Глеб увидел стоящих на том же самом месте Вику и её отца. Оба были как в столбняке. Смотрели и ждали… Вдруг Дик сел на снег, задрал морду и завыл.
И тут до Глеба дошёл весь ужас случившегося. Он понял, что отец уже не вынырнет из этой тёмной холодной воды.
— В деревню! — принял он решение. — Скорее!
Онемевшая Вика закивала, размазывая по лицу текущие без остановки слезы. Глеб подхватил её отца, почему-то испугавшись, как бы он тоже не угодил в полынью, и потащил к «Ладе». Николай Николаевич не сопротивлялся. Дик, переставший выть, понуро плёлся рядом.
«Почему он снова полез в воду? Почему? — билось в голове у Глеба. — И откуда взялась эта проклятая полынья?.. Господи, ведь и мы могли угодить в неё!»
От этой мысли у него между лопаток пробежал холодок.
Запихнув Вербицкого, которого все ещё шатало не то спьяну, не то от переживаемого, на заднее сиденье, куда уже запрыгнул Дик, Глеб сел за руль. Как только за Викой захлопнулась дверца, он завёл двигатель и развернул машину. Берег был пологий, но «Лада» буксовала, с трудом преодолевая метр за метром, пока наконец не выбралась на дорогу. И тут Ярцев поддал газу.
Летели назад выхваченные светом фар стволы деревьев, машину то и дело заносило на поворотах, но Глеб не сбавлял скорость. Разболелась голова. Он вдруг вспомнил разговор о тулупах, древнегреческой трагедии.
«Накликал-таки я беду, — подумал он. — Вот и сыграли трагедию. По-русски».
— Мы куда? — донёсся с заднего сиденья хриплый слабый голос Вербицкого.
— В совхозную контору. Надо же сообщить!.. В милицию, «скорую»…
Николай Николаевич промычал что-то нечленораздельное.
«Лада» выскочила на главную улицу посёлка. Во всех домах светились окна, играли разноцветными огнями ёлки. Но особенно нарядно выглядела площадь перед дирекцией совхоза. На здании мерцали огромные буквы «С наступающим Новым годом!». Высокая лесная красавица сверкала игрушками и золотой канителью. На ней вспыхивали, пробегая от низа до верха, зеленые, красные, синие и жёлтые огни. Вокруг ёлки веселилась молодёжь. Было много ряженых. Из невидимого репродуктора гремела зажигательная музыка.
Глеб остановился, заглушил мотор, открыл дверцу и опустил на землю ногу.
— Ты скоро? — жалобным голосом спросил Вербицкий.
— Не знаю, — сказал Глеб, потому что действительно сам пока не знал, к кому идти, кого искать, и попросил: — Николай Николаевич, до батиного дома сто метров… Вы идите с Викой… Скажите Злате Леонидовне… А я… Словом, как только сделаю все, что надо, приеду.
— Хорошо, хорошо, — согласился Вербицкий.
— Найдёте? — обратился Глеб к Вике, не очень полагаясь на её хмельного отца.
Девушка закивала. Покинули машину все, включая Дика. Вербицкие с собакой направились в переулок, а Глеб пошёл сквозь веселящийся хоровод сельчан, вспомнив, что рядом с дирекцией живёт председатель исполкома сельского Совета. Они с отцом как-то заходили к ней. Властная пожилая женщина с орденской планкой на платье. Звали председателя Надеждой, а отчество Глеб не запомнил.
Кто-то выстрелил в него из хлопушки, обсыпав разноцветным конфетти. Глядя на радостные, раскрасневшиеся лица, Глеб вдруг отчётливо представил себе безжизненное тело отца там, на дне холодного озера. Ему нестерпимо захотелось куда-то убежать, спрятаться, как он делал это в детстве, столкнувшись с какой-нибудь бедой.
Девушка в маске лукавой лисички схватила его за руку, крутанула в танце. Глеб вырвался и побежал.
«Какой-то кошмар!» — мелькнуло у него в раскалывающейся от боли голове.
Он завернул за угол здания дирекции, торкнулся в знакомую калитку. Она была не заперта. Большой сруб с узорчатыми наличниками и коньком на крыше тоже горел всеми окнами. Глеб поднялся на крыльцо, постучал в двери.
Открыла хозяйка. В торжественном платье и фартуке. Через отворённую в комнату дверь был виден праздничный стол с гостями. Пахло пирогами, винегретом, солениями.
— Ещё гость, — приветливо произнесла председатель, вглядываясь близорукими глазами в Глеба. И, узнав, обрадовалась. — А, сынок Семена Матвеевича!.. Ну, с праздником! Проходите…
— С праздником, — машинально ответил Глеб и поспешно сказал: — Понимаете, отец… В общем…
— Ну, что отец? — нетерпеливо произнесла хозяйка.
— Утонул, — выдохнул Глеб.
— Как? — вырвалось у женщины. — Где?
— На озере… В машине… Под лёд.
— Постой, постой, — властно приказала хозяйка, — зайди-ка. — А в комнату, где загремела музыка, крикнула: — Тише там!
Глеб зашёл в сени, сбивчиво рассказал о случившемся.
— По озеру? На машине?! — всплеснула руками председатель исполкома. — Как же так? Ведь там лёд вырубают для совхозного холодильника и частных погребов!.. Он же сам место указал… Как же это?!
Из комнаты вышел встревоженный мужчина.
— Ты чего, Егоровна, шумишь? — спросил он.
— Ой, горе, горе! — заплакала Надежда Егоровна. — Семён Матвеевич в прорубь угодил! — Забыв снять фартук, она накинула шубу, вязаный платок и толкнула входную дверь, бросив на ходу: — Не ждите меня, Кузьма…
Здание исполкома находилось через два дома. Там Надежда Егоровна засела за телефон.
А в это время Вербицкий с дочерью нерешительно топтались у входа в ярцевский особняк. Тяжкое бремя выпало на их долю — сообщить Злате Леонидовне о смерти мужа. Какие слова найти, как подготовить?..
Наконец решились, вошли.
Их встретил запах ванили, корицы, жарившегося в духовке мяса с чесноком и специями.
— Ну, молодцы! — бросилась навстречу хозяйка в длинном сверкающем платье с люрексом, с красивой высокой причёской. — Я уж боялась, что опоздаете… Думала…
Она осеклась, переведя взгляд с Вики на её отца, затем на открытую дверь.
Вербицкие молчали.
— Что?.. Что случилось? — спросила Злата Леонидовна. — Говорите же! Ну!
Девушка не выдержала. Зарыдав, она чуть ли не упала на руки Злате Леонидовне. Та, не сводя расширенных глаз с Николая Николаевича, прохрипела:
— Где Семён?
— Беда, Злата… — выдавил наконец из себя Вербицкий. — Мужайся… Семён там, на озере… Словом, погиб… Глеб поднимает людей.
У Ярцевой задрожали губы, изо рта вырвался какой-то клёкот. Она стала оседать. Николай Николаевич едва успел подхватить её. Вместе с дочерью он втащил впавшую в беспамятство женщину в комнату и уложил на диван рядом со сказочно убранной ёлкой и праздничным столом, заставленным всевозможными яствами, бутылками шампанского и белоснежными конусами накрахмаленных салфеток у каждого прибора.
Глеб потерял ощущение времени. В сельисполкоме то и дело хлопали двери, заходили и выходили какие-то люди. Он забился в уголок кабинета и отчуждённо наблюдал за этой суетой. И ещё жадно пил тепловатую воду из графина, обнаруженного рядом, на тумбочке. Непрестанно звонил телефон. Надежда Егоровна отвечала чётко, коротко.
Вдруг она положила ему на плечо руку.
— Поехали, Глебушка, — ласково сказала Надежда Егоровна.
Он покорно вышел за ней на улицу, где их поджидал лейтенант милиции на мотоцикле с коляской.
— У меня машина, — предложил было Ярцев, но председатель вздохнула и уселась в коляску.
— Куда тебе за руль. На версту перегаром несёт…
Глеб взобрался на заднее сиденье.
Расступились люди, стоявшие возле исполкома, лейтенант медленно выехал на главную улицу и там уже прибавил газу. Ледяной воздух щипал за щеки, лез за ворот, в рукава тулупа, вышибал из глаз слезы. Глеб чувствовал, как от холода коченеют губы, скулы. Правда, головная боль стала медленно отступать.
Если бы Глеба спросили, за сколько они домчали до места, он не смог бы ответить. Показалось — в считанные минуты. Когда мотоцикл подъехал к озеру, Глеб удивился количеству машин и людей, сгрудившихся на берегу. Но что поразило больше всего — вертолёт на небольшой полянке, по краям которой догорало три костра.
Они слезли с мотоцикла, Глеб отметил про себя: машина скорой помощи, небольшой старенький автобус, рафик с надписью «Милиция», милицейский «уазик» и чёрная «Волга».
«Когда они все успели? — подумал он, замедляя шаг по мере приближения к чернеющей во льду рваной дыре, через которую уже было положено несколько толстых досок.
Человек шесть-семь стояли ближе всего к полынье, четверо из них — с погонами.
— Участковый инспектор лейтенант Зубарев! — откозырял привёзший Глеба и Надежду Егоровну милиционер плотному мужчине в папахе.
Тот кивнул и… шагнул к Ярцеву. Глеб даже не успел удивиться, как генерал Копылов — а это был он — положил ему руку на запястье, сжал и скорбно произнёс:
— Глеб… Как же так?..
Голос генерала дрогнул.
— Дайте побольше света! — скомандовал высокий мужчина в каракулевой шапке-пирожке. — Паша, подгони машину, — попросил он кого-то.
Тут только Глеб обратил внимание, что фары почти всех автомобилей направлены на полынью. Этот самый Паша бросился к «Волге», включил фары, завёл двигатель и направил свет на дыру во льду.
Вдруг из воды показалась голова, обтянутая сверкающим капюшоном, с маской для ныряния. Глеб понял, что это аквалангист. Тот помахал рукой и снова исчез. Люди двинулись ближе к полынье. Скоро из неё показались уже два аквалангиста. Молниями засверкала вспышка фотоблица.
У Глеба перехватило дыхание. Аквалангисты вытащили на доски его отца.
Слипшиеся мокрые волосы закрывали лицо Семена Матвеевича. На голове обнажилась круглая, неестественно белая плешь, которую он так тщательно маскировал при жизни.
Ноги у Глеба стали ватными, лоб покрылся испариной.
«Что это у него в руках?» — удивился он и, приглядевшись получше, увидел ружьё — любимый отцовский «Джейс Пэрдэй».
Семён Матвеевич намертво вцепился обеими руками за ствол.
У Глеба все поплыло перед глазами. Чьи-то руки поддержали его, повели прочь. Как сквозь вату, слышал он отдельные фразы:
— Ремень зацепился за ручку дверцы «уазика»…
— Какую ручку?
— Изнутри…
И женский голос: «Осторожно! Несите сюда, на брезент!»
Глеба усадили в салоне «скорой помощи». Что-то едкое, острое ударило в нос. Нашатырь…
— Дыши, парень, дыши, — сказал ему немолодой мужчина в белом халате. — Лучше станет.
Он не выходил из машины, когда приехал огромный кран, не видел, как при помощи его тащили из озера отцовский «уазик», который появился из воды вверх колёсами; как обнаружили машину на дне, так и зацепили тросами. Когда автомобиль коснулся берега, его перекосило от удара. Одна из задних дверц открылась, и на снег вывалилась туша лося.
Снова замелькала фотовспышка…
— …Пришёл в себя? — заботливо спросил Игнат Прохорович.
Глеб слабо кивнул и вылез из «скорой». Генерал тут же усадил его в «Волгу», где уже был на заднем сиденье один человек, и сам пристроился рядом. Машина тронулась. Возле водителя восседал высокий мужчина в каракулевой шапке. Он кинул на Глеба быстрый взгляд, но ничего не сказал.
— Где Николай Николаевич? — спросил вдруг Копылов.
— В батином доме, — ответил Глеб, удивляясь, откуда генералу известно про Вербицкого.
По дороге в машине ни слова не было сказано о происшествии. Речь зашла о том, что в этом году большие снега и по весне непременно случится паводок, который может натворить много неприятностей, и что в районе уже создана паводковая комиссия.
«Волга» подъехала к исполкому, следом за ней — милицейский «уазик» и мотоцикл участкового инспектора. Когда они зашли в здание, первым, кого увидел Глеб, был отцовский шофёр Рудик, сидевший на стуле в коридоре. При виде людей в милицейской форме он поднялся, теребя в руках папку.
Высокий мужчина в каракулевой шапке был прокурор района Кулик, а человек, сидевший рядом с Ярцевым в «Волге», — следователь прокуратуры района Голованов. На месте происшествия присутствовал также начальник Ольховского РОВДа Жихарев. Решено было провести допрос всех, кто мог сообщить что-либо о трагедии на озере. Вот почему и был вызван шофёр погибшего директора. Вербицкого тоже пригласили в исполком, все три комнаты которого заняли работники милиции и райпрокуратуры. Вика осталась дома, так как все ещё была в шоке и не могла говорить.
С Глебом беседовал Жихарев. Вербицкого допрашивали следователь Голованов и прокурор Кулик. На допросе присутствовал генерал Копылов. Расположились в комнате председателя. Игнат Прохорович сидел в шинели: озяб на озере. Николай Николаевич выглядел ужасно: отёкшее лицо, набрякшие мешки под глазами, руки ходили ходуном. Генерал чувствовал себя неловко. Вспоминал те времена, когда он, ещё полковник, заместитель начальника областного управления внутренних дел, заходил в необъятный кабинет председателя облисполкома с докладом. Иной раз приходилось выслушивать и резкий выговор: Вербицкий бывал несдержан и мог так отчитать — только перья летели. Ни Кулика, ни Голованова в их краях тогда ещё не было.
И вот теперь Николай Николаевич сидел перед ними совершенно растерянный, подавленный, жалкий и старался ни на кого не смотреть.
Заполнив анкетные данные, следователь приступил к существу дела.
— Расскажите, что произошло на Верхнем озере? — задал он первый вопрос.
Вербицкий поёжился, откашлялся.
— Даже не знаю, с чего начать…
— Давайте с того, как вы приехали в совхоз «Зеленые дали». Когда, кстати? — Голованов был подчёркнуто вежлив. Наверное, все-таки действовало положение допрашиваемого.
— Вчера утром, — глухо ответил Вербицкий.
— По делам службы?
— В Средневолжске я в командировке. А здесь, собственно, не совсем…
Он говорил медленно, словно цедил каждое слово.
«Тщательно взвешивает», — подумал генерал Копылов.
— Извините, если можно, поточнее, — настаивал Голованов. — Посещение Ольховского района предусматривалось вашей командировкой?
— В праздники человек волен распоряжаться своим временем, — не смог сдержать своего раздражения Николай Николаевич.
— Вчера был рабочий день, — заметил следователь. — Ну, хорошо, — смилостивился он, видя, что этот вопрос для допрашиваемого весьма щекотлив.
— Чем вы занимались тридцать первого декабря?
Путаясь и сбиваясь, Вербицкий рассказал, что, мол, поохотились, немного отдохнули и затем поехали в совхозный посёлок.
— Выпили? — спросил следователь.
Вербицкий промолчал.
— Ярцев употреблял спиртное? — несколько изменил постановку вопроса Голованов.
— Было, — кивнул Вербицкий и добавил: — А что в этом такого? Новый год…
— Что же, он пил в одиночку? — чуть усмехнулся следователь.
Отпираться было глупо: видок у Николая Николаевича был ещё тот, сам за себя говорил.
— Я ведь не за рулём, — пожал плечами Вербицкий.
— И много приняли?
— Имеет ли это значение? — чуть ли не со стоном произнёс Вербицкий.
— Имеет, Николай Николаевич, имеет, — сказал следователь. — Будь Ярцев трезвый, может, и не случилось бы несчастья. Вы ехали на двух машинах, не так ли? Кто в какой находился?
Николай Николаевич рассказал, стараясь быть предельно кратким. Разумеется, о гонках по льду и других подробностях он умолчал.
Особенно мучительно было Вербицкому рассказывать о самом происшествии. Он почти ничего не видел и не помнил. Радостные крики дочери и Глеба, песни, что он распевал под аккомпанемент Дика, пустая полынья… Смутные отрывки… И, чтобы как-то выкрутиться, пояснил:
— Знаете, в машине я задремал. Весь день бродил по лесу с ружьём, устал. Ну, ещё рюмочка коньяку. Словом, сморило.
— Да, насчёт охоты, — словно вспомнив что-то, спросил Голованов. — Кто получил лицензию на отстрел лося, вы или Ярцев?
У Вербицкого похолодело внутри. Выручило его то, что в комнату заглянул начальник РОВДа.
— Извините, товарищи, — сказал он. — Приехала судмедэксперт, и если есть вопросы…
— Да, да! — ответил молчавший до сих пор райпрокурор. — Есть.
— И у меня, — поднялся следователь.
Они прервали допрос и вышли, сказав, что минут на десять.
Генерал снял шинель: согрелся. Прошёлся по кабинету.
— Слушай, Игнат Прохорович, — провожая его глазами, хмуро произнёс Вербицкий. — Видишь, что этот парень делает?
Копылов остановился возле него.
— Обыкновенное дело — выясняет, — ответил генерал со вздохом.
— Он же меня под монастырь подводит! — воздев руки вверх, трагически сказал Вербицкий. — Неужели не понимаешь, куда он клонит? Вопросики-то какие, а?! Он понавешает на меня такого…
— Но ведь было, да? — снова вздохнул Копылов и сам же ответил: — Было. Ты не скажешь, так этот шофёр Матвеича… — Копылов не замечал, что обращается к Вербицкому на «ты», а прежде они всегда были на «вы». Наверное, потому, что так начал сам Вербицкий.
— Шофёр не видел, как мы… — поспешно произнёс Николай Николаевич и замолчал.
— Глеб даст показания. И потом — вскрытие. Анализы. Тут уж ничего не поделаешь, пьянка налицо.
— Но неужели нельзя избавить меня от всего этого? Ты же генерал! Хозяин области! — В голосе Вербицкого явно звучали просительные нотки. — Слышь, Игнат Прохорович, скажу тебе по секрету… Да, собственно, это уже никакой не секрет. Меня ведь почти утвердили… заместителем министра. Сам понимаешь: связи, возможности. А друзей я не забываю, — многозначительно посмотрел он на Копылова.
— Не те слова говоришь, — покачал головой генерал. — Не те. Времена, брат, переменились. Ой, круто переменились. Тебе, в Москве, это, наверное, ещё лучше известно, чем мне.
— Ну что я такого натворил, что? И почему этот мальчишка-следователь позволяет?.. — начал кипятиться Николай Николаевич. — В конце концов, я могу сейчас снять трубку и прямо к первому секретарю обкома! Действительно!.. — накручивал он сам себя.
— Твоё право, — пожал плечами генерал. — Смотри, не сделай хуже. В декабре у нас в Средневолжске был зампред госкомитета. В Плёсе остановился. Ну и крепко… — Копылов щёлкнул себя по воротнику. — Тоже хватался за телефон. И где теперь этот залётный? На пенсию проводили. Без всякой благодарности за многолетний самоотверженный труд. Так что подумай.
Вербицкий сник, ещё больше сгорбился.
— И скажи честно, — негромко спросил генерал, — лицензия на отстрел имелась?
Это была последняя капля.
— Какой черт лицензия! — простонал Вербицкий. — Дёрнула же меня нелёгкая потащиться сюда! Поохотился, ничего не скажешь! Отдохнул, называется, душу отвёл. Но кто мог подумать? Кто?! Как я мог, стреляный воробей?..
— Во-во… Эх, кабы знать, где упасть, да соломки бы припасть, — покачал головой Копылов.
— Игнат Прохорович, — взмолился Вербицкий. — Ну сделай что-нибудь!
— Дорогой Николай Николаевич, как? Прокуратуре я не указчик. Она сама осуществляет надзор за милицией. Подумай, ты же тёртый калач, отлично видишь, что происходит в стране. Ведь крыть нечем! Да ещё лось. Браконьерство!
Он не договорил: вернулись Кулик и Голованов.
Снова посыпались вопросы, и каждый для Вербицкого — как нож в сердце.
Глеб не спал, а словно находился в обмороке. Утром он разлепил глаза, разбитый, с тяжёлой головой, с трудом соображая, где находится. На потолке
— лепнина, тяжёлая люстра. Напротив — во всю стену — полки с книгами.
Кабинет отца… Глеб лежал на диване в брюках, рубашке и носках, под шерстяным пледом. В сознании медленно всплывали картины, которые проходили перед глазами, словно прокрученная задом наперёд кинолента. Стоп-кадром застыла самая страшная: мокрая голова бати на снегу с растрёпанными волосами и белой-белой плешью.
Впервые Глеб столкнулся со смертью так близко, можно сказать, глаза в глаза.
С тех пор как он себя помнит, в прозрачные и звонкие, как хрусталь, детские годы, в пору юношества, для Глеба оставалось непреложным, что окружавшие его люди — отец, мать, брат Родион — будут всегда. Они даны ему вместе с этим миром, с воздухом, которым он дышит, с солнцем, которое всходит и заходит каждый день. Конечно, кто-то умирал, но то были посторонние, не из его вселенной… И вот она дала трещину, в которую было жутко заглянуть. Там таилось ничто, небытие. Как объяснить и понять их? Для чего это?
Древние говорили: мементо мори. Помни о смерти… Но зачем о ней помнить, если ум наш отказывается представить, что это такое?
Помнить можно вкус еды, прикосновение к женщине, горечь обид и поражений, радость желания и победы…
И вот он прикоснулся к тому, что поколебало незыблемость устоев всех его представлений.
За окном падал медленный печальный снег. Небо было низкое, серое. Глеб посмотрел на часы — начало двенадцатого. Прислушался — дом словно вымер.
«Где Злата, Вербицкие?» — подумал Глеб и вспомнил, что сегодня первый день Нового года. Зловещими показались ему слова Вики, которые она произнесла в мчащейся по льду «Ладе»: как встретишь год, таким он и будет…
«Нет, нет!» — старался прогнать от себя эти мысли Глеб.
Он встал, надел туфли, пиджак, пригладил рукой волосы. На солидном письменном столе лежали очки Семена Матвеевича. Глеб застонал: ещё долго будут вещи напоминать о том, кого уже нет.
Он спустился по лестнице в холл. Из кухни тянуло запахом свежесваренного кофе. Он на минуту задержался, пытаясь подготовиться к встрече с мачехой, хотя, в общем-то, не представлял, как вести себя с ней, что говорить.
— Глеб, дорогой мой, любимый! — бросилась к нему на шею Лена, осыпая поцелуями щеки, губы, глаза. — Я с тобой! Я здесь! Бедненький, золотой ты мой!..
Лицо у жены было мокрое от слез, рот пах кофе и сигаретой.
— Ты?.. Откуда? — проговорил ошарашенно Глеб. — А где Злата, Николай Николаевич, Вика?
— Я одна… Садись, садись, миленький, — схватила его за руку Лена, усадила рядом и не выпускала из своих ладоней его руки. — Господи, я как узнала — ужас! И почему я не была рядом в это время?
— Так где же все? — перебил Глеб её излияния.
— Злата Леонидовна вышла. А Вербицких я не видела… Понимаешь, утром позвонила Зинаида Савельевна, ну, жена генерала, говорит: «Сейчас приеду за тобой, собирайся»… У меня просто все оборвалось внутри, подумала: что-то случилось с тобой. А она — папа погиб… Приехала за мной с Калерией Изотовной и Родионом…
— Они здесь?
— Да здесь, здесь, у соседки… Очень хорошая женщина. — Лена замялась. — Понимаешь, они не захотели идти в этот дом. Ни в какую!
Глеб отлично понимал, почему мать и брат не желали переступить порог этого особняка. Гордость! Они всегда были такие, непримиримые…
Но то, что рядом самые близкие ему люди, как-то успокаивало. Тоска одиночества, которую он ощутил при пробуждении, рассеялась.
— Хорошо, что ты приехала, — сказал Глеб, чувствуя прилив нежности к жене.
Она прижалась к нему, всхлипнула.
— Я не дала тебя будить, — утирая слезы кулачком, словно ребёнок, сказала Лена. И вдруг ужаснулась: — Миленький, у тебя жуткий вид! Поешь, выпей кофе… Я приготовила…
— Какая еда! — скривился Глеб. — Кофе — ещё куда ни шло…
Только он пригубил обжигающий ароматный напиток, как послышался звук открываемой двери, быстрые шаги, и на пороге появилась Копылова. Заплаканная, в чёрной косынке на голове.
Зинаида Савельевна говорила какие-то слова сочувствия, соболезнования, и Глеб подумал, что к этому тоже надо привыкать.
— Мать с братом ждут тебя, — печально сказала Копылова. — Пойдём?
— Да, да, — суетливо поднялся Глеб, забыв про кофе.
— Эх, люди, люди! — вздохнула Зинаида Савельевна, непонятно на что сетуя.
У соседки, тёти Полины, в чисто прибранной и по-сельски жарко натопленной комнате Глеба встретила мать. Вся в чёрном, высокая, стройная не по своим годам, она молча поцеловала сына в лоб, камнем положив на его сердце слова:
— Остались мы, Глебушка, без отца…
И он понял, что она до сих пор любит его.
«Господи, сколько же вынесла страданий эта женщина при жизни бати, — подумал сын. — А вот надо же, приехала сразу».
Родион поднялся со стула какой-то неуклюжий, неловко обнял брата, похлопал по плечу, но ничего не сказал.
Они ни о чем не расспрашивали, вероятно, подробности уже узнали от тёти Полины. В деревне все все знают…
Родион подал брату знак выйти в другую комнату. Вышли.
— Это самое… — мялся Родион. — Когда похороны?
— Понятия не имею, — признался Глеб. — Она решает…
— Ясно, — кивнул брат, понимая, что она — это Злата Леонидовна. — Ну и ситуация, — почесал он затылок. — Здесь, что ли, похоронят?
— Тоже не знаю… Впрочем, скорее всего здесь.
— Та-ак, — протянул Родион. — Надо обмозговать… Да ты садись. — Он усадил брата, сел сам и о чем-то задумался.
Из другой комнаты доносился разговор женщин. Вернее, больше говорила хозяйка, тётя Полина.
— …Я так думаю, теперича Злате тут делать нечего. К деревне она не приспособленная… Да и в таком дому одной… На отоплении разоришься. Правда, к нам газ тянут, но когда это будет, бог знает… В городе жить легче. Удобства все, магазины… Говорят, у Семена Матвеевича в Средневолжске в нескольких сберкассах деньги лежат, да?
— Не интересовалась, — послышался усталый голос матери. — Все, что есть, — было его.
— Бедная Злата, — продолжала соседка, — дай бог ей в городе устроиться неплохо… И бабонькам нашим облегчение будет: детишек наконец пристроят.
— При чем здесь детишки? — спросила Зинаида Савельевна.
— Яслей в совхозе не хватает… Дом-то ихний под ясли строили, да Злате шибко понравился. Ведь Семён Матвеевич, царство ему небесное, хотел вселиться в другой, а она настояла…
Глебу откровения простой женщины рвали душу. Родион, однако, прислушивался с интересом.
— Две тысячи четыреста рублей заплатили за дом, — продолжала хозяйка,
— а он стоит все пятнадцать, а то и двадцать тысяч…
Калерии Изотовне наверняка неприятно было слушать эти сплетни, и она перебила тётю Полину:
— Вы уж извините, Полина Никаноровна, у человека горе, а вы о чем-то не о том говорите…
— Верно, дорогая… Плету, старая, не соображая…
Женщины перешли на нейтральную тему, а Родион продолжал:
— Ты уж разузнай, когда похороны и прочее… Где, когда…
— Конечно, конечно, — кивнул Глеб, понимая, что у брата с матерью какое-то двусмысленное положение, и встречать, а тем паче распоряжаться, они не могут. Да и находиться среди посторонних людей неловко. — Пойду я, Родион. Злата, наверное, уже дома… Поговорю и сразу сообщу.
Сказав матери, что он скоро вернётся, Глеб вышел от тёти Полины. Его обогнала ватага ребятишек, перебрасывающихся снежками. Прошли мимо два парня и две девушки с непокрытыми головами, в расстёгнутых пальто, со смехом обсуждая какого-то Володьку. Откуда-то доносились переливчатые трели гармони, под которую пел высокий женский голос. Деревня праздновала. И тут до Глеба дошёл смысл слов «жизнь продолжается».
Он поймал себя на мысли, что его уже занимают не какие-то абстрактные вселенские проблемы, а земные. Триста рублей, которые он по просьбе отца проиграл позавчера Вербицкому, — вот о чем думал Глеб. Батя сказал тогда, что компенсирует. Но не скажешь же об этом мачехе сейчас. А деньги нужны позарез. Дома, в Средневолжске, семейную казну опустошила, наверное, встреча Нового года. Допусти Лену до рынка и магазинов, так не остановится, пока не спустит последний рубль.
«Может, намекнуть все-таки Злате? — колебался Глеб. — Нет, неудобно…»
В особняке он снова застал только жену. Мачеха ещё не вернулась. Лена заставила мужа поесть, хотя, честно говоря, особенно настаивать не пришлось: Глеб почувствовал зверский голод. Да и уж больно аппетитно выглядели закуски, приготовленные к встрече Нового года, так никем и не тронутые. Он поглощал еду молча, под болтовню жены, и почти не слушал: как говорится, в одно ухо влетало, а из другого вылетало. Мысли его теперь вертелись вокруг профессора: застанет Ярцев его в Средневолжске или тот укатит в Москву. А встретиться надо обязательно.
— …Насчёт мебели мы договоримся, я думаю, — вдруг дошли до сознания Глеба слова жены.
— Какой мебели? — переспросил он.
— Отцовской, какой же ещё! — удивилась Лена.
— Ты о чем? — перестал есть Глеб.
— О том, что мы с тобой переедем на проспект Свободы…
— А твою квартиру?
— Отдадим Злате Леонидовне. Вот я и считаю, что нашу мебель мы оставим ей. Модная, современная… А отцовская пусть так и останется у нас. Сейчас стиль ретро очень ценится… Гарнитур из карельской берёзы! Девчонки умрут от зависти!
— Постой, — снова взял вилку Ярцев. — С чего ты взяла, что Злата захочет к нам, на Большую Бурлацкую?
— Она сама намекнула, что в деревне ни за что не останется. Все загонит. — Лена обвела вокруг руками. — И в город. Говорит, ей здесь делать нечего. А что? Злата теперь вдова, ей в городе площадь нужна. Нам ведь четырехкомнатная квартира — во! — провела она ладонью выше головы.
— Короче, все уже решили, — усмехнулся Глеб.
— Ты сам подумай, — убеждала его жена, — ну как она сделает себе прописку в Средневолжске? Прописана в совхозе…
— О, господи! — вырвалось у Глеба.
— Миленький, чем-то ведь мы должны помочь! Не чужая…
— Скажи уж честно, тебе самой не терпится перебраться в отцовскую квартиру, — недовольно пробурчал Ярцев.
— Но ведь ты не такой дурак, чтобы сдать её государству, — с обидой сказала Лена. — Ведь прописан там, имеешь на неё законные права… А Злате
— нашу отдадим. Кстати, она сказала, что берет на себя все расходы — похороны, поминки, памятник.
Видя, что муж все сильнее мрачнеет, она замолчала, шмыгнув носом.
— Лена, дорогая, — вздохнул он, — неужели обо всем этом нужно именно сегодня, сейчас?
— Прости, Глеб, прости, милый! — спохватилась Лена. — Конечно, я дура! Тебе так тяжело, а я… — Она махнула рукой.
Что-то в поведении жены насторожило Глеба. Нет, она была внимательна, ласкова, в её искреннем сочувствии он не сомневался, но почему иной раз, встречаясь взглядом с ним, отводит глаза?
У Ярцева на языке так и вертелся вопрос, что это с ней, но мимо окна прошли Злата Леонидовна, Надежда Егоровна и какой-то полный мужчина, кажется, тот, что был заместителем отца.
Глеб внутренне собрался: предстоял печальный разговор о похоронах и связанных с ними других невесёлых делах.
Сойдя с поезда в Трускавце, Орыся взяла «Волгу» частника, хотя идти пешком до дома — не больше пятнадцати минут. Не хотелось встречаться с кем-нибудь из знакомых. Водитель «Волги» и тот знал её. Но, несмотря на это, он взял с неё трояк не моргнув глазом.
Родная калитка, расчищенная от снега дорожка до двухэтажного особняка. Однако Орыся прошмыгнула во флигелёк во дворе. В нем было жарко, пахло свежесваренным борщом. Не успела она снять шубу, как хлопнула входная дверь.
— Слава богу, приехала! — радостно обняла её Екатерина Петровна. — Чуяло моё сердечко, что сегодня воротишься. С утра вон протопила, прибрала… Небось голодная с дороги?
— Спасибо, тётя Катя, — устало ответила Орыся, стягивая с себя сапоги.
— Есть не хочу. Прилягу. Голова разболелась.
— Тогда в постель, в постель, — захлопотала Екатерина Петровна, разбирая кровать. — Это сейчас для тебя самое милое дело.
Пока Орыся раздевалась, она успела сообщить новости, накопившиеся за неделю отсутствия хозяйки. И дом и флигель принадлежали Орысе.
— Ну, я побежала, — сказала тётя Катя. — Уборку кончать надо.
Напоследок она положила на тумбочку возле кровати деньги. Аккуратно сложенные десятки к десяткам, пятёрки к пятёркам, рубли к рублям — плата от постояльцев. Можно было не считать: Екатерина Петровна ни копейки не положит в свой карман.
Орыся легла, прикрыла глаза. Качало, словно она все ещё ехала в поезде. В голове плыли вокзалы, люди, улицы Средневолжска, по которым Орыся совсем недавно бродила чужая и неприкаянная. В памяти встала самая болезненная, самая щемящая душу картина — заснеженный двор детского садика, полный весёлых ребятишек, которые катались с ледяной горки, лепили снежную бабу. Глядя сквозь щель в заборе, Орыся сразу увидела своего Димку. В клетчатых штанишках, коричневой курточке с капюшоном. Он даже не подозревал, что в десяти метрах находится родная мать, которая жадно ловит каждое его движение. На одно мгновение ей показалось, что он посмотрел в её сторону. У Орыси дрогнуло сердце: неужели почувствовал?
Нет… Ей это действительно только показалось, потому что уже через секунду Димка со смехом мчался за каким-то мальчишкой.
«Боже мой, и почему я такая несчастная?» — вырвался тихий стон из груди Орыси. Она открыла глаза.
Со стены на неё смотрели десятка два фотографий — то, что осталось от целого чемодана снимков, которые Василь, отец Димки, заядлый фотограф, увёз с собой в Средневолжск.
Говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Но Орыся с детства только и слышала вокруг себя, какая она красивая, какая счастливая. И сейчас все уверены, что над ней светят эти две звезды. Если бы они знали…
Орыся переводила взгляд с фотографии на фотографию, словно перелистывала страницы их недолгой жизни с Василем.
Вот она совсем молоденькая. Стройная, как тополёк. В белом халате и шапочке сидит за столиком. Санаторий «Шахтёр».
После окончания медучилища её взяли туда диетсестрой. Работа несложная: подсказать лечащимся, где их место в столовой, дать совет насчёт питания. Возле неё всегда выстраивалась очередь мужчин. Молодых, среднего возраста и постарше. А её сменщица, пожилая опытная диетсестра, обычно просиживала без дела.
Мужчины липли к ней не только из-за внешности. Кто бы ни обращался к Орысе, проявить небрежение, а тем более нагрубить она не могла. Такая уж была натура, отзывчивая и душевная. Ещё её любили за песни. А это — по наследству. Пела мать Орыси, бабушка была лучшей певуньей в деревне. На концертах художественной самодеятельности в санатории слушатели буквально отбивали себе ладони, вызывая Орысю на «бис».
А вот на снимке они с Василем. В первый месяц после женитьбы. Да, тогда она была красивая и по-настоящему счастливая. Швадак (мужа она обычно называла по фамилии) влюбился в Орысю с первого взгляда. Потом уже признался, что долго не решался подойти. А она со своей стороны открылась Василю: эта застенчивость и покорила её. Другие с ходу пытались завоевать, не скупились на комплименты, выставляли напоказ свои достоинства — мнимые или заметно преувеличенные.
Швадак говорил мало. Если делал добро, сам оставался в тени. И даже цветы дарил своеобразно: не прямо в руки, а положит незаметно возле кровати или поставит в вазу в комнате Орыси, пока её нет. Это продолжалось и тогда, когда они уже прожили несколько лет.
Василь окончил Московский автодорожный институт, вернувшись, работал инженером. К моменту встречи с Орысей он был один как перст. Родители умерли в течение полугода один за другим.
В первые дни знакомства Василь стеснялся приглашать её в свой особняк. Орысе, выросшей в скромном достатке, намыкавшейся по общежитиям и чужим углам, представлялось, что дом Швадаков — полная чаша. Трускавец — уникальный курорт. Туда едут со всей страны страдающие болезнями печени, почек и другими хворями. В подавляющем большинстве по курсовкам или вообще дикарями. Местные жители сдают все, что только можно сдать под жильё, — разве что не доходит до собачьих будок. А тут — шестикомнатный особняк и ещё времянка. У иных домовладельцев доходы от сдачи коек походили на неиссякаемый, как здешние целебные воды, источник. Иметь автомобиль, например, считалось самым обыденным делом.
Но в доме её мужа роскошью и не пахло. Обстановка, правда, хорошая, но сработал её — до единого стула — отец Василя, краснодеревщик, славящийся на всю округу. Родители никогда, ни под каким видом не сдавали комнат. Знакомых, прибывших на лечение, принимали охотно, но чтобы за деньги — ни-ни! Этих же принципов придерживался и их сын.
Когда родился Димка и расходы в семье увеличились, Орыся как-то намекнула мужу, что не мешало бы пускать на постой дикарей.
— Зачем тебе это нужно? — удивился Василь.
Она растерялась: деньги лишними не бывают. Хотелось купить Димке шубку да и Василю не мешало бы обновить пальто и костюм, в которых он ходит уже не один год. Не говоря уже о том, с какой завистью (тайной, конечно) смотрит она сама на импортные платья и сапоги других женщин.
— Стать рабом денег — нет! — заявил Швадак. — И потом, в своём же доме ходить на цыпочках? За кем-то убирать, стирать простыни?
— А как же другие? — пыталась оправдаться Орыся.
— Они уже не хозяева, а прислужники! И не только тем, кому сдают койки, но и вещам!.. А я хочу жить как душе угодно, распоряжаться собой и нашим жильём.
Комнатами он распорядился таким образом: самую большую и светлую отдал в полное владение сыну. Чего здесь только не было — шведская стенка, турничок, маты для кувыркания, качели. Василь даже подвесил на стену баскетбольную корзину. Все смастерил сам. Сколько счастливых часов провели здесь отец и сын!
Вторую комнату, самую маленькую, Василь занял под фотолабораторию. Третья — что-то вроде гостиной. Ещё две — спальня Орыси и его. Последняя комната предназначалась для друзей и знакомых, изредка приезжавших в Трускавец.
Флигелёк когда-то служил отцу Василя мастерской. Сын оставил в нем все как было. Он сам любил постоять у верстака и Димку с малолетства приучал к столярному мастерству.
В сынишке Василь души не чаял. Каким бы усталым ни приходил с работы, тут же забывал обо всем, если Димка тащил его в «спортзал» или в мастерскую, заставляя отца что-нибудь выпилить или выточить на токарном станочке.
Была ли тогда счастлива Орыся? Пожалуй. Любительские фотографии не врут. На них она снята с мужем и Димкой. В саду, под раскидистой карпатской елью в живописных окрестностях города, возле бюветы с целебным источником.
А потом идут снимки, где только Димка, Димка, Димка…
Это были последние месяцы их семейной жизни. Как она поняла потом — трудные и мучительные для Василя. И всему виной была её красота. Наступила пора, когда Орыся расцвела, превратившись в яркую молодую женщину. От ухажёров не было отбоя. Двусмысленные и недвусмысленные намёки, духи, коробки конфет, бутылки дорогих вин, букеты цветов. Она, естественно, ничего, кроме цветов, не принимала, призывая на помощь всю свою выдержку и юмор. Даже откровенным нахалам она не могла грубить, будучи от природы приветливой и мягкой. В зимнем саду санатория часто устраивались танцы. Орыся пару раз оставалась на них. И очень жалела потом. То из-за неё сцепились двое отдыхающих — подводник и шахтёр из Донбасса. Дошло до драки. А то ревнивая жена при всех залепила пощёчину своему мужу-учёному, который пригласил Орысю на третий танец.
Истории эти стали известны Василю, как доходили и другие сплетни, в которых она выглядела чуть ли не коварной соблазнительницей. Правда, Швадак никогда не реагировал на них, но Орыся чувствовала, что переживает сильно. Верил ли он слухам? Орыся так до сих пор и не знает.
Чтобы не давать повода для огорчений мужу, она ушла из «Шахтёра» и устроилась в санаторий «Алмаз», в кабинет физиотерапии. Но и там её продолжали преследовать мужчины. А зависть и ревность рождали новые сплетни. Тогда Орыся перешла в небольшой ведомственный пансионат администратором. В смысле времени — удобно: сутки дежуришь, трое дома. Теперь её и отдыхающих отделяла стойка. И надо же было случиться — замдиректора пансионата Недовиз потерял из-за новой сотрудницы голову. Об этом скоро знал весь Трускавец, Василь, разумеется, тоже. И, как всегда, отмалчивался, делая вид, что людская молва его не трогает. И вот однажды…
Это было в ноябрьские праздники. Орысе выпало дежурить. Дежурил и замдиректора. Когда весь пансионат уже спал, сотрудники расположились пить чай. Недовиз дурачился, лез со своими нежностями к женщинам, и особенно настойчиво к Орысе. Чувствовала она себя неловко, а грубо одёрнуть замдиректора стеснялась. Тот разошёлся, обнял её и поцеловал. Орыся оттолкнула его, но было поздно: в дверях стоял Василь. В расстёгнутом пальто, без шапки. Как потом выяснилось, у Димки неожиданно поднялась высокая температура, и он побежал за женой…
Швадак побледнел. Не сказав ни слова, круто повернулся и вышел. Орыся бросилась вслед, догнала, пыталась что-то объяснить, однако Василь оборвал её словами:
— Иди дежурь.
Она растерялась. Оправдываться? Значит, признать свою вину. Она вернулась, с трудом дождалась конца дежурства. Дома Орыся застала осунувшегося, падавшего с ног от усталости мужа, проведшего бессонную ночь у кровати сына. У Димки была фолликулярная ангина. Температура держалась несколько дней. Василь тоже свалился: на нервной почве разыгралась астма.
Хотя он родился, вырос в Трускавце и покидал родной дом лишь на время учёбы в столице, местный сырой климат был ему неподходящим, и врачи давно советовали его сменить. За время своей болезни и сына Швадак ни разу не обмолвился о той сцене, которую видел в пансионате. Орыся думала, что неприятный момент забыт. Но однажды, вернувшись с работы, Василь сказал:
— Продаём все, и я, ты и Димка — переезжаем в Средневолжск.
— А дом как же? — спросила жена.
— Тоже продадим…
Орыся знала, что приятель мужа по институту, с которым в студенческие годы они делили последний рубль, работает в Средневолжске на крупном заводе. Друг этот быстро шёл в гору, постоянно звал к себе Швадака, обещая интересную перспективную должность.
Решение Василя, а главное, безапелляционный тон обидели. Выходит, с её мнением можно и не считаться?
Орыся надулась. Разговор оборвался. Она думала, на этом и кончится. Но через несколько дней Швадак снова заговорил о переезде в Средневолжск.
— Ну и езжай сам! — ответила Орыся. — А я из нашего дома — ни ногой!
— Если ты так за него держишься — оставайся, — в сердцах произнёс Швадак. — Дом переведу на твоё имя, а Димку заберу с собой. Согласна?
— Делай как хочешь! — с вызовом бросила Орыся.
Она не верила, что муж осуществит задуманное.
Прошла неделя, другая. Отдежурив свои сутки, Орыся пришла домой. Василя и Димки не было. Она подумала, что ушли гулять. Но потом забеспокоилась, не видя на месте игрушек сына, его одежду. И тут же обнаружила на столе в гостиной записку: «Я сдержал своё слово. Надеюсь, и ты сдержишь».
Рядом с запиской — дарственная на дом, заверенная у нотариуса. У Орыси подкосились ноги. Рухнув на стул, она разрыдалась…
В ту ночь она не сомкнула глаз. Готова была броситься на вокзал, помчаться вдогонку за мужем и сыном. Но куда? Может, Василь уехал не в Средневолжск? Или не насовсем, а так, только припугнуть? Через несколько дней опомнится, вернётся…
Наутро она позвонила на работу. Там сказали: взял расчёт.
«Нет, — продолжала твердить про себя Орыся, — он не может! Бросить, разлучить с сыном!.. На такое Василь не способен…»
Проходили дни, а от Швадака ни слуху ни духу. О случившемся Орыся никому не говорила, на расспросы соседей отвечала: муж уехал в отпуск.
Орыся открылась одной Екатерине Петровне Крицяк. С ней Орыся когда-то работала в санатории «Дружба». Крицяк была нянечкой и недавно вышла на пенсию. Они случайно встретились в городе. Тётя Катя заметила, что Орыся плохо выглядит — не заболела ли? Та пригласила бывшую сослуживицу к себе домой и со слезами на глазах призналась в своём горе. Крицяк стала успокаивать её, мол, перемелется — мука будет.
— Ты же у нас красавица, — говорила Екатерина Петровна. — Разве таких бросают?
— Лучше бы я была уродина! — с горечью произнесла Орыся.
И говорила искренне. Лёжа по ночам в огромном пустом доме, она много думала о муже, о себе.
Почему так жестоко поступил Василь? В чем она виновата? В том, что красивая?
Вспомнилась школа, учитель по литературе. Он был совсем молоденький, со студенческой скамьи, и повседневная рутина его ещё не засосала. Орысю поразил его взгляд на личную драму Пушкина, приведшую к роковой дуэли. По мнению преподавателя, Наталья Гончарова была слишком прекрасна. А все, что прекрасно, всегда опасно. Это и привело к гибели поэта. Нет, жену Пушкина он не обвинял. Но быть красивой, говорил учитель, — тяжкий крест. Не каждому по плечу. Быть мужем такой женщины — крест вдвойне…
Конечно, у Орыси и в мыслях не было сравнивать себя с Гончаровой, куда ей до великосветской дамы, блиставшей при царском дворе! Однако тяжесть креста она познала. Ведь не бесчувственная кукла, живой человек. Сколько приходилось испытывать соблазнов! Как-то довольно известный музыкант из Москвы на полном серьёзе предлагал ей выйти за него замуж. И это был не курортный роман. Потом забросал Орысю письмами. Да только ли он? Все это волновало, смущало душу. Но она держалась.
А вот Швадак — не смог.
Вскоре от него пришло письмо. Короткое, в несколько строк, с просьбой прислать согласие на развод, заверенное у нотариуса. Она приняла решение: срочно в Средневолжск, отговорить, вернуть! Там уже стояли холода, а сынишка уехал в лёгком пальто. Она бросилась к тёте Кате занять денег на шубку и на дорогу.
— Голубушка, — сказала Крицяк. — А я думала, с вашими-то хоромами у тебя денег куры не клюют!
И посоветовала пустить в дом дикарей. Орыся послушалась. Правда, комнаты в особняке сдавать не решилась, поселила постояльцев во флигеле. Недели через три у неё было и на поездку, и на обнову для сына. Более того, купила наконец себе умопомрачительные импортные сапоги, а Василю — дорогую меховую шапку. В Средневолжск уехала, оставив на попечение тёти Кати особняк и жильцов.
При воспоминании о встрече с мужем у неё до сих пор каждый раз ноет сердце. Ни о каком возвращении Василь и слышать не захотел. Увидеть Димку не разрешил. Орыся упрашивала, умоляла, но натолкнулась на решительное «нет».
— Ты сделала выбор добровольно, — отрезал Швадак.
И попросил их с сыном больше не беспокоить. У неё взыграла гордость, обида. Бросив подарки, тут же села в обратный поезд. Заехала в Москву на десять дней — не пропадать же впустую отпуску.
В её отсутствие тётя Катя заселила курортниками помимо флигеля ещё половину особняка. Так что дома Орысю ждали солидная выручка и… посылка от Василя. С детской шубкой и ондатровой шапкой. Ещё один удар по самолюбию.
— Не переживай, — успокаивала её тётя Катя.
Что бы Орыся без неё делала? Крицяк дневала и ночевала у неё, а затем и вовсе перебралась, пустив в свою однокомнатную квартиру, которую с превеликим трудом выхлопотала в исполкоме, курортников. Они устроились во флигеле, отдав весь дом дикарям. Иной раз в особняке одновременно жило до двадцати пяти человек. Появились и постоянные клиенты, которые «бронировали» койки на несколько лет вперёд. Например, мать Эрика Бухарцева, которую сын привозил в Трускавец на машине. Крицяк даже завела специальную тетрадку, где вела учёт движения проживающих. Она же прибирала в доме, обстирывала жильцов. Не бескорыстно, разумеется.
Орысе завидовали. Ещё бы — молодая, красивая, богатая и свободная!
Но только подушка знает, сколько Орыся пролила слез. Иногда разлука с сыном становилась невмоготу. И тогда она срывалась, бежала на вокзал и уезжала в Средневолжск. Хоть одним глазком, издали поглядеть на Димку. Возвращалась она в Трускавец опустошённая, разбитая и несколько дней не высовывала носа из флигеля.
…Тихо скрипнула дверь — это тётя Катя проверяла, спит ли хозяйка. Орыся сделала вид, что уснула. Не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать.
Жить не хотелось.
В город она вышла на третий день. Было солнечно, морозно. Снег сверкал на Яцковой горе, Городище и Каменном горбе. Вообще в этом году стояла непривычно холодная зима. Орыся вырядилась в дублёнку, на голове — мохнатая песцовая шапка, на ногах — роскошные финские сапоги. Приезжих было не так, как летом, но все равно много. У домика с островерхой башенкой над источником «Эдвард» её окликнули. В румяной молодой женщине она узнала Одарку Явтух. В санатории «Алмаз», где работала в своё время Орыся, Одарка была массажисткой. Она и до сих пор там.
Явтух была депутатом городского Совета, и выбирали её вот уже третий раз подряд.
Встретились они сердечно, поболтали о том о сём. Одарка поинтересовалась, где работает Орыся. Та сказала, что нигде.
— Тю-ю! — протянула Одарка. — Ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь?
— Газеты меня не интересуют, а концерты по телику смотрю. Ну, ещё фильмы с продолжением, особенно если про любовь, — отшутилась Орыся.
— Нет, ты словно с луны свалилась, — вздохнула Одарка. — Разве не чуешь, что творится вокруг?
— А что? — состроила невинные глаза Орыся.
— А то… Вчера на сессии горсовета один депутат внёс предложение: кто нигде не работает и живёт за счёт дикарей, отобрать земельные участки, хаты и даже квартиры!
— Ишь какой шустрый! — усмехнулась Орыся. — Слыхали мы и раньше такие речи.
— Верно, — кивнула Явтух. — А теперь — всерьёз. От слов, так сказать, перешли к делу.
— Значит, борьба с тунеядцами. Ну-ну… Сколько ни боретесь, их почему-то все больше становится.
— Я бы на твоём месте задумалась, — посоветовала Одарка.
Действительно, о нетрудовых доходах говорили из года в год, но ничего не менялось. Более того, спрос на жильё постоянно рос. Когда-то койка стоила рубль в сутки, потом плата увеличилась до двух, а затем и до трех рублей. В разгар сезона некоторые теперь берут по четыре и даже по пять! Но это никого не останавливает. Просят, умоляют, предлагают любые деньги, лишь бы было где приклонить голову.
Пользуясь безвыходным положением, кое-кто из владельцев домов и квартир ставит условие, чтобы утром постоялец уходил (иди дыши воздухом, пей лечебную воду, гуляй) и возвращался не раньше девяти вечера. Естественно, в таком случае милиции трудно засечь проживающих без прописки.
Орыся до подобных строгостей не доходила. Жалела людей, и условия у неё были приличные — все удобства, даже кухню в особняке предоставила в распоряжение постояльцев, чтоб было где приготовить еду. Всегда чисто, свежее постельное бельё, хочешь днём отдохнуть — пожалуйста. В тёплое время
— а его в Трускавце больше, чем холодного, — пользуйся садиком…
Слова Одарки Явтух заронили в душу тревогу. Действительно, могут крепко прищемить хвост.
В принципе Орыся могла обойтись и без службы: зарплата в сто — сто пятьдесят рублей (на большее она не рассчитывала) составила бы очень скромное место в её бюджете. Вернее — мизерное. Она сама охотно приплачивала бы кому-нибудь эту сумму, лишь бы не ходить на работу.
Найти бы какую-нибудь шарагу, где только бы числиться! Для галочки, так сказать, чтобы милиция не цеплялась. Но кто на это пойдёт? В большом городе, где люди не знакомы даже с соседями по лестничной площадке, подобное провернуть, наверное, можно. А в Трускавце? Каждая собака, как говорится, в лицо друг друга знает. Не пройдёт.
Значит, выход один — устраиваться на работу. Но куда?
Мысли эти не давали ей покоя. Орыся не заметила, как очутилась на улице Филатова, у ресторана «Старый дуб». Здесь когда-то действительно стояло могучее дерево, но дуба уже нет, а название осталось.
«Зайти, что ли, поболтать с Кларой?» — подумала Орыся.
Подруга её, Клара Хорунжая, работала в «Старом дубе» официанткой. Ресторан этот Орысе нравился: уютно, обстановка нестандартная, одежда на работниках — в ярком прикарпат-ском стиле, и блюда подавали соответствующие.
Хорунжая обрадовалась приятельнице, устроила за отдельный столик, а чтобы никто не подсел, поставила табличку «Для обслуживающего персонала». Посетителей было мало, и Клара могла уделить Орысе сколько угодно времени. Она тут же забросала её вопросами: где пропадала? Почему такая озабоченная? Орыся поведала о встрече с Одаркой Явтух.
— Господи, чего тебе раздумывать! — сказала Хорунжая. — Иди к нам. Официанткой.
— Ты серьёзно? — удивилась Орыся неожиданному предложению.
— А что? Снова в санаторий? Неужто не надоело смотреть на всяких там почечников, печёночников да язвенников? У нас работа веселее, — убеждала Клара. — Навар опять же… Хватит тебе куковать дома. Тётя Катя отлично со всем справится.
— Так-то оно так, — задумалась Орыся. — Действительно, встаю утром и не знаю, чем заняться. От телевизора уже просто тошнит.
— Ну а я об чем? — поддакнула Хорунжая. — А у нас скучать некогда! И, главное, на людях. Такие мужики захаживают — закачаешься! — подмигнула лукаво Клара и ещё долго убеждала подругу, что лучшего места Орыся не сыщет.
Орыся размышляла недолго и уже через день пришла устраиваться в «Старый дуб», сама толком не зная, почему согласилась на уговоры Клары. Приняли без всяких проволочек, правда, с испытательным сроком.
Было интересно, потому что внове. Хотя и уставала с непривычки от тяжёлых подносов и постоянного пребывания на ногах. Потом освоилась. Режим работы вполне подходящий: день в ресторане, другой — на отдых.
Вполне возможно, что Орыся и прижилась бы в «Старом дубе», если бы…
Это произошло, когда её испытательный срок подходил к концу. Был будничный вечер, ресторан заполнен наполовину. Появление трех новых посетителей обратило на себя внимание всего зала, а метрдотель бросился к ним навстречу и лично проводил до столика Орыси. С первого же взгляда она поняла: цыгане. Двое мужчин и женщина, одетая в кричащее платье и увешанная драгоценностями. На мужчине помоложе был синий бархатный костюм, красная рубашка с люрексом, а на руке сверкал огромный золотой перстень. Второй мужчина и вовсе будто бы только что сошёл с экрана кинофильма о давно забытых временах: надраенные хромовые сапоги, галифе и рубаха наподобие черкески, но без газырей, подпоясанная широченным ремнём с тяжёлыми серебряными накладками. Лицо у него было смуглое, со сросшимися густыми чёрными бровями и лихими усами, а от всей фигуры веяло уверенностью и властностью.
Усаживая посетителей, метрдотель прямо-таки пропел:
— Орысенька, голубушка, обслужи Сергея Касьяновича с друзьями наилучшим образом. — И отвесил в сторону мужчины в галифе низкий подобострастный поклон.
Тот небрежно сунул в нагрудный кармашек метрдотеля крупную денежную купюру и получил в ответ новый поклон, чуть ли не до земли.
Сергей Касьянович поманил пальцем руководителя оркестра, который словно ждал этого момента.
— Весь вечер только мои любимые песни, — сказал цыган подбежавшему музыканту, сопровождая просьбу (она выглядела как приказ) солидной пачкой денег.
Затем Сергей Касьянович сделал заказ: деликатесы, фирменные блюда, шампанское, самый дорогой коньяк и фрукты, причём все в таких количествах, что хватило бы на огромную компанию.
С эстрады полились рыдающие звуки скрипки, и певица запела старинный душещипательный романс.
— Ну, подружка, тебе крепко подфартило, — не без зависти сказала Хорунжая, когда встретилась с Орысей у стойки буфета. Считай, сотняга чаевых у тебя в кармане.
— Ты уж постарайся, — поддакнул буфетчик. — Тогда выложит и двести, а может, и триста.
— Что-то раньше я его не видела, — сказала Орыся.
— Верно, давненько его не было, — кивнула Клара. — Раньше чаще захаживал… Барон…
— В каком смысле? — не поняла Орыся.
— Цыганский, — пояснил буфетчик. — Не слыхала, что ли? У них так называют самого главного!
— А я думала, что такое бывает разве что в кино… И не боится же швырять деньгами, — покачала головой Орыся.
— А Барону все нипочём! — сказала Хорунжая. — Когда был у нас последний раз, такую гулянку закатил — до самого утра! Наш директор тоже веселился вместе с Сергеем Касьяновичем.
— Что же он за птица, если ему даже ОБХСС не страшен? — поинтересовалась Орыся.
— А может, ОБХСС его самого боится, — пожала плечами Клара. — И не только ОБХСС, но и прокурор…
— Точно, — подтвердил буфетчик. — Пансионат «Сокол» знаешь? — почему-то оглядываясь, негромко спросил он. — Ну, недалеко от рынка?
— Конечно, — кивнула Орыся. — Там с другого входа помещается городская прокуратура.
— Во-во, — ещё больше понизил голос буфетчик. — Говорят, здание строили под тем видом, что якобы только под прокуратуру, а потом уж большую часть отвели под пансионат. И вроде бы Барон эту уловку знает и держит кое-кого вот так. — Он показал крепко сжатый кулак.
— А я слышала, что Сергей Касьянович огромное наследство получил, — сказала Хорунжая. — Из заграницы. Ведь их племя по всему свету рассеяно… И поэтому у Барона полные карманы чеков. Вещи он только в «Берёзке» покупает.
— Галифе и сапоги тоже? — прыснула Орыся.
— У него имеется для этого индивидуальный портной и сапожник, — не отреагировала на юмор Клара. — И ещё, он в Афганистане воевал. Метрдотель говорит, что самолично видел у Барона не то боевой орден, не то медаль.
— Значит, точно Афганистан, — глубокомысленно кивнул буфетчик. — В Отечественную не мог, под стол пешком ещё ходил.
Вернувшись в зал, Орыся пригляделась к Барону. Ему действительно было не больше сорока лет.
И вдруг почувствовала, что он тоже внимательно наблюдает за ней. В каком бы уголке она ни находилась, глаза Барона были устремлены в её сторону. И от этого взгляда Орысе почему-то было не по себе.
В груди смутно шевельнулось что-то тревожное…
А оркестр не переставал тешить публику цыганскими мелодиями, то грустными, то задорными. Одна из них, зажигательная, огневая, подняла с места друзей Барона, и они пустились в пляс под одобрительные возгласы присутствующих. Вскоре к танцующим присоединились другие посетители ресторана.
Лишь один Барон невозмутимо сидел за столом, глуша бокалами шампанское да время от времени бросая на Орысю свой прямо-таки завораживающий взгляд.
Улучив момент, она сообщила об этом Кларе.
— Смотри, — шутливо погрозила пальцем Хорунжая. — От Барона просто так не отвертишься. На кого положит глаз — ни перед чем не остановится. — И уже серьёзно продолжила: — Помнишь, у нас была официантка Зофья?
— Светленькая такая, кудрявенькая?
— Да, между прочим, натуральная блондинка, не крашеная… Барон увидел и как солома загорелся. С ходу предложил встретиться после работы. А Зофья только-только замуж вышла, и за красивого парня. Зофья отказала Барону, да ещё, дурища, мужу проговорилась.
— А почему дурища? — поинтересовалась Орыся.
— Потому, — вздохнула Клара. — Муж заревновал, пришёл к Барону, стал угрожать ему. А на следующий день Зофьиного супруга так обработали — страшно смотреть! Неделю валялся в больнице без сознания. Череп проломили, ребра переломали. Короче, калекой сделали.
— Кто? Барон? — округлила глаза Орыся.
— Нет. А тех, кто напал, до сих пор не нашли.
— Ну а Зофья?
— Как только муж встал на ноги, уехали из Трускавца. Подальше от греха.
— А может, Сергей Касьянович тут вообще ни при чем?
Хорунжая пожала плечами и сказала:
— Он никогда не бывает один. Обязательно рядом кто-нибудь на подхвате. Как этот, — она скосила глаза на спутника Барона, только что усевшегося за стол после пляски. — Да ещё на улице дежурят.
— А это что за краля с ними? — полюбопытствовала Орыся. — Любовница Барона?
— Райка? С тем дружком Барона. Она с разными приходит — Клара вдруг прыснула в кулак.
— Ты чего? — удивилась Орыся.
— Представляешь, даже в зубы вставила бриллианты!
— Ну да? — вытаращила глаза Орыся. — Шутишь?
— А ты присмотрись, сама убедишься.
— Неловко как-то.
— Рассказывают, грызла как-то Райка орех и сломала зуб. Очередной хахаль повёз её к дантисту и вставил золотую фиксу с бриллиантом. Райке это так понравилось, что она вырвала здоровый зуб с другой стороны и вставила золотой с бриллиантом. Для симметрии… Ну не чокнутая?
Подойдя в очередной раз к столу Барона, Орыся мельком кинула взгляд на рот хохочущей Райки, потому что не могла все-таки до конца поверить в рассказ Клары Хорунжей. Ну возможно ли такое? Но у Райки, когда она смеялась, действительно, в двух боковых золотых зубах пускали разноцветные лучики бриллианты. Прямо чертовщина какая-то!
— Садись, Орыся, — неожиданно сказал ей Барон, выдвигая четвёртый стул и наливая в бокал шампанское.
Орыся растерялась.
— Спасибо. Не могу… Понимаете, нельзя нам на работе, — пролепетала она и для убедительности добавила: — Честное слово!
— Садись, садись, — властно произнёс Сергей Касьянович. — За знакомство. — Он протянул свой фужер, чтобы чокнуться, ожидая, пока она возьмёт налитый ей.
Орыся невольно оглянулась, ища глазами метрдотеля. Но Сергей Касьянович опередил её, щёлкнул в воздухе пальцами, и через мгновение тот стоял рядом, как послушная собачонка.
— Давай, Петя, и ты, — налил ему полный бокал коньяка Барон.
К удивлению Орыси, метрдотель залпом осушил бокал.
— Ну? — нетерпеливо сказал Барон, обращаясь к Орысе.
Метрдотель согласно кивнул ей, мол, не отказывайся.
Пришлось и чокнуться, и выпить, и сесть.
Спустя некоторое время Барон налил Орысе второй бокал. Она почему-то не решилась сказать «нет».
И потом, когда на кухне метрдотель шепнул ей, что Сергей Касьянович ожидает у входа (о подмене уже позаботились), Орыся тоже не нашла в себе сил отказаться. Переоделась и вышла на улицу.
У ресторана стояли «Волга» и «жигуленок». Барон, сидевший в «Волге», открыл дверцу, пригласил Орысю в машину. И, как только она села, резво взял с места. Тут же, следом за ними, двинулись и «Жигули».
«Как же это он не боится пьяный за рулём? — Орыся краем глаза посмотрела на Сергея Касьяновича. — Нарвётся на гаишников, лишат прав. А то и вовсе в милицию могут забрать».
Вообще-то он на пьяного не походил, хотя выпил изрядно. Только веки набрякли да побелели.
Впереди у перекрёстка показался милицейский мотоцикл, возле которого стоял работник ГАИ в белых крагах и шлеме. У Орыси упало сердце: сейчас поднимет жезл, они остановятся и…
Но Барон, чуть сбавив скорость, приспустил возле себя стекло и небрежно помахал рукой милиционеру. Тот кивнул и весело улыбнулся в ответ, как будто увидел самого дорогого друга. Только что не козырнул.
Орыся едва сдержала вздох облегчения.
— Сергей Касьянович, — спросила она, тяготясь молчанием и неизвестностью, — кто же вы такой, если даже милиция?..
— Ой, дорогая-золотая, — усмехнулся Барон, — поменьше задавай вопросов. Не люблю.
Орысю несколько обидел такой ответ, но она промолчала.
Однако когда «Волга» и неотступно следующие за ней «Жигули» вылетели за город, не удержалась:
— Но хоть имею я право узнать, куда мы едем?
— Во Львов, — коротко ответил Сергей Касьянович.
— Как во Львов? — вырвалось у Орыси.
— Отдохнуть надо, — сказал Барон, не объясняя, от чего отдохнуть и как.
«Господи, а тётя Катя? — подумала она. — Вот уж переволнуется!»
В машине снова воцарилось молчание. Лишь в едва приоткрытое со стороны водителя окно посвистывал встречный ветер да шуршали шины по асфальту.
Сергей Касьянович управлял машиной уверенно и властно. Впрочем, как и вёл себя с людьми. Эта уверенность почему-то постепенно успокоила Орысю.
Во Львове она не была давно. А город этот очень любила за его многолюдность, неповторимые старинные улицы, дома, скверы. Там можно затеряться и в то же время быть среди толпы. Не то что в их игрушечном маленьком Трускавце!
Одна площадь Рынок чего стоит! А Театр оперы и балета имени Ивана Франко с его крылатыми фигурами на фронтоне!
— Ты чего Раису обглядывала? — неожиданно задал вопрос Барон.
Орыся обрадовалась: молчание её тяготило. Она ткнула себя пальцем в зубы и сказала:
— Что, ей некуда бриллианты девать?
— Понравилось? — не то удивился, не то заинтересовался Барон.
— Эх, кто бы мне подсунул орешек покрепче! — со смехом произнесла Орыся.
— Подумаешь, — пренебрежительно сказал Барон, — бриллианты по одному карату! Всего-то двенадцать тысяч… Я могу тебе в каждый из тридцати двух зубов по два карата!
Сказал так, что она поверила — может.
— Свои как-то лучше, — ушла она от темы.
До Львова домчались менее чем за час. Подкатили к гостинице «Верховина», что на проспекте Ленина. Лиц людей, сопровождавших их на «Жигулях», Орыся так и не увидела: Сергей Касьянович сразу повёл её в вестибюль. А там…
Дежурный администратор вёл себя с Бароном так же, как метрдотель «Старого дуба». Через десять минут Сергей Касьянович уже вводил её в роскошный трехкомнатный «люкс» с коврами на полу и цветным телевизором. А ещё через четверть часа им подали в номер царский ужин с чёрной и красной икрой, разными копчёными и солёными рыбами, свежими жареными шампиньонами, неправдоподобно огромными красными варёными раками, коньяком, шампанским и заморскими фруктами.
Орыся не переставала удивляться могущественности своего «похитителя», как она мысленно называла Барона. И как ему удалось получить номер без всяких паспортов? Ведь у нас и шагу нельзя ступить, пока не удостоверятся, кто ты такой.
В уютный номер не проникал шум с улицы. Мягкий свет торшера освещал столик, играя в гранях хрусталя и золоте напитков.
Они сидели на диване рядом. Барон взялся за коньяк.
— Нет-нет, — запротестовала Орыся.
— А шампанское?
— Немного.
— Как хочешь, — посмотрел на неё Сергей Касьянович.
И снова у неё от этого взгляда тревожно забилось сердце, как там, в «Старом дубе».
Выпили. Он — коньяк, она — шампанское.
Ела Орыся с удовольствием: уехала из Трускавца голодная, да ещё дорога.
Наверное, уют и роскошь помещения её расслабили. Вино, впрочем, тоже. Она почти не уловила момента, когда сильные, железные руки Барона прижали её тело к своему, отыскали грудь, бедра, а губы жадно потянулись к её губам.
И тут, словно опомнившись, она резко оттолкнула Барона. Началась борьба, безмолвная, грубая и жестокая. Пощёчина ещё больше озлобила Орысю, и она вцепилась ногтями в его лицо, не чувствуя дальнейших ударов…
Тяжёлая золотистая портьера, трюмо с деревянными завитушками, идиллический пейзаж в багетной рамке на противоположной стене — вот что увидела Орыся, проснувшись.
И вспомнила.
Ругать она себя не стала: сама отлично знала, зачем привёз её Барон в эту гостиницу. При воспоминании о нем она зачем-то повыше натянула на себя одеяло. Прислушалась.
В номере стояла тишина.
«Где же он?» — с каким-то беспокойством подумала она: неизвестность пугала.
Телу что-то мешало. Комбинация… Вернее, то, что от неё осталось, — лохмотья.
Орыся откинула одеяло, хотела встать. Что-то упало на коврик возле кровати.
Два целлофановых пакета. Ярких, с надписью на иностранном языке. В одном было нижнее бельё, в другом — платье. Изумительное, нежно-сиреневое, с люрексом.
Её платье валялось на стуле с оторванным рукавом.
Орыся приложила к себе обновку, посмотрелась в зеркало. И цвет и фасон
— все к лицу.
Она пошла в ванную, привела себя в порядок, сделала причёску, размышляя, куда мог запропаститься Сергей Касьянович. И не успела выйти в гостиную, как появился он в длинном кожаном пальто и мохнатой лисьей шапке. На щеке алела царапина — след её ногтей.
Барон прошёлся по ней взглядом, улыбнулся, довольный.
— Я немного погорячился, — сказал он, раздеваясь. — А ты мне такая бешеная ещё больше понравилась.
— Чем? — спросила она немного кокетливо.
Барон хмыкнул и не ответил. Потом уже, когда они сидели за доставленным из ресторана завтраком, пояснил:
— Запретный плод — он всегда слаще. — И без всякого перехода вдруг заявил: — В ресторане ты больше работать не будешь.
— Как это? — вырвалось у Орыси.
— Вот так! — коротко бросил он.
Орыся поняла, что спорить бесполезно. И опасно: ей вспомнился рассказ Хорунжей о том, как поступили с мужем Зофьи.
После завтрака Сергей Касьянович предложил покататься по городу. Когда вышли на улицу, мела метель, а Орыся была в лёгком пальто.
— Холодно, — передёрнула она плечами, поскорее забираясь в машину.
— Согреем, — пообещал Барон.
Орыся не придала значения этому замечанию. Он остановил «Волгу» возле универмага и попросил немного подождать. Вернулся минут через пятнадцать с большим свёртком. Когда она развернула его в гостинице — ахнула. Это была норковая шуба…
Во Львове они пробыли три дня. Обошли чуть ли не все рестораны. Орыся устала от этого загула. Пить она не любила и не умела, а приходилось, хотя бы понемногу. Хмель был не в радость, только болела голова.
Потом Сергей Касьянович отвёз её в Трускавец и, прощаясь, предупредил:
— Чтобы ни одного мужика! Узнаю — наше следующее свидание будет на том свете!
Кончался февраль, а зиме, казалось, не будет конца. Обычно в это время в Трускавце уже сходил снег, а тут морозы доходили до двадцати пяти градусов, бушевали метели, скреблись в окна сухими снежинками, и под их шелест сладко спалось в тёплой комнате. Как и в тот день, когда прикатила на собственном «Москвиче» Наталья Шалак — двоюродная сестра Орыси.
— Вставай, барыня! — разбудила она хозяйку и показала на часы: было около полудня. — Скоро темнеть начнёт, а ты ещё в кровати.
— Наталка! Ты? — Орыся спросонья протирала глаза, не понимая, наяву перед ней сестра или снится. — Откуда? Какими судьбами?
— Прямиком из Криницы… По твою душу, — ответила Наталья, расстёгивая пальто, но почему-то не снимая его.
За Натальей стояла тётя Катя и умилённо глядела на Орысю.
— Подымайся, подымайся, милая, — кивала она. — Завтрак уж на столе. Откушаешь вместе с гостьей.
— Какой там завтрак! — повернулась к ней Шалак. — Нам ехать надо!
— Ехать? — встревожилась Орыся. — Куда? Зачем? — И подумала: неужели что с дедом? Из Воловичей доходили вести, что он заболел.
— Не волнуйся, — успокоила её Наталья. — Радость у нас. Нет, ты не поверишь, ей-богу! Позвонили вчера из Москвы нашей председательше сельисполкома Павлине Васильевне… Помнишь её?
— А как же! — ответила Орыся, неохотно покидая нагретую постель.
— И говорят, — продолжала Наталья, — ждите в гости иностранцев. Павлина Васильевна растерялась: что за иностранцы, почему именно в Криницы? Её спрашивают, есть в селе семьи с фамилией Сторожук? Конечно, отвечает председательша, я сама урождённая Сторожук. Вот и хорошо, через два дня встречайте туристку из Канады. Она пожелала посетить места, где родилась, и заодно повидать родственников. Звать её Миха Стар.
— Так это же!.. — воскликнула Орыся, но Наталья перебила:
— Да-да! Едет тётка Михайлина! Представляешь? Павлина Васильевна так и сказала: это она по-заграничному Миха Стар, а по-настоящему — Михайлина Сторожук. Что же, встретим как полагается!
— Но я-то зачем?
— Здрасьте! — удивилась Наталья. — Поможешь. Ты ведь тоже Сторожук, родственница.
— Седьмая вода на киселе.
Орыся открыла шкаф, выбирая, что надеть для поездки.
— Черт! Куда розовый шарф подевался? Он всегда здесь висел.
Тётя Катя заохала, бросилась к шифоньеру и вынула из нижнего ящика богатый мохеровый палантин.
— Прости меня, старую, — оправдывалась старуха. — Ты давеча его на стуле оставила. Вот я и спрятала в ящик.
Наталья смотрела на сестру и недоумевала: неужели это та самая Орыська, которую она знала с детства? В селе у своих деда с бабкой она и корову доила, и за свиньями ухаживала, и навоз убирала, и босиком бегала на речку полоскать бельё. Да и когда работала диетсестрой в санатории, о ней отзывались как о скромнице, готовой и подежурить за другого, и с чужим ребёнком посидеть. А тут завтрак даже себе не приготовит, все тётя Катя. Однако Шалак промолчала, лишь перед самым выходом спросила:
— Куда думаешь теперь устраиваться?
— А зачем мне работать? — беспечно ответила Орыся.
— Конечно, коровка у тебя щедрая, — не удержалась от шпильки Наталья, кивнув в сторону особняка. — Даже пасти не надо, знай только… — и она задвигала руками, словно доила.
— Твоя тоже, кажется, не скупится на молочко, — усмехнулась Орыся.
Наталья поняла, что она имела в виду. Шалаки работали на селе: Наталья
— учительницей, Матей — завклубом. Но имели к зарплате очень хороший приварок. От теплицы. На дворе зима, а они возили на рынок в Киев свежие помидоры и огурцы.
— Тоже мне сравнила! — отпарировала Шалак. — Попробуй вырасти рассаду, удобряй, опрыскивай, поливай! За дитем легче ухаживать!
— Ладно, — недовольно оборвала её Орыся. — Имеешь и слава богу! — И дала наказ тёте Кате: — Если приедет Сергей Касьянович, скажи, что я в Криницах. На пару дней, не больше.
— Не-не! — испуганно замахала руками старушка. — Разве он на словах поверит? Ты уж, голубушка, черкни ему записку.
Орыся набросала пару слов Сергею, и они поехали.
Сельская жизнь не особенно богата на события, тем паче зимой. Поэтому ожидаемый приезд Михайлины Сторожук взбудоражил не только её родных, но и всех криничан. На следующий день (а это была пятница) в селе с утра царило необычное оживление. Продолжали прибывать Сторожуки из Драгобыча, Борислава, окрестных селений. Кто на собственных машинах, кто рейсовым автобусом. Орысины дедушка с бабушкой так и не приехали: видать, старик действительно захворал.
Больше всех забот было у Василины Ничипоровны, председателя местного колхоза «Червоный прапор». Её районное начальство, узнав, что колхоз посетит канадская туристка, дало указание «показать товар лицом», то есть не осрамиться перед заграницей. К тому же колхозный голова приходилась тёте Михайлине троюродной племянницей. Вообще-то по части встречи зарубежных гостей опыт у Василины Ничипоровны имелся. Но одно дело официальная делегация, а другое — родственница. Как её принять? У кого поместить? На это в Криницах претендовало не менее десяти семейств. Обижать никого не хотелось. Но ведь тётя Михайлина одна! Пришлось выбирать, кто ей ближе по родству. Таким являлся местный бригадир механизаторов Гринь Петрович Сторожук, сын единокровного брата гостьи.
Сам Гринь Петрович узнал, что у него в Канаде есть тётя, лишь пять лет назад, когда умер отец, Петро Остапович. Разбирая после его смерти бумаги, он обнаружил очень интересное письмо — ответ из Красного Креста. Он касался сведений о деде Остапе. На запрос Петро Остаповича отвечали, что его отец, Остап Сторожук, недавно скончался в Канаде. Но у него осталась дочь Михайлина, проживающая в городе Виннипег.
Гринь Петрович терялся в догадках, почему отец скрывал, что у него есть сестра. Конечно, в те времена наличие родственников за границей не афишировали. А Гринь Петрович как раз заканчивал сельхозинститут во Львове, и скорее всего, отец боялся повредить его карьере.
Как бы там ни было, но Гринь Петрович тут же написал тёте Михайлине, которая сразу ответила. Письмо было грустное и радостное одновременно. Грустное, потому что она узнала о смерти единокровного брата своего, так и не повидавшись с ним, а радостное — что объявился племянник. Так у них наладилась переписка. Потом стали приходить посылки. Шубы из синтетического меха, пуловеры, свитера, платья и кофточки с люрексом, джинсы и другая одежда. Гринь Петрович раздавал подарки родственникам.
Вот и выходило: кому как не ему принимать в своём доме гостью из далёкого городе Виннипега. Не было сомнений, что тётя Михайлина останется довольна: жена Гриня Петровича, Ганна Николаевна, была отличной хозяйкой и мастерицей стряпать. Хлеб пекла такой (она работала в местной пекарне), что за ним в Криницы приезжали даже из города. Никакой механизации Ганна Николаевна не признавала — только своими руками!
Покончив с вопросом, у кого будет жить канадская родственница, наметили настоящий сценарий её встречи. Правда, точного времени приезда тётки Михайлины в Криницы никто не знал: из львовского отделения «Интуриста» сообщили неопределённо — будет к обеду. Встретить решили торжественно, у околицы села. Отправились туда в полдень.
Крутила позёмка, мороз стоял под двадцать градусов. Согревались на ледяном ветру притопыванием и прихлопыванием. Кто-то даже предложил разжечь костёр. Но тут на дороге показалась чёрная «Волга». Не сбавляя хода, она промчалась мимо встречающих, которые закричали шофёру, замахали руками. Тот затормозил, подал назад.
И точно, в машине сидела тётя Михайлина. Её узнали по ранее присланным фотографиям.
«Волгу» обступили со всех сторон. Какой там сценарий, о нем враз забыли! Каждому хотелось протиснуться поближе.
Первым из машины выбрался молодой мужчина в короткой дублёнке. За ним вышла гостья, растерянная и взволнованная. Она была в шубе из искусственного меха, в меховой шапке с козырьком. На груди тёти Михайлины висели фотоаппарат и кинокамера.
— Дорогу!.. Дорогу! — распорядилась Василина Ничипоровна. — Дайте пройти Гриню Петровичу!
Все расступились. Сторожук, неся на расшитом рушнике каравай и солонку с солью, подошёл к гостье.
— Дорогая тётя Михайлина! — произнёс он осевшим от волнения голосом. — Добро пожаловать на родную землю.
У Михайлины Остаповны задрожали губы, на глазах показались слезы.
— Гринь, неужели!.. — только и проговорила она.
А Сторожук переминался с ноги на ногу, совал тётке каравай. Та наконец поняла, что от неё требуется, отломила кусочек хлеба, макнула в соль и положила в рот. Кто-то принял из рук Гриня Петровича символ гостеприимства и хлебосольства. Тётка бросилась на шею к племяннику и заплакала. Он совершенно растерялся, гладил её по спине и приговаривал:
— Ну будет, будет…
— Не верится… — отстранилась от него гостья. — Всю жизнь ждала этого часа.
Она оглянулась, словно что-то ища, затем опустилась на колени, взяла горсть снега и приложила ко рту.
И все поняли: будь земля голая, тётя Михайлина поцеловала бы её.
Женщины зашмыгали, кто-то всхлипнул. Гринь Петрович бережно поднял тётку и начал было представлять родственников.
— Потом, дома! — остановила его Василина Ничипоровна. — А то совсем заморозим дорогую гостью.
Та и впрямь здорово озябла в синтетической шубе: губы посинели, пальцы еле шевелились. И все же, прежде чем сесть в машину, она несколько раз щёлкнула фотоаппаратом, запечатлев на память эту трогательную встречу.
В «Волгу» подсели Гринь Петрович и председатель колхоза.
Молодой человек оказался переводчиком из «Интуриста», звали его Лев Владимирович. Но его помощь не понадобилась: разговор шёл на украинском языке. Правда, тётя Михайлина изъяснялась довольно старомодно, иногда вставляя английские слова, которые тут же сама и переводила.
— Ты — вылитый дед Остап! — сказала она, не выпуская из своих рук ладонь племянника.
Впрочем, Гринь Петрович имел сходство и с тётей: одинаковые разрез глаз и форма носа.
В машине было жарко. Сторожук расстегнул пальто. На его груди сверкнуло два ордена, которые заставила надеть жена.
— О! — удивилась гостья. — Ты был на фронте? Почему не писал об этом?
— Да нет, — смутился Гринь Петрович, — не был я на войне. А это, — дотронулся он до наград, — за другое… — И замолчал, поскольку хвалить себя было неловко.
— Он воюет на поле! — пришла на выручку Василина Ничипоровна. — За урожай! Его бригада на всю область гремит! Портрет вашего племянника на доске Почёта в райцентре.
Гостья не поняла, что такое доска Почёта и почему Гринь Петрович «гремит» председательнице пришлось объяснять.
— О'кей! — кивнула довольная тётя Михайлина. — Хорошо! Молодец! А какой у вас сегодня праздник? — вдруг спросила она.
— Как? — в свою очередь, удивился Гринь Петрович. — Вас встречаем…
— Да? — округлила глаза гостья. — Иа-за меня не вышли на работу, правильно я поняла? — Племянник согласно кивнул. — А хозяин разрешил? Убытка не будет?
Гринь Петрович и Василина Ничипоровна не знали, что и сказать. Поймёт ли заокеанская родственница, ведь тут все иначе, чем у них, в Канаде. Как объяснить наши порядки?
Сегодня им начальство само дало «добро». А сколько не выходят на ферму или в поле из-за того, что нужно ехать в район за какой-нибудь пустяковой справкой (порой не раз и не два) или же везти чинить телевизор, стиральную машину? Не говоря уже о тех, кому важнее продать клубнику или черешню с приусадебного участка на городском рынке, чем отработать в колхозе. Ну а убытки?.. Попробуй взыщи!
Разумеется, этого гостье говорить не следовало, особенно после установки из района «показать товар лицом».
— А мы сами себе хозяева! — бодро ответила голова колхоза.
Тётя Михайлина на секунду задумалась, но больше расспрашивать не стала, схватившись за кинокамеру: её внимание привлекли добротные красивые дома сельчан, расписанные по фасаду картинами в лубочном стиле. Она снимала до тех пор, пока машина не остановилась у ворот дома Гриня Петровича, где поджидала огромная толпа кринчан.
— Это тоже ради меня? — снова удивилась гостья и, услышав утвердительный ответ, заметила: — У нас в Канаде так встречают только президентов!
Ганна Николаевна, представленная мужем, заключила тётю Михайлину в могучие объятия и повела в дом. Гостья не удержалась, чтобы не сфотографировать колодец во дворе — подлинное произведение искусства, хоть сейчас в музей народного творчества!
Ганна Николаевна отвела тётку в комнату, подготовленную для неё, и сказала:
— Отдыхайте с дороги… Может, приляжете?
— Нет, нет! — запротестовала гостья. — У меня большие планы. Съездить в Каменец, посмотреть на дом отца… И в Колгуевичи обязательно. Родина Ивана Франко!
— Успеется, — уговаривала хозяйка. — Вон откуда ехали, из-за океана! А в вашем возрасте это нелегко.
— О, я ещё совсем молодая, — заулыбалась тётя Михайлина, обнажая ряд белых, красивых зубов, слишком белых и слишком красивых, чтобы быть своими.
— Мне всего пять лет!
— Пять? — переспросила Ганна Николаевна, подозрительно глянув на гостью.
— Пять! — не переставала улыбаться та.
«Господи! — подумала хозяйка. — Часом не с приветом тётка-то?»
Гостья, видя замешательство Ганны Николаевны, похлопала её по плечу.
— Это в шутку. — И пояснила: — Понимаешь, милая Ганна, моя внучка Лайз отдыхала с мужем летом на одном из островов архипелага Мергуи, в Андаманском море. Там существует обычай: когда рождается ребёнок, то ему как бы отпускают на жизнь шестьдесят лет. И счёт ведётся в обратном направлении… Понятно?
— Не очень, — призналась хозяйка.
— Ну, у нас как? Сначала ребёнку год, потом два, три и так далее. А у них наоборот — шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь… Ясно?
— Теперь ясно.
— Вэл! Хорошо! — одобрительно кивнула гостья. — А если ты доживёшь до «нуля», то дают ещё десять лет. Допустим, человеку шестьдесят пять. Тогда говорят: ему пять лет во второй жизни. Мне сейчас семьдесят пять, так что получается: я пятилетняя девочка в третьей жизни…
— Чудно! — покачала головой Ганна Николаевна.
— Но зато удобно для стариков! — засмеялась тётя Михайлина.
— Переодеваться будете? — поинтересовалась хозяйка, оглядев наряд гостьи — вельветовые брючки и свитер.
— Я так буду, — взяла её под руку тётка Михайлина. — Ну, пойдём познакомимся с родными.
«Да, — подавила вздох Ганна Николаевна, — старый як малый».
Зашли в комнату, где был накрыт праздничный стол. Никто не садился — ждали почётную гостью.
«А наши-то куда наряднее», — с удовлетворением отметила про себя Ганна Николаевна.
И впрямь, на многих Сторожуках костюмы и платья — даже на приём в Кремль не стыдно было бы! Ну а насчёт угощения хозяйка не беспокоилась: молочные поросята, индейки, куры, домашняя колбаса и окорок, своего приготовления маринады и соления, пышные румяные пироги и караваи. Ароматы и запахи стояли такие, что и у сытого потекли бы слюнки.
Увидев все это великолепие, тётя Михайлина бросилась за фотоаппаратом, влезла на стул, щёлкнула затвором. И тут же, к удивлению присутствующих, извлекла из камеры… готовый цветной отпечаток.
Всем хотелось посмотреть фото. Орыся тоже разглядывала его, как чудо. Стоявший рядом Лев Владимирович тихо пояснил, что аппарат — системы «Полароид».
— У меня в Москве такой же. Правда, трудно с фотоматериалами к нему, но на вас я не пожалел бы… — многозначительно добавил он.
Переводчик, как только зашёл в дом Сторожуков, сразу «прилип» к Орысе и не отходил от неё ни на шаг. И когда наконец сели за стол, устроился рядом.
Поднялась Василина Ничипоровна и произнесла в честь гостьи целую речь. Лев Владимирович шепнул на ухо соседке:
— Выручайте, Орыся, по-украински я ни бум-бум.
Она хихикнула и тоже шёпотом спросила:
— Зачем же вас послали с тётей Михайлиной?
— Положено, вот и поехал, — усмехнувшись, ответил работник «Интуриста».
Орысе пришлось переводить ему с украинского языка на русский. Лев Владимирович под этим предлогом придвинулся к ней ещё ближе.
Угощение шло на «ура». Ещё бы, все здорово нагуляли аппетит на морозе. Гринь Петрович, сидящий по правую руку тётки Михайлины, предлагал ей то кусок поросятины, то ломоть окорока, то индюшачью ножку. Но старушка от всего отказывалась. Она положила себе на тарелку куриное крылышко и пару кружочков свежего огурца. К знаменитому хлебу Ганны Николаевны она даже не прикоснулась.
— Хоть пирога отведайте, — попросила Ганна Николаевна, сидевшая по левую сторону тёти Михайлины. — Слоёный…
— Нет! Нет! — замахала руками гостья. — Вредно!
— Как? — растерялась хозяйка. — Аль хвораете чем?
И на самом деле, тётя Михайлина выглядела такой тощенькой по сравнению с упитанными, что говорится, кровь с молоком, представительницами среднего и старшего возраста Сторожуков.
— Совсем наоборот! — возразила тётя Михайлина. — Я здорова! Но не хочу заболеть. У нас это слишком дорогое удовольствие.
— От чего тут заболеешь? — встревожилась Ганна Николаевна. — Все свежее, своё. Яички, мясо, масло…
— Да разве можно есть вместе мясо, яйца, картошку, хлеб? — ужаснулась старушка.
— А кто ест мясо без гарнира да ещё без хлеба? — вытаращилась на неё Ганна Николаевна.
— Нет, белки надо есть раздельно с углеводами, а крахмал отдельно с белками! — заявила гостья. — Белки с белками тоже вредно! По системе Шелтона!
— Кого-кого? — переспросила Ганна Николаевна.
— Неужели вы не слышали о нем? — удивилась тётя Михайлина, — Шелтон — знаменитый американский врач! Благодаря его системе я не знаю теперь, что такое обращаться в больницу.
— Да разве худой человек — здоровый? — не выдержав, со вздохом заметила Ганна Николаевна, которая была задета за живое.
— А как же, — закивала гостья, смотревшаяся рядом с Ганной Николаевной невзрачной пичужкой. — Надо избавляться от лишнего веса.
— Пусть уж молодые думают о фигуре, — отмахнулась та, — а в мои годы…
— О чем ты говоришь! Вот моему зятю пятьдесят два года. В прошлом году он весил восемьдесят килограммов, а в этом — семьдесят пять! Так что он получил прибавку к жалованью пятьдесят долларов.
— А при чем тут жалованье? — удивился Гринь Петрович.
— На фирме, где он работает, такой порядок: за каждый килограмм сброшенного веса прибавляют десять долларов.
— Ну а фирме какой резон в этом? — ещё больше удивился Гринь Петрович.
— О, большой! Выгодно! Худые болеют меньше. Они всегда бодрые, энергичные…
— Сало, значит, тоже не употребляете? — спросила Ганна Николаевна.
— Избави боже! — ужаснулась тётя Михайлина.
— А твой зятёк тоже не ест мясо и сало? — встряла в разговор бабка Явдоха, самая старая из Сторожуков.
— Конечно.
— А как же он с жинкой? — покачала головой местная старейшина. — Я б такого мужика на ночь не пускала…
Слова бабки Явдохи потонули в хохоте. А когда смех утих, поднялась председатель сельисполкома и стала говорить о родной земле, которая всегда остаётся родной для украинцев, где бы они ни были.
— Дорогая Павлина сказала верно, — сказала старушка. — Мы там, в Канаде, не забываем о родине! О, вы представить себе не можете, сколько народу каждый год приезжает в Виннипег на фестиваль украинского искусства в день рождения Тараса Шевченко! Стихи его читают! — Она вздохнула. — Увы, к сожалению, чаще в переводе на английский. А вот песни поем на родном, украинском!
И посетовала, что её поколение ещё помнит и чтит национальные традиции, а вот молодёжь…
— Наши, думаешь, лучше? — показала на девчат и парней за столом бабка Явдоха. — Попроси их спеть добрую старую песню — куда там! Эх, жаль Анна не приехала, её бабушка, — кивнула она на Орысю. — Столько знает песен!
— А почему она не приехала? — поинтересовалась гостья.
— Старик у ней хворает. Спина, плечи… Согнуться-разогнуться не может.
— Надо было написать мне в Канаду, я бы помогла ему. Подруга моей старшей дочери работает по контракту в Китае. Её отец тоже страдает воспалением суставов, так она прислала ему жилет. Тёплый и в то же время лечит. Понимаете, в жилет этот вшита целебная трава, действует через кожу.
— Ишь, до чего додумались, — покачала головой бабка Явдоха. — Ну что ж, уважь, милая… Ну а насчёт того, что нет Анны — ладно, не беда. Мы Орысю попросим спеть. Хорошо девка спивае.
— А ты только что ругала молодёжь, — улыбнулся Гринь Петрович.
Он встал и сказал тост за молодое поколение Сторожуков, пожелав им быть всегда и везде первыми, присовокупив, естественно, и внуков тёти Михайлины.
Старушка расчувствовалась, принесла фотографии. У неё было семь внуков.
— А это моя любимица, Мэри, Машенька, — она с любовью погладила рукой снимок загорелой девчонки в костюме для тенниса.
Фотографии стали переходить из рук в руки.
Здравицы следовали одна за другой. Глядя на гостей, Ганна Николаевна радовалась: уплетали её стряпню за обе щеки вопреки всяким там заокеанским умникам, вроде этого Шелтона.
Лев Владимирович тоже ел и нахваливал, уверяя Орысю, что такой вкусной, истинно украинской кухни нигде не пробовал, хотя ему приходилось бывать в самых лучших ресторанах в различных городах страны, в том числе и в Киеве. Услышав, что Орыся хорошо поёт, он шепнул ей:
— Это уж слишком.
— Что слишком? — не поняла Орыся.
— Понимаете, когда я увидел вас, просто не поверил: такой цветок! И где? В провинции! — Он отстранился, чуть прикрыл тёмные глаза, потом снова приблизился. — Изыск! Какой элегант! И оказывается, ко всем вашим совершенствам — ещё голос! Жажду услышать.
— Смотрите не разочаруйтесь, — с улыбкой ответила Орыся. — Небось там, в Москве, в театрах наслушались…
— Сказать честно, даже надоело. «Пиковую даму» в Большом слушал раз двадцать, не меньше. Куда прежде всего бегут иностранцы? В Большой театр!
— А я как-то хотела пойти, но не смогла достать билеты.
— Бог мой, я бы устроил это в пять минут! Для «Интуриста» — не проблема! Куда хотите: самая лучшая гостиница, ресторан «Седьмое небо» на Останкинской башне, Алмазный фонд, Театр на Таганке!.. — Переводчик достал из бумажника свою визитную карточку и торжественно протянул Орысе. — Ваш покорный слуга!
— Даже не знаю, когда выберусь в Москву, — сказала Орыся, беря визитку.
— По первому звонку — у ваших ног! — заверил Лев Владимирович и ещё тише добавил: — А если вас интересует «Берёзка», ну, там, что-нибудь такое-этакое, могу помочь с чеками.
— Это как раз меня не интересует, — небрежно ответила Орыся.
И сказала правду.
— Да вы, вероятно, не знаете, что там можно купить то, чего больше нигде не достанешь!
Орыся, вспомнив Сергея, его подарки, загадочно улыбнулась. Льва Владимировича это задело.
— Ну, например, косметику от Диора.
— У меня есть, — спокойно сказала молодая женщина и, чтобы не быть голословной, открыла сумочку и продемонстрировала флакончик духов, губную помаду, набор теней, тушь и пудру этой знаменитой французской фирмы.
У переводчика даже челюсть слегка отвисла: сколько стоил косметический набор Орыси, Лев Владимирович знал.
— Были бы деньги, — усмехнулась она, потом уже серьёзно сказала: — А насчёт гостиницы я, возможно, обращусь к вам. Поможете?
— Да-да, — закивал работник «Интуриста», приходя в себя. — Какую пожелаете.
— Где-нибудь в центре. Получше, подороже…
Раньше, когда она задерживалась в столице проездом из Средневолжска, то радовалась койке где-нибудь в «Заре» или «Останкино» за ВДНХ. Но Сергей приучил её к роскошным номерам, и на другое теперь Орыся не согласилась бы.
— Непременно сделаю! — уважительно произнёс Лев Владимирович. — И лучше, если вы дадите знать заблаговременно. Я бы вас встретил. В моем распоряжении очень часто бывает авто, когда обслуживаю какого-нибудь бизнесмена или зарубежного общественного деятеля.
— А вот встречать не надо, — решительно отвергла предложение Орыся. — Тачка — самое милое дело. Ни от кого не зависишь.
Так называть такси приучил её тоже Сергей. Это слово, сказанное небрежно, также произвело впечатление на переводчика. Он склонил голову и развёл руками: как, мол, будет угодно.
За светской беседой с Львом Владимировичем Орыся не заметила, что тётя Михайлина, показав на неё, негромко спросила Гриня Петровича:
— Она что, артистка?
Сторожук затруднился с ответом. Зато Наталья Шалак с улыбкой сказала:
— Орыся у нас безработная.
Тётя Михайлина изменилась в лице, поохала и незаметно вышла.
Слово «безработная» Орыся услышала, но не знала, что оно относится к её персоне. Лев Владимирович увлёк её историей о том, как был переводчиком одного отпрыска короля с Востока, приехавшего к нам туристом. Малый замучил его, требуя повести в злачные места: дом свиданий, порнокинотеатры, на худой конец — бары со стриптизом.
— Я ему объясняю, что у нас нет подобных заведений, — рассказывал работник «Интуриста». — Предлагаю балет на льду, Театр кукол Образцова, Музей Пушкина. Третьяковка закрыта на реконструкцию… А он упёрся, малинки хочет. Скандалист, грозится прервать поездку… Представляете моё положение?
— Вполне, — кивнула со смехом Орыся.
— Так вот… — хотел было продолжить переводчик.
Но как он выкрутился из щекотливого положения, Орыся так и не узнала. На её плечо легла рука тёти Михайлины.
— Прости, дочка, можно тебя на минутку, — наклонилась она к Орысе.
— Да, конечно, — поднялась та.
Тётя Михайлина как-то нежно, по-матерински обняла её за талию, повела в соседнюю комнату через дверь, которая находилась рядом со стулом Орыси. Лев Владимирович, Наталья и ещё несколько человек невольно обернулись вслед.
Как только они переступили порог, канадская родственница горячо заговорила:
— Орысенька, милая, вот, прими от меня! — И старушка вручила ей точно такую же шубу, в какой приехала сама.
— Зачем? — удивилась Орыся.
— Я знаю, что такое быть без работы! Не дай бог! Продашь, это тебе немного поможет, — продолжала старушка с выражением искреннего сочувствия.
Орыся увидела в проёме двери любопытные лица переводчика, Наталки. Вспомнилось вдруг слово «безработная», сказанное сестрой.
«Какой позор!» — ударило в голову. К щекам прилила кровь, и Орыся буквально лишилась дара речи.
— Я понимаю, это мало, — засуетилась тётя Михайлина. — Погоди… У меня есть…
Она достала откуда-то доллары и стала совать в руки «бедной родственницы». Орыся машинально отстранилась, оглянулась. Ей показалось, что Лев Владимирович саркастически усмехнулся.
Орыся смутно помнила, что было дальше. Как она отшвырнула шубу, пробежала через комнату, сопровождаемая удивлёнными взглядами, как сорвала в прихожей дублёнку с вешалки, схватила шапку, мохеровый шарф и выскочила на улицу…
По дороге ехал самосвал. Она подняла руку. Шофёр, молоденький парень, тут же тормознул, проскользив юзом мимо. Орыся подбежала к машине, влезла в кабину. Видя, что на ней прямо-таки нет лица, шофёр испуганно спросил:
— Что с вами?
Орыся не ответила, неслушающимися пальцами расстегнула сумочку, вынула первую попавшуюся купюру — четвертной — и протянула парню:
— В Трускавец!
Он нахмурился, передёрнул рычаг скоростей.
— Спрячьте деньги. Так отвезу. Все равно по дороге.
Орыся кусала губы, глядела на проплывающие мимо нарядные дома и ничего не видела.
«Старуха спятила, что ли! — бушевало у неё все внутри. — Предлагать барахло, как какой-то нищенке! И кому — мне! Да я сама могу купить ей сто таких шуб!»
Но ещё больше злости было у Орыси на Наталку, что ляпнула про безработную.
Она вспомнила Льва Владимировича, их разговор и ужаснулась: что он теперь подумает о ней?!
Водитель, краем глаза наблюдавший за пассажиркой, осторожно спросил:
— Может, поделитесь, какая у вас беда?
Орыся молча помотала головой. И тут весь позор и стыд пережитого вылился истерикой. Слезы полились из глаз, смывая с ресниц тушь.
Когда она вышла из машины в Трускавце, шофёр проводил её таким жалостливым взглядом, будто она была тяжело больна.
Тётя Катя, увидев зарёванную хозяйку, всполошилась, бросилась раздевать.
— Оставьте меня в покое! — выплеснула на неё свою злость Орыся.
Зайдя в комнату, она громко хлопнула дверью и повалилась на кровать.
На следующее утро тётя Катя ходила по флигелю неслышно, как мышь, а в комнату хозяйки боялась даже заглянуть. Подойдёт тихонечко к двери, прислушается, не позовёт ли Орыся, и уйдёт в особняк заниматься своими делами.
В первом часу, прибрав в комнатах постояльцев и сменив постельное бельё, тётя Катя вошла во флигель с собранными у квартирантов деньгами. И у неё отлегло от сердца: Орыся сидела в кресле в накинутой поверх ночной сорочки норковой шубе. Крицяк знала: если та напялила подарок хахаля, значит, настроение в норме.
— Сергей не был? — встретила вопросом Орыся свою верную помощницу.
— Не был, не был, — успокоила её тётя Катя. — И не звонил.
Она хотела расспросить, как прошла встреча заграничной родственницы, но не решилась: захочет, сама расскажет.
Крицяк протянула хозяйке деньги — проверить, пересчитать. Но Орыся только отмахнулась. Положив выручку на стол и потоптавшись, тётя Катя вышла.
Орыся встала, потянулась, глянула на себя в зеркало и усмехнулась: видела бы её сейчас тётя Михайлина. Как ей идёт жемчужный цвет меха! Вчерашний эпизод показался мелким и глупым.
«И чего это я так психанула? — подумала Орыся. — Конечно, если бы не этот московский переводчик… Впрочем, да ну его! Возьму появлюсь в Москве, приглашу в самый шикарный ресторан, выставлю пить-есть рублей на двести, вот тогда узнает меня по-настоящему!»
От этих мыслей последние отголоски вчерашнего события растворились полностью, уплыли прочь. Ей вдруг нестерпимо захотелось видеть Сергея, мчаться куда-нибудь в его «Волге» или сидеть с ним в отдельном кабинете ресторана, где приглушённый свет и сигаретный дым рождают удивительную реальность, наглухо отгороженную и отличную от той, где люди живут склоками и завистью, мелочными заботами и повседневным рутинным трудом.
Глядя на своё отражение в трюмо, Орыся подумала: неужто это та, совсем ещё недавно неприкаянная, закомплексованная женщина, какой она была до Сергея?
Знакомы они полтора месяца, а как изменилась её жизнь, отношение к окружающим, а главное — к себе самой!
Красива она по-прежнему, может быть, даже стала лучше. А вот счастлива ли? Этого она определённо сказать не могла. Но уверенней стала и спокойней
— это точно. Может, в этом и заключается счастье?
Сергей словно снял с неё груз колебаний, чётко определил ценности, расковал как человека и как женщину. Он сказал: нужно забыть, что было прежде, и она постаралась забыть. Даже все фотографии сына сняла со стены (все, до единой!). Сергей сказал: не нужно ничего бояться, и Орыся перестала бояться. Разве что остался инстинкт самосохранения — не делать того, что вызвало бы гнев Сергея. Ну и житейское: как ни хотелось покрасоваться в норковой шубе, но в Трускавце Орыся ни разу её не надела. Зачем дразнить гусей? Вот поедет в Москву или ещё куда-нибудь — пожалуйста. Никто её там не знает.
Она даже не думала теперь о том, что нигде не работает. Сергей пообещал что-нибудь сообразить, а раз пообещал, значит, сделает.
Как-то Сергей бросил: живём один раз, и сколько ты тратишь на себя, столько, выходит, и стоишь.
После этого она уже не замечала пачки денег, которые он швырял направо и налево, не удивлялась безумным подаркам, с которыми не знала, в сущности, что и делать.
Главное — значит, она их стоит.
Единственное, к чему Орыся не могла пока привыкнуть, так это к внезапным исчезновениям и таким же неожиданным появлениям Сергея. Он мог пропадать день, два, а то и неделю, а потом вдруг приехать. Причём в любое время суток. И каждый раз Орысю поражало, что Сергей знает каждый её шаг в его отсутствие. Но ревность этого властного, крутого человека ей даже нравилась. В ней она ощущала залог того, что Сергей все время помнит о ней и для него Орыся — что-то очень серьёзное.
Сама она нервничала, если он не появлялся день-другой, и страх, что Сергей может и вовсе не появиться, нет-нет да и закрадывался в душу.
Расстались они третьего дня, пора бы ему и приехать.
В норковой шубе стало жарко. Орыся с сожалением повесила её в шкаф, накинула халат и села завтракать, делясь с тётей Катей впечатлениями о встрече канадской родственницы (о последнем эпизоде она, естественно, умолчала). Крицяк, обрадованная хорошим настроением хозяйки, слушала в оба уха и подсовывала Орысе самые вкусные вещи.
А Орыся все время прислушивалась, не остановится ли у калитки автомобиль, не раздастся ли звук открываемой двери и такие знакомые шаги.
Прибрав на кухне и сполоснув посуду после Орыси, тётя Катя побежала на свою квартиру — собрать дань с курортников. И только она за порог, как возле дома заглушила двигатель машина. У Орыси радостно ёкнуло в груди: наконец-то Сергей! Она бросилась к окну.
К её огромному разочарованию, во двор вошла Наталка Шалак, семеня своей утиной походкой, держа под мышкой большой свёрток.
— Вот принесла нелёгкая! — вырвалось у Орыси.
Первое побуждение — запереться и не открывать! Но сестра уже обивала на крыльце налипший на сапоги снег и звук запираемого замка наверняка услышала бы.
— Привет, безработная! — зайдя, Наталка потянулась к Орысе с поцелуем.
— Здорово, провокаторша, — Орыся, криво улыбнувшись, подставила щеку.
— Ну и переполошила ты канадскую бабку, — сказала Наталья. — Расстроилась старуха в усмерть… На, держи, — сунула она свёрток хозяйке.
Орыся развернула — злополучная шуба.
— Уф-ф! — вырвалось у неё.
— Возьми, возьми, а то неудобно. Я дала слово Михайлине, что передам.
— А доллары прикарманила? — съязвила Орыся.
— Нужны они мне! — фыркнула Шалак, снимая пальто. — Скажи лучше, какая муха тебя укусила?
Она ещё спрашивает! — возмутилась Орыся. — Осрамила на виду у всех! Ты хоть думай, когда что ляпаешь! Перед своими ещё куда ни шло.
— Так Михайлина, считай, тоже своя, родственница! Я ведь в шутку, и если она поняла по-своему… — Наталья развела руками.
— А этот москвич, Лев Владимирович!
— Он ничего не слышал.
— Ну да, не слышал… — нахмурилась Орыся.
— Ей-богу! Да и все наши ничего не поняли! Удивились, почему ты драпанула как оглашённая, — уверяла сестра. — Уже потом Михайлина мне по секрету рассказала, что там у вас произошло. Попросила тебя не обижаться, если что не так. Говорит, хотела от души.
Орыся недоверчиво смотрела на Шалак.
— Правда, не слышали?
— Факт!
— Тогда ещё ничего, — сказала хозяйка, приглашая гостью в комнату. — Долго ещё сидели?
— Какой там! Михайлина сорвала всех, потащила в село Иван Франко. Правда, называла его по-старому, Колгуевичами.
— А чего ей там надо? — удивилась Орыся.
— Что ты, у неё железный план мероприятий! После посещения Воловичей — осмотр Музея Ивана Франко в селе, где он родился… Съездили в Каменец…
— Господи, вы ещё и в Каменец мотались? — поразилась Орыся.
— Ну а как же! Тётке Михайлине не терпелось взглянуть на дом, где родился дед Остап. Представляешь, у неё фотография сохранилась. Старая-престарая. Хатка под соломенной крышей, вишнёвые деревья у крыльца… Так забавно! Она даже привезла с собой план села, где кружком отмечен отчий дом. Но хатки, естественно, давно уже нет, на том месте школа теперь.
— Представляю, как огорчилась старушка.
— Конечно. Ну а потом все пошли к Марийке, — рассказывала дальше Шалак.
— К агрономше или к доярке? — уточнила Орыся.
— К доярке… Та подготовилась не хуже тёти Ганны. Жратвы полон стол! А мы ещё не очухались после стряпни Ганны Николаевны. Тётка Михайлина, сама понимаешь, ни к чему не притронулась, так что пришлось её песнями угощать. Нашими, народными… Она, знай, только кассеты меняла.
— На магнитофоне, что ли?
— Ага. Страсть у иностранцев — все заснять, записать, зафиксировать. — Наталья хихикнула.
— Довольна, значит?
— Бог её знает, — вздохнула Наталья. — Вышла потом на кухню и расплакалась.
— Они, старые, все такие. Чувствительные, — заметила Орыся.
— Я тоже так подумала, а когда послушала… — Наталья задумчиво покачала головой.
— И что же она рассказала такого? — спросила Орыся.
— Несладко, оказывается, старушка живёт, ой, несладко, — снова вздохнула Шалак.
— Тю-ю, — протянула Орыся. — Объездила весь свет. А такие путешествия небось в копеечку обходятся! Теперь — к нам прилетела. Лев Владимирович говорил, что один только билет сюда и обратно у них стоит, как автомобиль. Не новый, конечно, но машина!
— Э-хе, я сама думала, что она богатая. А оказалось? По разным странам тётя Михайлина ездила по контракту, зарабатывала. Особенно намаялась со вторым мужем. Он так и помер безработным.
— Ты смотри! — все больше удивлялась Орыся.
— Поняла теперь, почему она тебе шубу совала? — Хозяйка кивнула, а Шалак продолжала: — Знаешь, откуда у неё эти шубы? Последний, третий муж тёти Михайлины занимался мелкооптовой продажей верхней одежды… Между прочим, негр, мистер Самюэль.
— Негр? — округлила глаза Орыся.
— Фото показывала. Здорово похож на Баталова, только чёрный. Так вот, закупил как-то мистер Самюэль партию искусственных шуб, а они не пошли. Мода изменилась или ещё что, не знаю, только почти вся партия осталась у него. Словом, погорел её муж. А мы ещё удивлялись: как посылка из Канады, так в ней две, три шубы и все одинаковые. Что же касается приезда сюда — тётке Михайлине денег дал зять да местная украинская община помогла. Сама старуха не осилила бы ни в жизнь.
Наталья замолчала, грустно глядя в окно. Орысе стало не по себе за своё вчерашнее поведение. Но ведь она ничего не знала.
— Я поняла, почему тётя Михайлина расплакалась, — снова заговорила Шалак. — Понимаешь, на кухне увидела, как Марийкина мать пищу с тарелок — прямо в помойное ведро. Ели-то мало… Старушка поразилась: кому это? Мать Марийки тоже удивилась: как кому, кабанчику… Тётя Михайлина тут и расплакалась. Я, говорит, думала, вы здесь живёте впроголодь, покушать, одеть нечего… Ну, так в ихних газетах писали. В магазинах, мол, пусто… Сама перебивалась на пособие по безработице, а слала посылки… Вышивала украинские рубашки для продажи, глаза испортила…
— Как испортила? Читает-пишет без очков.
— Это у неё контактные линзы… Колечко было золотое, ещё от матери осталось, и то продала. А мы, оказывается, целые куски курятины, мяса, пирогов, хлеба — на откорм кабанчика! Задело, видать… Понять её можно. В сущности, старушка душевная. Ехала к нам, подарки везла. Недорогие, сувениры, так сказать. — Шалак снова улыбнулась. — Смех да и только. Бабке Явдохе знаешь что подарила? Микрокалькулятор, вот такой, с карманный календарик.
— А на кой ляд он Явдохе? — прыснула Орыся.
— Чтоб та следила за количеством калорий в своей еде. Не переедала. Пожилым, мол, это особенно вредно.
— Вот даёт! По-моему, у тётки Михайлины бзик на этой почве.
— Это точно, — согласилась Наталья и показала ключи от «Москвича». — Мне тоже достался подарок.
На кольце болтался брелок — изящный никелированный пистолет.
— Надо отблагодарить старушку, — сказала Орыся.
— А как же! Нина Владимировна уже преподнесла ей десятитомник Ивана Франко. Ты бы видела, как она радовалась! Книги у них ужасно дорогие. Ну, а мы, Сторожуки из Воловичей, решили скинуться и купить тётке Михайлине золотое колечко с камушком.
— Взамен того, что она продала? — усмехнулась Орыся.
— Да уж наше, наверное, будет подороже.
В Орысе взыграл размах, к которому приучил её Сергей. Она решительно распахнула дверцу шифоньера и сняла с вешалки новенькую, ни разу не надёванную дублёнку.
— Передай от меня, — сказала Орыся.
— Ух ты! — вырвалось восхищённо у Натальи. Она посмотрела на фирменный знак. — Бельгийская?! И тебе не жалко!
— Тётя Михайлина мне шубу, а я — дублёнку, — засмеялась Орыся.
— Так старушка в ней утонет, — разочарованно произнесла Наталка, приложив к себе дублёнку.
— Действительно, — огорчилась Орыся.
Но отступать не хотелось: сестрица ещё посчитает её жадной. И тут она вспомнила, что Кларе Хорунжей привезли из Ужгорода для дочери дублёный полушубок, весь расшитый национальным гуцульским узором. Сдаётся, он будет тёте Михайлине в самую пору.
Орыся тут же позвонила подруге и предложила обмен — дублёнку на полушубок. Клара даже не поверила в такое везение.
— Сейчас мы к тебе заедем, — сказала Орыся.
Когда они с Натальей вышли за калитку, Орыся опешила: к дому подходил… Лев Владимирович.
— Орысенька, дорогая, здравствуйте, — широко расставил он руки, словно хотел заключить её в объятия.
— Какими судьбами? — сделала Орыся вид, что обрадована.
— К вам, в гости.
«Этого ещё не хватало!» — подумала Орыся и ответила:
— К сожалению, вот, спешим…
— Ну что ж, — улыбнулся переводчик, — тогда в другой раз.
Он посмотрел на её особняк, поцокал языком:
— Прекрасное шале!
Чтобы поскорее увести его от дома, Орыся спросила:
— Куда вам? Можем подкинуть.
— Недалеко, в горисполком.
— Садитесь, садитесь, — настойчиво предложила Орыся, открывая заднюю дверцу.
Лев Владимирович с достоинством устроился на сиденье «Москвича», думая, что Орыся сядет рядом. Но она залезла на переднее сиденье.
— Вы исчезли, как Золушка, — сказал обиженно переводчик. — А я все искал ваш хрустальный башмачок.
— Он вам не понадобился, — с улыбкой ответила Орыся. — Обнаружили меня и без башмачка.
Доехали до горисполкома в считанные минуты. Прощаясь, Лев Владимирович спросил:
— Наш уговор в силе?
— В каком смысле? — не поняла Орыся.
— Жду вас в Москве, чтобы устроить в гостинице «Космос».
— В силе, в силе…
— И все же я вас буду встречать, — пообещал Лев Владимирович, многозначительно задержав руку Орыси в своей руке.
— Вот пристал, — вздохнула она, когда «Москвич» отъехал.
— Замучил меня вчера: куда ты пропала, почему. — Наталья покосилась на сестру. — Сразила, как видно, наповал.
Орыся промолчала.
Клара все ещё не могла прийти в себя от счастья: заполучить такую дублёнку!
— Давай поскорее, — торопила её со смехом Орыся, — а то передумаю.
Полушубок Наталья одобрила — национальный колорит и размер подходящий.
— И теплее старушке будет, чем в искусственной шубе, — добавила Орыся.
— В Воловичи? — спросила Шалак, заводя двигатель.
— Нет, — отказалась Орыся.
— Почему? Не хочешь попрощаться с тёткой Михайлиной? Она ведь завтра уезжает. Очень просила тебя приехать.
— Скажи, что нездорова.
Когда машина завернула в её переулок, сердце у Орыси радостно забилось: возле калитки стояла «Волга» Сергея.
— Слава богу! — невольно проговорила вслух Орыся.
— Что? — недоуменно посмотрела на неё Наталка.
— Так, ничего… — ответила Орыся.
И подумала, как здорово, что она спровадила московского переводчика. Неизвестно, чем бы кончилась их встреча с Сергеем.
Направляясь в такси к Киевскому вокзалу, Валерий Платонович Скворцов-Шанявский вдруг подумал о том, что в суёте и хлопотах последнего времени не заметил, как в город пришла весна. Она обрушилась в этом году внезапно, без подготовки. Ещё десяток дней назад сыпала с серого неба белая крупа, прохожие кутались в зимние пальто, шубы, меховые куртки, а теперь вот разгуливают чуть ли не в пиджаках и кофтах. Бульвары и скверы в центре Москвы покрылись бледно-зеленой кисеёй, а в воздухе, пропитанном бензиново-асфальтовой гарью, все явственнее ощущался тонкий аромат распускающихся листочков тополя.
Когда такси подъехало к зданию вокзала, башенка с часами которого золотилась в закатном небе, на душу Скворцова-Шанявского снизошло спокойствие: пусть все дела горят голубым огнём, главное — подлечиться и отдохнуть. Он уже предвкушал приятную поездку, конечно, если не испортит настроение попутчик, — в СВ купе двухместные.
В вагоне была идеальная чистота. На полу в коридоре — ковровая дорожка, на окнах — накрахмаленные занавески. Проводница — стройная девушка
— сама любезность.
В купе профессора сидело человек шесть: мужчина лет пятидесяти, остальные — молодые ребята. Все были смуглые. Чёрные волосы, чуть раскосые глаза. Речь восточная.
При появлении профессора старший поднялся и, улыбнувшись, произнёс:
— Проходите, проходите, дорогой сосед! — Он сделал жест остальным выйти. — Располагайтесь, мешать не будем. — И тоже вышел, защёлкнув дверь.
«С попутчиком, кажется, в порядке», — подумал удовлетворённо Валерий Платонович. Он переоделся в спортивный костюм, пристроил чемодан под сиденье и сел, блаженно откинувшись на спинку. С этой минуты профессор как бы начисто забыл Москву, связанные с ней хлопоты и неприятности, решив до возвращения ни о чем не думать.
Вскоре поезд тронулся, и в купе вошёл сосед.
— Ну, что же, будем знакомиться? — весело сказал он. — Мансур Ниязович Иркабаев.
— Рад познакомиться, — чуть наклонил голову Валерий Платонович, и, назвав себя, спросил: — Из Узбекистана?
— Совершенно верно, — улыбнулся Иркабаев и уточнил: — Из самой жемчужины Узбекистана — Ферганской долины… А вы москвич?
— Москвич, — кивнул профессор.
— И куда едете, если не секрет?
— Какой секрет, — вздохнул Скворцов-Шанявский, потерев правый бок. — Лечиться.
— О, я тоже в Трускавец! — радостно сказал Мансур Ниязович, но радость в его глазах быстро сменилась грустью. — Век бы не видел этого курорта, «Нафтусю»! — Он провёл рукой по пояснице.
— Почки? — сочувственно осведомился Валерий Платонович.
На лице Иркабаева промелькнуло страдальческое выражение.
— Шесть лет как наградили…
Профессора удивило слово «наградили», но расспрашивать посчитал невежливым.
Вошла проводница, чтобы взять билеты. Мансур Ниязович спросил, есть ли кипяток.
— Чай будет минут через пятнадцать, — сказала проводница.
— Прости, невестушка, но заварка у меня своя, — улыбнулся Иркабаев.
— Пожалуйста, титан — в конце коридора.
Попутчик профессора достал из сумки заварной чайничек, расписанный восточным рисунком, сыпанул в него добрую пригоршню чая и вышел. Когда он вернулся, купе наполнилось знакомым профессору ароматом.
— Чай не пьёшь, откуда силы возьмёшь! — весело сказал Иркабаев, извлекая из сумки кишмиш, чищеные ядра грецкого ореха, миндаль, чуть раскрытые солёные косточки урюка, курагу и восточные сладости. В довершение всего он положил на столик неправдоподобной величины лимон.
Глядя на эти приготовления, Валерий Платонович вспомнил Самарканд. Знойное марево, синие изразцы Биби Ханым и Гури-Эмира, величественный Регистан. В тамошней чайхане профессора потчевали тем же традиционным набором угощений. Правда, он так и не понял, почему узбеки сначала пьют чай, а потом уже едят плов и другую серьёзную пищу. Как бы там ни было, поездка в солнечную республику была успешной. Он был рад повторить вояж, но над его местными друзьями пронеслась буря…
Скворцов-Шанявский с благодарностью принял из рук Иркабаева пиалу с зелёным чаем, заметив:
— Сколько молодёжи вас провожало…
— Сын, Ахрор, в аспирантуре, — с гордостью сказал Мансур Ниязович. — А с ним товарищи. Тоже в Москве учатся. Земляки, держатся вместе.
— Это хорошо, — кивнул профессор и взял в руки лимон, от которого все время не мог оторвать глаз. — Откуда такое чудо?
— О, таких лимонов нигде больше в мире нет! Вывел селекционер Фархутдинов! Почётный академик нашей, узбекской Академии наук!
— Полкило, не меньше, — взвесил на ладони плод Валерий Платонович.
— Больше, — сказал Иркабаев. — Но этот ещё считается маленьким.
— Ничего себе маленький! — усмехнулся профессор.
— Да, да! Лимоны этого сорта, он называется Ф-2 Юбилейный, весят до двух килограммов. — Видя недоверие на лице спутника, Мансур Ниязович сказал: — Сам видел. Фархутдинов даже патент получил.
— Патент? — все ещё не мог поверить Валерий Платонович.
— Вот именно! Уникальный случай, как в истории цитрусоводства, так и патентного дела.
Иркабаев знай подливал в пиалы чай, а когда он кончился, пошёл заваривать новый.
За чаем и беседой время летело незаметно. Сгустилась ночь. В окне пролетали редкие огни станций. Валерий Платонович почти ни к чему не прикасался, что не ускользнуло от внимания Иркабаева.
— Обижаете, дорогой сосед, — покачал он головой. — Только чай да чай…
— Спасибо большое, Мансур Ниязович, — приложил руку к сердцу Скворцов-Шанявский. — Мне разрешили лишь сваренное, протёртое… Честное слово, слюнки текут! Однако, лучше поберечься.
После визита к медицинскому светиле он, что говорится, дул на воду и строго соблюдал самую жестокую диету.
— Но орехи-то, орехи! — Иркабаев взял в руку несколько золотисто-коричневых ядрышек в симметричных морщинках. — Одна польза, и больше ничего! У нас в народе очень почитаются. А какое дерево красивое! Лист помнёшь — запах!.. — Он закатил глаза от восторга. — От него комары и мошки разлетаются.
— Фитонциды, — кивнул профессор.
— Они самые, — засмеялся Мансур Ниязович. — А варенье из зелёных орехов пробовали?
— Едал, очень вкусно, — сказал Валерий Платонович. — Что и говорить, продукт хорош!
— Орехи ещё нужно уметь выбирать, — поднял вверх палец Иркабаев. — Если круглые, у них скорлупа толстая, ядро, стало быть, поменьше. Так что лучше покупать продолговатые. Правда, если очень тонкая скорлупа, тоже плохо — долго не хранятся… А самые вкусные и жирные орехи, если на ядре светлая плёнка. — Иркабаев взял со столика одно. — Видите, оттенок золотистый?
— Вижу-то вижу, — усмехнулся Скворцов-Шанявский, — но орехов в магазинах днём с огнём не сыщешь.
— На рынке…
— Хо! Двадцать пять рублей кило! Чищеные, правда.
— У нас тоже дорого, — вздохнул Иркабаев. — А в детстве, помню, на базаре целые горы орехов! Теперь — дефицит…
Когда они легли и потушили свет, Иркабаев поинтересовался:
— Какой у вас санаторий?
— Курс лечения буду проходить в «Каштане», — ответил профессор.
— Знаю… В самом центре.
— А жить в пансионате Литфонда Союза писателей Украины, — не без гордости сообщил Валерий Платонович.
— А где он находится? — полюбопытствовал Мансур Ниязович. — Что-то не припомню такого.
— Недалеко от «Каштана»… Знаете, люблю общаться с писателями, художниками, артистами. А то каждый день наука или, так сказать, материальная сфера. Очень полезно иной раз окунуться в художественную среду. Слава богу, такая возможность имеется. Отдыхал в Доме творчества в Дубултах, это в Прибалтике. Чудное место!.. И в Коктебеле иногда провожу отпуск.
— В Крыму? — уточнил Иркабаев.
— Совершенно верно… Но самое незабываемое — Пицунда! А у вас в какой санаторий путёвка?
— В «Хрустальный дворец», — ответил Иркабаев. — Второй год подряд езжу. Действительно, похож внутри на дворец! Хрусталь, слюда, все сверкает.
— Он помолчал и добавил с грустью: — Но лучше быть здоровым в глиняной кибитке, чем больным в золотом тереме.
— Это точно, — подтвердил Скворцов-Шанявский.
Они пожелали друг другу спокойной ночи. Валерий Платонович за столько времени впервые засыпал без седуксена. Начало отдыха ему нравилось. Престижный вагон, приветливый, улыбчивый попутчик, с которым можно продолжить знакомство и в Трускавце, пансионат, где, несомненно, будут интересные люди…
Профессор почему-то вспомнил о молодой женщине со странным именем Орыся, с которой свела его судьба на встрече Нового года в Средневолжске. Она ведь из Трускавца. Но её адреса и даже фамилии Валерий Платонович не знал. Интересно, встретятся они там?
Правда, особого впечатления эта женщина на Скворцова-Шанявского не произвела. Наверняка на курорте будут особы прелестного пола поинтереснее. Как на всяком курорте. Даст бог, сверкнёт удача — тут уж он своего шанса не упустит.
«Если позволит жёлчный пузырь», — успел подумать профессор и заснул.
В Трускавец прибыли, когда уже стемнело. Попрощавшись, Иркабаев отправился в свой санаторий, а Скворцов-Шанявский попытался поймать такси. Из этой затеи ничего не вышло.
Стояла настоящая весна, теплынь, не то что в Москве. Памятуя наставления «старожила» Мансура Ниязовича, что здесь до всего рукой подать, профессор решил пойти пешком: язык до Киева доведёт.
Однако, к вящему удивлению Валерия Платоновича, никто из прохожих, к кому он обращался, знать не знал и ведать не ведал, где находится пансионат писателей.
Профессор был озадачен: то ли пансионат совсем новый, то ли ему попадались несведущие люди. Знание адреса тоже не помогало. Он проплутал с час, пока не попал наконец в какой-то частный двор, где нашёлся человек, толково объяснивший, где ему искать своё пристанище.
Оказывается, профессор бродил вокруг да около. Войдя через ворота, он увидел в глубине двора неказистый двухэтажный особняк. Дверь была заперта.
«Ну и порядки, — подумал Скворцов-Шанявский. — Так встречать отдыхающих…»
Он нажал на кнопку звонка. Тот прозвучал как-то удручающе казённо. Открыла заспанная женщина средних лет; лицо её было бесстрастно, а вернее — равнодушно. Привыкший к улыбкам администрации других курортных заведений, профессор был несколько шокирован.
Женщина повела его зачем-то в подвал. Перед глазами Валерия Платоновича предстало нечто вроде красного уголка, но довольно тесного, где у телевизора сгрудилось несколько человек.
Дежурная (а возможно, горничная, профессор так и не понял) приняла путёвку, сделала какую-то отметку в журнале, после чего вручила Валерию Платоновичу ключ и повела его снова наверх. Отдельный номер, который предстояло занять профессору, находился в начале коридорчика.
Когда они вошли в него и женщина включила свет, розовые мечты Скворцова-Шанявского и вовсе увяли. «Номер» — это звучало просто издевательски по отношению к тому, что он увидел.
Убогая комнатёнка, мебель, какую трудно раздобыть и у старьёвщика…
— А где удобства? — ставя чемодан на пол и находясь словно в шоке, спросил Валерий Платонович и уточнил, не будучи уверен, что представительница администрации пансионата сразу поймёт, о чем речь: — Ну, туалет, ванна?
— Умывальник и уборная рядом, — показала куда-то женщина и вышла, пожелав все-таки хорошего отдыха.
Каким будет здесь отдых, Валерий Платонович понял через минуту, когда раздался трубный, с засосом звук сливного бачка, переходящий в жуткое завывание.
Скворцов-Шанявский чуть не подпрыгнул: казалось, что туалет не где-то рядом, а прямо тут, в его комнате. Не успел он прийти в себя, как с другой стороны послышался чей-то разговор, смех, словно стена была из бумаги…
Профессор опустился на стул, с ужасом ожидая очередного сюрприза, а в голове вертелось: «Ну и влип же я! Вот так влип!..»
По своей натуре Валерий Платонович был из породы людей, которые, упираясь в какую-либо преграду — крупную ли, мелкую, — тут же начинают действовать. Если меры, принятые на месте, не приносят результата, стучатся туда, где могут помочь. И помочь кардинально.
Первое, что он сделал, — бросился искать ту самую женщину, которая определила его в злополучную комнату. Она дремала в красном уголке перед телевизором. Выслушав претензии профессора и требование перевести его в другой номер, представительница администрации вяло ответила:
— Могу. Только будет общий.
— Как — общий? — вспыхнул негодованием Скворцов-Шанявский. — У меня же путёвка в отдельный!
— Так что же вы хотите, дорогой товарищ? Ваш номер считается самым лучшим.
Валерий Платонович метнулся было к телефону, стоящему на столике, но, вспомнив, который час, сник.
— М-да, заведеньице, — пробормотал он и двинулся к себе наверх.
Отревизовал «удобства». Умывальник находился возле его двери и был отгорожен от коридорчика занавеской. Рядом было то самое заведение, откуда исходили страшные звуки сливного бачка, возвращающие профессора в коммунальное детство.
«Утро вечера мудрёнее», — решил он и, раздевшись, лёг в постель, не забыв принять седуксен. Однако сон не шёл. Голоса доносились не только сбоку, но и снизу. Валерий Платонович клял на чем свет стоит людей, взявшихся достать ему путёвку.
Провертевшись на кровати полночи, он пришёл к твёрдому решению убраться отсюда как можно быстрее и дальше. Естественно, встал вопрос — куда?
Потому утром, наскоро умывшись и побрившись электробритвой, профессор немедленно приступил к операции «переселение».
Через полчаса он уже связался с междугородного переговорного пункта с Москвой и обрисовал своё положение человеку, который имел возможность нажать, где надо.
Обратная связь сработала безупречно: к вечеру Скворцов-Шанявский перебрался в новенький, только что построенный корпус одного из санаториев, где был сторицей вознаграждён вниманием и улыбками персонала за жуткую ночь, проведённую в пансионате. Правда, сумму за путёвку пришлось выложить посолиднее, чем за несостоявшееся общение с писателями. Но профессора это, естественно, не смутило: что касалось его здоровья, за ценой он не стоял никогда.
Врач, ознакомившись с курортной картой Скворцова-Шанявского, осмотрев его и побеседовав, назначил диету, предписал соответствующие ванны, озокерит и непременную «Нафтусю». Причём первый раз в день профессор должен был пить её тёплой, а во второй, через полчаса, холодной. Все процедуры принимались в самом санатории и лишь на «водопой» надо было идти к бювету. Впрочем, прогулки тоже входили в лечение. И чем длительнее, тем полезнее.
Валерию Платоновичу, наслышавшемуся о волшебных свойствах «Нафтуси», не терпелось отведать чудо-воды. В огромном зале бювета яблоку негде было упасть. У всех в руках кружечки для питья. Фарфоровые, фаянсовые, различные по форме и расцветке, но непременно с носиком, они продавались в Трускавце на каждом углу. Однако будучи искушённым посетителем курортов, Скворцов-Шанявский предусмотрительно прихватил из Москвы старинной работы серебряную кружку, столько раз бывавшую с ним в Ессентуках. И вообще даже простую воду из-под крана Валерий Платонович пил только из серебра.
Профессора ждало неприятное открытие: что на вкус, что на запах «Нафтусю» нельзя было назвать приятной. Но он отнёсся к этому философски — лекарство есть лекарство.
С этими мыслями он покинул бювет и тут же услышал знакомый голос:
— А, дорогой профессор! Приветствую вас!
Это был Иркабаев. Он тоже только что приобщился к минеральному источнику. Скворцов-Шанявский поздоровался с ним как со старым знакомым. Решили прогуляться.
— Ну, как устроились в цветнике муз? — поинтересовался Мансур Ниязович.
— Сбежал, — ответил Валерий Платонович и поведал об испытаниях, выпавших на его долю. — Вот уж не предполагал, что у писателей подобные условия! — заключил он.
— Это ещё что! — с улыбкой протянул Иркабаев. — Тут встретишь такое!.. Одно название пансионат! Две-три комнаты, набитые койками. Всяким министерствам, организациям тоже ведь хочется иметь свою здравницу.
Об этом Скворцов-Шанявский слышал и в Ессентуках, но лично самому жить в таких заведениях не приходилось.
Со своей стороны он спросил, доволен ли Иркабаев.
— Как к себе домой приехал, — ответил тот. — Все врачи знакомые, медсёстры, нянечки. — Он засмеялся. — Представляете, захожу в столовую — земляки! Один из Намангана, другая из Ургенча. Сажусь за стол, включили радио — выступает ансамбль из Ташкента «Ялла». Словно и не выезжал из Узбекистана!
— Плова только не хватает, — улыбнулся профессор.
— Плов мне пока нельзя, — серьёзно сказал Иркабаев. — А вот без зелени, петрушки-метрушки, кинзы, мяты не могу.
День выдался как на заказ. В синем небе ни облачка, трава свежая, чистая. Поросшие лесом мягкие холмы, окружавшие Трускавец, создавали покой и уют, заставляли забыть, что где-то есть большие города с бешено мчащимися автомобилями, круговертью жизни и людей. Тут же толпа двигалась медленно, степенно. И если не знать, зачем сюда приехало столько народа, можно было подумать, что присутствуешь на чинном провинциальном празднике.
Валерий Платонович отдыхал душой, любовался старинными домами, утопающими в зелени огромных грабов, вязов, магазинчиками, игрушечными башенками причудливых строений у минеральных источников с названиями «Юзя», «Эдвард» и «Бронислава». Он даже сначала удивился, когда услышал замечание спутника:
— Ай-я-яй, какой непорядок!
Профессор, что говорится, спустился с небес на грешную землю — Иркабаев показывал на комки глины, оставленные грузовиками на асфальте.
— Кстати, говорят, при прежнем председателе горисполкома такого не было, — заметил Мансур Ниязович. — Пока шофёр не вымоет шины из шланга, со стройки не выпускали. Вот это был хозяин.
— Знаете, а я бы даже не обратил внимания, — признался Валерий Платонович.
— Не забывайте, — поднял палец Иркабаев, — я ведь тоже председатель исполкома. Правда, райсовета…
— Да уж вижу. Все-то вас интересует, все вы подмечаете.
— А как же! Хожу, смотрю, прикидываю, что хорошего можно перенять. У нас тоже красивый городок. Зелёный. Но здесь опрятней. И воздух такой чистый.
— Ну, положим, теперь нигде на земле нет абсолютно чистого воздуха. В Антарктиде и той обнаружена сажа в атмосфере, — заметил профессор. — Издержки цивилизации.
— И у нас гари хватает, — горько усмехнулся Иркабаев. — Только это издержки головотяпства. Надо же было додуматься построить асфальтовый завод в черте города! Бьюсь с министерскими чиновниками и ничего не могу пока поделать.
Они продолжали свою неспешную прогулку. Что поразило Скворцова-Шанявского (а для этого не надо было иметь заинтересованный глаз)
— несметное количество фотографов. Они встречались буквально на каждом углу
— возле минеральных источников, памятников, санаториев, на площадях и скверах.
— Господи! — не выдержал профессор, проходя мимо очередного скучающего на стульчике человека у фотоаппарата на штативе и доски с образцами продукции. — Их, по-моему, на каждого курортника по одному!
— Думаю, больше, — засмеялся Мансур Ниязович. И уже всерьёз предложил:
— А может, воспользуемся услугами? Потом, в Москве, посмотрите на снимок и вспомните, как мы с вами гуляли по Трускавцу. А?
Валерий Платонович замялся.
— Знаете, как-нибудь в другой раз. — Он провёл рукой по лицу. — Сегодня я выгляжу не очень…
— Хорошо, — не стал настаивать Иркабаев. — Ещё успеется.
— Признаться, с годами пропадает желание фотографироваться, продолжал оправдываться профессор. Сравниваешь с прежними фото и… — Он грустно улыбнулся. — Как молоды мы были, как нравились себе.
— Э! — темпераментно взмахнул рукой Иркабаев. — Что вы! На молоденькой можете ещё жениться!
— Это у вас на Востоке такое возможно, — осклабился профессор.
— Когда-то было, а теперь… Равноправие. Чтобы раньше мужчина занимался уборкой?! Позор на всю жизнь! А я, представьте себе, жене помогаю. Понимаете, моя Зульфия ужасно боится пылесоса, стиральной машины, так что приходится мне. А что поделаешь? — развёл он руками.
— А дети?
— Дети! Попробуй заставь! У одного экзамены, у другого дельтоплан, у третьего свидание. И я, в свои пятьдесят лет…
— Сколько, сколько? — невольно вырвалось у Валерия Платоновича.
— Ну, сорок девять, — поправился Иркабаев. — А что?
— Да так, ничего, — смутился профессор.
Он был уверен, что его новому приятелю шестьдесят, не меньше.
Иркабаев посмотрел на профессора, улыбнулся:
— Выгляжу старше, да?
— Что вы, младше! — соврал Валерий Платонович.
Но Иркабаев не поверил ему, вскользь заметив:
— Слава богу, что ещё жив…
— Да бросьте вы! — успокоил его профессор. — Медицина нынче такие чудеса творит! Простите, все хотел узнать, откуда у вас… — он провёл рукой по пояснице. — Съели что-нибудь такое?
— Это меня чуть не съели, — усмехнулся Мансур Ниязович.
Валерий Платонович бросил на собеседника вопросительный взгляд. Тот спросил:
— Вы что, не читали, не слышали, что творилось у нас в Узбекистане?
— Разумеется, читал, разумеется, слышал, — поспешно ответил Скворцов-Шанявский, хотя не совсем понимал, что конкретно имел в виду Иркабаев. И на всякий случай добавил: — Но теперь, слава богу, навели порядок…
— Навели… — снова усмехнулся Мансур Ниязович. — Прежнего председателя райисполкома, который стучал на меня кулаками в своём кабинете, перебросили в другой район. Секретарь райкома, который заставил судью влепить мне срок, сейчас в Ташкенте большим начальником работает.
— За что? — опять невольно вырвалось у профессора. — Я имею в виду — срок? — И, посчитав, что вопрос, возможно, не очень тактичный, извинился: — Простите, конечно, за любопытство…
— Видно, мешал кое-кому, — пояснил Мансур Ниязович. — Поперёк горла стоял. Как это по-русски — правду матку резал. Ох и не любили у нас это!
— Только ли у вас! — покачал головой Скворцов-Шанявский. — Мне тоже чуть не дали по шапке.
— А мне дали, — вздохнул Иркабаев. — Да что вспоминать!
— Нет-нет, — запротестовал профессор, — мне интересно… А то, знаете, одно дело в газетах да по телевизору, а другое — от живого человека. Тем более пострадавшего за справедливость… Присядем? — предложил он, как бы приглашая своего спутника к доверительному разговору.
Они сели на пустую скамейку. Мансур Ниязович, поколебавшись немного, начал с неожиданного вопроса:
— У вас было когда-нибудь желание бросить науку?
— Почему? — удивился Скворцов-Шанявский.
— Вернее, не бросить, а заняться практическим делом? — поправился Иркабаев.
— Не было, — ответил профессор. — Объясню почему. Параллельно с наукой я постоянно связан с практикой. Консультирую Госагропром, состою в комиссиях, непосредственно участвую в разработке конкретных мероприятий.
— А у меня было другое… Закончил сельхозакадемию в Москве. Работал в научно-исследовательском институте. Потом снова Москва — аспирантура, защита диссертации.
— Значит, вы имеете научную степень, — обрадовался Скворцов-Шанявский.
— Коллега?
— Да, кандидат сельскохозяйственных наук. Затем снова НИИ, — продолжал Иркабаев. — Лаборатория, опытное поле, совещания, симпозиумы… Вот, собственно, в каком кругу я вращался. И знаете, Валерий Платонович, наступил момент, когда я почувствовал, что больше не могу! Захотелось самому, своими глазами увидеть, испытать, какая польза от моих научных изысканий. Понимаете?
— Очень даже хорошо понимаю, — кивнул профессор. — Опыт — главный критерий теории.
— Вы даже не можете себе представить, как я обрадовался, когда мне предложили должность главного агронома крупнейшего колхоза! Я рвался, как говорится, в бой! Мечтал применить на практике все свои знания, извините за банальный штамп. И что же? Бой разгорелся, но совсем не тот, о каком я думал. Нет, встретили меня отлично! Председатель колхоза, Герой соцтруда, вручил ключи от нового дома, машину выделил, правда, без шофёра. Но я сам отлично вожу, имел собственный «Москвич». Кабинет, селекторная связь, словом, как большой начальник в городе… Да-а, — протянул Мансур Ниязович, поглаживая подбородок. — Фирма, как говорится, затрат не жалела. Я, значит, с ходу окунулся. С утра до ночи на полях. Как раз уборка хлопка шла. Колхозники, школьники, студенты… Рапортовали одними из первых в республике. Урожай — рекордный! А я ничего не понимаю: урожай-то средний, даже паршивый, можно сказать! Откуда дополнительные центнеры? — Иркабаев замолчал.
— Приписки, что ли? — спросил Валерий Платонович.
— Приписки тоже были. Но главное — другое. Короче, представил я председателю свои подсчёты. Ведь грамотный, вижу по загущенности кустов, количеству коробочек. Он мне говорит: весна была плохая, три раза пересевали, пришлось маневрировать. Пары засеяли… Ладно, думаю, наверное, так надо. Хотя тут, — Иркабаев показал на сердце, — как-то неспокойно. Не дай бог, узнают проверяющие, неприятности будут. Э, какое там! Из района, из области, из самого Ташкента начальство приезжало, довольно осталось. Их интересовало, чтобы на столе самый дорогой коньяк стоял, молодые жирные барашки были да девушки красивые пели-танцевали!
— Точно, точно, — согласился профессор. — Все эти встречи, банкеты процветали пышным цветом в застойно-застольные времена!
— Специально поваров держали! Не поверите, Валерий Платонович, у председателя был один заместитель, который ничем не занимался, только гостей принимал!
— Ну и ну! — покачал головой Скворцов-Шанявский.
— И на тосты были свои ГОСТы, — улыбнулся Иркабаев. — В районе разработали чёткую систему, для какой делегации кто и какой тост произносит. Приехали, например, механизаторы, комбайнёр произносит тост за научно-техническую революцию в кишлаке… Если гости женщины, то пожилая колхозница поднимала бокал за детей планеты и мир во всем мире. А хлопкоробов встречали тостом за полновесную коробочку!
— Смотри-ка! — хмыкнул профессор.
— Но это все не главное. Самое страшное — обман, на котором держались так называемые достижения колхоза! Когда я докопался, волосы встали дыбом! Собственно, и копать-то особенно не надо было. Сеяли, допустим, на двух тысячах гектаров, а отчитывались, будто урожай собран с тысячи. Вот откуда лишние центнеры!
— Позвольте, Мансур Ниязович, — перебил профессор, — а земли откуда?
— Все засевали хлопком. Не только пары, но и пастбища, бахчи, огороды! А какой у нас виноград выращивают! Тайфи, джаус, дамские пальчики — мёд! А дыни!
— Знаю, знаю! — проглотил слюну профессор, вспомнив Самарканд. — Длинные такие…
— Мирзочульские, наверное, — кивнул Иркабаев.
— Во-во! Прямо во рту тают! Аромат — с ума сойти можно! Друзья угощали, когда я был в ваших краях.
— А могли бы запросто покупать в Москве в магазинах, если бы не авантюра с хлопком. Впрочем, махинации с землёй — это арифметика. А вот с барашками — тут прямо алгебра получается!
— В каком смысле? — не понял Скворцов-Шанявский.
— Рапортовали, что у нас в хозяйстве получают от ста овцематок по сто восемьдесят — сто девяносто ягнят!
— Это как, много или мало? — спросил профессор. Я, знаете, в животноводстве не шибко силён.
— Да столько получить просто невозможно! — воскликнул Иркабаев. — Овцы, как правило, рожают одного ягнёнка. Двойню — редко. А тут выходило, что почти у каждой по два. Даже в специальных условиях немыслимо добиться пять двойняшек на десяток овцематок! Понимаете?
— И этой липе верили? — недоуменно посмотрел на собеседника профессор.
— Э, дорогой Валерий Платонович, — усмехнулся Иркабаев, — сами же говорите: вы в курсе, что происходит в сельском хозяйстве… Неужто не помните, что творилось?
— Ещё бы! На бумаге рекордные урожаи, привесы, надои, а на самом деле… — Профессор махнул рукой.
— Вот и у нас так было в колхозе… Я, наивный человек, выступил на собрании. Раис, это по-нашему значит председатель колхоза, грубо оборвал меня. Его подхалимы набросились, стали говорить, что я клевещу, развожу склоку. Вместо обсуждения недостатков в колхозе стали обсуждать меня. Кончилось знаете чем?
— Догадываюсь, — кивнул профессор. — Выговор влепили?
— Строгий! Райком утвердил. Да-а, — снова провёл рукой по подбородку Иркабаев. — Поехал я в обком, правду искать. Какая там правда! Даже разговаривать не стали! Но отступать не в моих правилах, и я написал в Ташкент, в ЦК компартии республики. И не только о приписках и обмане, а ещё и о взятках, которые берут некоторые ответственные лица, как расхищается народное добро.
— Смелый вы человек! — хмыкнул Скворцов-Шанявский.
— А что? Посмотрели бы вы, как они жили! — возмущённо произнёс Мансур Ниязович. — Не дома, а дворцы, честное слово! Сыну или дочери свадьбу справляют — тысячи две — три гостей! А подарки молодым? «Волги», импортные гарнитуры, ковры… На тёпленькие места назначали только родственников. Жены их ходили все в золоте и бриллиантах! Никого не стеснялись… До того дошло, что даже доходные должности покупались и продавались. Взятки брали десятками и сотнями тысяч рублей! Собственно, им и считать-то уже было лень… Видели когда-нибудь ящик из-под чешского пива? — вдруг спросил он.
— Вообще-то я пиво не пью…
— Короче, если набить такой стандартный ящик сторублевками, будет пятьсот тысяч. Иркабаев усмехнулся. — Пятьдесят тысяч больше или меньше — не имело значения.
— Ну и ну! — покрутил головой ошарашенный профессор.
— Для меня моя борьба кончилась печально. Тёмную устроили. Ночью, в переулке… Очнулся в больнице.
— Неужто? — заохал Валерий Платонович. — Ну и порядочки! Хоть знаете, кто?
— Откуда! Милиция не нашла… Но это, оказывается, было предупреждением, — рассказывал дальше Иркабаев. — Зульфия приходила в больницу, плакала. Подумай, говорит, о детях, обо мне… А я и отвечаю: вот именно о детях я и думаю! Как им жить? Кем они вырастут? Бессовестными хапугами, с какими столкнулся я, или честными трудягами? Но разве женщине докажешь? — Он улыбнулся. — Нет, женщин мы любим, но только за красоту, за нежность. Однако советоваться лучше с мужчиной… Выписался я из больницы, пошёл к другу. Очень честный человек. Работал начальником управления в облисполкоме и, представьте себе, сам отказался от поста! Говорит, хочу спать спокойно… Всю ночь мы говорили. Друг рассказал, как его тоже хотели втянуть во всякие тёмные дела. В области, говорит, справедливости не добьёшься. Утром я сел на поезд и махнул в Ташкент. Решил пойти прямо к товарищу Рашидову.
— Нашли к кому, — с усмешкой заметил профессор. — Ну и как, дошли до Рашидова?
— Какое там! — протянул с кривой гримасой Иркабаев. — На первой же остановке сняли с поезда, защёлкнули наручники — и в изолятор временного содержания.
Скворцов-Шанявский, уже подготовленный к самым невероятным поворотам в печальной исповеди Иркабаева, и тот поразился.
— Ну, знаете! Прямо не верится, что в наше время такой произвол! И за что, по какому праву?
— Не волнуйтесь, повод нашли! Целое дело состряпали… Приговор я опротестовал, однако жалобу во всех инстанциях отклонили. Но я не сдался и в колонии. Писал, требовал пересмотра дела. Зульфия тоже молодец, не сидела сложа руки, дошла до заместителя Генерального прокурора. Тот принёс протест, приговор отменили, а дело направили на новое расследование. В это время как раз произошли большие перемены. В республике и во всей стране… Моё дело попало к очень хорошему следователю, справедливому и дотошному. Разобрался всесторонне. Дело прекратили. С меня сняли все обвинения, восстановили в партии.
— Ну, а те, кто вас травил, упёк в колонию?
— Председателя колхоза арестовали. Между прочим, в компании со многими бывшими ответственными работниками области. Секретарь обкома тоже привлечён… Но пока по-настоящему наказаны лишь мелкие сошки — главный бухгалтер колхоза, следователь, который вёл моё дело. Они сидят. Кое-кто вообще отделался лёгким испугом. А нужно вырывать с корнем всю сорную траву! — темпераментно размахивал руками Мансур Ниязович. Конечно, сделано многое, но до полного порядка ещё далеко.
— Да-да, нужны более решительные действия. А у нас все ещё некоторые действуют по принципу: на комара — с дубиной, на волка — с иголкой, на льва
— с гребешком…
Слова профессора так понравились Иркабаеву, что он аж хлопнул себя по коленям. Потом решительно поднялся.
— Ладно, посидели, поговорили, гулять ещё надо…
Было видно, что горькие воспоминания разбередили ему душу, всколыхнули старые обиды, о которых он очень не хотел бы вспоминать. Однако Валерия Платоновича интересовали подробности, касающиеся того, как наводится порядок у них в районе, в частности, в торговле овощами и фруктами, много ли людей привлечено к уголовной ответственности, которые были замешаны в спекуляции и хищениях.
— Взялись крепко, — ответил Мансур Ниязович. — Но ещё, как я уже говорил, пахать и пахать.
Перед ними замаячило крытое сооружение с надписью «Юбилейный».
— Зайдём? — предложил Иркабаев.
— Что это?
— Базар. Зелени хочу купить.
— То, что нужно! — обрадовался Валерий Платонович. — У меня как раз яблоки кончились.
— А я к ним как-то равнодушен, — признался Иркабаев.
— И зря! Честное слово! Казалось бы, старый, как мир, расхожий продукт, а в нем все время открывают новые поразительные качества! Просто необыкновенные!
Мансур Ниязович вдруг хитро улыбнулся.
— Значит, Ева, давая Адаму яблоко в раю, хотела не соблазнить его, а просто заботилась о его здоровье?
— В любом случае она знала, что делала! — рассмеялся профессор.
Прилавки были ещё по-весеннему небогаты. Ранняя зелень, прошлогодние соленья, зимние яблоки. Иркабаев купил кинзу, укроп, петрушку. Валерий Платонович остановил свой выбор на желтоватой, словно лучившейся изнутри, семиренке. Он тут же принялся за самое большое яблоко.
— В них, наверное, и витаминов-то уже не осталось, — заметил Мансур Ниязович. — Всю зиму пролежали…
— Пускай, — жуя, ответил профессор. — Главное — пектины.
Иркабаев приценился к помидорам. Цена повергла его в смятение — десять рублей за килограмм.
— У вас небось куда дешевле, — сказал Скворцов-Шанявский.
— Пять рублей.
— Не может быть! — не поверил профессор.
— Первые! Это осенью, когда самый урожай, их девать некуда! Горы гниют! Тракторами запахиваем в землю… Транспорта вывозить не хватает.
— А у нас в Москве — очереди! Неужели нельзя наладить хотя бы консервирование? Соки делать, томат-пасту. Это же дефицит.
— Да мы могли бы завалить всю Российскую Федерацию пастой! Не хватает производственных мощностей и перерабатывающей техники. Шлем заявки — все впустую.
— Погодите, я, кажется, смогу вам помочь, — сказал профессор.
— Нет, вы серьёзно? — даже приостановился Иркабаев.
— Ну конечно! Представляете, был я перед отъездом сюда в одной из областей Нечерноземья. В командировке. На базе РАПО стоят ящики. Спрашиваю: что? Да вот, говорят, прислали импортное оборудование для производства томата-пасты, а на кой ляд оно нам?
— Это же надо! — возмутился Иркабаев. — А мы задыхаемся!
— Хотите, я устрою его вам? — предложил профессор.
— Век буду благодарен! — схватил профессора за рукав Мансур Ниязович.
— Что нужно?
— Официальное письмо. Я скажу, кому и куда.
— Сделаем, сделаем!
— Ну, и вам надо бы не остаться в долгу перед товарищами, кто отправит оборудование.
— В каком смысле? — насторожился Иркабаев.
— Пару вагонов арбузов, дынь, винограда…
— Ради бога! Скажите только куда!
Профессор пообещал в ближайшую встречу сообщить координаты — записная книжка была в санатории.
Иркабаев заботливо поинтересовался, не устал ли его спутник.
— Неужто я похож на старую развалину? — деланно обиделся Валерий Платонович.
— По сравнению с Беном Сальмином Мували вы совсем ребёнок, — заметил с улыбкой Мансур Ниязович.
— С кем? — переспросил профессор.
— Жителем султаната Оман — Мували, — пояснил Иркабаев. — Как пишут в газете, ему недавно исполнилось сто пятьдесят лет. Очень бодрый старик.
— Какая уж бодрость в такие годы, — усмехнулся Скворцов-Шанявский. — Никаких удовольствий от жизни.
— Вовсе нет. Этот старец ещё — ого-го! И мясо ест, и мёд… Даже мечтает жениться. В четвёртый, между прочим, раз.
— Вот даёт! — покачал головой Валерий Платонович.
— А вы говорите! Да на вас все время дамочки заглядываются, — продолжал подначивать приятеля Мансур Ниязович.
— А что? Мы ещё можем!
Скворцов-Шанявский приосанился, подтянулся. И без того хорошее настроение посветлело ещё больше, словно солнце засверкало ярче, а люди вокруг стали приветливее и милее. Особенно — прекрасный пол.
«Господи, сколько вокруг прелестных женщин! — подумал профессор. — Нет, надо встряхнуться, окунуться в розовый туман!..»
Валерий Платонович тихонько засмеялся. Увидев удивлённое лицо Иркабаева, он спохватился, откашлялся и сказал, поводя вокруг себя рукой:
— Красотища какая!
— О, это старинный парк! — подхватил Иркабаев. — Деревьям по сто и более лет!
Они шли под сенью развесистых крон, уходящих высоко в небо. Гомонили тысячи птиц, от их возни ветви и листья ходили ходуном.
Наблюдая за женщинами, профессор заметил странную вещь — многие из них были с зонтиками. И это в ясную погоду, да ещё в тени! Он поделился наблюдением с Иркабаевым. Тот не успел ответить — мимо них спешила молодая женщина в белом платье и тюбетейке, из-под которой падали на плечи две толстые иссиня-чёрные косы.
— Ранохон! — окликнул её Иркабаев. — Земляков не узнаешь, да? Нехорошо, дочка…
Та, извинившись по-русски, о чем-то сердито заговорила по-узбекски, прижимая правую руку с платочком к плечу.
Когда она отошла от них, Мансур Ниязович покачал головой:
— Вот вам и птички! Платье бедняжке испортили. Первый раз надела, говорит…
Скворцов-Шанявский невольно посмотрел наверх, на шумный базар пернатых.
— Теперь понимаете, зачем зонтики? — спросил Иркабаев.
— В таком случае, — прибавил шагу профессор, — подальше от этой красоты!
Он боялся за свой светло-кремовый костюм, очень молодивший его, как считал Валерий Платонович.
Они подошли к его санаторию.
— Жаль расставаться, — профессор протянул руку своему новому приятелю.
— Но, увы, режим.
— Да и мне надо спешить, — кивнул Мансур Ниязович, — озокерит ждёт… До завтра, значит?
— До завтра. У бювета.
На этом распрощались.
В свои шестьдесят два года Валерий Платонович не утратил вкуса к женскому полу. Определён был круг женщин, с которыми он заводил романы. Что касается образования — лучше не выше среднего. От интеллектуалок он буквально шарахался. Волевых и очень уж целеустремлённых вежливо обходил. Особенно преданных боялся.
С мягким характером, умеренным темпераментом, не слишком принципиальные, желательно сентиментальные — вот его идеал.
По способу ухаживания Валерий Платонович относил себя к категории вольных художников. Ему нравились импровизации, порыв. Добавленные к его респектабельности, светским манерам и общей солидности, включая материальную, они всегда давали великолепный эффект. Неудачи сводились к минимуму.
Однако в Трускавце дело с налаживанием сердечных контактов имело свои трудности. Право же, мысли о том, что у намеченной избранницы камни в печени или панкреатит, не способствовали любовному настрою. О чем шептаться в нежном экстазе? О пользе «Нафтуси», об эффективности озокерита или доморощенных способах избавления от камней в желчевыводящих путях?
Профессор, болезненно относящийся к своей хворобе, инстинктивно стремился к здоровому молодому телу. Поэтому на женщин из своего санатория он смотрел чисто платонически. Не бежал общения, но планов никаких не строил. Да и встречая других курортниц, тоже не забывал, зачем они в Трускавце, заранее ставя на них крест как на объекте ухаживания.
Конечно, была другая возможность — познакомиться с кем-нибудь из местных. Но как к ним подступишься? Не подойдёшь ведь просто так на улице. Случайных знакомств Скворцов-Шанявский не признавал.
Вот почему он, гуляя по городу, внимательно всматривался в лица молоденьких женщин, пытаясь узнать ту случайную знакомую, с которой судьба свела его в новогоднюю ночь в Средневолжске.
В который раз Валерий Платонович ругал себя за то, что не взял у неё адрес. Хотя бы узнать фамилию — в паспортном столе разыскать было бы пара пустяков.
Правда, координаты Орыси были известны Эрику Бухарцеву, шофёру Скворцова-Шанявского, теперь уже бывшему. С ним они расстались месяца два назад, и Эрнст уехал куда-то из Москвы.
Признаться честно, хотя профессор знал, что Орыся разведёнка, на неё у него видов не было. Но ведь у неё есть знакомые, приятельницы и подруги. А в каждой клумбе всегда отыщется цветочек, ароматом которого захочется насладиться.
Однако сколько Валерий Платонович ни фланировал по улицам Трускавца, казалось, не было улочки, уголка, куда бы он не заглянул (и не один раз), — Орысю пока нигде не встретил.
Неизменным спутником профессора являлся Иркабаев. Они встречались каждый день и сошлись весьма близко. Ко всему прочему, Мансур Ниязович был хорошим гидом по городу.
Они частенько наведывались на рынок. Иркабаев недоумевал: бушует май, весна глядит на лето, а цены на зелень почти не снижались.
— Жена пишет, у нас такая же история! — возмущался Мансур Ниязович. — Что делается с базаром, а? Как бороться с рвачами? Это же форменный грабёж!
— Цены зависят от предложения и спроса. Пока мы не наводним рынки овощами, фруктами, зеленью и другой продукцией, диктовать цены будет частник. Ситуацию можно изменить только изобилием в госторговле и кооперации. Остальное — чистый волюнтаризм! Призывы, как и ограничения, — не выход!
— У узбеков есть хорошая пословица: сколько ни говори халва, во рту слаще не станет… А мы пока в основном болтаем, — заключил Мансур Ниязович сердито.
На рынок они продолжали ходить, хулили цены и все равно покупали то, в чем не хотели себе отказывать.
Однажды Иркабаев предложил:
— Валерий Платонович, а не побродить ли нам по лесопарку?
— Охотно, — согласился Скворцов-Шанявский.
Было воскресенье, свободный от процедур день.
От центра города пришлось идти минут двадцать. По пути купили в кондитерском магазине сладостей. Конфеты и печенье предназначались для медведей и диких кабанов. Кстати, кабаны гуляли в лесопарке, где хотели.
Мансур Ниязович всю дорогу чему-то улыбался, тихонько напевал.
— Вижу, вы сегодня в настроении, — заметил профессор. — Добрые вести из дома получили?
Жена Иркабаева чуть ли не каждый день слала ему письма, звонила. И вообще, как понял Скворцов-Шанявский, его узбекский друг был завзятым семьянином, чьи мысли целиком занимали дела детей. И хотя Валерий Платонович был чужд этого, но сочувственно наблюдал за Мансуром Ниязовичем.
— Представляете, сын прислал деньги! — с удовольствием откликнулся на любимую тему Иркабаев. — Ахрорджан!.. Пишет: папа, не отказывай себе ни в чем. Понимаете, самому в Москве нужно на кино, мороженое, а он…
— Ну, положим, вашему сыну мороженое уже не по возрасту как бы, — улыбнулся Скворцов-Шанявский. — Девицу следует водить в ресторан.
— Это я так, — засмеялся Мансур Ниязович. — Он для меня ещё пацан.
— Из каких это заработков он отвалил вам? — поинтересовался профессор.
Про своего первенца и гордость Ахрора Иркабаев прожужжал профессору все уши, и тот знал об аспиранте почти все.
— Статья большая вышла, — ответил Мансур Ниязович. — Научная. Гонорар получил.
— Внимательный у вас парень. Другой бы прокутил да ещё постарался содрать с родителей, а он…
— Ахрорджан молодец! — с гордостью произнёс Иркабаев. — Очень самостоятельный. Вот с таких лет… В детстве мы его не баловали, не на что было. Я — мэ-эн-эс…
— Младший научный сотрудник, — кивнул профессор. — Сто пять рублей в месяц.
— Семьдесят.
— Да-да, — вспомнил Скворцов-Шанявский. — Тогда были жутко низкие ставки.
— Ну, а Зульфия ещё училась в педтехникуме. Хорошо, нам её родители помогали. Они в кишлаке жили. Деньжат, правда, не очень подкидывали, в основном — натурой, что в саду и огороде росло. Не хватало, конечно. Тесть привезёт осенью виноград, дыни, говорит: айда, Ахрорчик, на базар продавать. Сынишка любил торговать. Да и мы с Зульфией считали, пусть учится жизни.
— Не боялись, что разовьются не совсем правильные наклонности? — осторожно спросил профессор. — С малолетства привыкать к торгашеству…
— А лучше было бы, если бы он крутил собакам хвосты и рос бы потребителем? — усмехнулся Иркабаев. — Нет, я считаю, дети с раннего возраста должны понимать, что к чему и почём фунт лиха! Хочешь в кино или мороженое — заработай!
— Ну, работа работе рознь. Я понимаю ещё сдавать макулатуру, металлолом… — начал было Валерий Платонович.
— Продавать на базаре честно выращенные дедушкой овощи не зазорно! — прервал его Мансур Ниязович. — Мыть посуду в столовой или подмести улицу — в этом тоже ничего постыдного нет. Мы кричим на каждом углу, что детей надо приучать к труду, что любой труд — чистый. Понимаете, чистый! Лишь бы ты своими руками. Но растим-то их белоручками: это, мол, непрестижно, позорит родителей. А я, признаюсь, когда Ахрор сказал мне однажды, что иногда в студенчестве — он тоже окончил сельскохозяйственную академию — грузил сахар на товарной станции, мне было как маслом по сердцу! Домой не писал: пришлите денег. У меня были, не волнуйтесь. Нет, ночь не спал, а заработал на модные туфли. Ведь, в сущности, дело не в каких-то там рублях…
— Ну, положим, и в них тоже.
— Да-да, я хотел сказать, не только в них, — поправился Иркабаев. — Гордость у человека появляется. Другие дети как: дай, папа, дай, мама… Что выйдет из такого? Попрошайка, иждивенец! Самолюбия ни на копейку! И у самих родителей положение не очень хорошее — выходит, ты сыну или дочери подачку даёшь, любовь покупаешь… А знаете, что заявила мне недавно дочка? Зачем, говорит, ты все время твердишь мне: учись, учись, читай побольше книжек, а то школу не закончишь, в институт не поступишь? Не нужен мне институт, ты и так сделаешь меня директором кинотеатра.
— Почему именно кинотеатра?
— Очень кино любит, — пояснил Иркабаев. — Это же страшно! Соплюшка совсем, а уже знает, что в жизни существует блат.
— Страшно, — согласился Валерий Платонович, — это вы верно выразились… Сейчас твердят: будьте активны, проявляйте принципиальность, стойте на честной гражданской позиции… Откуда им взяться? Ведь столько лет взращивалась, культивировалась беспринципность и приспособленчество!
Они не заметили, что уже не только добрались до лесопарка, но и углубились в него. Пронизанный тропинками, он поражал диковинными деревьями и кустарником. Тут росли редкие экзотические растения — сосна Веймутова, самшит, уксусное дерево.
Забыв о мирских заботах, проблемах, профессор брёл по лесопарку, вертя головой направо и налево, очарованный необыкновенной растительностью. Мансур Ниязович тоже весь отдался созерцанию. Народу было здесь не очень много, не как в самом Трускавце, но все же нельзя было сказать, что место уединённое.
— Где же кабаны? — спросил Скворцов-Шанявский.
И не успел он произнести эти слова, как послышались крики, шум и на тропинку, по которой они шли, выбежали мужчина и молодая женщина. Они были возбуждены, о чем-то громко спорили.
Приблизившись, наши спутники увидели следующую картину: мужчина задрал разорванную штанину, а женщина перевязывала ногу носовым платком, сквозь который сочилась кровь.
— Говорила же тебе, не подходи! — всхлипывала женщина.
— Да брось, Таня! — успокаивал её пострадавший. — Ничего страшного. Он же ручной.
— Ничего себе ручной! — дрожащим от пережитого волнения голосом продолжала женщина. — Страшилище этакое! Клыки — как у быка рога! Подденет в живот — все кишки наружу!
Иркабаев спросил, что случилось, не нужна ли помощь.
— Спасибо, ничего не надо, — ответил мужчина. — До свадьбы заживёт.
— Ишь, храбрец нашёлся! — поднялась с корточек женщина и пояснила: — Представляете, идём по парку — кабан выскочил. Морда — во, клыки торчат, как кинжалы. Федя решил почесать его за ушком. Ну, что, доигрался? — повернулась она к своему спутнику.
Происшествие это подействовало на профессора не самым лучшим образом.
— Что, медведи тоже разгуливают на свободе? — спросил он Иркабаева, когда они отошли от пострадавшего.
— Нет-нет, — заверил Мансур Ниязович. — Да вы сами сейчас увидите.
Валерий Платонович бодрился, не подавал вида, что ему расхотелось гулять по лесопарку, пытался даже насвистывать весёлую мелодию, однако мысли о возможности встретить полудикого вепря не давали покоя.
Скоро они подошли к ограде, внутри которой была клетка. В ней и находились медведи — пара довольно крупных животных.
«Слава богу, — облегчённо вздохнул Скворцов-Шанявский, глядя на двойное ограждение. — Эти-то не вырвутся».
Посмотреть на косолапых собралось десятка полтора людей. Мишки знали, что от любопытствующих можно получить подачку, и вели себя соответственно. Как всякие попрошайки. Сладости, которые кидали им в клетку, подхватывались чуть ли не на лету и тут же отправлялись в рот.
— Смотрите-ка, вон тот, гривастый, обиделся, — сказал Иркабаев.
Действительно, одному из медведей лакомства досталось меньше, и он, словно бы нахмурившись, отошёл в дальний угол. И сколько смотритель (он находился между внешней оградой и клеткой) ни упрашивал его взять печенье или конфету, упрямился.
— Как у людей, — заметил с усмешкой кто-то. — С характером…
Вдруг раздался женский визг. У профессора похолодело внутри, и он схватил за руку Иркабаева. Буквально в нескольких метрах был кабан. С ощетинившимся загривком и грозно торчащими клыками он приближался к людям. Толпа бросилась врассыпную. Валерий Платонович, объятый ужасом, тоже побежал.
— Не бойтесь! Постойте! — кричал сзади Иркабаев, пытаясь догнать профессора. — Да посмотрите же, все в порядке!
Скворцов-Шанявский наконец остановился, оглянулся.
Кабан удалялся в чащу… с каким-то смельчаком на спине.
Профессор с трудом перевёл дух.
— Ну, знаете, — держась за левую сторону груди, прохрипел он, — от таких штучек можно раньше времени на тот свет.
Иркабаеву было неловко, ведь инициатором прогулки являлся он. Мансур Ниязович пытался все превратить в шутку, но Валерий Платонович долго не мог прийти в себя, твердя, что в лесопарк он больше ни ногой. Они уже давно вернулись в город, а профессор нет-нет да оглядывался по сторонам, словно ожидая из-за каждого угла нападения хищного зверя.
Окончательно он успокоился лишь тогда, когда они добрались до толпы у бювета и слились с людской массой.
Они решили устроиться где-нибудь на скамейке и отдохнуть. Проходя мимо очередного фотографа, Иркабаев обратил внимание спутника на реквизит.
— Может, рискнём? — подмигнул Мансур Ниязович.
Профессор не смог сдержать улыбку. Можно было сняться у декоративного колодца, красочного, со всяческими завитушками и украшениями. Местный, так сказать, колорит. Здесь же стоял автомобиль — дедушка современных лимузинов. Надевай цилиндр, краги, садись за руль, и фотограф перенесёт вас в первое десятилетие нашего века… Запечатлевал он клиентов и просто на фоне бювета.
Что особенно умилило Скворцова-Шанявского, так это табличка, прикреплённая к штативу: «Вас обслуживает мастер художественной фотографии Роман Евграфович Сегеди. Качество гарантирую! Срок исполнения — двадцать часов!»
Сам мастер Сегеди сидел рядом на стульчике, лениво потягивая пепси-колу прямо из бутылочки. Он тоже был весьма колоритен, с длинными прямыми волосами а-ля Гоголь. Но в отличие от великого писателя имел ещё свисающие ниже подбородка запорожские усы.
Валерий Платонович спросил у него:
— Простите, а почему именно двадцать часов, а не сутки?
Мастер, почуяв потенциальных клиентов, отставил пепси-колу, встал со стула. И вдруг на плечо профессора легла чья-то рука. Он быстро обернулся. А дальше…
Валерий Платонович даже не смог крикнуть. Перехватило горло, сердце сдавил железный обруч. Сзади, оскалив розовую пасть с длинными желтоватыми клыками и протягивая к его лицу кривые, словно покрытые лаком когти, стоял на задних лапах огромный медведь.
У профессора все поплыло перед глазами, и он провалился в бездну.
Сколько он был без сознания, определить не мог. Возвращалось оно медленно, отрывочно.
Запах нашатыря, камфоры… Боль в руке на внутреннем сгибе локтя. Потом его куда-то везли на машине. Смутные видения — то Иркабаев, то человек в докторской шапочке, то испуганное прекрасное лицо молодой женщины с очень знакомыми чертами…
Окончательно Скворцов-Шанявский пришёл в себя в больничной палате. Он лежал на койке без пиджака и туфель. И уже другой врач, пожилая женщина, мерила ему давление.
— Ну, как вы? — уже совсем отчётливо услышал её голос Валерий Платонович.
Он вспомнил розовую пасть, жуткие клыки и чуть приподнял голову, стараясь разглядеть себя — за что же цапнул медведь.
— Лежите, — ласково, но настойчиво попросила доктор. — Гипертонией не страдаете?
— Нет, а что? — не понимая, почему же он в больнице, если все цело и боли в теле не чувствуется, ответил профессор.
— Давление немного подскочило, — сказала врач. — Как же так, дорогой товарищ? — с ноткой осуждения продолжала она, будто виноват был сам Валерий Платонович.
— Медведь же, не заяц… — нахмурился Скворцов-Шанявский.
— Ваш медведь стоит за дверью и плачет, — улыбнулась женщина и поднялась. — Два-три дня я вас понаблюдаю. Медсестра из приёмного покоя сейчас занята, оформим попозже. Не вставайте пока.
И вышла, оставив профессора в недоумении насчёт медведя.
В комнату буквально влетел Иркабаев, а с ним… Орыся!
Да, да, это была она, хотя узнать в молодой заплаканной женщине ту Орысю, что видел Скворцов-Шанявский в Средневолжске, было трудно.
— Валерий Платонович, умоляю, простите! — бросилась она к кровати. — Я не хотела, честное слово!
Профессор и вовсе опешил, не понимая, какое отношение имеет Орыся к тому, что он в больнице. Валерия Платоновича больше занимал вопрос, каким образом она так преобразилась. Он все ещё не мог поверить, что та невзрачная, какая-то забитая, некрасиво одетая женщина — истинная красавица!
А Орыся продолжала:
— Я так обрадовалась, увидев вас…
— Я тоже… тоже рад! — профессор схватил протянутые к нему руки. — Ругал себя, что не взял ваш адрес. Да вы садитесь, садитесь!
— Господи, я так испугалась! — присела на краешек койки Орыся. — Дура, надо было подумать!
— Объясните наконец, о чем это вы? — спросил Скворцов-Шанявский, не выпуская её рук и радуясь, что она не пытается их высвободить. Он откровенно любовался редкой красотой.
— Так это же я… — пролепетала Орыся. — Ну, лапу вам на плечо…
— Вы? — изумился профессор.
— Да, — кивнула Орыся. — Я работаю у фотографа.
Тут только до Валерия Платоновича дошёл смысл происшедшего.
Он не знал, как реагировать. «Шутка» могла плохо кончиться.
— А что, получилось довольно натурально! — бодро сказал профессор.
Он даже посмеялся над собой и попытался реабилитироваться перед Орысей, объяснив свой обморок тем, что находился под впечатлением событий, случившихся незадолго в лесопарке.
Орыся вновь стала просить прощения за легкомысленный поступок, но Валерий Платонович замахал руками:
— Полно вам, инцидент исчерпан! Нет худа без добра: вы рядом, и это чудно!
— Ну, слава богу, — немного успокоилась Орыся.
— Одного не пойму, — сказал профессор. — Вы, с вашими внешними данными, и прячетесь в шкуру!
— А мне нравится, — ответила Орыся. — Работка — не бей лежачего. На свежем воздухе. Да и понять можно… Вы знаете, как любят сниматься рядом со мной? Вернее, якобы с живым медведем! Отбоя нет!
— Я предпочёл бы в таком виде, какая вы сейчас, — улыбнулся Валерий Платонович. — Верно, Мансур Ниязович? — повернулся он к Иркабаеву, смиренно стоящему у изголовья кровати.
Тот развёл руками, закатил глаза, давая понять, что это было бы верхом блаженства.
Их беседу прервала врач, появившаяся в палате с медсестрой. Она вежливо попросила Иркабаева и Орысю удалиться, так как больной нуждался в покое. Те попрощались и вышли, пообещав навестить Валерия Платоновича завтра же.
Скворцов-Шанявский облачился в больничную одежду. Заполняя карту, врач поинтересовалась, случались ли у него подобные обмороки раньше.
— Не припомню, — ответил профессор. — Возраст, дорогой доктор! Нервы уже не те. Поверьте, я не из трусливых. Но ведь зверь!.. Не знаешь, что у него на уме. Знали бы вы меня в молодости! Шёл на вражескую пулю и не думал о смерти! Сам черт не брат!
— Воевали, значит? — уточнила доктор.
— И где! В частях особого назначения! В тылу у немцев подрывал поезда, склады с боеприпасами и горючим. Не раз случалось отбиваться чуть ли не голыми руками от вооружённых до зубов фрицев! — профессор грустно улыбнулся. — Конечно, глядя теперь на меня, в это трудно поверить. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, — было, доктор, было!
— Почему же трудно? — пожала плечами врач. — Тело у вас сбитое, крепкое, как у атлета.
— Эх, кабы ещё не этот чёртов жёлчный пузырь! — произнёс в сердцах Скворцов-Шанявский.
— Не волнуйтесь, вылечат, — с улыбкой обнадёжила его доктор.
Закончив оформление больничной карты, она порекомендовала профессору заснуть — это для него сейчас было наилучшим лекарством.
На следующий день первым посетил Скворцова-Шанявского Иркабаев. Он заявился с сумкой, из которой по палате разнёсся аромат знойного узбекского лета. Расспросив Валерия Платоновича о здоровье, Мансур Ниязович торжественно вынул гостинец — оплетённую каким-то засохшим растением дыню и тяжёлую гроздь винограда.
— Откуда такое чудо? — всплеснул руками профессор.
— Из дома земляк привёз.
— Но ведь ещё только конец весны? — удивился Скворцов-Шанявский.
— У нас умеют сохранять, — пояснил Иркабаев. — С осени и почти до нового урожая держится. Даже слаще становится… Кушайте, дорогой Валерий Платонович, силы даёт, скорей поправитесь.
И вот, когда он был уверен, что Орыся не придёт, в дверь постучали.
— Да-да! — откликнулся профессор.
Сердце его забилось от счастья — в палату входила она! В накинутом на плечи белом халате, в модных брючках до щиколоток, блузке с бантом и пиджаке с широкими прямыми плечами.
Однако радость Скворцова-Шанявского несколько померкла, когда вслед за Орысей, робко протиснувшись в дверь, вошёл патлатый фотограф. В руках у Сегеди была объёмистая сумка.
— Извините, Валерий Платонович, — после взаимных приветствий сказала Орыся, — никак раньше не могли. Ни минуты свободной! Как назло, клиент за клиентом! Даже очередь…
— Радоваться надо, — улыбнулся профессор. — Небось выполнили план.
— Перевыполнили! — ответил мастер художественной фотографии, ища, куда бы выложить содержимое сумки.
Орысю это тоже, видимо, интересовало.
— Еда, наверное, здесь неважная, вот мы и… — начала было она, но Скворцов-Шанявский замахал руками:
— Ради бога, ничего не надо!
— Так не положено, — солидно произнёс Сегеди и стал выкладывать на тумбочку свёртки.
Тут был и сервилат, и балык, и чёрная икра.
— Братцы, милые! — взмолился профессор. — Я вам честно говорю: нельзя мне все это! Диета!
Фотограф хмыкнул, почесал затылок.
— А свежие огурчики и помидорчики? — спросил он. — Апельсины?
— Ну, это ещё куда ни шло, — вздохнул профессор.
Положив цитрусовые и овощи в тумбочку, Сегеди напоследок вынул бутылку дорогого марочного коньяка.
— Ни-ни! — решительно возразил Скворцов-Шанявский. — Смерть для меня!
Фотограф нехотя засунул бутылку обратно в сумку.
Орыся села на стул, Сегеди — на вторую койку. Начались расспросы о здоровье. Поинтересовалась Орыся и тем, кто ещё лежит в палате с профессором.
— Эта койка пустует, — ответил Валерий Платонович. — Так что я тут один.
Профессор, разумеется, не пояснил, что к нему не будут никого подселять по его же просьбе. За соответствующую «благодарность» старшей медсестре. Главное, Скворцов-Шанявский хотел дать понять Орысе, что в случае чего — им мешать не будут. Но, похоже, на этот намёк она не обратила внимания и спросила:
— Вы случаем не знаете, как там Лена Ярцева? Ну, в Средневолжске?.. До сих пор вспоминаю тот Новый год. Такая хорошая женщина! Простая и добрая. А уж готовит! Жаль, что так и не пришлось познакомиться с её мужем. Как его звать? Глеб, кажется?
— Да, Глеб, — грустно кивнул профессор. — Вы не можете себе представить, какая трагедия произошла в ту ночь!
— Да что вы! — охнула Орыся.
И Скворцов-Шанявский рассказал о том, что слышал от Глеба и Лены Ярцевых — о нелепой гибели отца, утонувшего в озере.
— Ужас какой! На глазах у сына! — искренне переживала Орыся. — Как он только выдержал? Я бы сошла с ума, ей-богу!
— Не говорите! — вздохнул Валерий Платонович. — Вообще после этой страшной смерти у Глеба пошла какая-то нехорошая полоса. С Леной серьёзные нелады…
— Странно, — удивилась Орыся. — Мне показалось, она любит мужа без памяти! Сама призналась на кухне, живут душа в душу. И Глеб думает только о жене.
— Чужая семья — потёмки, — развёл руками профессор. — Не знаю, Лена вам говорила, что Глеб был прописан в квартире своего отца?
— Нет.
— О, роскошные апартаменты! В центре города, на берегу Волги, комнаты
— хоть на коне разъезжай. Представляете, со смертью отца Глеб остался в квартире один!
— Что же он в ней делает?
— На Москву хочет менять, — ответил Валерий Платонович. — Собирается перебраться в столицу.
— Без жены? — спросила Орыся.
— В том-то и дело.
Скворцов-Шанявский не говорил всей правды: в том, что семья Ярцевых дала трещину, он тоже сыграл не последнюю роль…
— Не пойму, — покачала головой Орыся. — Бросить такую женщину, как Лена! Наверное, не любил.
— Знаете, что сказал Горький? — спросил профессор. — Самое умное, чего достиг человек, — это умение любить женщину. От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. Понимаете, Орысенька, наш великий писатель не зря выбрал слово «умение». Не зря! Умению любить надо учиться. Наше поколение было научено, а вот нынешнее — увы! — И он, сделав кивок в сторону сидевшего истуканом фотографа, добавил: — Не в обиду присутствующим будь сказано.
Сегеди хмыкнул в усы, но ничего не ответил.
И вообще Валерий Платонович пытался разгадать, в каких он отношениях с Орысей. Ухажёр? Или только коллега по работе?
Профессор решил пустить пробный камень.
— Дорогие друзья, — деланно забеспокоился он, не обременителен ли для вас этот визит? Трудились весь день, устали да ещё небось жена дома ждёт? — Последнее относилось непосредственно к фотографу.
— Если уж кто ждёт, так это соседка, — хихикнул Сегеди. — Жены сейчас нет, уехала с дочкой погостить к родственникам в деревню.
«Это уже хуже, — подумал Скворцов-Шанявский. — И рядом все время такая женщина!»
— А вы, Орыся? — повернулся к ней профессор.
— Не беспокойтесь, Валерий Платонович, меня тоже никто не ждёт.
«Ну, и слава богу!» — чуть было не воскликнул профессор, хотя видел, что она чем-то озабочена.
То, что Орыся снова не вышла замуж, профессора устраивало: стало быть, шанс его повышался. Он мучительно думал, как бы выпроводить фотографа и остаться с Орысей один на один хотя бы минут на пять. Или дать ей знак, чтобы завтра пришла без провожатого. Однако ничего придумать не мог.
Беседа не клеилась, затухала. Да и говорить-то особенно было не о чем. Сегеди уже украдкой поглядывал на часы.
— Ну, пойдём, — наконец поднялся он.
Профессор и Орыся встали тоже.
— Очень был рад вашему приходу. Надеюсь, ещё навестите? — Валерий Платонович посмотрел в глаза Орысе с такой мольбой, что она не могла не понять, что просьба относилась только к ней.
— Конечно, конечно! — закивала она.
Валерию Платоновичу показалось, что Орыся поняла его.
— И ещё, — продолжал он. — Признаюсь, знакомых в Трускавце у меня нет. Не считая, разумеется, наших санаторских. Но разговоры о болезнях и прочем… — профессор скривился. — Право же, с тоски умереть можно. Возьмите надо мной шефство, а? — засмеялся он.
— Это пожалуйста, — серьёзно сказал фотограф.
— Ей-богу, не пожалеете. Я человек компанейский. Музыку люблю, в шахматы сразиться.
— Выздоравливайте, буду рад вас видеть у себя дома в гостях, — сказал мастер художественного портрета и попросил: — Вы уж не дайте нас в обиду, Валерий Платонович.
— В каком смысле? — не понял тот.
— Да понимаете, как только вчера вас увезла «скорая», мой начальник прибежал. Ну, из комбината бытового обслуживания. Доигрались, кричит, с вашими фокусами! Никаких медведей! Испугался, что вы жалобу напишете. Тогда премия горит. Но медведь для нас — это план! Касса!
— Конечно! — подхватил профессор. — Завтра же позвоню и скажу, что это отличная выдумка. И медведь такой очаровательный, — не удержался-таки он от комплимента и запечатлел на руке Орыси поцелуй.
Они ушли, а Валерий Платонович долго не мог успокоиться, вспоминал каждый жест, каждое слово молодой женщины, разбередившей его сердце.
«Неужели она приходила лишь из-за того, чтобы я не настрочил жалобу начальству? — думал Скворцов-Шанявский. — Нет-нет, — тут же отбросил он эту мысль, — ведь Орыся сама призналась, что обрадовалась, увидев меня»…
Размышления профессора прервала медсестра.
— Укольчик сделаем, — сказала она, доставая шприц. — Заснёте как младенец.
Сделав укол, она собралась было уходить, но у Валерия Платоновича возникла идея.
— Погодите, Машенька, — сказал он, протягивая ей пакет с апельсинами.
— Это вам, за ваши золотые руки.
— Да что вы, не надо! — запротестовала медсестра.
— Я от души! Берите! Честное слово, делаете уколы как бог! Одно наслаждение.
— Ну, уж прямо, — смутилась Маша, однако подарок приняла. — За гостинец спасибо. Дочке отнесу.
— Я их не ем, да вот мне принесли…
— Орыська Сторожук, что ли?
— Она… А вы её знаете?
— Как облупленную. В санатории вместе работали.
Постепенно Валерий Платонович втянул медсестру в разговор. Слово за слово, и вскоре он уже знал об Орысе столько, сколько не смог бы сообщить самый осведомлённый кадровик.
— Одного не пойму, — как бы вскользь заметил профессор. — Ещё молодая, видная из себя, а замуж не выходит.
— Кто же к ней подступится, когда у Орыськи такой хахаль! — сказала Маша.
— Хахаль? — переспросил Скворцов-Шанявский. — Она мне никогда о нем не говорила.
— А Барон у ней всего месяца три. Ревнивый — ужас!
Валерий Платонович осторожно выведал у медсёстры, кто такой Барон. Та наговорила о нем каких-то небылиц, в которые трудно было поверить.
Потом уже, оставшись один, профессор решил, что для местных обывателей этот опереточный Барон, может быть, и является фигурой. Но ему-то, московскому асу, наверное, нечего опасаться. Короче, потягаться можно.
А в это время властительница дум профессора подходила к своему дому. «Волга» у ворот, свет во флигеле — значит, приехал Сергей.
Переступила порог Орыся с двойственным чувством — обрадовалась, что он появился, и опасалась, что станет придираться. Однако у Сергея было хорошее настроение. Он крепко взял её за руку, посмотрел в глаза, усмехнулся:
— Ты что же это пугаешь людей?
— Уже знаешь? — Орыся поцеловала его, почувствовав, как отлегло от сердца.
От Сергея чуть пахло коньяком и хорошим табаком. Она уже привыкла к этим запахам.
— Мне всегда все известно, — балагурил Сергей. — Что, он действительно учёный?
— Профессор.
— Профессор кислых щей?
— Брось, Серёжа. Валерий Платонович большой человек. Персональная машина, личный шофёр…
— Сегодня машина, а завтра дали по шапке и… — махнул рукой Сергей. — Скажи лучше, откуда ты его знаешь?
Орыся рассказала, как совершенно случайно встретила в Средневолжске Эрика Бухарцева, мать которого каждый год снимает в её доме койку, приезжая в Трускавец лечиться. Эрик и возил профессора. Они затащили Орысю к своим знакомым встречать Новый год.
— Ладно, — милостиво сказал Сергей, — что было до меня — списано. Но тебе обязательно надо было тащиться к этому профессору в больницу? Ромка и один бы сходил.
— Сам подумай — старикан чуть не гепнулся! Я ведь виновата!
— Старикан, говоришь? — прищурился Сергей.
— Нашёл к кому ревновать! Ему же за шестьдесят!
— Они, эти старые жеребчики, прыткие! Недаром говорят: седина в голову, а бес в ребро.
Орыся обидчиво фыркнула. Сергей потрепал её по щеке:
— Ну вот, губы расквасила. — Он крепко прижал её к себе и все ещё насмешливо, но с интонацией, от которой у Орыси мурашки пошли по коже, произнёс: — Пусть только попробует. Ну, сама знаешь, что… Напущу настоящего медведя — и врачи ему больше не понадобятся.
— Но передачу завтра я все равно отнесу, — с вызовом сказала Орыся.
— А жевать у него хоть есть чем? — расхохотался Сергей. — Или тётя Катя сварит манную кашку?
— Кисель, — улыбнулась Орыся в ответ.
Назавтра она забежала в больницу в обеденный перерыв. Тётя Катя расстаралась, напекла пирожков с капустой, с яблоками, с рисом. Валерий Платонович был растроган такой заботой (Орыся сказала, что пекла сама), но и огорчился: сидела она в палате буквально минуты три. И, когда пришла с обходом лечащий врач, Скворцов-Шанявский категорически потребовал выписать его, мотивируя это тем, что ему необходимо гулять, как предписал московский доктор.
— Давление не совсем стабилизировано, — возразил врач.
— Так ведь у себя в санатории я могу принимать те же лекарства! И тоже под наблюдением!
Упорство профессора возымело действие — из больницы его отпустили. И в тот же вечер Скворцов-Шанявский появился у бювета в надежде увидеться с Орысей. Но Сегеди уже закрывал свою точку и на вопрос, где его помощница, ответил: «Ушла».
— Спасибо вам, Валерий Платонович, что позвонили директору комбината,
— сказал Сегеди.
— Не стоит благодарности, — отмахнулся профессор, расстроенный тем, что не увидит сегодня предмет своей страсти.
— Вам не стоит, а мне — ещё как! — продолжал фотограф. — Могли перевести куда-нибудь на окраину. — Заметив, что у профессора неважное настроение, он спросил: — Как у вас вечерок, не занят?
— Нет. А что?
— Уже забыли? — удивился Сегеди. — Про шефство? Может, в гости заглянете?
— Готов, готов, — обрадовался Скворцов-Шанявский.
— Лады, — кивнул мастер фотопортрета, черкнул на бумажке свой адрес и протянул профессору. — Микрорайон вам каждый покажет. Часам к девяти устроит?
— Вполне!
Назавтра Скворцов-Шанявский снова появился возле точки Сегеди. Облюбовав соседнюю скамеечку, он все время поджидал, когда у Орыси выпадет свободная минута, и сразу же устремлялся к ней.
Считая себя все ещё виноватой перед Валерием Платоновичем, Орыся не могла отказать ему во внимании. Болтали обо всем на свете. Профессор был отличным собеседником, этого уж у него не отнимешь. Однако дальше бесед дело не шло. На все предложения Скворцова-Шанявского встретиться после работы, чтобы сходить в кино, просто прогуляться или зайти к нему в санаторий, Орыся отвечала мягким, но решительным отказом. Профессор заметил, что при его появлении Роман день ото дня становится все мрачнее.
И все-таки Скворцову-Шанявскому удалось уговорить Орысю показать ему окрестности Трускавца. Договорились встретиться в полдень возле кинотеатра «Дружба» — зайти за ней домой Орыся не разрешила.
Профессор пришёл чуть раньше, Орыся немного опоздала.
Взяли такси. Орыся велела шофёру ехать в село Иван Франко. Там они обошли художественно-мемориальный комплекс столь почитаемого здесь писателя: музей-усадьбу его родителей и тропу, по которой он любил хаживать, вынашивая в себе бессмертные творения.
Все бы ничего, но вот остаться с молодой женщиной наедине Валерию Платоновичу никак не удавалось. И само село, и тропа в лесу длиною около двух километров были буквально наводнены туристами. Сюда ехали на автобусах, частных автомобилях, добирались пешком.
Осмотрели все достопримечательности. Да в таком темпе, что у Валерия Платоновича заныли ноги.
— Теперь куда? — спросил таксист, когда они вернулись к машине.
— В Сходницу, — сказала Орыся.
— А кто там проживал из ваших знаменитых соотечественников? — поинтересовался профессор, которому уже никуда не хотелось, разве что в свою палату, на кровать.
— Вроде никто… Место красивое, — сказала Орыся.
И не обманула. Посёлок действительно окружала дивная природа. Он покоился словно в люльке среди изумрудных гор.
Что удивило Скворцова-Шанявского, так это количество приезжего люда. Он располагался возле своих машин и мотоциклов, в палатках, тут и там вились дымки костров, как в цыганском таборе.
— Ну и народу! — поразился Валерий Платонович. — Что они делают?
— Как что! Лечатся, — пояснила Орыся. — Здесь источники не хуже, чем в Трускавце. И дебет воды не меньше.
— Дикари, что ли? — спросил профессор. — Но ведь «Нафтусю» надо подогревать!
— Конечно, подогревают. Кто на чем…
— Странно, почему бы тут не понастроить санаториев и пансионатов? — не переставал удивляться Скворцов-Шанявский.
— Думают. Уже есть планы, проекты, — сказала Орыся. — Но сами знаете, как бывает. Пока где-то утрясут, пока утвердят…
— А люди тем временем занимаются самолечением? — ужаснулся профессор.
— Это же опасно!
— Подумаешь, кого это интересует! — пожала плечами Орыся. — Ну, а теперь, может, в село Бубнище?
На вопрос Валерия Платоновича, чем оно знаменито, его спутница ответила, что там когда-то вёл борьбу против феодалов легендарный предводитель крестьян Олекса Довбуш.
Но профессор уже был сыт по горло местными достопримечательностями и, ко всему прочему, чувствовал непреодолимую усталость. Заболел затылок. Руки, ноги да и все тело были словно ватные. Он предложил вернуться в Трускавец, сославшись на то, что ждёт звонка из Москвы.
Валерию Платоновичу показалось, что Орыся вздохнула с облегчением.
Расставшись с профессором, она поспешила домой. Нехорошее предчувствие не обмануло её — во флигеле сидел Сергей. Он только что приехал и был чернее тучи.
«Господи, — с замирающим сердцем подумала Орыся, — неужели уже знает?»
Однако об этой её поездке Сергей даже не заикнулся, будто его вообще не интересовало, где и с кем Орыся провела почти целый день. Он не поздоровался, мрачно опрокинул подряд две рюмки коньяку и коротко приказал:
— Собирайся, едем в Ужгород.
— Зачем? — спросила Орыся.
— Ты же знаешь, терпеть не могу вопросов, — повысил голос Сергей. — Едем, и все! Дней на десять.
— Десять?! Как же так? Я… Я ведь работаю, — возразила она.
— А это уже моя забота! — отрезал Сергей.
Орыся побросала в дорожную сумку несколько платьев, пару ночных сорочек, кое-какую мелочь и вышла за Сергеем к машине.
Она даже предположить не могла, что в эту минуту в санатории возле Скворцова-Шанявского суетился чуть ли не весь медперсонал. То, что профессор принял за усталость, оказалось приступом гипертонии.
Валерия Платоновича напичкали лекарствами, всадили несколько уколов. На ночь к нему была приставлена дежурная медсестра.
Три дня Скворцов-Шанявский не вставал с постели. Врач, естественно, отменил все процедуры, оставив только «Нафтусю», которую подогревали здесь же, в санатории. На четвёртый день профессор решил подняться.
Первым делом он позвонил Иркабаеву, благо у того в палате имелся телефон.
— Куда вы запропастились, дорогой? — обрадовался Мансур Ниязович.
— Немного приболел, — ответил Валерий Платонович.
— Вай-вай! — всполошился приятель. — Что же вы раньше не позвонили?
— Могли бы сами заглянуть, — пожурил его профессор.
— Да понимаете, земляк приехал лечиться. Город я ему показывал, — оправдывался Иркабаев. — Я сейчас к вам зайду.
— Не стоит, завтра я сам появлюсь на «водопое». Там и встретимся.
Валерий Платонович посчитал, что приходить Иркабаеву в санаторий не стоит: наговорят ему бог знает чего о сердечном приступе, и приятель может проговориться Орысе. А это уж и вовсе ни к чему, подумает: вот ещё, старый доходяга…
Сошлись они с Иркабаевым в восемь часов утра. На расспросы приятеля Скворцов-Шанявский отмахивался, мол, какая это болезнь, просто недомогание. Словом, бодрился.
Профессору хотелось поскорее увидеть Орысю. Но Роман открывал свою точку в десять… Валерий Платонович как бы невзначай поинтересовался, встречал ли Иркабаев Орысю.
— Какое там! — темпераментно взмахнул рукой Иркабаев. — Земляк замотал. То в лесопарк, то на озеро в Помярках. Успели даже побывать в Дрогобыче и Бориславе.
— Понятно, — не скрывая разочарования, произнёс Валерий Платонович.
— Да! — словно что-то вспомнив, воскликнул Иркабаев. — Романа вчера видел, фотографа. Вечером. Он шёл с какой-то симпатичной женщиной. Поздоровались, конечно. Я спросил у него, не заходили ли вы к нему в эти дни. Роман как-то нехорошо посмотрел на меня и говорит: «Мне бы ваши заботы».
— Странно, — удивился профессор. — Он всегда был приветлив с вами.
— Я сам удивился. Говорю, чем вы недовольны, Роман? А он, знаете, что сказал? «Помощница куда-то делась. Не выходит на работу». — «Давно?» — спрашиваю. «С того самого дня, — говорит, — как с вашим другом ездила за город». Это он о вас, дорогой профессор… У меня, говорит, план летит к чертям собачьим. И вообще, мол, это добром не кончится.
— Что именно? — насторожился Скворцов-Шанявский.
— Не знаю, — развёл руками Мансур Ниязович. — Роман что-то пробормотал и пошёл дальше.
— На меня злился? — допытывался Скворцов-Шанявский, которому поведение Сегеди казалось все более подозрительным.
— Да нет, — начал успокаивать его Иркабаев, — ничего страшного. Обида, может, какая и есть, но…
— Ладно, бог с ним, — отмахнулся Валерий Платонович, прикидываясь, что слова фотографа его не волнуют.
Однако сообщение Иркабаева встревожило его не на шутку. Восточные люди обычно дипломатничают. Наверняка Сегеди высказался более определённо.
Профессор сменил тему разговора. А в голове вертелся вопрос, что же с Орысей? Почему она прогуливает? Может быть, тоже заболела? Или намеренно скрывается от Сегеди, чего-то опасается?
Разошлись каждый в свой санаторий — завтракать. Днём Скворцов-Шанявский несколько раз проходил возле бювета, но так, чтобы не попасться на глаза Сегеди.
Действительно, «медведя» не было.
Дотянув до вечера, профессор решил выяснить наконец, что все это значит. Неведение становилось невыносимым.
«Пойду и прямо спрошу у этого патлатого фотографа, где Орыся, — решил Валерий Платонович. — Кстати, проясню наши с ним отношения».
Сразу после ужина профессор покинул санаторий. Заботливая медсестра, все ещё опекавшая его, спросила, когда он вернётся.
— Я всего на пару часов, — ответил он. — Пройдусь по воздуху.
— Смотрите, Валерий Платонович, — предупредила медсестра, — чтобы в десять были в палате как штык. А то врач по головке не погладит. Да и мне влетит, — и посмотрела на часы.
Было четверть девятого вечера.
Но профессор не пришёл к намеченному сроку. Не вернулся он в санаторий и в двенадцать, и в час ночи. Медсестра, перепугавшись, стала звонить в «Скорую», но там о Скворцове-Шанявском ничего не знали. Отчаявшись, она позвонила в милицию, где ей сообщили, что Валерий Платонович задержан сотрудниками уголовного розыска и находится в горотделе внутренних дел. На её вопрос, в связи с чем арестован профессор, вразумительного ответа не последовало.
Да и сам Павел Иванович Костенко, следователь прокуратуры города, пока не мог понять, что же произошло на самом деле.
Первой была допрошена свидетельница Татьяна Захожая, продавщица магазина «Подарки», девушка девятнадцати лет.
Вот её показания, зафиксированные протоколом:
«…Сегодня вечером я возвращалась домой после танцев. Провожал меня парень, с которым я там познакомилась. Зовут его Олег, фамилию не знаю. Он лишь сообщил, что приехал в Трускавец из Кишинёва и лечится по курсовке. Когда мы подошли к моему дому, Олег не хотел отпускать меня, предлагал ещё погулять. Но я торопилась, зная, как волнуются мои родители, если меня поздно нет. Олег сказал, что ещё „детское время“, всего начало одиннадцатого. Я посмотрела на наше окно на восьмом этаже, где горел свет. Над нашей квартирой, на последнем этаже, живёт Роман Сегеди. У него тоже был включён свет. Я знала, что жена Сегеди Марийка находится в гостях у родителей в деревне. Но в окне Сегеди я увидела двух людей. Ещё подумала, кто это пришёл к нему в гости? И вдруг из окна Сегеди вылетел человек. Я онемела от ужаса, закричала. Олег, который стоял спиной к дому, испугался, обернулся и тоже увидел, как тот человек упал возле фундамента. Мы побежали к нему. Это был Роман Сегеди. Он лежал на спине с открытыми глазами, изо рта у него текла кровь. Мне стало плохо, началась рвота. Тут выбежали соседи из нижней квартиры. Кто-то посадил меня на скамейку, дал воды. Кто вызвал „скорую помощь“, я не знаю. Помню, что Олег побежал в подъезд. Потом приехала „скорая“ и милиция…»
Затем был допрошен второй свидетель, провожатый Татьяны Захожей, Олег Долматов, двадцати семи лет, проживающий в Кишинёве, машинист сцены в театре. Повторив в общем показания девушки, он сообщил следующее:
«…Когда Татьяна пришла в себя, то несколько раз повторила, что Романа выбросили из окна, что она это видела. Узнав, что Роман живёт на девятом этаже в квартире сто один, я тут же побежал в дом, чтобы попытаться задержать преступника. Лифт не работал, и мне пришлось подниматься пешком. Дверь в сто первую квартиру была закрыта, но не заперта, потому что я толкнул, и она открылась. Я вошёл в коридор и увидел, что навстречу мне идёт пожилой мужчина. Солидный, в светлом костюме. Я несколько растерялся, спросил: „Вы здесь живёте?“ Он ответил: „Нет“. Я спросил, кто он. Мужчина сказал: „Скворцов-Шанявский. Пришёл навестить Романа, а его нет. Не знаете, где хозяин?“ Его спокойный тон ещё больше удивил меня. В это время с улицы послышалась сирена „скорой помощи“. Мужчина хотел выйти из квартиры, но я преградил путь. Он стал возмущаться. Тут в квартиру вошли два сотрудника милиции в форме. Я объяснил им, что произошло и почему я нахожусь в этой квартире…»
И вот перед следователем Костенко сидит Скворцов-Шанявский. На вид — сама респектабельность. Отлично сшитый дорогой костюм, безупречно чистая сорочка, холёные руки, спокойные, хотя и усталые, светло-серые глаза. Анкетные данные под стать внешности: профессор одного из академических институтов Москвы…
Все вместе действовало несколько обескураживающе на в общем-то ещё довольно молодого следователя: Павлу Ивановичу едва перевалило за тридцать.
Но два часа назад погиб человек — «скорая» увезла бездыханное тело Сегеди. И в том, что произошла трагедия, подозревался этот лощёный гражданин.
— Расскажите, Валерий Платонович, как вы оказались в квартире Сегеди? — вежливо попросил Костенко. — Пожалуйста, указывайте время.
— К дому я подошёл в начале одиннадцатого, — начал профессор.
— А поточнее?
— Минут десять одиннадцатого, — продолжал Валерий Платонович. — Вечная история — лифт стоит. Испорчен. Потихонечку да полегонечку стал подниматься наверх. Раза три останавливался, — профессор показал на сердце. — Четыре дня провалялся с гипертоническим кризом… Осилил-таки. Смотрю, дверь прикрыта неплотно. Позвонил — не открывают. Думаю, может, Роман Евграфович заснул или хворает, не велено вставать? Свои ещё свежи впечатления от болезни. Вошёл, везде свет… Крикнул: кто есть дома? Молчок… Потом слышу — свистит.
— Кто? — спросил удивлённо следователь.
— Чайник. У меня такой же… Когда закипит, из носика пар. А на носике крышечка со свистком.
— Понятно, понятно, — закивал Костенко. — Дальше?
— В одну комнату заглянул, во вторую. Никого. На кухне — тоже. А на столике — бублик, намазанный маслом, и надкушенный бутерброд. Впечатление такое, как будто только что сели ужинать. Значит, хозяин рядом. Ещё мелькнуло в голове: в туалете, что ли? Тогда бы откликнулся, когда я кричал. Выходит, думаю, выскочил к соседям. Я автоматически выключил плиту, сел на табуреточку, стал смотреть раскрытый «Крокодил». Он лежал тут же, на столике. Интересная статья о головотяпах в колхозе. Увлёкся даже… Слышу — входная дверь открылась. Слава богу, хозяин. Неловко стало, что расположился, как у себя дома. Вышел в коридор, смотрю — не Роман это, а какой-то молодой человек. Растерянный, но в то же время смотрит на меня как-то подозрительно. Спросил, кто я. Я представился. А тут со двора — сирена. Я, естественно, к дверям. А парень растопырил руки и не пускает. Меня это удивило: по какому праву? И вообще, кто он такой? Спрашиваю, конечно, повышенным тоном. А малый этот тоже в голос… Здесь заходят сотрудники милиции, и молодой человек сообщает такую новость, от которой у меня волосы дыбом встали! Старший лейтенант пригласил меня на кухню: кто, зачем, почему? Я, естественно, объяснил, хотя, признаюсь, был буквально в шоке. Это же надо, за несколько секунд до моего прихода человек сам, представляете, сам решил свести счёты с жизнью! Ужас! До сих пор в голове не укладывается!
Скворцова-Шанявского передёрнул нервный озноб. Он замолчал, подперев лоб растопыренными пальцами.
Выждав паузу, Костенко спросил:
— Давно знаете Сегеди?
— Дней десять.
— Раньше бывали у него дома?
— Один раз.
— По какому поводу?
— Роман Евграфович пригласил. Чаек попили. — Заметив недоверие на лице следователя, профессор печально улыбнулся. — Сегеди вроде бы хотел загладить передо мной вину… И чтобы я не пожаловался начальству.
Валерий Платонович рассказал Костенко историю о том, как его напугала Орыся, как всполошились фотограф и его помощница.
— А что привело вас к Сегеди сегодня? — задал вопрос следователь.
Валерий Платонович замялся, провёл ладонями по коленям и, смущаясь, ответил:
— По деликатному, так сказать, делу.
— Я бы хотел знать, по какому именно?
— Надеялся разузнать, где обретается некая особа.
— Кто эта особа?
— Я назову, — после некоторого колебания согласился Скворцов-Шанявский. — Это ведь не выйдет за пределы кабинета? Орыся…
— Орыся Сторожук, значит? — уточнил следователь.
— Она, — кивнул профессор и, словно спохватившись, пояснил: — Ради бога, не подумайте, что здесь замешан амур! Уверяю вас, нисколько! Сторожук
— талант! Изумительный голос! Я хочу помочь ей попасть на сцену.
— Чего же вам таиться в таком случае? — удивился Костенко.
— У Сторожук есть мужчина. Наверное, серьёзные намерения. Ревнив — прямо Отелло! Она мечется: любовь или искусство? Но, наверное, грех зарывать в землю божий дар. Я уже говорил о ней с кем надо в Москве. Её ждут. Ну, и, понимаете, надо было срочно сообщить об этом Орысе. А я, как назло, провалялся в постели.
— В котором часу вы вышли из санатория? — спросил следователь.
— Четверть девятого.
— Та-ак, — протянул Костенко. — От вашего санатория до Сегеди полчаса ходьбы. Причём гуляючи.
— Вы хотите сказать, непонятно, что я делал целых полтора часа? — перебил его Скворцов-Шанявский. — Отвечу: искал Сторожук.
— Где?
— Гулял, надеялся встретить на улице. Потом прохаживался по тротуару напротив её дома.
— А почему не зашли?
— Я ведь вам объяснил: у неё есть знакомый — ухажёр, жених, любовник, бог его знает! Мой приход явился бы лишним поводом для его ревности! Уверяю вас: встреть я Орысю, незачем было бы мне идти к Сегеди!
— И уверяете, что не видели его в квартире? — решил перейти в наступление следователь.
— Могу поклясться! — горячо произнёс Скворцов-Шанявский и вдруг, словно наткнувшись на препятствие, умолк, вперив в следователя тяжёлый взгляд.
Молчал и Павел Иванович. Так они смотрели друг на друга некоторое время.
— Здесь не клятвы нужны, а факты, — произнёс наконец Костенко, доставая из стола показания Захожей и Долматова и протягивая их допрашиваемому. — Ознакомьтесь.
Профессор читал внимательно, не отрывая глаз. Схваченные скрепкой страницы задрожали в его руке, и он поспешно положил их на стол.
— Эрго?
— Вывод, по-моему, один, — сказал Костенко, пряча протоколы в ящик. — В квартире Сегеди находился хозяин и ещё кто-то. Сегеди был выброшен из окна. Через несколько минут вас застали в квартире. И… — следователь сделал паузу, — других людей там не обнаружили.
В комнате повисла тяжёлая тишина. Нарушил её профессор.
— Логично. Весьма логично, — повторил он уже без иронии, серьёзно и спокойно. — Однако жизнь, уважаемый Павел Иванович, задаёт порой загадки и похлеще, поверьте моему опыту.
— У вас есть шанс, Валерий Платонович, — сказал с нажимом Костенко, будто не слыша последних слов профессора. — Чистосердечное признание.
— Не надо, прошу вас, не надо! — перебил Скворцов-Шанявский, поморщившись как от зубной боли. — Не мальчик, знаю. Суд учтёт, и так далее… Запишите в протокол: Романа Сегеди в квартире я не видел. Все, точка.
Следователь пожал плечами, вздохнул, словно сожалея о том, как неразумен задержанный.
Когда был подписан протокол допроса, Валерий Платонович спросил:
— Я могу идти?
— Нет, — ответил Костенко. — Вынужден вас задержать.
— Вы меня обвиняете?
— Нет, пока только подозреваю.
Профессор было вспыхнул, но тут же взял себя в руки.
— Надеюсь, вы позволите воспользоваться телефоном? — потянулся он к аппарату. — Мнение этого человека обо мне убедит вас кое в чем…
И Валерий Платонович назвал фамилию, одно только упоминание которой должно было произвести сильнейшее впечатление на следователя.
Но не произвело.
— Увы, — остановил он жестом профессора, — нельзя.
И вызвал конвоира.
С раннего утра Костенко был уже на ногах, понимая, что любое промедление будет не в пользу следствия. На самом деле, когда задержанный сказал, с кем хочет связаться по телефону, Павел Иванович понял, что Скворцов-Шанявский не блефует, не берет просто на испуг. А значит, ответственность его, Костенко, возросла. Малейшая оплошность, ошибка, и…
Павел Иванович не хотел даже думать об этом. Конечно, времена были уже не те, однако обольщаться тоже не приходилось. Нельзя изменить психологию людей в один миг, словно по мановению волшебной палочки. Слишком привыкли принимать или отменять решения по звонку «сверху», магия имени, высокого поста властвовала ещё довольно прочно.
Факты, только факты были его оружием. Костенко опять допросил Захожую и Долматова, работников санатория, где лечился профессор, снова тщательно осмотрел место происшествия. Работники уголовного розыска тоже не сидели сложа руки.
К концу следующего рабочего дня Костенко был вызван прокурором Мурашовским.
— Выкладывайте, Павел Иванович, что у вас по делу Сегеди?
— Признаться честно, я сейчас — словно поезд на ходу… А вот где остановлюсь… — Следователь развёл руками.
— Давайте обмозгуем вместе, — поудобней расположился на стуле прокурор. — Версия о том, что Сегеди выбросили, подтверждается?
— Как вам сказать, — неуверенно ответил Костенко. — Понимаете, по заключению судмедэкспертизы Сегеди умер, грубо говоря, от удара о землю. Переломы, в том числе черепной коробки, повреждение внутренних органов и так далее.
— То есть из окна он выпал живым? — уточнил Мурашовский.
— Да. Одна из первоначальных моих версий — Сегеди сперва убили, а затем уж выбросили — отпадает, как видите. Второй момент — я поставил судмедэксперту вопрос: имеются ли на теле погибшего прижизненные следы борьбы, царапины, ссадины и тому подобное? На тот случай, если его выбросили в окно. В заключении сказано, что таковых нет.
— Позвольте, позвольте, а показания свидетельницы?
— Захожей?
— Она же говорила, что сама видела, как Сегеди выбросили… Показалось?
— Может быть, нет.
— Как же совместить? Без борьбы…
— Элемент внезапности, — пожал плечами Костенко. — Встал у окна, ничего не подозревал, ну, его и…
— Допустим, так, — подумав, согласился Мурашовский. — И сделавший это был человек, от которого Сегеди не ожидал, мягко выражаясь, пакостей.
— Совершенно верно, — кивнул Павел Иванович. — Близкий друг или такой, кто вызывает полное доверие. Например, Скворцов-Шанявский.
— А вы не допускаете, что пострадавший мог выпасть сам?
— Допускаю. Причём тут два варианта. Первый — выпал из окна случайно. Второй, как выразился задержанный, покончил счёты с жизнью. О случайном падении сказать что-либо определённо нельзя. Мало ли для чего понадобилось человеку лезть на подоконник? Штору поправить, например. Не удержался — и вниз. А вот если самоубийство, то какие мотивы? И ещё момент: Сегеди сел ужинать, намазал бублик маслом, откусил бутерброд, ждал, когда закипит чайник. И вдруг вышел в другую комнату и сиганул в окно. Что-то здесь не вяжется.
— Согласен с вами, — кивнул Мурашовский. — Конечно, перед таким страшным шагом люди ведут себя по-другому. Значит, вы больше склоняетесь к версии убийства?
— Факты склоняют, — ответил следователь.
— И кто же убийца?
— Скорее всего тот, кого застали в квартире. Скворцов-Шанявский.
— Пожилой человек, гипертоник. — Прокурор в большом сомнении покачал головой.
— Все относительно. Между прочим, Скворцов-Шанявский во время войны служил в особых частях. Устраивал диверсии в тылу у немцев. А туда знаете каких брали?
— Ничего себе вспомнили, — протянул прокурор. — В молодости и мы были рысаками.
— Не скажите, — усмехнулся Костенко. — Мой дед и теперь никому спуску не даст, а ему восьмой десяток пошёл. Насчёт же гипертонии: впервые у профессора давление поднялось здесь, в Трускавце.
— Какая же кошка пробежала между ним и Сегеди?
— Да уж наверняка пробежала, если он…
— Ну, подумайте, Павел Иванович, что может быть общего у московского профессора с курортным фотографом? — колебался Мурашовский. — Чтобы решиться на убийство, нужны очень серьёзные причины.
— Например, женщина, — сказал Костенко. — Некая Орыся Сторожук.
Он рассказал, кем она работает, откуда знает Скворцова-Шанявского.
— Этот профессор, как говорится, просто лапшу мне на уши вешал: мол, заботится о её судьбе, хочет вывести в большие артистки. А сведения, добытые нами, говорят о другом. Приударяет он за Сторожук, по пятам за ней ходит.
— Саму Сторожук вы допросили? Что она говорит? — поинтересовался прокурор.
— Её нет в Трускавце. Несколько дней назад уехала с очередным своим кавалером в Ужгород и пока не вернулась. Короче, дамочка ещё та! Не одному профессору крутит голову.
— Хороша собой?
— А вы разве её не знаете?
— Нет.
— Красавица, тут уж ничего не скажешь. Понимаете, есть основания предполагать, что Скворцов-Шанявский ревновал Сторожук к фотографу. Но это ещё не все. Когда ребята из угрозыска зашли в квартиру Сегеди, их насторожил запах.
— Какой запах? — вскинул брови прокурор.
— Вроде бы курили «травку», точнее — гашиш, — сказал следователь, протягивая Мурашовскому листок. — Был изъят окурок сигареты из пепельницы. Исследования подтвердили наличие наркотика. Гашиш обнаружен и в целых сигаретах из пачки, которая была в кармане Сегеди.
Прокурор прочитал заключение экспертизы и присвистнул:
— Вот это фактик!
— По моей просьбе, — продолжал Костенко, доставая другой документ, — провели анализ крови погибшего. В ней тоже имеется наркотик.
— А Скворцов-Шанявский случаем не балуется? — спросил прокурор, прочитав заключение судмедэксперта.
— Вроде нет. Беседовал с его врачом, говорит: не похоже. Сам профессор отрицает категорически. А почему вы об этом спросили?
— Вы, я вижу, впервые сталкиваетесь с наркоманией?
— Что верно, то верно. Читал, конечно, кое-что, но сам…
— О, Павел Иванович, мир наркоманов — жуткий мир! — сказал Мурашовский. — Как правило, их объединяют тёмные интересы. И дела. Разврат, воровство, спекуляция, фарцовка. На кайф нужны деньги, деньги и ещё раз деньги. Огромные деньги! Ведь дурман продают из-под полы. Так что страсти бушуют серьёзные… Но я хочу особо обратить ваше внимание вот на что: путешествие в искусственный рай частенько кончается полным крахом. Моральным и физическим. И тогда один выход — самоубийство.
— Хотите сказать, Сегеди накурился и сиганул?
— Почему бы и нет? Вот вам причина самоубийства.
Заметив, что Костенко глубоко задумался, Мурашовский предупредил:
— Но это только версия, предположение. Надо отрабатывать и другие.
— Да-да, — встрепенулся следователь. — Туману ещё хватает. Жаль, что важный свидетель в отъезде. Возможно, она прояснила бы кое-что.
— Вы имеете в виду Сторожук?
— Её. Жду не дождусь возвращения, сразу же допрошу.
— Хорошо, работайте, Павел Иванович, — отпустил прокурор следователя.
Костенко не знал, что Орыся только что приехала с Сергеем из Ужгорода. Взволнованная Екатерина Петровна тут же сообщила ей о загадочной гибели Романа Сегеди, взбудоражившей весь город.
А о том, что Скворцов-Шанявский задержан милицией, Орысе стало известно от следователя.
Когда она вернулась из прокуратуры, Сергей учинил форменный допрос: зачем вызывали, о чем спрашивали.
— Да все о Ромке, — ответила Орыся. — С кем водился, как себя вёл последнее время. Между прочим, следователь и тобой поинтересовался.
— А я на кой черт ему понадобился? — удивился Сергей.
— Не знаю.
О том, что следователя интересовали взаимоотношения между ней и Скворцовым-Шанявским, Орыся умолчала — бури тогда не миновать.
— И что же ты про меня рассказала? — допытывался Сергей.
— Ничего. Ответила, что это моё личное дело и распространяться не намерена. Следователь отстал.
— Правильно, — одобрительно кивнул он. — А что случилось с Ромой?
— Представляешь, оказывается, он курил гашиш! А я и не замечала.
— Это тебе не алкаш. Пьяного сразу видно, а вот наркомана…
— Что, встречал таких?
— Приходилось. Не сразу разберёшь, когда под кайфом. Ромка-то, а? — покачал головой Сергей. — Кто бы мог подумать?
— Что теперь говорить, — вздохнула Орыся. — Человека нет… На похороны послезавтра пойдёшь?
— Нет! — решительно отказался Сергей. — Не люблю это дело. И вообще, надо подальше мотать отсюда. Надоел ваш Трускавец хуже горькой редьки.
— Куда мотать? — спросила Орыся, поражённая словами Сергея: впервые его что-то задело.
— Да хоть на Северный полюс, — с сарказмом произнёс он. — Как тот француз, который добрался туда один, даже без собак.
— Посмотрела бы я на тебя, — усмехнулась Орыся.
— Пошла бы со мной? — пристально посмотрел на неё Сергей.
Она не поняла: балагурит, испытывает? И на всякий случай ответила:
— Конечно!
Он хмыкнул, потрепал её по щеке.
— Ладно, я поехал.
И вышел, даже не сказав, когда его ждать.
В ту ночь Орыся почти не спала. Перед глазами все время стоял Димка.
«Господи, почти полгода не видела его! — думала Орыся. — Неужто я вечно буду прикована к Трускавцу?»
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля… —
гремела из репродуктора знакомая с детства песня, за окном вагона проносились бесконечные кварталы многоэтажных домов, гигантские заводские корпуса, улицы, захлёстнутые потоками автомобилей.
Глеб Ярцев стоял в коридоре, поражался громадности и необъятности столицы, вспоминал, как приезжал в Москву последний раз. Это было восемь лет назад.
Окончен девятый класс, в табеле исключительно одни пятёрки. Отец сделал ему подарок — взял с собой в командировку.
Отец… С ним всегда было легко и надёжно. Не успели сойти с поезда, как появились двое энергичных мужчин. Машина уже ждала на привокзальной площади. Потом все как в сказке: низко поклонившийся швейцар у входа в чопорный вестибюль гостиницы «Москва». Двухкомнатный номер с видом на Большой театр, роскошный ужин в ресторане. Впрочем, ресторан был каждый день. Обошли все, что находилось на улице Горького. Правда, вечерами Глеб был предоставлен сам себе. Отец возвращался поздно и обязательно навеселе. А наутро сообщал: выбил какие-то фонды, лимиты, запчасти и другие вещи, от которых сын был весьма далёк. Но Глеб не скучал: те двое бойких знакомых снабжали его билетами на концерты и зрелища, труднодоступные даже для москвичей.
Такой и оставалась в его памяти поездка — везде все для них заранее забронировано, приготовлено, предусмотрено…
А теперь? Глеб даже не знал, где остановиться. Ни родственников, ни близких знакомых. Единственное, что оставалось, уповать на Вербицких. Но как они встретят его, Глеб не знал. Раза два он звонил из Средневолжска Вике, разговаривали вроде сердечно. Но одно дело разговор, а другое практическая помощь и поддержка.
Могло случиться и такое, что Вербицких нет в Москве. Мало ли, на даче или на курорте, время-то отпускное.
Что тогда делать? В гостиницах наверняка мест нет. Их всегда нет, а сейчас и подавно — лето.
Говорят, деньги открывают любую дверь. Но как и кому их предложить? Администратору или более ответственному лицу? Глеб никогда не сталкивался с подобными вещами. И потом: раньше, возможно, такие штучки и проходили (считались даже в порядке вещей), а теперь? Предложишь купюру, а тебя, чего доброго, потащат в милицию, подзагоришь ни за понюшку табаку.
Вот с такими мыслями и заботами Ярцев сошёл на перрон Курского вокзала, как он читал, самого крупного в Европе.
Это был Вавилон! Захваченный людским десятым валом, Глеб с трудом отыскал телефоны-автоматы и выстоял огромную очередь, прежде чем добрался до одного из них.
Выхода не было — надо стучаться к Николаю Николаевичу. Если кто и в состоянии помочь с гостиницей, так это он.
Ответил низкий мужской голос. Ярцев ещё подумал, наверное, референт Вербицкого, однако когда Глеб спросил Николая Николаевича, ему ответили, что такого не знают.
— Как же так? — растерялся Глеб. — Он же начальник главка… А я куда попал?
— В Госагропром, — ответили с того конца трубки. — Позвоните в справочную, — посоветовали Глебу и назвали номер.
Битых полчаса названивал он в справочную Госагропрома, а когда наконец прорвался, то получил ответ: в телефонных списках имя Вербицкого не значилось.
С замиранием сердца — а вдруг и тут сорвётся — Ярцев набрал домашний номер Николая Николаевича.
— Вам кого? — послышался незнакомый женский голос.
— Николая Николаевича, Татьяну Яковлевну или Викторию Николаевну, — начал было Глеб, но услышал, как женщина крикнула: «Вика, тебя! Наверное, очередной красавец…»
И через полминуты ему уже отвечала Виктория.
— Глеб! Ты откуда? — радостно воскликнула она, узнав его с первого слова.
— Из Москвы, — ответил Ярцев, растерянно соображая, как бы поделикатнее изложить свою просьбу.
— Наш адрес у тебя есть, так что бери мотор и жми сюда, — предложила Вика.
— Да понимаешь, я прямо с вокзала, — промямлил он. — С чемоданом и прочее…
— А где ты думаешь приземлиться? — спросила она.
— В том-то и дело, что негде, — ответил Глеб. — Пытался дозвониться до твоего папы.
— Зачем? — В голосе Вики послышалось удивление.
— Хотел попросить, чтобы он посодействовал насчёт гостиницы.
— С таким же успехом можешь обратиться по этому вопросу к фонарному столбу, — рассмеялась Вика. Глеб опешил, но не успел ничего сказать, как она уже серьёзно добавила: — Ну что ж, надо выручать земляка. Позвони минут через десять. Идёт?
На всякий случай он позвонил через двадцать.
— Все в порядке, — как о какой-то безделице, просто, по-будничному сообщила Вика. — Езжай в гостиницу «Россия».
И назвала фамилию администратора, к которому следовало обратиться.
Ярцев был так ошарашен, что даже забыл поблагодарить.
И все же, подъезжая к «России», он не до конца верил, что дело улажено, настолько его подавило зрелище рядов интуристовских автобусов, роскошных иностранных лимузинов, разноплемённой и разноязыкой толпы, фланирующей у гостиницы.
Глеб успокоился лишь тогда, когда вошёл в тихий уютный номер, сверкающий чистотой.
Успокоился и подивился — ай да Вика, ай да волшебница!
Он поставил в шкаф чемодан, заглянул в ванную, пахнущую освежителем, потом отдёрнул штору, закрывающую окно во всю стену. И остолбенел от захватывающей дух красоты: перед ним открывалась панорама Кремля с его башнями, дворцами, золочёными куполами храмов и курчавой зеленью деревьев. И дальше, до горизонта, простиралась Москва. Близкая, желанная и… недоступная.
«Почему же недоступная? — вдруг улыбнулся Ярцев, не в силах оторваться от прекрасного вида. — Все в руках человека. Вот она, столица, у моих ног…»
Его размышления прервала телефонная трель. Глеб, недоумевая, кто бы это мог звонить, снял трубку.
— Устроился? — раздался голос Виктории. — Нравится?
— Не то слово! Шик! — Не мог скрыть своего восхищения Ярцев. — А откуда ты узнала номер телефона?
— Голуба, это Москва! Тут все чётко: сделал — доложил. Послушай, у тебя нет никаких планов на ближайшие пять-шесть часов?
— Вольный, как орёл.
— Через двадцать минут спустись к западному выходу. Поедем на дачу к одному моему знакомому. Гарантирую, будет интересно.
— Ну ты даёшь! Я даже не успел залезть под душ.
— Дача на самом берегу водохранилища, накупаешься всласть. Так что прихвати плавки.
«Задала Виктория темп! — подумал Глеб, лихорадочно соображая, что надеть. — Джинсы и рубашку-сафари? Удобно ли? Первый раз к людям… Строгий костюм тоже вроде бы ни к чему, ведь за город направляемся».
Он остановился на вельветовых брюках, трикотажной бобочке, а для вящей солидности накинул кожаный пиджак.
Выйдя на улицу, Глеб стал высматривать зеленую «Ладу-Спутник». Когда он последний раз звонил Вике из Средневолжска, она сказала, что купила машину.
К гостинице одна за другой подруливали «мерседесы», «тойоты», «фольксвагены», «Волги». И вдруг из чёрной «Волги», резко осадившей возле Ярцева, выскочила Вербицкая. Глеб, не успев очухаться, попал в её объятия.
Вика была в легкомысленных голубых брючках из хлопчатки, в куцей кофточке. А на ногах вообще черт-те что — чуть ли не пляжные тапочки.
Она пропустила Глеба вперёд себя на заднее сиденье, а потом села сама.
— Знакомьтесь, — сказала она. — Глеб… А это, — показала Вика на мужчину за рулём, — Леонид Анисимович… И — просто Алик.
Леонид Анисимович, лет пятидесяти, в безупречно белой рубашке с закатанными рукавами и при галстуке, благосклонно кивнул Ярцеву. Алик, сидевший рядом с водителем, протянул Глебу крепкую руку. Ему было за двадцать, и одет он был под стать Вербицкой — в светлых хлопчатобумажных «бананах» и майке с абстрактным рисунком на груди.
Леонид Анисимович тронул машину, аккуратно пробираясь сквозь ряд «иностранок», то и дело поглядывая по сторонам и в зеркало заднего вида.
Глебу показалось, что он рассматривает его.
«Что это за белая мышь?» — подумал Ярцев.
У водителя были светлые-светлые волосы, белесые брови и светло-карие глаза. Руки — в бледных редких веснушках. Он почему-то напомнил Глебу растения, выросшие под камнем или доской.
Рядом с ним Алик гляделся ядрёным яблоком — каштановая шевелюра, румянец во всю щеку, проступающий даже сквозь загар.
— Глеб, прошу обратить внимание на торжественность момента: едешь рядом с самим Александром Еремеевым. Надежда русской поэзии! — сказала Виктория.
— Очень приятно, — в тон ей ответил Ярцев, чувствуя, однако, неловкость: в словах Вики звучала нескрываемая ирония, а объект её тут же, в машине.
Но, взглянув на Алика, Глеб понял: тот и не собирается обижаться, наоборот, комплимент девушки доставил ему истинное удовольствие — Еремеев расплылся в самодовольной улыбке.
Вокруг бурлила, шумела Москва. «Волга» двигалась в плотном потоке машин.
Будучи сам водителем, Глеб отметил про себя, что Леонид Анисимович классный шофёр. Так спокойно и плавно вести автомобиль на нервных московских перекрёстках может только истинный мастер.
Глеб гадал, кто такой Леонид Анисимович. Друг Николая Николаевича? Вполне может быть. На человека из художественной среды он вроде не похож.
Тем временем сидящие впереди мужчины стали обсуждать, как лучше выехать на нужное шоссе, а Вербицкая спросила:
— В отпуск приехал, отдохнуть?
— Скорее — в командировку, — ответил Ярцев. — В ноябре у меня защита, надо в Ленинке посидеть, в архивы заглянуть.
Глеб лукавил. Конечно, отправляясь в Москву, у него было в плане посетить Ленинскую библиотеку. Но главное, для чего он приехал, — вплотную заняться обменом средневолжской квартиры, доставшейся от отца.
Мечта переехать в столицу жила в его мыслях давно. И вообще, в их семье это было вроде заветной цели. Идефикс. И наверное, в сына вложил её Семён Матвеевич. Ему самому, увы, осуществить задуманное не удалось. Отец успокоился на тихом деревенском кладбище, а Глеб словно принял эстафету от Ярцева-старшего. Он даже считал, что ему куда нужнее перебраться в Москву. Впереди — целая жизнь, которую можно и должно сделать в самом главном городе страны. Средневолжск казался Глебу чем-то вроде костюмчика, из которого он уже вырос. Университет, окружающие давно приелись, а главное, не соответствовали, по мнению Ярцева, его способностям и возможностям. Он мог проявить себя, развернуться только там, где решались глобальные проблемы исторической науки, где имелись академические институты, задающие тон всем остальным, где из первых рук раздавались положения, почёт и привилегии.
И вот сейчас у него стала появляться уверенность, что переезд произойдёт так же гладко и успешно, как он поселился сегодня в одной из лучших гостиниц Москвы.
— Ну а как Николай Николаевич? — спохватившись, спросил Глеб. — Мама?
Этим следовало поинтересоваться пораньше.
— У него теперь забот больше, чем в главке, — ответила серьёзно Вика.
— Ядохимикаты, удобрения, посадочный материал, ранние овощи… Ни минуты покоя. Ужас!
— Так его назначили?.. Представляю, сколько легло на плечи, — понимающе кивнул Глеб.
— Целых шесть соток! — округлила глаза Виктория.
В машине заулыбались. Глеб понял, что его разыгрывают.
— Он теперь командует на своём участке в садовом кооперативе, — пояснила Вербицкая. — Пенсионер… Мы к нему наведаемся. Старикан будет рад тебя видеть.
Машина вырвалась наконец на загородное шоссе.
Леонид Анисимович прибавил скорость.
— Когда ты наконец подаришь сборник? — спросила Вика Еремеева.
— Не волнуйся, тебе первой презентую, — ответил Алик, в голосе которого послышались грустные нотки. — В издательстве мурыжат…
— Драться за себя надо, — подзадоривала его Вербицкая.
— Ты что, с луны свалилась? — обернулся к ней Еремеев. — Или прикидываешься? Сама же знаешь, как относятся к нам, молодым! Эти заслуженные, со званиями, лауреаты обступили все кормушки, как тараканы. Насмерть стоят! Не дай бог проскочит что-то талантливое, яркое! Что же тогда будут делать они, серые и убогие?
— Это ты зря, братец, — заметил Леонид Анисимович. — Зачем так мрачно?
— Я ещё мягко выразился! — распалился поэт. — Из года в год, десятилетиями, одни и те же имена! Словно Россия оскудела на новые таланты! Это же мафия: друг друга хвалят, друг друга издают, друг друга награждают…
— Настоящий талант все равно пробьётся, — не соглашался Леонид Анисимович. — Рано или поздно признают.
— Ну да, сначала в гроб положат, а уже потом слезу утирают: какого человека потеряли! — Видя, что Леонид Анисимович хочет что-то возразить, не дал: — Да-да, так было с Николаем Рубцовым, Вампиловым, Высоцким» Шукшиным! При жизни их не больно чествовали. В президиумы не сажали, наградами не забрасывали…
— Шукшину же дали Ленинскую, — сказала Вика.
— Посмертно! — грозно поднял палец Алик. — Когда уже стал не опасен для маршалов и генералов от литературы.
— Зол ты, Алик, зол, — попытался успокоить его Леонид Анисимович. — А злость — плохой советчик. Я не хочу спорить с тобой, но, как мне кажется, для того, чтобы писать стоящие книги, нужно узнать, почём фунт лиха.
— Давайте, давайте, — осклабился Алик, — ещё про Горького скажите, про его университеты…
Ярцев слушал и любовался прекрасной природой Подмосковья. Берёзовые рощи сменялись вековыми соснами, потом они ехали мимо густого молодого ельника. Проскочили какой-то дачный посёлок с богатыми домами на обширных участках. Затем дорога углубилась в лес, и «Волга» некоторое время мчалась одна: не было ни встречных, ни попутных машин. Слева мелькнула голубая ширь, запятнанная белыми парусами яхт.
— Красота, а? — кивнула в окно Вика.
— Изумительно, — согласился Глеб.
— Скоро будем на месте.
Из-за поворота навстречу им выехал иностранный автомобиль.
«Вольво», — отметил про себя Ярцев, когда лимузин, сверкая серебристым кузовом, проскочил мимо.
— От Решилина небось, — заметил Алик.
— От кого же ещё, — усмехнулся Леонид Анисимович. — Он за рубежом гремит, пожалуй, больше, чем у нас в стране.
«Решилин, Решилин… — повторил по себя Ярцев. — Что-то очень знакомое».
— Художник, что ли? — вспомнил он вслух.
— Точно, — кивнула Вика. — К нему едем.
Глеб чуть не подскочил, не переставая удивляться Вике: иметь в приятелях такую знаменитость!
«Волга» свернула и скоро остановилась у высокого глухого забора. Алик выскочил из машины и нажал кнопку у ворот. Звонка не было слышно, но из глубины двора раздался лай нескольких собак. Минуты через две в щели забора мелькнули чьи-то глаза, и ворота медленно раздвинулись.
— Привет, Оленька! — помахал Леонид Анисимович женщине лет тридцати, стоящей в окружении трех громадных псов. Она была одета в яркий ситцевый сарафан. Миловидное русское лицо её было обрамлено прямыми волосами, сходящимися за спиной в тугую длинную косу.
— Вот молодцы, вот молодцы, — приветливо проговорила Ольга. — Как обещали, так и приехали.
Леонид Анисимович въехал на участок и заглушил мотор. Взяв с сиденья какие-то свёртки, он вручил их женщине.
— Прошу, все, что просили.
— Ой, спасибочки, — обрадовалась Ольга. — Сейчас рассчитаюсь с вами.
— Там написано сколько, — сказал Леонид Анисимович.
Глеб заметил на свёртках какие-то цифры, написанные карандашом.
Вика поздоровалась с женщиной как со старой знакомой. Алик, видимо, был здесь тоже не в первый раз.
— А это мой земляк, — представила Глеба Вербицкая, — вот с таких лет дружили.
— Милости просим, — чуть поклонилась Ольга.
И Ярцеву стало легко и приятно от этой простоты, которой веяло от женщины.
— Сестра Решилина, — шепнула ему Вика, когда все двинулись в глубь участка. — За хозяйку здесь.
Участок был огромный и казался пустынным, так как деревьев здесь росло мало. Преимущественно сосны, уходящие высоко в небо своими старыми вершинами. На солнечной стороне вдоль забора тянулся малинник с аккуратно подвязанными к шестам стеблями. Возле него стояло несколько ульев.
Дом располагался на противоположной стороне участка. Он напоминал деревянные хоромы, которые Глеб видел на Архангельщине и Псковщине, куда ездил как-то в турпоездку. Рубленая махина, пологая лестница в виде крытой галереи вела на второй этаж. Крыша покрыта дранкой. От строения веяло замшелой стариной.
Словно в дополнение к ней на участке косил траву высокий старик с косматыми волосами и бородой, одетый в белую холщовую рубашку и порты.
Когда прибывшие подошли к нему, косарь вытер рукавом пот со лба и произнёс:
— Точность — вежливость королей.
«Батюшки, — остолбенел Ярцев, — так это же Решилин!»
Вблизи ему можно было дать чуть больше пятидесяти. Это издали художник выглядел стариком.
Решилин поздоровался со всеми за руку, а когда очередь дошла до Глеба, спросил:
— Вы и есть тот самый школьный приятель Вики? — Глеб кивнул. — Что ж, давайте знакомиться: Феодот Несторович.
Ярцев назвал себя, поражаясь, как точно соответствовало облику хозяина его имя, которое уводило в прошлые века, воскрешало предания и поверья.
Решилин был бос. Говорил он на «о».
— Ведро нонче, — посмотрел на небо художник. — Окунуться будет в самый раз. — Он гостеприимным жестом показал в ту сторону, где был край участка, заросший ветлами.
Гурьбой пошли к дому. Ярцева Решилин буквально заворожил. Его размеренный голос, сухопарая жилистая фигура, угадывающаяся под просторной крестьянской одеждой.
Глеб вспомнил все, что читал и знал о художнике. Любая выставка — сенсация, попасть невозможно. А на выставках споры, споры до хрипоты. Пару репродукций решилинских творений Ярцев видел в каком-то журнале — не то Куликовская битва, не то битва при Калке, в общем, сюжет исторический.
Подошли к дому. За ним был разбит цветник. А дальше, за частоколом ветл, была вода. Она рябилась солнечными зайчиками, манила, притягивала к себе.
На высоком противоположном берегу горбатился лес, а мимо него стремительно летела на подводных крыльях «Ракета».
— Батюшки! — вдруг вскричала Ольга. — Потравит цветы!
Глеб обернулся. В зарослях настурции он увидел… барашка. Заметив бегущую к нему женщину, барашек взбрыкнул и пустился наутёк. Алик присоединился к погоне. Животное, ловко увёртываясь от людей, кругами двигалось по цветочным грядкам, запуталось в гибких лозах климатиса, обвившего декоративную решётку. И вот так, в попоне из листьев и сиреневых звёзд, угодило в руки крепкого мужчины, вышедшего из времянки, расположенной у цветника.
Барашек, жалобно блея, вырывался, но его держали намертво.
— Гляди-ка, — улыбнулся Леонид Анисимович, — шашлык сопротивляется!
Подошли запыхавшиеся Ольга и Алик.
— Вот чертяка, — вздохнула хозяйка. — Слопал три куста настурции.
— Губа не дура, — откликнулся Леонид Анисимович. — В Южной Америке это деликатес. Особенно почки и незрелые плоды.
— Ничего, — засмеялась Ольга, — сейчас сам деликатесом станет. Ты уж расстарайся, Алик, — обратилась она к поэту.
— Будьте спокойны, — заверил Еремеев.
— И сразу начинай, — продолжала хозяйка. — А то пока забьёте, пока освежуете…
— Не-не! — в ужасе замахал руками Еремеев. — Только не это! Чтоб я живое существо!..
— Ну и мужики пошли, — покачала головой Ольга. — Хоть помоги Тимофею Карповичу, — кивнула она на здоровяка, который продолжал прижимать к себе обречённого на заклание агнца.
— Увольте, — взмолился поэт. — Я даже смотреть не могу.
Хозяйка сделала жест здоровяку, и тот, держа барашка могучей рукой, пошёл за времянку.
— Откуда сей агнец? — спросил Алик.
— С Кубани, — ответила хозяйка. — Вчера земляки привезли.
Поднялись на застеклённую веранду. Исчезнувшая куда-то на минуту Ольга вернулась и протянула Леониду Анисимовичу деньги. Тот как-то очень профессионально развернул веером в руке купюры, затем полез в карман и, достав портмоне, протянул сдачу — рубль с копейками.
— Да что вы, — отмахнулась хозяйка.
— Нет, Оленька, — спокойно сказал Леонид Анисимович, — мне вашего не надо, вам — моего. Дружбе это не вредит, наоборот.
Она приняла деньги и стала разворачивать содержимое свёртков, закладывала в холодильник, стоящий тут же, на террасе. Пара батонов сырокопчёной колбасы, баночки с икрой, что-то ещё, завёрнутое в вощёную бумагу.
Переодевались для купания в комнатах нижнего этажа. Глеб понял, что ему досталась спальня. В ней стоял простенький шкаф для белья, скромная деревянная кровать, покрытая дешёвым байковым одеялом, и тумбочка с ночником.
На тумбочке лежала Библия в старинном кожаном переплёте с золотым обрезом.
«Интересно, чья это келья? — подумал Глеб. — Может, кого-нибудь из родителей Решилина?»
Он взял в руки книгу, с благоговением перелистал. На Глеба всегда производили сильное впечатление старинные издания, а это было позапрошлого века, с красочными заставками.
Когда Ярцев уже в плавках спускался по ступенькам крыльца, за времянкой раздался предсмертный крик барашка. Сердце кольнула жалость.
«Что ж поделаешь, человек живёт потому, что убивает животных», — настроил себя Глеб на философский лад и направился к воде.
За ветлами были широкие мостики на сваях. Стояло несколько шезлонгов. В одном из них сидел Решилин в тех же полотняных брюках, но без рубашки. На его голой груди висел золотой крестик. Другое кресло занимал пожилой мужчина в чёрных «семейных» трусах и соломенной шляпе.
Остальные гости, выходит, ещё переодевались.
— Лезьте в воду, она сегодня хороша, — посоветовал Глебу хозяин, почему-то посчитав излишним представить его мужчине.
— Спасибо, — ответил Глеб. — Немного остыну.
Действительно, надевать кожаный пиджак не следовало — запарился. Он устроился в кресле. Между Решилиным и мужчиной возобновился прерванный разговор.
— Что мы творим! — печально вздыхая, говорил гость. — Неужто трудно понять, что пора остановить разрушение памятников старины! Это варварство. Ей-богу, сто раз прав митрополит Киевский и Галицкий Филарет, когда говорит, что те, кто сегодня спокойно взирает, как разрушаются памятники нашей культуры, но не позволяет восстановить их, поступают не лучше тех, кто разрушал их в тридцатые годы. А в чем-то даже хуже.
— Это почему же? — прервал Решилин.
— Так те хоть не лицемерили. А эти говорят одно, а делают другое. А ведь ещё в Евангелии сказано: пусть у вас будет — да — да, нет — нет. Дорогой Феодот Несторович, если мы не опомнимся, не забьём во все колокола, то проснёмся однажды и увидим, что навсегда исчезла, погибла наша национальная культура! Потому что будет умерщвлён её дух, её любовь к отчей земле, её красота, её великая литература, живопись, философия!
— Верно, ох верно, Пётр Мартынович, — задумчиво кивал Решилин, зажав в кулаке клок бороды.
Они оба замолчали, глядя на воду. Глебу показалось странным, как можно на виду такой красоты вокруг высказывать эти безнадёжные слова.
— Где же выход, Феодот Несторович? — прижав руки к груди, вопрошал Пётр Мартынович.
— Вы сами ответили — звонить во все колокола, — сказал художник.
— Кто услышит, — грустно продолжал гость. — Возьмите, к примеру, реставрационные работы. К восстановлению историко-архитектурных сооружений относятся как к ремонту коровника или бани, честное слово! Не поверите, я специально заехал по пути в Москву в Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Только на моей памяти его реставрируют пятнадцать лет. А работам конца не видно! Более того, угробили огромные средства, а толку? Из двадцати шести памятников, до которых, с позволения сказать, дошли руки реставраторов, сданы лишь три! Да и те в ужасном виде! Сплошные недоделки. Дверные коробки вываливаются, полы сгнили, цементная отмостка отошла от стен… На церковь Преображения шестнадцатого века смотреть больно: водоотвод ухитрились сделать так, что заливает южный и северный фасады, от побелки и обмазки остались одни воспоминания!
— Печально все это, печально, — покачал головой Решилин.
— Сердце кровью обливается! — воскликнул Пётр Мартынович. — Не восстанавливают, а губят! Представляете, ещё шесть — десять лет назад специальной комиссией было указано на губительное действие цемента при реставрации фресок — плесень от него идёт. Нет же, опять гонят цемент! Цементным раствором заполняют трещины, делают из него отмостки и даже полы!
Послышались голоса, и показались Вика, Леонид Анисимович и Алик. Довольно дряблое тело Леонида Анисимовича было покрыто светлыми волосами. А у Еремеева, несмотря на возраст, уже «прорезался» животик.
Вербицкая была в очень смелом купальнике.
«А что, такую фигуру скрывать грех», — подумал Ярцев, любуясь Викой.
Оказалось, что приехавшие с Глебом гости тоже не были знакомы с Петром Мартыновичем. Представляясь, Леонид Анисимович назвал свою фамилию — Жоголь.
— Предлагаю массовый заплыв! — весело провозгласила Вика.
Глебу было интересно посидеть и послушать беседу Решилина с его пожилым гостем, который, как выяснилось, был когда-то учителем Феодота Несторовича, но отставать от компании тоже не хотелось. И он бултыхнулся с мостков в воду вслед за остальными.
Вербицкая отлично плавала, но и Ярцев не сдавался. Отмахав метров сто пятьдесят, Глеб и Вика решили отдохнуть, перевернулись на спину.
— Тебе нравится? — отдышавшись, спросила Вербицкая.
— Спрашиваешь! — откликнулся Глеб.
У него была масса вопросов к Вике, но он задал один:
— Почему ты не ответила на моё послание? И на поздравление с Восьмым марта?
— Вот если бы мы были в Венесуэле… — сказала Вербицкая.
— А что? — не понял Ярцев.
— Там существует скидка на послания влюблённых. — Она улыбнулась. — Ты хоть и не мой возлюбленный…
— Нет, там правда так? — пропустил последнее замечание мимо ушей Глеб.
— Факт. Но при условии, что письмо будет вложено в розовый конверт.
— А если я обману и вложу в такой конверт не любовное, а деловое письмо?
— Для этого есть специальная служба контроля, которая имеет право вскрывать розовые письма, — сказала Вика.
— Значит, пожалела для меня шесть копеек, — деланно обиделся Ярцев.
— Шучу, конечно… Просто не люблю писать. Даже поздравительные открытки. Телефон — другое дело.
Под ними заколыхалась вода — накатила волна от проходившего теплохода.
— Как в колыбели, — блаженно произнёс Глеб.
— Чудо! — тихо откликнулась Вика.
— Послушай, а кто такой Жоголь? — не выдержав, спросил Ярцев, которому показалось, что Леонид Анисимович довольно ревниво относится к их отношениям с Вербицкой.
— Отличный мужик, — ответила Вика. — Мой друг. Удовлетворён?
Глеб почувствовал, что девушка его подзадоривает.
— Я не о том, — поправился он. — Где работает?
— Представь себе, замдиректора гастронома.
— Бывает, — произнёс Ярцев с усмешкой.
— Глеб, — фыркнула Вика, — тебе не личит быть обывателем. Лёня… — Она запнулась и поправилась: — Жоголь среди торгашей белая ворона. Между прочим, был пианистом, и неплохим. Не повезло человеку, в автомобильной аварии сломал руку. Раздробило кости… Все! Карьере конец.
— А-а, — протянул Глеб. — Понятно.
Ему стало неловко за свои намёки. Но то, что Вербицкая назвала Жоголя уменьшительным именем, не ускользнуло от внимания.
— Советую тебе подружиться с ним, — сказала Вика.
— Зачем?
— Пригодится, — не стала разъяснять она.
Глеб не понимал, зачем это ему может понадобиться. Вот сойтись бы поближе с Решилиным — знаменитость!
— Ну, если ты советуешь, постараюсь, — ответил он.
Поплыли к мосткам.
С участка тянуло дымком: Алик приступил к своим обязанностям. Решилин, сидя в шезлонге, рассматривал цветные фотографии, которые передавал ему Пётр Мартынович, извлекая из старенького портфеля. Жоголь, стоя сзади художника, тоже с интересом смотрел на снимки.
Феодот Несторович хмурился, вздыхал, недобро качал головой. Глеба разбирало любопытство, но из деликатности он оставался в сторонке.
— Варвары мы, что ещё сказать, — мрачно произнёс художник, отдавая Вике просмотренные фотографии.
Теперь и Ярцев мог видеть, что так возмутило Решилина.
Церковь с облупившимися стенами и обшарпанными куполами. Звонница без колоколов. Затем — росписи внутри храма. Они являли печальное зрелище: сохранились немногие, остальные были изуродованы временем и рукой человека. Особенно резанул снимок, на котором виднелась корявая надпись: «Тут был Костя Томчук»… Прямо на фигуре какого-то апостола.
Дальше шли на фотографиях увеличенные фрагменты — лики святых, части их одежды, пейзажа.
— Слава богу, с мёртвой точки уже сдвинулось, — сказал Пётр Мартынович. — Здание начали реставрировать, а вот с росписями загвоздка.
— Средств нет? — спросил Решилин.
— Деньги-то выделили, но не могу найти подходящих мастеров. Понимаете, Феодот Несторович, здесь нужна не просто имитация древних живописцев. Так ведь у нас обычно принято считать реставрацию. Я против такого подхода категорически! Чтобы восстановить эту красоту, нужен истинный художник, знаток! Это же памятники четырнадцатого века — расцвет русской иконописи. Вот, посмотрите…
Пётр Мартынович достал новый снимок.
Решилин долго смотрел на него и наконец тихо, торжественно произнёс:
— Господи, да этому творению цены нет!
Все сгрудились вокруг него, глядя на чудом сохранившееся изображение святого.
— Вот-вот! — заволновался Пётр Мартынович. — И я говорил! Может быть, даже сам Андрей Рублёв!
— Ну что вы, какой Рублёв, — замотал головой Решилин. — Санкирь! Обратите внимание на густо-оливковую гамму.
— А что такое санкирь? — полюбопытствовал Жоголь.
— Основной тон лица, — пояснил художник. — А их черты? Резкие, суровые. И все цветовое решение… Видите, как контрастируют темно-жёлтые и темно-синие одежды с широкими золотыми пробелами ярко-красных и зелёных тонов ореола. Конечно, не Рублёв! У него другая манера письма — мягкая, воздушная, утончённая. Вспомните хотя бы его «Троицу», «Спас в силах»…
— Так чья же это работа, как вы думаете? — Пётр Мартынович глядел на художника, как на оракула, не скрывая благоговения.
— Скорее всего, Даниил Чёрный, — отстранил от себя снимок Решилин. — Тоже, скажу я, талантище! Мастер от бога! Они были друзьями с Рублёвым. Вместе расписывали храмы. Некоторые источники утверждают, что он был учителем Андрея, как старший по возрасту…
Вербицкая вернула Петру Мартыновичу фотографии. От волнения тот никак не мог засунуть их в портфель.
— Феодот Несторович, дорогой, как же отдавать в руки каким-то ремесленникам такое сокровище? А ежели испортят? Может, посоветуете, кого пригласить?
— Надо подумать, — ответил Решилин.
— А сами? — Во взгляде Петра Мартыновича была мольба и надежда. — Лучше вас никто не справится! Заплатим хорошо, а уж…
— При чем тут оплата? — перебил его художник. — Вот если бы Рублёв! Он мне ближе. Да что там ближе — чувствую каждый его мазок, каждую линию.
Разговор неожиданно был прерван.
— Небось проголодались? — появилась из кустов Ольга. — Просим к столу. И поживее, шашлык ждать не может.
Повторять не пришлось — все дружно потянулись на участок.
Возле времянки был накрыт стол: свежие помидоры, огурчики, редиска, зелёный лук и разнообразная пахучая зелень. Глеб отметил, что из деликатесов, привезённых Жоголем, ничего не подали. Зато крепкие и прохладительные напитки имелись в изобилии.
Чуть в стороне стояло небольшое сооружение из красного кирпича с невысокой трубой, напоминавшее камин. В нем и готовился над раскалёнными углями шашлык. Запах дыма и жареного мяса плыл в воздухе. У Глеба засосало в желудке.
Возле очага священнодействовал Алик, время от времени переворачивая шампуры. Тут же на корточках сидел Тимофей Карпович. Он брал из кучи поленья и перешибал ребром ладони, словно это были лучины.
— Ну, силён мужик! — тихо прошептал на ухо Вике Ярцев.
— Не бойся, не услышит, — сказала Вика. — Тимоша глухонемой. С рождения. Понимает только по губам.
— Откуда он?
— Так это же муж Ольги.
Сели за стол. Тут же возле Решилина устроились на траве все три собаки, глядя хозяину прямо в глаза.
— Смотрите-ка, вот преданность! — умилился Пётр Мартынович.
— Просто мяса ждут, — усмехнулся Жоголь, тем временем наполняя рюмки и бокалы. Себя он пропустил — за рулём, Решилина тоже обошёл: перед художником Ольга поставила стакан молока. Пётр Мартынович осторожно поинтересовался, почему хозяин не хочет выпить с гостями рюмочку.
— Указ чтит, — поддел Решилина Жоголь. — Антиалкогольный.
— У меня свой указ, — сказал художник. — От давних, славных времён. Помните, Пётр Мартынович, какой обет давали иконописцы: когда творишь, не смеешь сквернословить, к зелью прикасаться и вообще иметь дурные мысли…
— Как же, как же, читал, — закивал тот. — Отсюда такой свет в их работах. Благолепие.
— И сила божеская, — как-то подчёркнуто значимо произнёс Решилин. — Сила, которая творила чудеса! Останавливала и обращала вспять врагов.
— Вы имеете в виду Владимирскую богоматерь? — не удержавшись, осмелился вставить своё слово Ярцев.
— Да, пример, пожалуй, самый яркий, — сказал художник. — Знаменательное событие.
— Какое событие? — встрепенулась Вика.
— Да, какое же? — тоже заинтересовался Жоголь.
— Глеб, вы, кажется, историк, — посмотрел на Ярцева Решилин. — Наверное, можете рассказать подробнее моего.
Взоры всех обратились на Глеба.
— В общем, это для учёных до сих пор загадка, — немного робея, начал он. — Видите ли, ещё с двенадцатого века в Успенском соборе Владимира пребывала чудотворная икона. Очень почитаемая святыня Северо-Восточной Руси. Называлась она Владимирская богоматерь. И вот в тысяча триста девяносто пятом году, когда над Москвой нависла смертельная угроза — на престольную в это время надвигались орды Тамерлана, — великий князь Московский по совету митрополита Киприана решил перенести икону в столицу. Заметьте, враг уже захватил Елец… И как только Владимирскую богоматерь доставили в Москву, Тамерлан ни с того ни с сего вдруг повернул назад и ушёл в степи. Понимаете, без всякой объяснимой причины! Для историков во всяком случае.
— Почему же необъяснимой, — слегка улыбнулся Феодот Несторович. — Святая Мария всегда почиталась как заступница русского народа. Так и говорили тогда — крепкая в бранях христианскому роду помощница…
Ярцев хотел было возразить, что скорее всего поведение Тамерлана объяснялось куда более прозаически — например, болезни, падеж лошадей или смута, да мало ли что ещё — просто об этом не имелось пока документов и свидетельств. Но не решился.
Да и всеобщее внимание переключилось на подошедшего Алика. Блюдо с шампурами, на которых ещё шипело с румяной корочкой мясо, исходящее немыслимым ароматом, водрузили на середину стола.
Первый бокал подняли за Еремеева, что тот воспринял как должное. А похвалу Алик действительно заслужил: шашлык был нежный, сочный, прямо губами можно было жевать.
Ярцев отметил, что Тимофей Карпович не сел за общий стол, продолжая возиться у очага. Что касается Ольги — она все время была на ногах: то хлеба подрежет, то поднесёт ещё из дома овощей, на которые напирали гости, то, убрав использованные бумажные салфетки, положит новые. Освободившиеся шампуры она мыла в тазике, а Еремеев тут же насаживал новую порцию мяса.
Глеб почувствовал, что тяжелеет, грузнеет от сытной еды. Да и вино действовало расслабляюще. Впрочем, остальных тоже, видимо, разморило. Феодот Несторович и Пётр Мартынович ударились в воспоминания.
— Трудные времена выпали на вашу юность, ой нелёгкие, — качал головой Пётр Мартынович. — Послевоенная разруха…
— Знаете, теперь трудности как-то забылись, осталось только светлое, — с ностальгической грустью произнёс хозяин. — Иной раз думаю: самые лучшие годы жизни…
— Вот-вот, молодость! Ей все нипочём! Смотрел я на вас, худых, в заплатанных штанах, и так вас жалко было. Вспоминаю дни, когда выдавали месячный паёк… Вот праздник был! Не забыли?
— Ещё бы! У меня до сих пор во рту вкус того чёрного хлеба с мякиной, яблочного повидла. А уж омлет из американского яичного порошка! Деликатес! Дня три стоял пир, а потом снова впроголодь. И ничего! Радовались жизни, с девчонками в кино, на танцы бегали. Вот с одёжкой была сущая беда. Но голь, как говорится, на выдумки хитра. Недостающие детали одежды дорисовывали прямо на голом теле. Хорошо художники. Получалось очень даже натурально: носки, тельняшка… Правда, завхоз страшно ругался, что краски изводим, не хватало для занятий.
— Только ли красок! Холсты и кисти — тоже проблема. А какая была тяга к учёбе! — продолжал Пётр Мартынович. — С практики привозили по двести — триста этюдов. Не то что теперь! У нынешних студентов художественных институтов всего завались. Даже такие фломастеры, которыми в самый лютый мороз писать можно… А почему-то двадцать — тридцать этюдов за практику считается пределом.
Их беседу прервал зуммер. Глеб удивлённо огляделся: откуда? Тут Решилин взял со стула телефонную трубку… без проводов, но с антенной. Это ещё больше заинтриговало Ярцева. За столом все притихли.
Глеб, распираемый любопытством, спросил Вику, что это за электронная диковина.
— Никогда не видел? — удивилась девушка.
— Откуда?
— Феодоту Несторовичу привёз один почитатель — японец. Действует в радиусе не то двухсот, не то пятисот метров от аппарата.
— А можно такой достать?
— В Москве все можно, — улыбнулась Вербицкая.
Решилин закончил разговор, и тут подоспела вторая порция шашлыка.
— Оленька, если не сядешь с нами, тут же поднимемся и уедем! — с шутливой серьёзностью пригрозил Жоголь.
Хозяйка стала отнекиваться, но Леонид Анисимович чуть ли не силком усадил её рядом с собой, положил на тарелку овощей, выбрал лучший шампур с шашлыком и налил вина.
— Штрафняк, — сказал он с улыбкой. — До дна.
— Тогда, за вас, — выпила Ольга.
Она поинтересовалась, что слышно о бывшем директоре гастронома, которого недавно арестовали.
— Все ещё идёт следствие, — ответил Жоголь.
— А новый навёл порядок?
— Цареградский? — Жоголь зло усмехнулся. — Наве-ел!.. Одного хапугу посадили, другого поставили, ещё похлеще.
— Батюшки! — всплеснула руками Ольга. — Неужто?.. А в «Вечерке» на прошлой неделе его статья была. Цареградский прямо громы и молнии мечет на головы взяточников и расхитителей!
— Клюнула, значит? — покачал головой Леонид Анисимович. — Впрочем, не только ты. Знаешь, где он до этого работал? В Минторге, заместителем начальника главка.
— По шапке дали, что ли?
— Ход конём! Заявил, что готов возглавить любой проворовавшийся магазин! Обязуется, мол, сделать из него образцовое предприятие? Тоже мне, новая Гаганова выискалась! Короче, назначили с помпой. Хотели прежний его оклад сохранить, нет, отказался. Эксперимент, говорит, должен быть чистым. Опять же на свой политический капитал работал! Более того, сам, представляете, сам директор гастронома простоял одну смену за прилавком! Личный, так сказать, пример. И ещё просил не афишировать свой, так сказать, подвиг. И ведь верно рассчитал — подхалимы, естественно, растрезвонили повсюду. Через несколько дней бац — съёмочная группа с телевидения! Интервью и так далее… Не смотрели?
— Нет, — ответила Ольга.
— Зато теперь стрижёт купоны без зазрения совести.
— В каком смысле?
— Обложил данью заведующих секциями, а те — продавцов. — Жоголь с усмешкой посмотрел в сторону Глеба. — Как когда-то завоёванные страны.
— Так ведь и прежнего вашего директора за это посадили, — сказала Ольга.
— Тот неумно работал. Брал сам, а то, что собирал, почти все отдавал.
— Кому? — не унималась хозяйка.
— Кому… Наверх, ОБХСС, ревизорам, грузчикам да шофёрам. Себе оставлял, можно сказать, рубли. А Цареградский почти весь навар кладёт в свой карман. И поборами занимается не лично, а через своего «шестёрку» — старшего товароведа Ляхова. Прежнего-то новый директор уволил. С Ляховым Цареградский ещё со студенческих лет вась-вась, в одной группе в институте учились.
— Значит, директор берет взятки с завсекциями, — загибал пальцы Пётр Мартынович, — те — с продавцов… А продавцы?
— С покупателей, дорогой мой, с вас, откуда же ещё! — ответил Леонид Анисимович. — Обсчёт, обвес…
— Но каким образом? Я вчера покупал в универсаме колбасу: электроника. Вес — до грамма, цена — до копейки.
— Э-э, — протянул с улыбкой Жоголь. — Техника в руках человека! Вон в одном московском ресторане поставили финскую электронную кассовую систему. И что вы думаете? Её быстренько вывели из строя.
— Не знаю, не знаю, — бормотал Пётр Мартынович в замешательстве. — Видеть, что творится, и…
— Дорогой Пётр Мартынович, попробуйте залезть в мою шкуру, — обиделся замдиректора гастронома. — Ну пойду в управление, в министерство, скажу: Цареградский — взяточник! Там, естественно, спросят: где доказательства? Никто же не признается! А мне ещё и аукнется: порочу передового директора! Разве не так?
— Неужто нет других способов?
— Писать анонимки? Не в моем характере. Если я имею что сказать, то делаю это в открытую. Хотя на меня и смотрит кое-кто: взяток не беру, продукты не ворую. Белой вороной считают.
— Ох и не сладко, наверное, вам, Леонид Анисимович! — посочувствовала хозяйка.
— Как в стае волков, — осклабился Жоголь.
— Как же они вас терпят? — спросил Пётр Мартынович. — Недаром говорят: с волками жить — по-волчьи выть. А вы не желаете. Не растерзают?
— Сдюжим, — улыбнулся Леонид Анисимович.
— Когда же начнут наводить порядок в торговле, а?
— Сначала нужно вырвать всю сорную траву! — решительно сказал Леонид Анисимович. — С корнем!
— Куда уж больше. Только и читаешь в газетах: там арестовали целую группу, там посадили чуть ли не всех ответственных лиц.
Пётр Мартынович вдруг спохватился, глянув на часы:
— Как ни славно с вами сидеть, а нужно в город. Пока обойдёшь всех чиновников, соберёшь десятка полтора подписей…
— Мы тоже скоро в Москву, — сказал Жоголь. — Хотите, подбросим?
— Вот было бы здорово! — обрадовался Пётр Мартынович, и, смущённый, попросил Решилина показать свои картины.
— Ради бога, — просто ответил художник.
Гости двинулись к дому.
Глеб спросил у Вики, кто занимает спальню, где он переодевался.
— Феодот Несторович… А что?
— Словно келья отшельника. Библия…
— Его настольная книга.
— А семья у Феодота Несторовича есть?
— Нет.
— Он что, никогда не был женат?
— Когда-то в молодости был. Разошёлся. Говорит, мешало ему писать картины, полностью отдаваться живописи.
— Прямо по Толстому…
— Что ты имеешь в виду?
— Лев Николаевич где-то высказал мысль: если, мол, сильно полюбишь женщину, то не сделаешь того, что задумал в жизни.
— А сам был очень привязан к Софье Андреевне. Вон сколько детей наплодил.
— Великие люди толкают идеи, но вот всегда ли следуют им? — усмехнулся Глеб.
Ярцев оделся — появиться в плавках в мастерской посчитал кощунством — и поднялся на второй этаж. Он невольно зажмурил глаза: после полутёмной лестницы огромная, во весь этаж, комната полыхнула ярким освещением. Один скат крыши, — его не видно, когда идёшь от ворот к берегу, — был застеклён, и солнце заливало помещение. Его свет словно ещё больше раздвигал стены. Пахло свежеструганым деревом, олифой.
Решилин, Жоголь и Пётр Мартынович, стоявшие в противоположном конце у небольшого верстака, словно затерялись в этом пространстве.
Ярцев огляделся. Куда ни посмотри — везде картины.
Пересекая мастерскую, Глеб ощутил странное волнение — словно вступил в храм.
Решилин держал в руках доску для будущей картины.
— Я, видите ли, не признаю холст, — объяснил он. — Разве можно сравнить! — Художник нежно погладил обработанную золотистую поверхность, на которой были чётко видны ровные, будто под линейку, линии волокон.
— Что за дерево? — спросил Пётр Мартынович.
— Липа… Лучше всего. По ней и работали наши славные предшественники… Можно, конечно, и другое. Главное — чтоб ни единого сучка! Тогда краску не разорвёт, не раскрошит и за двести — триста лет! Даже больше.
— А какими красками пользуетесь? — продолжал расспрашивать Решилина его бывший учитель.
— Сам готовлю, — Феодот Несторович показал на длинный массивный стол, уставленный банками, бутылками, коробками, ящичками, ступами, разноцветными камешками и кусками янтаря. — По старинным рецептам.
— Где же вы их раскопали? — удивился Пётр Мартынович.
— Пришлось потрудиться… По крохам отыскивал. В древних рукописях, по монастырям ездил, храмам… Да и сам экспериментирую. — Художник улыбнулся.
— Ольга называет меня алхимиком.
Он взял банку, отвинтил крышку.
— Олифа? — вопросительно посмотрел на хозяина Пётр Мартынович, принюхиваясь к духовитому запаху.
— Да, — кивнул Решилин. — Покроешь картину — краски словно живые! А чтобы добиться идеальной прозрачности, стойкости — не один и не два дня нужно простоять на ногах. — Феодот Несторович кивнул на газовую плиту. — Масло идёт только конопляное или маковое. Но главный секрет — вот он! — Решилин поднял со стола кусочек янтаря, повертел в руках. — Тут все зависит от того, как его истолчёшь. Надобно тонко-тонко, чтобы — как пух! Потом разогреешь посильнее, пока янтарь не потечёт, — и в кипящую олифу. Такой янтарной олифой пользовались в старину в исключительных случаях — для особо чтимых, драгоценных икон.
— Господи, это же адский труд! — восхищённо и почтительно произнёс Пётр Мартынович. — Какое же надо иметь терпение?
— А вспомните, как при Рублёве готовили материал для грунта под фрески… Известь гасили сорок лет. Представляете, сорок! — поднял палец Решилин. — Оттого мы с вами и можем наслаждаться их творениями через пять веков!
— Даже больше, — решил снова продемонстрировать свою эрудицию Ярцев. — Например, в Успенском соборе Кремля, построенном ещё при Иване Калите, в тринадцатом веке…
— Простите, Глеб, тут вы не точны, — мягко возразил Феодот Несторович.
— Того храма, увы, давно не существует. Как и росписей. На этом месте теперь стоит другой, с тем же названием.
— Разве? — растерянно пробормотал Глеб. Ему хотелось сквозь землю провалиться за свою оплошность.
— Да-да, в четырнадцатом, — повторил художник. — Но вы правы, что сохранились шедевры русской иконописи ещё более раннего периода… Вот, например.
Решилин подошёл к небольшой иконе в богатом серебряном окладе, висевшей на стене. Гости — за ним.
— Георгий Победоносец, — продолжал хозяин. — Любимый русским народом святой, его защитник. Одиннадцатый век! И какое высочайшее мастерство! На таких образцах и учился Рублёв. Эта икона составила бы честь любому музею мира. Даже таким, как Британский или Лувр! Один американец, увидев у меня эту икону, с ходу предложил пятьсот тысяч…
— Долларов? — уточнил Ярцев, поражённый такой цифрой.
— Рублей. По золотому курсу. А это куда больше, — пояснил Решилин. — Но я, естественно, отказал. Американец стал набавлять цену. Пришлось сразу поставить точку: я сказал, что национальным достоянием не торгую.
Сумма особенно сильное впечатление произвела на Петра Мартыновича. Он стоял перед иконой в благоговейном молчании.
— Да, — усмехнулся Жоголь. — Сотворил-то её небось какой-нибудь бессребреник. И даже не мог, наверное, представить себе, что когда-то за неё будут давать целое состояние! Интересно, сколько за подобную икону платили в то время?
— Кто знает, — пожал плечами Решилин. — Рублевские иконы, например, шли по двести рублей. Так, во всяком случае, свидетельствует Иосиф Волоцкий
— первый на Руси собиратель икон Рублёва.
— Разница, а! — оглядел присутствующих Жоголь. — Двести рублей и пятьсот тысяч!
— Ну, двести рублей тогда тоже были внушительной суммой. — Глебу захотелось реабилитироваться. — Судя по хозяйственным и торговым документам четырнадцатого века, на них можно было купить целую деревню — с постройками, землёй, угодьями.
Подождав, пока гости вполне насладятся созерцанием иконы, Феодот Несторович, чуть улыбнувшись, произнёс:
— Ну, а теперь, Пётр Мартынович, может, перейдём к работам вашего смиренного ученика?
— Горю нетерпением, — встрепенулся тот. — Хотя насчёт смирения, вы, мягко говоря, несколько преувеличили. Эх, знали бы, сколько шишек на мою голову… — Видя, что Решилин хочет сказать что-то в оправдание, он замахал руками. — Нет-нет, я не в обиде! И вообще не люблю тихонь! В молодости все должно бурлить, переливаться через край.
У каждой картины Феодота Несторовича задерживались подолгу. Художник рассказывал их сюжет, прояснял некоторые детали.
Что поразило Ярцева — небольшие размеры картин. Он представлял себе — по немногим репродукциям в журналах — огромные полотна. Из разговора художника с Петром Мартыновичем Глеб понял, что Решилин работает в стиле древней русской иконописи и миниатюры. Да и выбор тем, персонажей тоже был ограничен этими рамками. Библейские истории, важнейшие моменты из прошлого России.
Пётр Мартынович то и дело повторял: «Изумительно! Превосходно! Потрясающе!»
Но одной картиной он был буквально сражён. Миниатюра изображала прощание двух воинов со своим погибшим в битве при Калке товарищем.
— Как просто и в то же время буквально раздирает душу! — с волнением произнёс Пётр Мартынович. — Нет, вы посмотрите на скорбную фигуру коня! Удивительно! Передать невероятное горе через животное! Слов нет, честное слово! А какая тонкая прорисовочка! А цветовое решение!
— Эх, где бы взять миллион? — со вздохом сказал Жоголь. — Ей-богу, отдал бы не задумываясь.
— И вы, значит, покорены? — радостно повернулся к нему Пётр Мартынович.
— Спрашиваете! Смотрел бы и смотрел. — Жоголь снова вздохнул. — Все прошу Феодота Несторовича, чтобы он уступил мне эту картину. Я даже готов машину продать.
— Лёня, сам знаешь, пустые разговоры, — сказал художник, комкая в руках бороду и думая, видимо, о чем-то своём. — Дело не в деньгах… Я не продам её никогда и никому!
— Знаю, знаю, — улыбнулся Жоголь. — Хоть это отрадно.
— Эх, жаль, что вы не пишете портреты наших знаменитых современников,
— заметил Пётр Мартынович.
— Портреты? — удивился Решилин. — Зачем?
— Так здорово схватываете человеческую сущность! Какие лица! За каждым
— глубокий характер, яркая индивидуальность!
— Нет-нет, — замотал головой художник. — Давно пройденный этап. Пусть уж Илюша Глазунов, у него это выходит. И потом, я согласен с Пабло Пикассо, что фотография в некоторых случаях может выразить лучше, чем живопись. Тем более сейчас есть отличные фотомастера. Техника у них — будь здоров! Им, как говорится, и карты в руки — запечатлевать конкретного человека, конкретный момент, знатных людей, великие стройки. Кстати, это освободило бы художников от сиюминутного, преходящего. Согласитесь, истинная цель творца — вечность, душа, бог!
Пётр Мартынович поспешил согласиться. И вообще он, что называется, смотрел Решилину в рот, ловя каждое его слово.
— Как жаль, что времени уже нет, — расстроился Пётр Мартынович, поглядев на часы. — В полшестого как штык должен быть в министерстве.
— Сто раз успеем, — успокоил его Жоголь.
— Представляете, никак не могу встретиться со старшим инспектором управления, — поделился своими заботами Пётр Мартынович. — То он на заседании, то на совещании комиссии. Кошмар! А у нас строители без дела сидят…
— Обратитесь прямо к Регвольду Тарасовичу, — посоветовал Леонид Анисимович.
— К замминистра?! — округлил глаза Пётр Мартынович. — Бог с вами! Только чтобы записаться к нему на приём, нужно неделю обивать пороги! А у меня завтра кончается командировка.
— Хотите, он примет вас сегодня же? — спросил Жоголь.
— Шутите? — буквально оторопел бывший учитель Решилина.
— Не волнуйтесь, — заверил его Феодот Несторович. — Если Леонид обещает, значит, сделает.
— Не знаю даже, как благодарить! — горячо произнёс Пётр Мартынович, а когда двинулись к дверям, он, оборачиваясь на картины, сказал восхищённо: — Я так рад, так рад, словно вдохнул чистого, целительного воздуха! Нет, не умерло наше истинное русское искусство! Феодот Несторович, вы просто обязаны иметь последователей! Каждый великий мастер должен быть окружён учениками. Чтобы не иссяк божественный поток…
— Слава богу, есть кому передать эстафету, — ответил Решилин. — За двоих-троих я ручаюсь. Вот, кстати, папаша одного из них, — похлопал он по плечу Жоголя. — Правда, Михаил давно у меня не был…
— Как давно? — удивился Леонид Анисимович.
— Месяца полтора не появлялся.
— Полтора?! — Жоголь даже остановился. — Не может быть!
Он переменился в лице. И это все заметили.
— Да-да, — подтвердил художник. — Остальные приезжают регулярно. Я хотел тебе позвонить, но подумал, что неудобно…
— Зря! Надо было позвонить! Понимаешь, Михаил куда-то периодически исчезает. Как-то отсутствовал несколько дней. Каждый раз говорит, что едет к учителю… Но ведь учитель у него один — ты! Значит, врёт? — Леонид Анисимович был в явной растерянности.
— Может, Мишу потянуло на современную живопись? Это не страшно. Надо переболеть модными течениями, — ободрил Жоголя Решилин. — Это — как детская болезнь, никого не минует. Я тоже когда-то…
— Нет-нет, я должен разобраться! — перебил художника Жоголь. — Ох, не нравится мне его болезнь. — Он покачал головой. — Миша последнее время ведёт себя как-то странно. И дружки новые появились, извините, чокнутые несколько. Представляешь, завалились однажды вчетвером среди ночи. Заросшие, в невообразимых лохмотьях. Девчонка с ними — тоже вся обтрёпанная, напялила на себя три свитера, один на другой. И на всех какие-то медальончики, погремушки, амулеты… Жена стала хлопотать, покормила их, предложила помыться в ванне, постели приготовила. А они улеглись на кухне, прямо на полу. Я потом спросил Михаила: кто такие? Сказал, что знакомые. И все.
— Современная молодёжь, — сказал сочувственно Пётр Мартынович. — Забот у них настоящих нет, вот и куражатся. Выдумывают идолов. То в хиппи играют, то в панков…
— Ладно, выясню, — как бы подбил черту Жоголь, которому обсуждать поведение сына при посторонних, по-видимому, не хотелось.
Пока Леонид Анисимович звонил в министерство, а Решилин что-то обсуждал со своим бывшим учителем, Глеб и Вика последний раз подошли к воде.
Небо затягивало тучами, набегал ветерок, от которого водохранилище покрылось рябью, приобретая мутно-серый оттенок.
— Странно, — проговорил Ярцев, — Феодот Несторович, как я понял, напрочь отрицает современную живопись. А я, знаешь, вспомнил… Как-то смотрел в библиотеке старые «Огоньки», пятидесятых — шестидесятых годов, и увидел его картину на развороте — целина, трактора… Может, ошибаюсь?
— Нет, — улыбнулась Вика, — не ошибаешься. Было, Глеб. Когда сняли запрет с Пикассо, Гуттузо, Леже, он ударился, как и многие, в модернизм. Но ненадолго. Стал писать рабочих у станка, доярок, передовиков и так далее.
— По убеждению? — усмехнулся Глеб.
— Не знаю, — пожала плечами Вербицкая. — Во всяком случае, довольно быстро пошёл в гору. Получил звание заслуженного художника, одна за одной персональные выставки, крупные заказы. А потом… Потом, говорит, озарило. Как увидел работы Рублёва — словно мир перевернулся. С головой ушёл в древнерусское искусство, иконопись. Объездил весь север России, Псковщину, Новгородчину, Суздальщину, Владимирщину… Словом, где русский дух, где Русью пахнет. Ну а Рублёв стал для Решилина — все! Бог и учитель! Установка у Феодота Несторовича такая: дописать то, что не дописал в своё время Андрей Рублёв! — Вика вдруг подозрительно посмотрела на Ярцева. — Скажи прямо, не нравится?
— С чего ты взяла? — удивился Глеб. — Нравится. Честное слово!
— Конечно, его можно принимать или нет — дело вкуса. Но что талантлив
— бесспорно! А врагов у него хватает. И скорее не из-за творческих убеждений. Завидуют. Ещё бы! Иностранцы-коллекционеры, когда приезжают, прежде всего к кому — к Решилину! За его «Прощание с воином», ну, что вам всем понравилась, знаешь, сколько предлагают?
— Интересно?
— Сто тысяч долларов!
Ярцев присвистнул:
— Что же он её не продаст?
— Сам слышал: ту картину — никому и никогда! Но другие продаёт. А вообще-то в частные коллекции за границу ушло много работ Решилина.
— Разве это можно? — удивился Глеб. — Продавать за рубеж, да ещё в частные руки? Это же достояние наше.
— Конечно. Но все делается официально, через ВААП, то есть Всесоюзное агентство по охране авторских прав.
— И как он не боится держать на даче картины? Одна икона одиннадцатого века чего стоит!
— Не заберутся воры, не волнуйся! Ты на собак его посмотри!
— Да, сторожа отменные! — согласился Ярцев. — С телёнка.
— И потом, электронная система сигнализации. Мышь проникнет в дом — сирена на десять километров завоет.
Их позвали. Пробираясь сквозь заросли кустарника, Глеб спросил:
— А где те его работы — передовые рабочие, колхозники?
— Сжёг! — тихо сказала Вика. — Даже купленные и подаренные снова выкупил, вернул — и в огонь. Только ты… — Она приложила палец к губам. — Никому!
Глеб понимающе кивнул.
Простились с хозяином, Ольгой, её глухонемым мужем и двинулись гурьбой к машине Жоголя. До Москвы добрались за полчаса. Когда въехали в столицу, начался мелкий дождь. Подбросили к министерству Петра Мартыновича, которому Жоголь устроил-таки встречу с ответственным руководителем. Бывший учитель Решилина долго всем жал руки и приглашал в свой город в гости.
Затем поехали к гостинице «Россия».
— Может, хотите посетить какое-нибудь зрелище? — спросил у Глеба Леонид Анисимович.
Ярцев от неожиданности растерялся.
— На бокс сходи, — посоветовала Вербицкая. — Международные соревнования. Леонид Анисимович организует билеты.
Пришлось Глебу согласиться.
Проснувшись в своё первое московское утро и посмотрев на часы, лежащие на тумбочке у кровати, Ярцев удивился — не было и восьми. Дома, в Средневолжске, он отходил ото сна не раньше одиннадцати, а потом ещё нежился в постели битый час, выкуривая две-три сигареты и лениво размышляя, какое бы найти себе дело. И так в последнее время — изо дня в день.
Сейчас же Глеб ощутил такой прилив сил и энергии, какого не испытывал давно. Он решительно откинул одеяло, встал, раздвинул шторы на окне. Торжественный и прекрасный Кремль играл в лучах утреннего солнца позолотой куполов.
Ярцев поморщился, словно от зубной боли: надо же было так опростоволоситься вчера у Решилина с Успенским собором!
«Да, кисну я в провинции, мозги зарастают жиром», — чертыхнулся он про себя, по привычке потянувшись к пачке «Космоса». Но передумал. Лучше взбодрить себя зарядкой, которую он давно уже забросил.
После зарядки и душа тело обрело лёгкость, голова работала на удивление ясно и чётко. Хотелось куда-то идти, ехать, с кем-то встречаться, словом, действовать.
Он набрал номер Вербицких, но трубку никто не брал.
«Это тебе не Средневолжск, — подумал Глеб. — Москва — темп и ещё раз темп!»
Праздное шатание по столице, ненужные посещения разного рода зрелищ, магазинов он отмёл сразу. Дело — вот чему должен посвятить себя Ярцев целиком и полностью.
Дежурная по этажу, которой он отдал ключ от номера, объяснила, как побыстрее добраться до Ленинской библиотеки. Глеб наскоро перекусил в буфете — кофе, бутерброды — и вышел на улицу.
Окинув взглядом громадину «России», сверкающую алюминием и стеклом, Ярцев двинулся к Красной площади. Миновал церковь Василия Блаженного, Мавзолей. Александровский сад курчавился кронами деревьев, мимо Манежа к гостинице «Москва» устремлялся нескончаемый поток машин, среди которых то и дело мелькали чёрные длинные правительственные лимузины.
У Ярцева защемило в груди: он ощутил себя песчинкой, существование которой не только не влияет на судьбы мира, но и просто-напросто незамечаемо этим миром.
Собственно говоря, вера в свою исключительность поколебалась ещё вчера, когда он вернулся в гостиницу от Решилина. Обширные, как прежде считал Глеб, знания, эрудиция оказались в общем-то весьма сомнительными. В Средневолжске он, возможно, и был первым парнем на деревне, но тут… В столице мерки совсем другие! Ну разве можно называться историком, не зная древнюю русскую живопись, храмовую архитектуру, иконопись? Стыд и позор!
Ещё в школе Глеб разработал жизненную программу: в двадцать четыре года защитить кандидатскую, в тридцать — докторскую.
А результат? С кандидатской безнадёжно завяз — шеф дал понять, что и в этом году вряд ли удастся защититься. Да и сам Ярцев понимал теперь, что его научный багаж до убогости мал.
«Когда я упустил время? В чем промашка?» — размышлял Ярцев, застряв с толпой людей у красного светофора. И эта задержка показалась ему символической: он явно опаздывал в жизни.
С такими мыслями Ярцев вошёл в Ленинскую библиотеку. У столика, где оформляли читательские билеты, толпилось человек десять. И все, как Ярцев, немосквичи.
«Сколько же нашего брата, диссертанта, по всей стране! — мелькнуло у него в голове. — Прорва!»
Вот и он тужится изо всех сил, чтобы получить заветный диплом. Выискивает чужие мысли, суждения, из сотен томов добывает крупицы истин, забытые события. А для чего, собственно?
Если даже взять идеальный вариант, лет через пять (это в случае исключительного везения!) будет защищена докторская. И что она даст? Ну, в лучшем случае четыреста — пятьсот рублей в месяц.
Ярцев усмехнулся: ещё позавчера это была заветная цель, путеводный, так сказать, маяк, а сегодня?
Перед глазами все время стояла огромная дача на берегу водохранилища, икона стоимостью в полмиллиона золотых рублей. Что по сравнению с этим представления Глеба о положении, о материальном достатке?! Смех, да и только!
«Но ведь и Решилин когда-то был никто, — утешал себя Ярцев. — Метался, искал себя и все-таки нашёл. В науке тоже можно добиться немало. Академик — это звучит! Это слава, многотомные издания в Советском Союзе и за границей. Значит — тысячи, десятки тысяч рублей!»
Наконец с билетом было улажено. Ещё не меньше часа ушло на выбор книг по каталогу, оформление и получение заказа. Несмотря на летнее время, народу в читальном зале было полно. Глеб устроился поудобней, положил перед собой блокнот, авторучку, открыл тяжёлый фолиант в кожаном переплёте и углубился в события давно минувших дней.
Он прочёл страницу, другую и вдруг почувствовал, что не может сосредоточиться. В голову лезли мысли, не имеющие совершенно никакого отношения к смутным временам царствования императрицы Анны Иоанновны.
«Нет, сегодня решительно не работается!» — с досадой констатировал Глеб.
Слишком сильны были московские впечатления. Да ещё мешала девушка, сидевшая впереди через три стола: то улыбнётся, то состроит глазки.
«Познакомиться, что ли?» — подумал Глеб, поймав на себе очередной взгляд симпатичной незнакомки.
Но эту идею он отмёл тут же — сразу видно, приехала из какой-нибудь Тмутаракани. Нет, в принципе он не прочь. Как-никак — холостяк почти. А «почти» — из-за Ленки, которая наотрез отказала в разводе. Правда, можно было бы подать в суд, но не хотелось обострять отношения. Шеф посоветовал сидеть тихо, пока не состоится защита. Старостин так и сказал: «Запомни, защищается не столько диссертация, сколько диссертант! А в нашем учёном совете, сам знаешь, сплошные старые грымзы, не сумевшие получить от жизни всех удовольствий, а посему весьма чувствительные к вопросам нравственности. Не дай бог, твоя жёнушка накатает „телегу“ — дело, пиши, пропало! С радостью забаллотируют!»
Вот и приходилось выжидать. Но как только он положит в карман заветный диплом, тут же разведётся, какие бы препятствия ни стояли на пути. Пусть Елена пишет, идёт в профком, ректорат — куда угодно! Даст бог, он и вовсе к тому времени будет уже в Москве. Ну а уж здесь Глеб сто раз подумает, прежде чем дать снова заковать себя в цепи Гименея. Вот разве что встретит такую, как…
Почему-то на ум пришла Вика. Он вспомнил покойного отца, его желание породниться с Вербицкими.
«Может быть, батя был дальновиднее меня? — подумал Глеб. — Но кто она, а кто я?»
Впрочем, вчера на даче Глебу показалось, что Вика проявляет к нему не только дружеский интерес.
А может, только показалось?
«Звякну-ка я ей ещё раз», — решил Ярцев.
Он вышел из зала, спустился в вестибюль. Но у Вербицких снова никто не брал трубку. Глеб зашёл в курительную комнату. И только достал из пачки сигарету…
— Вот ты где! Попался! — хлопнул его кто-то по плечу.
Ярцев от неожиданности чуть не подпрыгнул. И тут же раздался знакомый смех.
— Здорово, сердцеед! — обнимал его… Аркашка Буримович.
— Вот так встреча! — обрадовался Ярцев. — Откуда ты, философ мой румяный? — Он присвистнул: куда подевались Аркашкины пухлые щеки, кругленький животик? — Братец, где же твоя вальяжность?
Они не виделись с декабря прошлого года.
— Да, — ответил деланно-грустно Буримович, — отощал я. В духе, так сказать, времени. — Он погрозил Глебу пальцем. — Друг ещё называется! Жену соблазняешь…
— Какую жену? — оторопел Глеб.
— Мою, конечно! Смотрю, она кому-то знаки подаёт. Хотел уже сцену ревности закатить.
— Господи! — вырвалось у Ярцева с улыбкой. — Так это она?
— Не узнал? А Стася тебя сразу!
Жену Буримовича Анастасию Глеб видел давно, да и то мельком. Тогда она показалась ему неприметненькой, а вот поди ж ты — расцвела! А вообще о женитьбе Аркадия по институту ходили прямо-таки легенды. Искал он будущую свою супругу по научной методе — сам выдумал тесты. Умственные способности проверял по кроссвордам, шарадам и другим интеллектуальным играм. Духовное
— куда влекло избранницу: в ресторан, на каток, на эстраду или же послушать серьёзную музыку. Но самым оригинальным испытанием была проверка характера. Аркаша приглашал девушку в парк культуры и отдыха, вёл к пруду с лебедями. И когда, мирно беседуя, шли вдоль берега, словно бы нечаянно толкал в воду (знал, хитрец, где неглубоко, а значит — неопасно). Одна обозвала Аркадия дураком, другая подняла такой визг, что сбежались чуть ли не все отдыхающие в парке, третья залепила пощёчину и потребовала купить новые туфли взамен испорченных.
Со всеми ними Аркадий, понятное дело, немедленно порвал отношения.
Стася же только посмеялась. Более того, немного обсохнув, потащила расчувствовавшегося Буримовича на симфонический концерт.
Аркадий был сражён наповал! На следующий день они пошли в загс. Таким образом, Буримович стал первым «женатиком» на их четвёртом курсе. И естественно, являлся любимым объектом для шуток. Аркадий тогда носил среди приятелей кличку Слоник. Полный, невысокий… Когда его спрашивали: ну, как семья, он охотно отвечал — нормальная слоновья семейка. Смеялись. Однако Буримович серьёзно пояснял, что ничего смешного тут нет, так как учёные выяснили, что в природе самые прочные семьи как раз у этих могучих толстокожих животных.
И действительно, жили они со Стасей душа в душу. В день получения институтского диплома у Буримовича родилась дочка, а через полтора года — сын.
И вот — неожиданная встреча. И где — в Москве! Естественно, заговорили о самом больном — о диссертациях. Ярцев высказался о своей неопределённо — «заканчиваю». Насчёт срока защиты пока неясно.
— А я думаю представить не раньше чем через два года, — сказал Аркадий.
— Через два? — вытаращился на него Глеб. — Ну ты даёшь! Имея такого шефа…
— Шеф тут ни при чем, — сказал Буримович. — Если халтурить, то я мог бы защититься хоть завтра. Напустить псевдонаучного тумана, побольше цитат… У меня от этого душу воротит! Понимаешь, я хочу исследовать проблему комплексно! Поднять современную социологию на высоком философском уровне. Надо придумать оригинальные анкеты, обследовать тысячи людей! Статистика!.. Это тебе хорошо — копайся в библиотеках яко книжный червь, а мы с людьми работаем. Черновой работы — выше маковки!
— Но во главе всего должна быть идея!
— Идеи есть! И какие! — сверкнул глазами Аркадий. — Вообще нынче без нашей науки шагу ступить нельзя. Соображаешь?
Но развернуться дальше Аркадию не дали.
— Так я и знала! — брезгливо помахивая перед собой руками, Анастасия пыталась разогнать табачный дым. — Хватит травиться!
— Идём, идём! — отозвался Буримович, бросая в урну давно погасший окурок.
Ярцев последовал его примеру. Жена Аркадия протянула Глебу руку.
— Привет! Ты что же это земляков не замечаешь? — укоризненно спросила она.
— Извини, зачитался, — стал оправдываться Глеб.
— Видела я, как ты зачитался. Больше в окно смотрел да мечтал!
Затем пошли непременные восклицания, что мир, мол, тесен, земля круглая и так далее.
Ярцев, хотя почти и не знал Анастасию, почувствовал, что общаться с ней легко и просто, как с давним товарищем.
— Скажи, что ты сделала с моим другом? — подначил он её, даже не обратив внимания, что они сразу стали на «ты», так естественно это получилось. — Половина осталась.
— Скажем точнее, — с улыбкой поправил Аркадий, — одна суть.
— А зачем мне доходяга с одышкой и гипертонией в придачу? — насмешливо покосилась на мужа Анастасия. — Смотри, какой он стал стройный да видный.
— Ты знаешь, что придумала Стаська? — сердито произнёс Буримович. — Врезала в холодильник замок и ключ себе на шею повесила!
— А с тобой иначе и нельзя!
— Да, — усмехнулся Глеб, — теперь-то вашу семейку слоновой никак не назовёшь!
— В смысле габаритов — да, — сказал Буримович. — А в остальном — все по-прежнему.
Анастасия посмотрела на часы.
— Совершенно верно: делу — время, потехе — час, — сказал Глеб, поворачиваясь к лестнице, ведущей в читальный зал, хотя, признаться честно, с большим удовольствием потрепался бы с Буримовичами, прогулялся с ними по Москве.
— А у нас сейчас по плану, — Анастасия заглянула в маленькую записную книжечку, — поездка в Астафьево.
— Это где Вяземский жил? — уточнил Ярцев.
— Точно, — кивнул Аркадий. — А потом опять сюда.
— Поехали с нами, Глеб, — неожиданно предложила Анастасия. — День сегодня — просто прелесть!
Ярцев на минуту заколебался: надо было бы повидать Вику. Впрочем, можно ведь соединить полезное с приятным.
— Я сейчас, — бросил он землякам, направляясь к телефону-автомату.
На этот раз ответили. Женский голос. Как показалось Глебу, тот же, что и вчера, когда он звонил с вокзала.
— Виктория только что ушла, — сказала женщина. — Она вам очень нужна?
— Очень. Скажите, звонил Глеб.
— Ярцев, что ли? — уточнили на том конце провода.
— Да.
— Хорошо, что вы позвонили. Вика просила сообщить: вам оставлены два билета на бокс во Дворце спорта ЦСК. Подойдите в половине седьмого к администратору.
Глеб поблагодарил и повесил трубку.
«Вот те раз, — усмехнулся он. — Думал, Вика деловая, спозаранку на ногах, а оказывается…»
— Ну? — вопросительно посмотрел на него Аркадий.
— В Астафьево так в Астафьево, — махнул рукой Ярцев. — Айда, литературу сдадим.
— Стася уже…
Супруги поджидали Глеба на улице.
— Перед дорогой надо бы закусить, — сказала Анастасия.
Глеб посмотрел по сторонам, соображая, где тут поблизости приличное заведение.
— В гостинице «Москва» два или три ресторана, — вспомнил он по той, давней поездке в столицу. — А можно проехать на троллейбусе до «Арбата».
— Не-не! — замотала головой Анастасия. — У нас с Аркашкой два рэ на обед.
— Да, — кивнул Буримович. — Бюджет расписан до копейки.
— Приглашаю, — сказал небрежно Глеб.
— А что, рискнём? НЗ немножко потревожим, — закинул удочку Аркадий. — Когда ещё встретимся с Ярцевым в Москве?
— Ты мне зубы не заговаривай, — погрозила мужу пальцем Анастасия. — И не подумай, что я жмусь. Тебе бы только повод найти, чтобы слопать кусок мяса да кусок торта!
— Стася!
— Все, точка! Пошли в нашу закусочную.
В закусочной, куда они зашли, было полно народу.
— Чушь какая-то, — возмущённо сказал Глеб, который страсть как не любил ждать. — Стоять в очереди, чтобы отдать свои же деньги! Стоять, чтобы получить, — это ещё понятно. А тут, ей-богу, ощущение такое, словно тебе делают одолжение, забирая твои рубли!
— Это разве очередь? — усмехнулась Стася. — Вчера мы два часа простояли в «Электронике» на Ленинском проспекте. И знаешь за чем? За батарейками. — Она ткнула пальцем в ручные кварцевые часы. — Мне чуть плохо не стало.
— И неудивительно! — сказал Аркадий. — По официальным данным, стрессовые состояния, порождающие инфаркт, в восемнадцати процентах случаев возникают именно в очередях!
Когда, наконец покинув закусочную, Глеб узнал, что до Астафьева надо добираться на электричке, а потом ещё на автобусе, то решительно заявил:
— Не пойдёт! Только на такси! — И, увидев, что Стася собирается протестовать, успокоил её: — Платить буду я.
Он шагнул на проезжую часть и остановил подвернувшуюся «Волгу» с шашечками. Буримовичи не успели опомниться, как Ярцев запихнул их на заднее сиденье, а сам устроился рядом с водителем.
— Ты что, спешишь? — спросил Аркадий.
— Вечером иду на бокс, — ответил Глеб. — Кстати, один билет лишний. Может, отпустишь со мной супруга? — повернулся он к Стасе.
— Не-а, — мотнула та головой.
— Боишься, что какая-нибудь красотка заарканит твоего Аркашу? — улыбнулся Глеб. — Так я могу достать ещё один билет. Администратор — свой человек, — похвастал он.
— Да нет, мы заняты, — ответил Буримович, перехватив насмешливый взгляд жены. — И вообще, терпеть не могу мордобития. Пусть даже и спортивного. Лучше ты присоединяйся к нам.
— А что за мероприятие? — поинтересовался Глеб.
— В Ленинке будет вечер поэзии Гумилёва.
— Ого! — Брови Ярцева изумлённо полезли вверх. — Даже так? Уже проводятся его вечера? А как же его монархическое прошлое, участие в контрреволюционном заговоре? Насколько мне известно, Гумилёва расстреляли именно за это.
— А Иван Бунин? — спросила Стася.
— Что Бунин? — не понял Глеб.
— Тоже не принял революцию. Активно! Одна его книга «Окаянные дни» чего стоит! Однако Бунин был, есть и останется великим русским писателем! Это наше наследие. И Гумилёв тоже. А наследие надо знать! — горячо закончила Буримович.
— Слава богу, что приходят к этому, — кивнул Глеб. — Мозги у людей зашевелились. Да, многие прозрели, очень многие.
— А меня всеобщее прозрение как раз и настораживает, — сказал Аркадий.
— Как? — удивился Ярцев. — Неужто тебя не радуют перемены? Возьми хотя бы телевидение. Интересно стало смотреть. А газеты? Прямо захватывающие! Все бурлят, критикуют!
— Вот-вот, — усмехнулся Буримович. — Раньше, выходит, никто ничего не замечал, не понимал, и вдруг этакое поголовное просветление. Как по команде.
— Между прочим, мне давненько хотелось с тобой потрепаться, но как ни зайду в вашу контору, тебя не видать.
На самом деле Ярцев кривил душой: последние полгода он с головой окунулся в личные проблемы и в университет забегал периодически.
— А ты разве не знаешь, что я теперь заочник? — спросил Аркадий. — Мы ведь из Средневолжска уехали.
— Как? Куда? — изумился Ярцев.
— Болотными жителями стали, — продолжал с улыбкой Аркадий.
— А если серьёзно?
— Факт, — подтвердила Анастасия. — Про Ямбург небось слышал? В Тюменской области.
— Кто о нем не слышал! Только при чем здесь болото?
— Понимаешь, это место называлось Юмбра, — пояснила Стася. — По-ненецки означает «большое чёрное болото». Ну а потом уже его назвали Ямбургом. По созвучию, наверное.
— И надолго закатились туда? — полюбопытствовал Глеб. — До Аркашкиной защиты?
— Да нет, старик, мы решили осесть насовсем, — ответил Буримович. — Здорово там!
— Чем же?
— Трудно объяснить. Да и не поймёшь, пока сам не побываешь. Удивительное ощущение! Бескрайняя тундра, тишина. Нет такой сутолоки, — Аркадий кивнул на толпы людей, вереницы машин, запрудивших московскую улицу, и неожиданно спросил: — Скажи, ты хоть раз пробовал строганину?
— Нет, конечно, — пожал плечами Глеб, — только слышал, читал.
— Потрясающе вкусно! — Стася закатила глаза и даже почмокала губами.
— Ну знаешь, я сырые вещи терпеть не могу, — сказал Глеб. Кровинку в мясе увижу — настроение портится на целый день.
— Что делать, как говорится, на вкус и на цвет… — развёл руками Аркадий. — Вот и Север тоже — кому как. Мы со Стаськой прямо-таки влюбились в него. А это хуже, чем болезнь.
— Знаешь, как назвал Сибирь один канадский профессор? — поддержала мужа Стася. — Страна для настоящих мужчин.
— Я бы сказал по-другому: страна настоящих людей, — серьёзно сказал Буримович. — Народ там действительно стоящий! Потому что — отбор!
— Но хоть этот ваш Ямбург ничего городишко?
— Зря ты, старик, — покачал головой Буримович. — Условия для организма, между прочим, очень здоровые.
— Скажи ещё, что лучше, чем в Сочи, — поддел его Глеб.
— К твоему сведению, долгожителей в некоторых районах Сибири больше, чем на Кавказе. Да-да, не усмехайся, пожалуйста! Хочешь статистику? Среди сельского населения Таймырского национального округа перешагнувших за сто лет людей почти в два раза больше, чем на Кавказе. В пересчёте, разумеется, на сто тысяч жителей.
— А знаете почему? — неожиданно встрял в разговор водитель такси. — Руководство за тридевять земель. А тут тебе на каждом шагу начальники да инспектора…
— Верно мыслите, — одобрительно произнёс Буримович. — Производственные конфликты — вот что прежде всего сокращает жизнь.
— Кем же вы там устроились? — продолжал интересоваться Глеб.
— Я — социолог, — ответил Аркадий. — Стася — библиотекарь. Правда, она на общественных началах.
— Пока школу не построят, — пояснила Анастасия, которая закончила пединститут по факультету русского языка и литературы.
— Что же это за город, если даже школы нет? — недоуменно пожал плечами Ярцев.
— Вообще-то это не город, а посёлок на две тысячи жителей, — ответил Аркадий. — Причём необычный, вахтовый. Слышал о таких?
— Краем уха, — признался Ярцев.
Такси вырвалось из города. За окнами поплыл распаренный солнцем подмосковный лес.
Буримович стал расспрашивать Глеба об университетских делах. За разговорами дорога пролетела незаметно.
Как только они вышли из машины, Анастасия достала из сумки фотоаппарат и повесила себе на шею.
У входа в усадьбу стояло несколько человек. Они были ужасно расстроены: музей для посещений закрыли неизвестно на какой срок. Кое-кто собрался вернуться в Москву. Но Стася отправилась на поиски администратора, нашла и добилась, чтобы их пропустили на территорию Астафьева. Так сказать, в порядке исключения.
Роль гида взяла на себя молодая женщина, кандидат филологических наук, приехавшая из Ленинграда. Она стала рассказывать об эпохе, в которой жил Вяземский, и Ярцев заскучал. Единственное, что на некоторое время захватило его внимание, это когда добровольный гид сообщила о том, что сын поэта одним из первых в России стал собирать старинные иконы, рукописи, изделия прикладного искусства и даже имел титул «Гофмейстер Двора Его Величества, сенатор князь Павел Петрович Вяземский, основатель и почётный президент Императорского общества любителей древней письменности».
«Надо найти его труды», — подумал Ярцев, который жаждал при встрече с Решилиным блеснуть знаниями в милой художнику области.
Ленинградка прочитала стихотворение Вяземского, кто-то вспомнил ещё одно. Потом эстафету подхватила Стася, которую опять сменил гид:
Бог голодных, бог холодных, Нищих вдоль и поперёк, Бог имений недоходных, Вот он, вот он русский бог.
К глупым полон благодати, К умным беспощадно строг, Бог всего, что есть некстати, Вот он, вот он русский бог…
Эти стихи настолько захватили Глеба, что он сразу запомнил их наизусть и, пока ходили по усадьбе, все повторял про себя.
Назад, в Москву, тоже ехали на такси: настоял Глеб, да и времени у него и у Буримовичей было в обрез. Плюс ко всему Стасе надо было заехать в фотоателье, чтобы отдать проявить цветную плёнку.
— Потрясные получатся слайды, — сказала она.
— А для чего тебе все это? — спросил Глеб. — В семейный архив?
— Для занятий в школе! Будут они в Ямбурге, вот увидишь!
— Когда? — усмехнулся Глеб и посмотрел на Аркадия.
Тот не удостоил приятеля ответом, лишь загадочно улыбнулся, словно давая понять, что правда за ним, за его идеями.
— Сколько вы ещё будете в Москве? — поинтересовался Глеб.
— Дня три, — ответила Стася. — А сколько ещё надо посмотреть! В Абрамцево съездить, в Вяземы, сходить на Арбат в Пушкинский дом, в дом Марины Цветаевой…
— И конечно же театры?
— Какие театры, старик! В это время они все на гастролях, — сказала Буримович. — Нет, театры мы запланировали на осень. Специально!
Такси подкатило к Ленинской библиотеке, Анастасия помахала кому-то рукой. Ей ответили приветствием мужчина и женщина, стоящие на площади перед библиотекой. Обоим было лет под пятьдесят.
— Родственники, — пояснил Аркадий, выбираясь из машины. — Дядя и тётя. Тоже пришли на Гумилёва.
— Погодите, — задержал Буримовичей Глеб. — Вы в какой гостинице остановились?
— У двоюродной бабушки, то есть матери дяди, — кивнул на родственников Аркадий. — Одна живёт в двухкомнатной квартире.
— Телефон есть?
— Нету, — ответила Стася.
Ярцев дал приятелям свои координаты и попросил шофёра отвезти его на Ленинградский проспект.
Перед входом во Дворец спорта гудела толпа. Многие спрашивали лишний билетик. Глебу даже стало приятно, что он в привилегированном положении.
Однако само зрелище Ярцева так и не увлекло, хотя вокруг среди болельщиков бушевали страсти.
Глеб думал о Жоголе. Вроде бы не ахти какая должность, а поди же! Запросто устроил встречу гостю Решилина с заместителем министра, ему вот, Ярцеву, — билет… Откуда у Леонида Анисимовича такая пробивная сила?
Вернулся он в гостиницу поздно и долго не мог уснуть. Из головы не лезла встреча с Буримовичами. Он не мог понять их решения поменять Средневолжск на суровое, полное лишений и трудностей Заполярье.
«Для чего люди бросают уютные квартиры, привычный цивилизованный уклад жизни? — размышлял Ярцев. — Что их влечёт? Острые ощущения, желание испытать себя? Как Седов, Нансен, Пири?..»
На память пришла прочитанная недавно статья в научно-популярном журнале, где автор пришёл к довольно любопытным выводам, что риск — великая движущая сила. Она побуждает человека к действию, творчеству. Казалось бы, к чему рисковать, если за этим не кроется ожидание выгоды? ан нет, тянет, ох как тянет иной раз искусить судьбу!
С этими мыслями Ярцев и уснул.
Вика позвонила, когда Глеб, свежий после гимнастики и душа, тщательно выбритый, уже собирался уходить.
— Небось обижаешься, что бросила тебя вчера? — спросила она.
— Да ты что, никаких претензий, — успокоил её Глеб, довольный, что Вербицкая проявляет о нем заботу. — Спасибо за билеты на бокс.
— Понравилось?
— Очень, — не стал распространяться он. — А ты как?
— Приятели затащили на дачу обновить сауну. Ну, скажу тебе — полный кайф! — восторженно произнесла Виктория и поинтересовалась: — Что делаешь сегодня?
— Ближайшие планы — встреча с земляками у метро «Арбатская». Идём в Дом-музей Пушкина. Присоединяешься?
— А я знаю этих средневолжцев? — спросила Виктория.
Ярцев рассказал о Буримовичах. Оказалось, что с Анастасией Вербицкая ходила когда-то в детскую спортивную школу и рада будет увидеться.
Глеб отправился пешком, снова с удовольствием окунувшись в учащённый ритм московских улиц. Когда он подошёл к «Арбатской», Буримовичи и Виктория были уже на условленном месте. Судя по их лицам, встреча была сердечной… Вспоминали родной город, общих знакомых.
Пошли на старый Арбат. Глеб полюбопытствовал у Буримовичей, какое у них впечатление от вечера Гумилёва.
— Безумно интересно! — воскликнула Анастасия.
— Родственникам тоже понравилось? — спросил Глеб.
— Тётя в восторге, — ответил Аркадий. — А вот дядя — так себе. Он у меня завзятый меломан, обожает оперу.
— Ну, опера — это вещь, — заметил Ярцев. — Кто её не обожает?
— Я, например, — заявила Вика, — и все посмотрели на неё с удивлением.
— Да, да, — улыбнулась она. — Сидишь, слушаешь, а что поют, непонятно. — Увидев непонимающие лица собеседников, объяснила: — В Англии один врач-отоларинголог даже проводил исследования. Выяснилось, что слушатели на оперных спектаклях улавливают всего три-четыре слова из ста.
— И все равно мы бы сходили в Большой, — сказал Аркадий. — Но, увы, он на гастролях.
Вика вдруг, бросив «извините», направилась к двум мужчинам, приветливо махавшим ей с противоположной стороны улицы.
Буримовичи и Глеб прошли немного вперёд и остановились, поджидая её.
Вербицкая вернулась минут через пять.
— Узнали? — кивнула она вслед удаляющимся мужчинам и, не дождавшись ответа, сказала: — Это же космонавт… — Она назвала известную фамилию.
— Что же ты! — стала сокрушаться Анастасия. — Сказала бы сразу! Я бы автограф попросила.
— Ну-ну, не переживай, — обняла её за плечи Вербицкая. — Ты ведь не последний раз в Москве. Устрою!
Аркадия же поразил тот факт, что знаменитый покоритель космоса разгуливает пешком, в скромном костюме, без звёзд и регалий.
— Это там, на орбите, он космонавт, — улыбнулась Виктория. — А на Земле — простой мужик, которому не чуждо ничто человеческое.
«Ну, Вика, ну даёт!» — подумал Глеб, в который раз поразившись кругу её знакомств.
Однако вслух ничего не сказал.
Народу на Арбате было, как на праздничной демонстрации. Буримовичи вертели головами, любовались стилизованными фонарями, витринами, скамейками.
— Здорово! — восхищалась Анастасия. — Все выдержано под старину!
— Какую? — не скрывая иронии, спросила Вербицкая. — Непонятно, это Арбат конца прошлого века или декорация оперетты начала нынешнего?
Её замечание осталось без ответа: они уже подошли к двухэтажному особняку с ажурным балкончиком и решётками на окнах. Скепсис Вербицкой пропал, как только она переступила порог дома-музея. Более того, Глеб даже не мог определить, кто был довольнее от его посещения — она или Буримовичи. Лично он, Ярцев, был удовлетворён тем, что экскурсия заняла минимум времени.
Когда они покинули музей, Виктория стала прощаться.
— У меня назначено важное деловое свидание, — с сожалением сказала она. — Однако часика через два я освобожусь и можно будет снова встретиться.
Анастасия достала записную книжку.
— В семь часов у нас намечено посещение клуба «Аукцион», — сверилась она со своим расписанием, которого, как знал Глеб, Буримовичи придерживались свято.
— Отлично! — неожиданно обрадовалась Вербицкая. — С удовольствием приеду.
— Адрес… — начала было Стася.
— Знаю, знаю, — остановила её Виктория. — Кстати, там мне надо повидать одного человека…
Расстались до семи вечера. Буримовичи и Глеб пошли на метро. Вербицкая
— в один из арбатских переулков, где оставила машину.
Ещё совсем недавно Жоголь приглашал её пообедать в ресторан. Рестораны были самые лучшие, в центре Москвы. Если позволяло время, Леонид Анисимович вёз Вику за город в «Кооператор», «Иверию» или «Русь». Тогда считалось: чем шикарней «кабак», тем престижнее. Но времена переменились, теперь могут не понять. И когда Жоголь позвонил утром и назначил встречу в пиццерии на улице Горького, Вербицкая нисколько не удивилась. Насторожило её другое — тон Леонида Анисимовича. Жоголь был явно чем-то встревожен, хотя и пытался замаскировать свою тревогу. Но Вика знала его не первый день…
В кафе Жоголь был не один, а с Арнольдом Борисовичем Севрухиным, проректором медицинского института. Они только что заняли столик, даже не успели сделать заказ.
Сколько Вика знала Севрухина, у этого шестидесятипятилетнего человека всегда был цветущий вид. Он поцеловал ей руку, отпустил дежурный комплимент.
— Недурно, недурно, — сказал Арнольд Борисович, с любопытством оглядывая помещение. — Слышать слыхивал, а вот побывать здесь ещё не удосужился… Значит, говорите, сие заведение создано итальянцами?
— При участии итальянской фирмы «ФИМЕ Традинг», — уточнил Жоголь.
— Ну что ж, — потёр руки Севрухин, — закатим лукуллов пир!
— Особенно не разгуляешься, — сказал Леонид Анисимович. — Только пицца. Правда, с различными начинками.
— Да, считай, наши расстегаи, — усмехнулся проректор и потянулся к меню.
— Лучше спросим, — Жоголь знаком подозвал официанта в красно-белом костюме: именно такое сочетание цветов преобладало в оформлении пиццерии. — Сами знаете, в меню одно, а в наличии…
— Здравствуйте, — склонился в полупоклоне официант. — Слушаю…
— Что у вас сегодня? — спросил Жоголь.
— Пицца «Неаполитанская», — ответил тот. — С помидорами, разной пряной травкой, чесноком и селёдкой.
— Нет-нет, чеснок ни в коем случае! — запротестовал Севрухин. — У меня ещё визит.
— У меня тоже, — сказала Вербицкая.
— Тогда предлагаю «Маргариту», — продолжал молодой человек. — Тёртый сыр с томатом, специи… Или «Каприччо» — помимо сыра в начинку добавляются оливки, овощи…
— Остановимся на «Каприччо», — отпустил официанта Жоголь.
Он старался держаться бодро, но Вика видела, что ему не по себе. Первый признак — изредка поглаживает левую сторону груди. Не ускользнуло это и от Севрухина.
— Что, дорогой Леонид Анисимович, сердчишко прихватывает? — спросил он участливо.
— Ерунда, — отмахнулся Жоголь. — Наверное, к перемене погоды… Вот все хочу попросить вас поделиться секретом здоровья.
— Секрет простой, — хохотнул проректор. — Веду лошадиный образ жизни.
— В каком смысле? — вскинул брови Жоголь.
— Не пью, не курю, ем в основном растительную пищу и каждый день бегаю… Между прочим, у этих животных действительно крайне редко случаются сердечно-сосудистые заболевания.
Подоспел официант, поставил перед каждым тарелку с дымящейся пиццей. Все принялись за еду.
— Никогда не понимал, почему вилку надо держать непременно в левой руке, а нож в правой, — сказал Жоголь, разрезая пиццу. — Удобнее ведь наоборот.
— Так принято в Европе, — заметил Севрухин. — Американцы же сначала режут пищу на кусочки по-европейски, а затем, отложив нож, едят вилкой, держа её в правой руке. Левая находится у ножа…
— Зачем? — полюбопытствовала Вика.
— Пошло это якобы от первых переселенцев в США. Им все время приходится быть начеку. — пояснил проректор. — Держать, так сказать, нож под рукой.
Когда покончили с пиццей и перешли к кофе, Леонид Анисимович обратился к Севрухину:
— Странно, Арнольд Борисович, лето, а вы в Москве… Как же ваши горы, непокорённые вершины?
— И не говорите, — вздохнул проректор. — Так и хочется бросить все к чёртовой бабушке и махнуть куда-нибудь на Памир или Тянь-Шань.
— Так бросьте, — посоветовал Жоголь.
— Э-э, батенька, наш ректор большой дипломат: сам на Рижском взморье, а я — тут, на растерзанье абитуриентов оставлен.
— Кажется, теперь приёмные экзамены упорядочили. Вместо экзаменаторов ввели ЭВМ, — заметила Вербицкая. — Вроде построже стало и больше объективности.
— Это на словах, — усмехнулся Севрухин. — Шеф, уезжая, подсунул мне списочек. Кого нельзя провалить. А тут ещё звонки замучили. От высокого начальства. Главное, теперь никто не приказывает, а этак вежливенько: «Проследите, проконтролируйте»… И попробуй не проследи! Не жизнь, а сплошной ад! Родители дежурят у подъезда, на лестничной площадке, телефон оборвали, пришлось отключить. Прячусь, как алиментщик, ей-богу… И что самое страшное: сколько ни боремся с блатом — побеждаем не мы, а он!
— Да-да, — кивнул Жоголь. — К сожалению, так почти везде.
— Леонид Анисимович, дорогой, медицинский институт — это не «везде»! Его должны заканчивать исключительно по призванию! Что может быть дороже здоровья человека, его жизни? Ни-че-го! — горячо произнёс Севрухин. — Но я-то знаю, кого мы выпускаем! Знаю, почему наше здравоохранение на недопустимо низком уровне! Ну кто нас лечит, кто? Равнодушные, некомпетентные люди!.. А почему? Потому что вместо парня или девушки, как говорится, с искрой божьей проталкивается блатовик!
— Неужто дела обстоят так плохо? — покачала головой Вика.
— Увы, дорогуша, увы! — развёл руками проректор. — Настоящих врачей — единицы… Надо кардинально изменить принцип состязания абитуриентов. Будь моя воля, я вообще бы не принимал в медицинский вуз тех, кто не поработал сначала санитаром или санитаркой. И не для проформы. Вот там начинается настоящий отбор!
— Ну, а если это действительно, как вы говорите, с искрой божьей юноша? — спросил Леонид Анисимович. — И не представляет себе другой стези, кроме медицины? Такого бы вы взялись поддержать?
— Где они, бескорыстные, преданные нашей профессии отроки, — усмехнулся проректор. — Мне в основном подсовывают оболтусов.
— Есть один, — кивнул Жоголь. — К тому же — медалист. Честное слово, Арнольд Борисович, вам за него краснеть не придётся.
— Кто же ваш протеже?
— Сын приятеля, Виталий Гайцгори. — Леонид Анисимович улыбнулся. — Так что вы его в тот подмётный списочек, а?
— На самом деле толковый парень? — внимательно посмотрел на Жоголя Севрухин.
— Очень способный! Ручаюсь.
— Ну, если вы… Как сказали — Гайцгори? — переспросил проректор. — Запомню.
— Зачем же, вот… — И замдиректора протянул Севрухину визитную карточку. — Здесь все данные на отца Виталия.
Арнольд Борисович прочёл визитку и спрятал её в портмоне.
Арнольд Борисович вскоре откланялся. Когда он ушёл, Вика поняла по лицу Леонида Анисимовича: предстоит какой-то серьёзный разговор.
Когда ехали в «Аукцион», Ярцев стал расспрашивать Буримовичей, что он из себя представляет.
— Ну, собираются энтузиасты, — пояснил Аркадий, — изобретатели, рационализаторы, начинающие поэты, художники, скульпторы. Предлагают свои работы на суд товарищей и специалистов, экспертов как бы… В обсуждении может принять участие каждый. Короче, без всякой официальщины и формализма.
— Словом, поощрение самодеятельного творчества, — сказал Глеб.
— Не только поощрение, — добавила Стася. — Клуб помогает проталкивать то, что интересно, перспективно для внедрения, опубликования. А организовал клуб профессор Киселёв.
— Говорят, сам когда-то намучился, пробивая своё изобретение. Представляешь, двадцать лет пролежало оно без движения. Кончилось тем, что купили на Западе лицензию на аналогичное. Валютой заплатили! Вот Киселёв и решил облегчить жизнь современным Черепановым, — закончил Буримович.
Клуб располагался во Дворце культуры большого завода. Ярцев со своими спутниками прибыл туда без четверти семь.
В вестибюле стоял неумолчный шум от множества голосов. В основном собиралась молодёжь. В одном конце велись жаркие споры вокруг выставленных в холле картин, скульптур, поделок из дерева, глины и других материалов. В другом стояли два стенда. Над первым вывеска гласила: «Предложено на наш аукцион», над вторым — «Внедрено по предложению членов клуба». А ещё выше — транспарант «Не хочешь быть винтиком прогресса, стань его двигателем!»
Стася и Аркадий буквально прилипли к стендам, а Глеб стал искать Вербицкую. Но её нигде не было видно.
Раздался звонок, приглашающий на заседание клуба, и вестибюль быстро опустел.
Было решено сначала пойти в научно-техническую секцию, а затем побывать у писателей и художников.
Устроились у самого входа, чтобы не прозевать Вербицкую. Помещение было мест на сто. На сцене за длинным столом сидели человек пятнадцать. Как понял Ярцев, это были эксперты.
— Дорогие друзья! — поднялся с микрофоном один из них, пожилой, с бородкой, похожий на учёного-академика из довоенных фильмов. — Рад приветствовать вас! Начинаем очередной аукцион… Для тех, кто пришёл сегодня впервые, напоминаю: любая идея, даже полуидея может двигать научный, технический и социальный прогресс. Не стесняйтесь, мы внимательно выслушаем каждого из вас…
— Кто это? — тихо спросила Стася у своего соседа, парнишки лет шестнадцати.
— Владимир Васильевич Киселёв, — с уважением ответил тот.
А на сцену уже поднимался худощавый молодой человек. Он предложил аукциону «купить» его идею, которую сопровождал демонстрацией чертежей и расчётов. Изобретатель сильно волновался, начал сбивчиво, но потом успокоился и стал объяснять более толково.
— Представьте себе, вы садитесь в пригородный поезд… Чтобы добраться до места, удалённого, допустим, на сорок километров, приходится тратить сейчас больше часа. Это при скорости семьдесят — восемьдесят километров. И все из-за остановок! Но ведь и без них не обойтись… Я предлагаю следующее: по мере приближения к очередной остановке задний вагон, занятый пассажирами, которым нужно сойти на этой остановке, автоматически отделяется от состава и останавливается у платформы. А поезд следует дальше, не снижая скорости…
Когда автор проекта закончил своё выступление, на него посыпался град вопросов из зала. Было видно, что публика собралась знающая и дотошная. Каждый вставал и говорил, что думал. Спорили яростно, до самозабвения, словно решали судьбу человечества.
«Сколько страсти, — размышлял Глеб. — И по поводу какой-то фантастической идеи! Интересно, что движет этими людьми? Изобретатель явно не получит ни копейки. А ведь небось ночи не спал, на одни чертежи убил уйму времени!..»
Подытоживая обсуждение, профессор Киселёв сказал:
— Ну что же, друзья, поздравим нашего коллегу с оригинальным, нетривиальным решением… К сожалению, воплотить проект в настоящее время трудно по причинам, на которые многие из вас указали. Но это не должно смущать молодой смелый ум! Пусть изобретатель не боится заглядывать в будущее! И пожелаем ему новых дерзновенных помыслов…
Вдруг на плечо Глеба, увлечённого происходящим в зале, легла чья-то рука. Он повернулся — Вика. Аркадий зашептал ей:
— Проходи, садись. Очень интересно…
— Нет, нет… Не могу… Извините, — отрывисто произнесла Вербицкая. — До свидания, звоните…
И вышла.
Ярцев выскочил следом.
— Что случилось? — спросил он, встревоженный её состоянием.
— Мишу, понимаешь, Мишу надо найти! — проговорила с каким-то непонятным отчаянием. — Сына Леонида Анисимовича!
Она бросилась к телефону-автомату, стала накручивать диск. Дрожащие пальцы не слушались, срывались.
— Да успокойся ты, нельзя же так… — начал было Глеб, но Вика только метнула на него взгляд, отчуждённый, недобрый.
Звонила она долго, по нескольким телефонам, но, как понял Ярцев, напасть на след Жоголя-младшего ей не удалось. Вика решила ехать в какое-то кафе. Глеб поехал с ней.
Девушка гнала как сумасшедшая. Ярцев делился с ней впечатлениями о клубе, но, сдаётся, она его не слышала, думая о чем-то своём. Припарковала машину она возле подъезда, над которым светилась неоновая вывеска «Кафе „Зелёный попугай“.
Оно помещалось в полуподвальном помещении. Столиков было немного — с десяток. Бухали невидимые ударные инструменты, хрипловатый мужской голос пел:
Девочка сегодня в баре Девочке пятнадцать лет Рядом худосочный парень На двоих один билет…
Вербицкая всматривалась в полутёмный зал, буквально затопленный табачным дымом.
— И тут, конечно, нет, — расстроенно произнесла Вика.
Вдруг она заметила, что кто-то машет ей с самого дальнего столика, и поспешно направилась туда. Глеб двинулся следом.
— Привет! — вскочил со стула навстречу Вике мужчина лет тридцати в модной рубашке на кнопках, в котором Ярцев сразу узнал известного киноартиста Александра Великанова.
За столиком сидел ещё один мужчина, постарше, который поздоровался с Викой тоже по-свойски. А когда представлялся Глебу, назвался Лежепековым.
— Приземляйтесь! — жестом радушного хозяина указал на два свободных стула Великанов.
Ярцев, признаться, все же немного робел. Хотя видел артиста неделю назад, и довольно близко. Великанов провёл у них в Средневолжске несколько встреч со зрителем в клубах и во дворцах культуры, но почему-то по линии… общества книголюбов. Глебу удалось попасть на вечер, который проходил в здании Высшей школы милиции. Народу было битком. Артист рассказывал о своём детстве, о работе в Театре-студии киноактёра, о тёте, знаменитой Евгении Великановой, игравшей с такими корифеями сцены, как Грибов, Яншин, Тарасова. Популярная артистка театра и кино скончалась несколько месяцев тому назад, и некролог о ней был помещён в центральных газетах. По словам Великанова, именно тётя приобщила его к искусству.
— Миша здесь не был? — спросила у Великанова Вика.
— Вчера приходил, а вот сегодня что-то не видно, — ответил тот.
Вербицкая, секунду поколебавшись, решила:
— Ладно, чего гоняться за ним по Москве… Может, заглянет.
— Миша говорил, что у него должно состояться где-то обсуждение, — сообщил Великанов. — Питает надежды…
— В том-то и дело, что рухнули надежды, Саша! — вдруг снова заволновалась Вика. — Представляешь, парень работал над картиной целый год. Год! Как одержимый! И нашлась сволочь, плюнула ему в душу…
— Иди ты! — встревожился Великанов и, повернувшись к Лежепекову, пояснил: — Я тебе рассказывал о Мише Жоголе. Совсем ещё пацан, а кистью работает — как бог!
Лежепеков чинно кивнул, пыхнул трубкой. И вообще Глеб обратил внимание: насколько просто и контактно вёл себя Великанов, настолько был сдержан и даже высокомерен его приятель.
Киноартист попросил Вербицкую рассказать подробнее, и Глеб узнал, что в то время, когда он с Буримовичами слушал дебаты в научно-технической секции, буквально за стенкой разбирали картину Миши, которую он выставил на суд членов клуба «Аукцион».
— Представляете, никто ничего не успел сказать, поднимается один деятель и начинает разнос: пропаганда религиозного дурмана, спекуляция на приближающемся тысячелетии крещения Руси!
— Погоди, — перебил её Ярцев. — Эксперт, что ли?
— Какой там эксперт? Чиновник из отдела культуры райисполкома! Никто и не звал его на обсуждение. Пришёл посмотреть: а вдруг, не дай бог, крамолу разводят?
— Сюжет действительно религиозный? — поинтересовался Лежепеков.
— Более патриотичного нельзя и придумать! — ответила Виктория. — Между прочим, подсказал Решилин. На историческом материале. Сергий Радонежский благословляет на битву с Мамаем Пересвета и Ослябю. — Она обратилась к Глебу: — Вот ты, как историк, скажи, что в этом религиозного?
— Господи, да это ведь один из самых великих моментов в истории России! — сказал Ярцев. — Доподлинно известно, что московский князь Дмитрий, когда шёл со своим войском в донские степи, заезжал в Радонеж к Сергию… Потом была Калка, принёсшая славу русскому воинству. Стыдно не знать эти вещи!
— Да весь сыр-бор из-за того, что, как я поняла, Ослябя и Пересвет были иноками, — сказала Виктория.
— Ну и что? — усмехнулся Глеб. — Нельзя, черт возьми, требовать, чтобы у них был в кармане комсомольский билет! Другие времена! Научного материализма ещё не существовало! Сознание у людей основывалось на религиозных представлениях. Более того, в монастырях развивались ремесла, искусства, а такие, как Сергий Радонежский, несли просвещение в народ. Монахи же умели не только молиться, а и землю пахали, строили, воевали. И забывать подвиг Пересвета и Осляби, полёгших на Куликовом поле за землю русскую, — кощунство!
— Ну а что Михаил? — нетерпеливо перебил его Великанов.
— У парня — нервный срыв. При всех разорвал холст и убежал. Ребята — за ним, но его и след простыл. Представляю, что у него в душе! Все накинулись на райисполкомовца, а тот все своё гнёт: мол, понаразрешали всякое, дошло до того, что уже в литературе открыто занимаются богоискательством. Назвал Солоухина, Айтматова…
— Прямо как у Полунина, — серьёзно проговорил Лежепеков. — Помните ленинградского мима? «Низ-з-зя!» По рукам и ногам вяжут: так не делай, так не думай, так не поступай. Захочешь в магазине примерить перчатки — «низ-з-зя»! Задумал на своём садовом участке вырыть нормальный погреб, так, оказывается, глубже метра девяносто — «низ-з-зя»! Предлагаешь директору киностудии острую тему — опять-таки «низ-з-зя»!
— Потому что последнее слово все равно за чинушами. У них одно: не пущать, не разрешать! — в сердцах произнесла Вербицкая.
— Вика, милая, да если дать народу свободно думать и делать, кому что положено, без всяких запретов и помех, — чинушам этим смерть! — усмехнулся Ярцев. — Таков закон жизни: одним хорошо, когда другим плохо.
— Но почему же этих одних так мало, а других, кому плохо, так много? — грустно улыбнулась Вика.
Великанов щёлкнул пальцами. Подошёл бармен. Поздоровавшись с Вербицкой как со старой знакомой, спросил, что подать.
— Принеси нам, Руслан, четыре… — распорядился киноартист, кивая на пустые бокалы из-под коктейля. — И столько же кофе.
Глеб, обвыкнув в полумраке, разглядывал помещение кафе. Оформление не отличалось особой изобретательностью. Что же касается посетителей, — в подавляющем большинстве своём зеленые юнцы с такими же девчонками.
«Да, заведеньице, прямо скажем, не шик», — отметил про себя Ярцев.
Он вспомнил кафе и рестораны, которые обычно посещал в Средневолжске,
— роскошь по сравнению с этой забегаловкой. Что публика, что меню, что джаз! А тут даже нет официантов. Посетители сами подходили к стойке и получали свой коктейль или кофе с бутербродами.
Для Великанова, видимо, Руслан сделал исключение — принёс заказ сам.
Коктейль Ярцеву тоже не понравился, кисло-сладкая водичка, и ни грамма алкоголя.
— Шеф, скоро видео врубишь? — вдруг выкрикнул кто-то из зала.
— Даёшь хард рок и хэви металл! — подхватил другой. — Уже одиннадцать часов!
Бармен невозмутимо подождал, пока кончится очередная запись на магнитофоне, и только потом включил видеосистему. На большом экране телевизора, который Глеб поначалу не заметил, под густой тяжёлый ритм забесновались длинногривые парни с цепями на шеях.
— Группа «Меноур»! — восхищённо передавалось от столика к столику.
— Ну, у детишек начинается кайф, — улыбнулся Великанов, снисходительно глядя на возбуждённые молодые лица.
Несколько пар выскочили на средину зала и энергично дёргались под музыку.
— Встряхнёмся? — неожиданно для Ярцева предложила Вербицкая.
Глеб встал, подал ей руку.
— Вот уж не думал, — признался он Вике, когда они присоединились к танцующим, — что буду сидеть с Великановым за одним столиком.
И рассказал о приезде киноартиста в Средневолжск, о своём недоумении по этому поводу.
— Все очень просто, — объяснила Вербицкая. — Общество книголюбов платит за выступление больше, чем бюро пропаганды Союза кинематографистов. Ты думаешь, Саша один такой? Многие наши звезды с удовольствием ездят от книголюбов. — И она назвала несколько известных артистов.
— Неужели не хватает? — Глеб потёр большой палец об указательный, имея в виду деньги.
— А кому их хватает? Потом, актёры, старик, люди зависимые. Не пригласит режиссёр — соси лапу. Ты обратил внимание, как Великанов обхаживает Севу Лежепекова?
Глеб и сам заметил, что киноартист слишком уж почтителен с тем.
— Лежепеков режиссёр? — догадался он.
— Постановщик, — кивнула Вербицкая. — Получил несколько дипломов на международных кинофестивалях. Саша мечтает сняться у него в главной роли.
Рок-группу на экране сменили девицы в предельно откровенных нарядах. Под томную мелодию с явным восточным акцентом они исполняли танец живота.
Глеб и Вика вернулись к своему столику. Лежепеков и Великанов говорили о молодёжи.
— Детки, детки… — попыхивал трубкой режиссёр. — Что мы о них знаем? Что творится в этих головках с растрёпанными волосиками? — кивнул он на соседнюю компанию подростков, жадно впившихся в экран телевизора.
На головах у них творилось черт-те что: космы, словно специально смазанные каким-то жиром, торчали во все стороны. Трудно было отличить ребят от девушек. К тому же у парнишек поблёскивали в одном ухе серёжки: принадлежность к клану почитателей «металлического» рока…
— Панки, — отмахнулся киноартист. — На уме лишь хэви металл. И вообще какое-то танцующее поколение. Книжки читают единицы.
— А кто виноват, старик? — усмехнулся Лежепеков. — Лично я не знаю, как ещё сохранил любовь к литературе. Во всяком случае, в школе сделали все, чтобы убить её. Вот я смотрю на свою Иришку. Какие у неё могут быть идеалы, стремления? Ты же знаешь, она не из одноклеточных…
— Ирка у тебя чудо! Тонкая натура.
— Поэтому ей не позавидуешь, — продолжал режиссёр. — Совершенно не переваривает телевизор! С ума, говорит, можно сойти от такой серятины! И потом, наше с тобой сознание давно закалилось, адаптировалось к тому, что мы живём как бы на кратере вулкана. Я имею в виду атомную бомбу… А как же им, с их хрупкой психикой? Зачем мучиться над загадками и сложностями бытия? Стоит ли заниматься образованием, самосовершенствованием, если все и так пойдёт в тартарары? Так уж лучше забыться, успеть вкусить все наслаждения жизни!
На экране телевизора один номер сменялся другим. Глеб заметил, что ни Лежепекова, ни Великанова, ни тем более Вику зрелище особенно не привлекало. Зато вызывало восторг у остальных посетителей. Ярцев невольно прислушался к тому, что говорили за соседним столиком подростки. Каждый новый ансамбль или исполнителя они узнавали с первого звука.
Очередной фильм был фривольного содержания, и Глеб, никогда ранее не видевший ничего подобного, удивился, как это Руслан осмелился показать его публично.
Полумрак в зале, происходящее на экране, запах кофе и сигарет, застывшие в немом возбуждении юные лица, — все это рождало в голове эротические фантазии. И Глеб понял: именно этим привлекает посетителей «Зелёный попугай».
Бармен знал, что им нужно, зажигать их постепенно, начиная с невинных, казалось бы, песенок.
— Как тебе? — неожиданно прервала его мысли Вика, кивнув на экран.
— Так себе, — ответил небрежно Ярцев, чтобы не показаться лопухом-провинциалом, заворожённым созерцанием полуголых девиц.
— После двенадцати — ещё интереснее, — сказала Вербицкая.
— А видеоустановка шикарная, — одобрил Глеб. — Цветопередача, экран…
— Интересуешься? — спросила Вика.
— Давно. Но у нас купить невозможно.
— Если ты серьёзно… — начала было она.
— Да хоть сегодня бы взял, — перебил Ярцев. — Разумеется, только фирму. Наша электроника мне и задаром не нужна.
Глеб заметил, что Великанов и Лежепеков посмотрели на него как-то по-иному, уважительно, что ли.
Вербицкая, бросив «момент», встала и подошла к одному из столиков, за которым сидел молодой человек лет двадцати — двадцати трех. Вика перекинулась с ним парой слов и поманила Ярцева. Когда он подошёл, она представила Глеба своему знакомому, которого звали Феликсом.
Несмотря на молодость, Феликс вёл себя по-деловому.
— Могу кое-что предложить, — сказал он, скользнув по Ярцеву быстрым оценивающим взглядом, а затем, уже обращаясь к Вербицкой, добавил: — Загляните ко мне завтра, часиков в семь.
— Договорились, — кивнула Вика.
Возвращаясь к своему столику. Глеб спросил:
— А сколько денег брать с собой?
— Думаю, тысяч семь-восемь хватит, — ответила Вика.
Великанов и Лежепеков говорили о том, почему здесь, в кафе, нет ни одного свободного места, а в театр зрителей и калачом не заманишь. За исключением, конечно, таких, как МХАТ, Театр сатиры, на Таганке, и ещё нескольких.
— Да потому, что докатились, как говорится, до ручки, — в сердцах произнёс артист. — Из года в год на сцене одна и та же жвачка! Ей-богу, иной раз хочется плюнуть и бросить все к чёртовой матери! Обрыдло играть роли, от которых тошнит. Недаром говорят: ржа ест железо, а лжа душу. Я вот не понимаю, каким образом покупают бездарные пьесы. Более того, почему серых так много, а ярких, талантливых — кот наплакал?
— Очень просто, — усмехнулся Лежепеков. — За плохие, но правильные пьесы никого не ругают. А все мало-мальски значащее пахнет конфликтом.
Лежепеков хотел что-то ещё сказать. Но Вика вдруг облегчённо воскликнула:
— Наконец-то явился!
— Привет! — крикнул кому-то артист, подняв руку. — Рули сюда!
Глеб повернул голову и увидел парня лет двадцати, стоящего посреди кафе и мрачно озирающегося вокруг. Ярцев почему-то догадался, что это и есть Жоголь-младший.
Михаил совсем не был похож на отца: шатен, с курчавыми волосами под Валерия Леонтьева, высокий, с не до конца ещё оформившейся фигурой.
Жоголь разглядел наконец в полумраке Викторию и на секунду замер, но вместо того, чтобы подойти к их столику, порывисто подскочил к бармену и сказал ему несколько слов, которые отсюда не были слышны. Руслан кивнул, выключил видео и нажал кнопку магнитофона.
Густая, тяжёлая синтез-музыка заполнила кафе. Все повернулись к Михаилу. И вдруг тот совершенно преобразился. Человек словно превратился в робота. Он медленно двинулся на середину кафе, где пустовало небольшое, свободное от столиков пространство. Движения были дёрганые, рваные и в то же время пластичные, не лишённые своеобразной гармонии.
Это был робот, но какой-то необычный, нежный робот.
Посетители «Зеленого попугая» замерли в восторге, наблюдая за Жоголем.
— Верхний брейк, — прокомментировал кто-то за соседним столиком.
Но Михаил недолго оставался «роботом». Неожиданно он бросился на пол и стал вытворять нечто невообразимое: крутился на голове, на спине, на одной руке, на двух, перекатывался, как пресс-папье.
Кафе взорвалось восторженными криками.
— Давай, Майк, давай! — подбадривали танцора.
— Нижний брейк, — снова раздался комментарий соседей.
А Михаил продолжал вытворять свои головокружительные трюки все в более убыстряющемся темпе.
«Так вот он какой брейк-данс», — подумал Ярцев.
Об этом увлечении молодёжи ему приходилось только слышать или читать в прессе. В основном — ругательное. И вот — увидел собственными глазами.
Глеб посмотрел на своих компаньонов. Великанов откровенно наслаждался зрелищем. Лежепеков наблюдал за Жоголем скорее с любопытством, а вот лицо Виктории выражало непонятное смятение.
— Молоток! — не удержавшись, похвалил танцующего Великанов.
— А ведь на Западе, точнее, в Америке, — сказал Лежепеков, — где и родился брейк-данс, его танцуют исключительно только негритянские парни. Белые — ни в коем случае!
Рок кончился. Кончился и танец. Кафе разразилось аплодисментами.
Великанов и Виктория позвали Жоголя, но он будто и не слышал. Направился к стойке бара, одним махом выпил коктейль, с улыбкой предложенный Русланом.
Вика не выдержала, резко встала, подошла к Михаилу и взяла его за локоть, но он грубо выдернул руку. Вербицкая, видимо, растерялась, что-то сказала ему, но тот ответил ей с гримасой злобы на лице. Затем он решительно повернулся и почти бегом покинул кафе.
Вербицкая бросилась за Михаилом.
— Переживает, наверное, до сих пор, — сказал Лежепеков.
— Вообще-то на Мишу это не похоже, — недоуменно глядя на входную дверь, произнёс Великанов. — Общительный, отходчивый. Видно, его сегодня действительно сильно корёжит.
Эпизод этот, однако, больше никого в зале не затронул. Посетители вновь уставились на экран телевизора, так как бармен поставил ещё более «смелый» видеофильм.
Ярцев глянул на часы, стрелки показывали начало первого. Вика так и не появилась.
Но досмотреть фильм не удалось. Буквально минут через пятнадцать в кафе вбежал патлатый парень и что-то шепнул на ухо Руслану. Изображение тут же погасло. А в помещение уже входили несколько дружинников с красными повязками. Они рассыпались по залу, выспрашивая о чем-то сидящих за столиками.
— По-моему, пора поднимать паруса, — встав со своего стула, сказал Лежепеков и выбил о край пепельницы погасшую трубку.
— Да, как говорится, от греха подальше, — последовал его примеру Великанов.
Ярцев поднялся тоже. Они двинулись к стойке бара. Глеб достал бумажник.
— Спокойно, — улыбнулся артист. — Спрячь. — И небрежно бросил Руслану:
— Запиши, старик, все на меня.
— Хорошо, Саша, — кивнул тот. — Заходи.
Попрощавшись с барменом, который поставил на видеоприставку кассету с невинными мультиками, они вышли на улицу.
«Лады» Вербицкой не было.
Лежепекова посадили в такси. А Ярцев с Великановым ещё часа полтора бродили по Москве.
Проснувшись на четвёртое утро в своём великолепном номере, в котором он лишь ночевал, Глеб с ужасом обнаружил, что за три дня, проведённых в Москве, по существу, ничего не сделал. Разработанный им чёткий план уже с первых часов в столице полетел ко всем чертям. Казалось бы, время насыщено до предела, куда-то едешь, с кем-то встречаешься и, возвратившись к ночи в гостиницу, валишься с ног от усталости и впечатлений. Конечно, интересного немало: знакомство с Решилиным, Великановым (будет чем похвастать у себя!), посещение Астафьева, Пушкинского музея на Арбате… Но ведь не для этого он ехал в Москву! Такие дела от Ярцева не уйдут, когда он переедет сюда насовсем. Обмен — вот главное, ради чего он вырвался из Средневолжска, вырвался всего на пять дней! И для осуществления своей основной миссии не удосужился даже пальцем пошевелить.
«А ещё считаю себя деловым человеком!» — ругнулся про себя Глеб.
Он вспомнил скептиков, осмеявших его идею. Мол, желающих перебраться в столицу — тьма. Но где найти таких дураков, которые променяли бы Москву на другой город?
У Ярцева, как ему казалось, имелся серьёзный аргумент — роскошная четырехкомнатная квартира в центре, на самой набережной. Глеб же был согласен даже на однокомнатную на окраине. Но если относиться к столь ответственному мероприятию, как он…
«Все, — решил Глеб. — Занимаюсь только обменом! Ножками надо потопать, ножками!»
Времени вообще оставалось в обрез.
Водитель такси, услышав адрес в Банном переулке, оживился:
— Меняешься на съезд или разъезд?
— На другой город, — ответил Глеб, кратко описав своё предложение и что хотел бы иметь.
— Найдёшь, — солидно сказал таксист и посоветовал: — Ищи клиентов среди алкашей. И не жмись, паря, насчёт денег.
— А кто мне скажет, закладывает или нет желающий меняться? — усмехнулся Ярцев. — Такого учёта в бюро, по-моему, нет.
— Действуй через маклера, — не обращая внимания на тон пассажира, поделился ещё одним советом водитель. — Без маклера будешь ждать варианта годами. И дождёшься ли — бабка надвое сказала. А тут — гарантия. Отвалишь какой-то процент — и ни хлопот тебе, ни забот. Башли, паря, они сохраняют время и здоровье. — Он обернулся к Глебу и засмеялся: — Если они, конечно, есть.
Само слово «маклер» вызывало у Ярцева глубокое недоверие, хотя с такого рода деятелями он пока в жизни не встречался.
«Обойдусь», — подумал он.
Но вслух ничего не сказал, одарив таксиста сверх показаний счётчика рублём.
Около входа в здание бюро обмена к Глебу подошёл молодой человек и спросил, не нужна ли ему помощь.
«Маклер», — подумал Ярцев и ответил отрицательно. Но парень все-таки сунул ему клочок бумажки со своим телефоном.
Глеб поспешил в бюро. Однако, увидев ошеломляющее количество народу, он приуныл. Но отступать было некуда — встал в очередь. Для успеха дела в ход пошёл флакон духов — испытанный способ. И вот наконец в руках три адреса тех самых «дураков», которые по неизвестным пока Ярцеву причинам захотели переселиться из Москвы в Средневолжск.
Четвёртый адрес он получил, так сказать, в знак особой любезности (сыграл флакончик, сыграл, родимый, свою роль!). Предложение не касалось именно Средневолжска, податель его желал переселиться, как явствовало из заявления, чуть ли не к черту на рога, и побыстрее. Глеб в первую минуту подумал даже, не чокнутый ли? Или шутник?
Однако в таком серьёзном деле шутить вроде не принято. Фамилия — Киселёв — показалась Глебу знакомой. Но мало ли людей с подобной фамилией?
Сначала он решил наведаться в Столешников переулок. Уже само название будоражило воображение — центр, главный пятачок, можно сказать, столицы!
Человек всегда надеется на лучшее, хотя и учит себя ожидать худшего. Глеб, сидя в такси, с нетерпением ждал встречи с неким Ческисом, обладателем двухкомнатной квартиры в двух шагах от Большого театра, ГУМа, ЦУМа. А по лестнице на третий этаж старинного дома он буквально взбежал, уже представляя себе, что именно этот вариант послан ему провидением и сработает непременно.
Но уже у двери с нужным номером Ярцева озадачило несоответствие сведений, полученных из бюро, и реальности: на косяке красовалось восемь или девять кнопок звонков.
Значит, не отдельная квартира, а коммуналка…
Он нажал кнопку возле фамилии Ческис. Где-то далеко-далеко послышался слабый отзвук. Подождав безрезультатно минуты две, Глеб снова утопил кнопку.
То, что квартира жила, было ясно из доносящегося изнутри шума голосов. Но откликнулись лишь на четвёртый звонок. На пороге появилась дама с сигаретой в зубах; обилие косметики на лице не скрашивало, но ещё более подчёркивало её возраст.
— Если не открывают, значит, человека нет, — смерила дама взглядом Ярцева.
— Простите… Видите ли, я насчёт обмена… Ну, квартиры… — путался в словах Глеб. — К товарищу Ческису… Не скажете, когда его можно застать?
— Дома — не знаю, а вот в больнице, видимо, ещё можно, — усмехнулась дама.
— И давно он?
— Месяца три.
— В какой?
— Понятия не имею, — последнее, что услышал от дамы Ярцев.
Дверь захлопнулась со звуком пистолетного выстрела.
С трудом отыскав такси (летом, в центре Москвы!), Глеб отправился по второму адресу. Он не жалел, что не увиделся с Ческисом: жить с такой соседкой не пожелаешь и врагу, а уж себе… Ярцев утешался мыслью, что Ленинский проспект даже лучше. Много зелени, простор и дома куда пригляднее.
Однако и здесь его ждало разочарование: хозяин квартиры находился на даче и, кажется, переезжать в другой город раздумал. По словам родственницы, находившейся в квартире, причиной этой перемены явилось якобы его примирение с начальством.
Выйдя на шумный проспект, Глеб долго размышлял, по какому из двух оставшихся адресов отправиться. И выругал себя: вот недотёпа! Телефоны… Ведь надо было сперва дозвониться, справиться, а потом уже мчаться через весь город. Правда, по одному из вариантов телефон отсутствовал. Здесь уж ничего не поделаешь, придётся, видимо, ехать наобум. Зато чудак, желающий срочно переселиться в любой город страны, телефон имел. Туда Ярцев и позвонил. Ответил мужчина. Узнав, что это по поводу обмена, коротко сказал:
— Жду вас.
И объяснил, как проехать. Конец оказался не близким — Свиблово, за ВДНХ. Пришлось опять брать таксомотор.
Когда Глеб подъехал к новому светлому дому из голубых панелей, настроение у него поднялось. Район был симпатичный, тихий. Рядом небольшая рощица из высоких сосен. И что тоже весьма важно — метро буквально в пяти минутах ходьбы.
Открыл пожилой мужчина с бородкой и в очках. На нем были пижамные брюки и майка с короткими рукавами.
И тут только Глеб понял, откуда ему показалась знакомой фамилия Киселёв — перед ним стоял президент того самого клуба «Аукцион».
— Здравствуйте, Сергей Яковлевич! — вспомнил Глеб его имя и отчество.
— Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, — приветливо ответил профессор, вглядываясь в Ярцева. — Простите, что-то запамятовал…
— Мы, собственно, незнакомы, но я был вчера в клубе…
— А-а! — обрадованно проговорил Киселёв. — Проходите, проходите, пожалуйста!
Они вошли в комнату, всю заставленную стеллажами с книгами.
Гостю Киселёв предложил кресло, а сам устроился на крохотном диванчике.
— Да-а, — протянул учёный, — вчера было очень плодотворное заседание… Вам понравилось?
— Очень, — ответил Глеб и, чтобы расположить к себе хозяина, сказал: — Честное слово, прямо не ожидал. Я ведь впервые… Здорово вы все организовали.
— Ну почему я, — несколько смутился профессор. — Мой только первый толчок, а остальное все — молодёжь… Какие смелые идеи! Совершенно нестандартный подход к решению технических и научных проблем! Хотя бы этот проект с пригородным поездом…
— Интересно, — поддакнул Ярцев.
Боковым зрением он вдруг заметил, что в комнате происходит нечто необычное. Глеб повернул голову и увидел: в приоткрытую дверь вползает… горжетка. Он даже зажмурил глаза. А когда открыл, это нечто мохнатое было уже посредине комнаты. Вжавшись в кресло, Ярцев чуть не вскрикнул.
И тут в комнату, смешно переваливаясь на ногах, вбежал мальчонка лет трех. Он был неестественно полный, кожа на его словно раздутых ручках, ножках и щеках, казалось, вот-вот лопнет.
— Тотосик, Тотосик, — залопотал ребёнок, беря с пола извивающееся существо.
— Господи! — едва мог вымолвить Глеб. — Что это?
— Представьте себе, змея, — сказал Киселёв. — Волосатая.
— Змея? — вырвалось у Ярцева.
— Да вы не бойтесь, — поспешил успокоить его профессор. — Она совершенно безобидная. Это я внуку привёз из Мексики. Был там на симпозиуме, видел, как дети играют с ними, словно со щенками или котятами… Максик сразу назвал её Тотосиком и очень привязался.
— Он хороший, — сказал мальчик.
— Хороший, хороший, — погладил внука по голове Киселёв. — Ты поиграй в другой комнате.
И Глеб с облегчением вздохнул, когда мальчик со своим Тотосиком очутился по другую сторону двери.
— Вы, наверное, с какой-нибудь идеей? Или проектом? — спросил хозяин.
— Нет-нет, — сказал Глеб. — Насчёт обмена. Это я звонил вам.
— Да? — улыбнулся Киселёв. — Вы что, на вертолёте с Ленинского проспекта?
— Такси, — пояснил Глеб.
— Понятно, — кивнул профессор. Он вдруг стал озабоченным, поднялся с диванчика, зачем-то подошёл к окну, стал смотреть в него и грустно проговорил: — Вот такие дела… Как сказал Чацкий: «Вон из Москвы»… — Он резко повернулся. — Знаете, вы первый откликнулись на моё предложение. Только вчера подал. Да, из какого вы города?
— Из Средневолжска, — ответил Ярцев. — Квартира у меня шикарная. Честно, без дураков.
И он стал описывать свои апартаменты, не забыв упомянуть про центр и набережную.
— Да-да, — кивнул профессор. — Место — лучше не придумаешь… Я был в Средневолжске.
Глебу показалось, что Киселёв слушал его рассеянно. Это несколько удивило и встревожило его: неужто у профессора вдруг изменились планы? Тогда Ярцев сказал, что получил солидное наследство от отца, намекнув при этом, что готов предложить хорошую доплату. Последнее, как ему показалось, профессор пропустил мимо ушей или сделал вид, что это его не интересует. Он стал расспрашивать, чем занимается Глеб. Тот коротко поведал о себе. Без пяти минут кандидат наук, имеется перспектива и так далее. И снова вернулся к делу.
— Насколько я понял, вы хотите все оформить срочно? — спросил он.
— Прямо сейчас бы на поезд! — с каким-то отчаянием произнёс Киселёв. И спохватился: — Не подумайте, что меня гонят с работы. Ценят. И даже очень.
— Он улыбнулся. — Вы решили, наверное, — старик, пора бы угомониться и на покой?
— Вовсе нет, — возразил Ярцев.
— Хотя, конечно, были бы вправе так подумать, — серьёзно сказал Киселёв. — Я ведь физик, а физики похожи на поэтов, как сказал Фредерик Жолио-Кюри, они делают открытия в молодости… Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год. А Эйнштейн сформулировал частную теорию относительности в двадцать шесть… Я, конечно, в гении не лезу, но, как говорят, есть ещё порох в пороховницах. И голова моя пригодится везде. — Он взял фотографию в рамке, где был снят с миловидной цветущей женщиной лет сорока пяти. Оба улыбались. — Это моя жена, Люся, — зачем-то показал он портрет собеседнику.
— Очень приятно, — сказал Глеб.
— Снимались пять лет назад, — с тоской проговорил Киселёв. — Тогда мы ещё были счастливы и не думали… — Он махнул рукой, тяжело вздохнул.
«Умерла, что ли? — промелькнуло у Глеба в голове. — Вот и хочет уехать, забыться…»
— Я вам объясню, почему такая спешка, — неожиданно резко сказал Киселёв, ставя фотографию на стол. — Объясню… Просто не хочу терять жену раньше времени. Я её очень люблю. Очень! А она души не чает в Максике. Вы обратили внимание, внук у нас… Ну, словом, не совсем здоров. — Он кивнул на дверь. — Врачи говорят, что со временем мальчик войдёт в норму. Если лечить, все будет в порядке. И мне Максик очень дорог! Но нельзя же этим пользоваться! Нельзя! — почти выкрикнул Сергей Яковлевич.
Он разволновался, стал ходить по комнате. Глеб, пока ещё ничего не понимая, молча следил за профессором.
— Из-за этого мерзавца Люся буквально тает как свеча! — продолжил Киселёв.
— Простите, я не совсем улавливаю, — сказал Ярцев. — Кто мерзавец?
— Мой зять! — остановился возле него Киселёв. — Проходимец! Из института, а он учился в физкультурном, выгнали! Из спорта — тоже!.. Спекулянт и убийца! Вы спросите, чем он спекулирует и кого убивает? Наглейшим образом спекулирует на нашей с Люсей любви к внуку. И тем самым верно и отнюдь не медленно убивает мою жену! Свою, впрочем, тоже! То есть мою дочь! Нет, вы только подумайте, до какой низости, до какой наглости может дойти человек! Чтобы увидеться с Макси-ком, подчёркиваю, только увидеться, я должен этому негодяю выкладывать каждый раз двадцать пять рублей! Если внук остаётся у нас на сутки — пятьдесят! На двое суток — семь-десять пять, а за четвёртые — сотня!
— Сотня? — переспросил зачем-то Глеб, ошеломлённый услышанным.
— И ни копейки меньше!
— А как же ваша дочь позволяет?
— Ах, дочь, дочь… — произнёс с невероятной мукой Киселёв. — Татьяна ещё более несчастна, чем мы. Вбила себе в голову, что дурнушка. Пуще смерти боится потерять этого подлеца! Издёрганная, отчаявшаяся какая-то. Представляете, на нервной почве экзема. Это ещё пуще загоняет её в омут. А подлец все сильнее распоясывается. Словом, порочный круг… Я понял, пока мы с Люсей не уедем из Москвы, его не разорвать.
— Извините, Сергей Яковлевич, — сказал Ярцев. — Логики не вижу. Так любите внука и хотите в другой город. Как же вы сможете без него?
— Вы ещё молоды, разобраться, естественно, трудно… Логика на самом деле очень простая. Думаете, ему нужен сын? К Максику у этого чудовища вот настолько нет чувств — профессор показал кончик мизинца. — Татьяна же совершенно потеряла волю. Да исчезни мы с Люсей из Москвы, они оба взвоют через неделю! Обуза для них Максик, понимаете, обуза! Тем паче — больной! Врачи, лекарства, присмотр! Вот увидите, через месяц в ножки бросятся, чтобы мы взяли внука к себе.
— А если не бросятся?
— Уверяю вас, я прав! Да и выхода другого, признаться, нет. Вы же понимаете, это обыкновенный шантаж. Хватит! Я глубоко убеждён: стоит вымогателю один раз дать по морде, и он будет знать своё место. Да-да! И ещё приползёт лизать руки!
Из прихожей раздался звук отпираемой двери.
— Это Люсенька, — заволновался Киселёв. — Была у них…
Он ринулся к выходу, но в комнату уже входила его жена.
Ярцев поразился её облику — старуха с запавшими глазами на посеревшем морщинистом лице. Он невольно бросил взгляд на фотокарточку: невозможно было поверить, чтобы человек так изменился за каких-нибудь пять лет.
— Вот, дорогая, познакомься, — засуетился Сергей Яковлевич. — Глеб… Он был в бюро обмена, и ему дали наш адрес.
Женщина молча кивнула гостю и как-то отрешённо опустилась на стул.
— Предложение — мечта! — продолжал возбуждённо Киселёв. — Представляешь, Средневолжск! Роскошная квартира на берегу Волги! Помнишь, как мы гуляли с тобой вечером по набережной? И у меня там друзья, единомышленники! Мои бывшие ученики! Хотя бы Кац, ну, у которого я был оппонентом по докторской. Неужели забыла? — тщетно пытался расшевелить свою жену профессор. — Алексей Данилович теперь замдиректора института. Если не отдел, то лабораторию даст непременно.
— Серёжа, о чем ты говоришь? — вдруг всхлипнула она.
Киселёв, словно споткнувшись обо что-то, сжался, сгорбился и прерывающимся голосом спросил:
— Значит, опять? Гнула свою линию?
— Я хотела… Понимаешь, последний раз пыталась уговорить отпустить с нами Максика. Но Александр…
— Господи, я же просил никогда при мне не упоминать его имя! — затрясся от злости Киселёв. — И не так надо было с ним, не так! Уезжаем, и все!
— Я же бабушка! — взмолилась жена.
— А я дедушка! И твой муж! — хлопнул рукой по столу профессор.
— Серёжа, Серёжа! — сложила на груди худенькие ладошки Киселёва. — Успокойся, прошу тебя, выслушай. Я почти уговорила его. Он, возможно, и согласится. Но при условии, если мы оставим им нашу квартиру и дачу. И тогда Максика отдадут нам…
— Никаких условий! — буквально взревел профессор.
Его жена разрыдалась, стала уверять, что дочь и зять загубят Максика и из плана Сергея Яковлевича ничего не выйдет.
Ярцев понял, что дальше никакого разговора не получится, и поднялся уходить. Киселёв взял у него средневолжский адрес и телефон, проводил до двери, извинился, просил звонить, убеждая Глеба, что доведёт задуманное до конца.
Выйдя на улицу, Ярцев некоторое время не мог опомниться от сцены, невольным свидетелем которой он стал. Глеб оглянулся на голубую громадину дома, на сосновую рощу и понял, что возможность поселиться в этом чудном уголке Москвы схожа с призрачным облаком, повисшим в небе. Он остановил проезжавшее такси и вскочил в него. Оставался последний шанс: двухкомнатная квартира на Беломорской улице. Он поинтересовался у водителя, что это за район.
— Речной вокзал? Что ты, парень! Место — люкс! Дома, как в лесу. Рядом водохранилище, парк Дружбы и до центра пятнадцать минут на метро.
Дом, который они искали, действительно находился среди густых деревьев. Рядом с кинотеатром «Нева». Ярцев поднялся на лифте на седьмой этаж, готовясь к разговору с хозяйкой, некой Валентиной Михайловной Наумовой. С волнением позвонил и…
— Приве-т! — протянул с удивлённой физиономией Аркадий Буримович, стоявший в дверях.
У Глеба едва не отвисла челюсть.
Вот уж поистине день неожиданных встреч!
Забыв даже поздороваться, Ярцев лихорадочно соображал, что может делать у Наумовой его приятель. Неужели опередил?
— Может, все-таки войдёшь? — усмехнулся Аркадий.
— Попробую, — шагнул в прихожую Глеб. И, оглянувшись, тихонько спросил: — Ты что, тоже?..
— Что тоже? — не понял Буримович.
— Ну, по обмену?
Аркадий, наморщив лоб, некоторое время соображал, что имеет в виду его друг, и наконец произнёс:
— Теперь понимаю, почему ты здесь. — И как-то по-хозяйски, что немало удивило Глеба, добавил: — Айда на кухню.
Тот покорно проследовал за Аркадием, сел на предложенную табуретку. На плите варились сосиски в кастрюльке, на столе стоял распечатанный пакет молока, лежали свежие помидоры и огурцы.
— Как насчёт пожевать? — спросил Буримович, нарезая овощи на тарелку.
— Не откажусь, — ответил Ярцев, вопросительно глядя на земляка, мол, что это все означает.
— Что же ты не сказал, что хочешь перебраться в Москву? — с укоризной покачал головой Аркадий.
— Случая не было, — ответил Глеб. — Я смотрю, ты распоряжаешься здесь как хозяин…
— Баба Валя — моя родственница. Когда мы приезжаем в Москву, всегда останавливаемся у неё.
— А-а, — с облегчением произнёс Ярцев. — Где Стася?
— Э, брат, тут такое, — вздохнул Аркадий, накладывая себе и приятелю сосиски. — Кошмар! Так что с обменом — ты абсолютно не ко времени. Бедная баба Валя не знает, на каком она свете.
— Постой, постой, а зачем она обратилась в бюро обмена?
— Да она хочет переехать в Средневолжск к дочери своей, то есть к моей тёте. Понимаешь, тётя недавно похоронила мужа… Помочь ей надо. Четверо детей на руках — не шутка. Вот баба Валя и решила… А тут другое несчастье.
— Какое?
— Дядю Диму вчера вечером арестовали.
— Кто это?
— Да сын её… Ну мы ещё позавчера ходили с ним на вечер Гумилёва в Ленинку, — растолковывал Аркадий. — Ты видел его. Взяли прямо с работы. А с утра сегодня баба Валя со Стаськой пытаются что-нибудь узнать.
Доели сосиски молча, Ярцев не знал, о чем и как дальше вести разговор.
— И за что его? — спросил он, когда они закурили.
— За что… — как эхо повторил со вздохом Буримович и, в свою очередь, спросил: — За что теперь берут? За нетрудовые доходы. Так что, Глеб, сам понимаешь, соваться к бабе Вале с обменом…
— Понимаю, понимаю, — поспешно ответил Глеб. — Ну, я пойду.
— Может, посидишь? На душе жуть как муторно. — Аркадий посмотрел на часы. — По телеку как раз баскетбол…
— Прости, старик, дела. — Ярцев тоже посмотрел на часы и встревожился: надо срочно позвонить Вербицкой. — Слушай, где у вас тут телефон-автомат?
— У кинотеатра, — показал в окно Буримович.
Расставание вышло невесёлым. Глеб спустился к «Неве», зашёл в телефонную будку, набрал номер Вики.
— Ну как, идём к Феликсу? — спросил он.
— А как же!
Договорились встретиться в семь часов на площади Белорусского вокзала у памятника Горькому.
Впервые за день не надо было спешить — в запасе целых два с половиной часа. Ярцев отправился на метро «Речной вокзал» пешком. Этот район действительно был самым лучшим из всех, в которых он бывал в Москве. Дома утопали в зелени. Не улицы, а тенистые парковые аллеи. И какая-то удивительно приятная атмосфера.
Глеба одолевали отчаянные мысли: исколесил весь город, просадил уйму денег на такси, а результат?
Везде какая-то неопределённость, у всех свои сложности, проблемы. Удивительно, но нигде Ярцев не получил окончательный ответ. Ни отрицательный, ни положительный. Это его категорически не устраивало. Завтра он уезжает в Средневолжск, и кто вместо него будет связываться со всеми этими людьми?
«Может, и впрямь прибегнуть к услугам маклера? — подумал Глеб, вспомнив парня у бюро обмена, давшего ему свой телефон. — Но где гарантия, что он не окажется мошенником? Сдерёт деньги — и поминай как звали! В милицию ведь не сунешься…»
Из метро плотным потоком выходили люди. Но в направлении центра вагоны шли полупустые.
Он нашёл сберкассу неподалёку от Белорусского вокзала, снял с аккредитива деньги, и все равно ещё оставалась масса времени. Ярцев извёлся от ожидания, к тому же Вербицкая опоздала. И когда уже терпению подошёл конец, появилась, стремительная и элегантная, в облаке лёгких духов.
— Не ругай меня, Глеб, — извиняющимся тоном проговорила Вика, решительно беря его под руку. — Все из-за Мишки…
Он вспомнил вчерашнее появление в кафе Жоголя-младшего, его эксцентричное поведение, а также скоропалительное исчезновение вместе с Вербицкой.
— Ещё не пришёл в себя? — поинтересовался Глеб.
— Какой там! От меня убежал, домой ночевать не явился. Отец страшно переживает. Мы сейчас были с ним в Измайлове. Между прочим, и Решилин там был.
— А что там такое? — спросил Глеб, которого спутница вела сквозь толпу уверенно и быстро.
— Собираются художники. Ну, что-то вроде вольной выставки… Народу съезжается посмотреть — пропасть. Что понравится — можно купить.
— Хорошие картины?
— Разные. Есть очень хорошие, а есть просто дурного вкуса… Да там не только картины. Керамика, чеканка, резное дерево. И даже вышивка. Словом, московский Монмартр.
— А власти как, одобряют?
— Скажешь! Скорее терпят. Ну кому плохо от того, что кто-то купит и повесит у себя дома пейзаж или поставит красивый кувшин? Ведь не бутылку покупают из-под полы, а красоту!
— Худсовет не утвердит, — усмехнулся Глеб.
— А сколько безобразной безвкусицы на прилавках магазинов, утверждённой этим самым худсоветом? — возмутилась Вербицкая. — Вон Жоголь купил сегодня картину, честное слово, такой ни в каком художественном салоне не увидишь! И цена умеренная…
— А что там Решилину делать? — полюбопытствовал Ярцев.
— Как что? Посмотреть на работы молодых. Что их волнует, какие теперь увлечения, тенденции. Ведь на официальные выставки тому, что показывают в Измайловском парке, ни за что не пробиться!
— Ну, и Мишу нашли?
— Нет, — коротко ответила Вика и, посмотрев внимательно на Глеба, спросила: — Вижу, думы тебя мучают. Какие, если не секрет?
Ярцев помедлил с ответом, решая, поделиться своими заботами по поводу обмена или нет. Откровенно говоря, у него уже возникала мысль: а не стоит ли обратиться к Вике или Жоголю за помощью? Но что-то останавливало.
Каждый раз, когда заходил разговор о Леониде Анисимовиче, Вика подчёркивала его интеллигентность, принципиальность и, главное, кристальную честность. Последнее особенно смущало Глеба. Взваливать на плечи человека такие хлопоты… Кому охота заниматься этим безвозмездно? Конечно, можно предложить определённую мзду, но при подобной характеристике… Хотя Глеб не верил в абсолютно бескорыстных людей. И если уж связываться с Жоголем, то конечно же без посредничества Вербицкой.
— Так, устал, — ответил наконец Ярцев.
— Я тоже не прочь расслабиться, — улыбнулась Вика. — Есть планы на вечер?
— Никаких.
— Отлично! — обрадовалась она. — Совместим дело с отдыхом. У Феликса, имею в виду. Кстати, мы пришли…
Ярцев невольно огляделся. Он даже не заметил, когда исчезли шум и суета огромного города. Они стояли возле высокого дома с широченными лоджиями, большими панорамными окнами. Глеба поразила тишина, таинственная зелень огромных деревьев, пустынность дворика.
И это в нескольких шагах от улицы Горького!
— Ну, старуха, шикарный домина!
— Подожди, ещё квартиру увидишь, — многозначительно пообещала Вербицкая. — Посмотришь, как живёт босс из Внешторга.
— Кого ты имеешь в виду?
— Папашу Феликса… Но, по существу, его предки все время за границей.
— Ясно, — усмехнулся Ярцев. — Отец, значит, привозит видеоаппаратуру, а сын…
— Нет-нет, — решительно сказала Вербицкая, увлекая спутника в подъезд.
— Феликс бизнесом занимается самостоятельно.
У двери находилась панель с несколькими десятками кнопок. Вика нажала одну из них.
— Слушаю, — раздалось из переговорного устройства.
— Привет, Феликс, — сказала Вика. — Вербицкая.
— Привет, поднимайся.
Что-то щёлкнуло, зажёгся красный индикатор. Вика открыла дверь.
— Смотри-ка, сплошная электроника, — уважительно заметил Глеб.
В холле кругом стояли цветы в кадках, расстилалась ковровая дорожка. Вербицкая вызвала лифт.
— Феликс работает, учится? — полюбопытствовал Ярцев.
— Заканчивает на следующий год биофак. Да, имей в виду, он парень надёжный и не трепач.
— Я ещё вчера заметил.
Они зашли в подошедший лифт, двери за ними мягко закрылись, и Вика нажала самый последний этаж.
— Деньги с тобой? — спросила она.
— Конечно.
— Сколько?
— Десять кусков, — потряс Ярцев кожаной сумочкой, ремешок которой болтался на его запястье.
— Вполне хватит, — кивнула Вика. — И на шикарную видеосистему, и на отдых… Кстати, по какому классу желал бы провести вечер?
— Классу? — удивлённо переспросил он.
— Я же говорю, — улыбнулась Вика, — у Феликса хватка бизнесмена. Если только посмотреть видео — пятнадцать целковых, видео с кофе — уже четвертной. Ну а если не пожалеешь сотню — высший класс обслуживания.
Глеб хотел уточнить, что значит этот самый высший класс, но постеснялся — ещё подумает, что он жмот. И весело сказал:
— Живём, старушка, один раз. Конечно, по высшему!
Открыла им дверь девушка лет семнадцати с обольстительной фигуркой, которую подчёркивала коротенькая юбочка из сверкающего материала и блузка, едва прикрывавшая грудь, оставляя открытым все остальное, а также туфли на высоченном каблуке. На лице — макияж. Но самым примечательным были волосы — клочками окрашены во все цвета радуги.
Поздоровавшись, девушка сказала, что Феликс ждёт их в лоджии.
— Это кто, его жена? — тихо спросил у Вики Глеб.
— Людочка? — хмыкнула Вербицкая. — Нет, Феликс у нас, как Орлов из Чехова. Помнишь его «Рассказ неизвестного человека»? Там герой рассказа считал, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего — ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды…
— Порядочного? — усмехнулся Ярцев. — А чем же она здесь занимается?
— Индивидуальной деятельностью, — тихо рассмеялась Вербицкая. — После работы. А если быть точной — учёбы в МГУ. Тут Людочка зашибает больше своих профессоров раза в три.
Квартира ошеломила Ярцева своей роскошью. Огромная прихожая была устлана толстым ковром, зеркало в бронзовой раме, высокие канделябры, стены отделаны дорогим деревом.
Вика, отлично ориентировавшаяся здесь, повела Глеба внутрь квартиры по коридору, в который выходили несколько дверей. И из-за каждой раздавались звуки — то стрельба, то дикие вопли, то джазовая музыка.
Комната, через которую они двигались к лоджии, и вовсе напоминала музей старинной обстановки: гнутые ножки столов, стульев, диванов, на стенах — гобелены, картины в багете. С потолка свисала хрустальная люстра. От инкрустированного дерева, бронзовых и позолоченных ручек, часов и безделушек, расставленных повсюду, рябило в глазах.
Феликс вышел из лоджии с пожилым мужчиной. Поздоровавшись с Викой и Глебом и бросив, что сейчас придёт, исчез за дверью. И действительно, он вернулся буквально через минуту.
— Это нечто новенькое, — показала Вербицкая на небольшой старинный пейзаж, который заинтересовал её.
— На прошлой неделе купил. Фламандская школа, — сказал Феликс. — Ты пока наслаждайся, а мы потолкуем.
Он провёл Глеба в лоджию. Просторная, застеклённая листами стекла без переплёта, она напоминала зимний сад в миниатюре. Вьющиеся растения затеняли лоджию от солнца. Украшением этого зеленого уголка был столик из хохломы и такие же стульчики.
— Садись, старик, — предложил хозяин.
На Феликсе была простенькая хлопчатобумажная рубашка в полоску и потёртые джинсы. Но Ярцев знал цену этой простоты и потёртости. От них на версту несло фирмой.
Ярцев опустился на стул, провёл рукой по столешнице.
— Ничего, — сказал он. — Но у нас можно достать пошикарнее…
— А блюда? — заинтересовался Феликс. — И эти, ковши… Ну, такие большие, как лебеди?
— Если интересует… — ответил Глеб, довольный, что сумел найти, чем привлечь внимание к своей особе.
— Я вообще все тут, — хозяин обвёл рукой лоджию, — хочу оформить под хохлому. Но только чтоб подлинное, а не подделка. Поможешь?
— По рукам, — кивнул Ярцев.
— Ты мне нравишься, — засмеялся Феликс и предложил Глебу длинную сигару с фильтром в половину её. — А теперь выкладывай свои заботы.
— Хочу иметь видео, — в тон ему ответил Ярцев. — Фирму.
— Они бывают разные, — сказал хозяин. — Системы «Мицубиси», «Фин-люкс», «Грюндиг», «Джи-ви-си», «Акай», «Шарп», «Гониба», «Панасоник»…
— А что лучше?
— Получше, старик, обойдётся тебе в пятнадцать кусков.
— Дороговато, не сдюжу.
— Есть и за шесть… Сколько сдюжишь?
— В пределах десяти.
— Подыщем, — сказал Феликс и, подумав, добавил: — Если возьмёшь сразу две системы, скидка. Три — ещё большая скидка. Ну а оптом — вообще, считай, задаром, — улыбнулся он. — Имей в виду на будущее… Как, а?
— Ну, я посмотрю, если у нас кому ещё нужно.
— Ладно. — Хозяин поднялся. — Как гласит пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пойдём, ознакомишься, как они в действии.
Глеб встал.
— Да, ещё будем у тебя отдыхать с Викой сегодня, — сказал он.
— Милости прошу.
— По высшему, — полез Ярцев в карман.
— А вот это потом, — жестом остановил его хозяин: — Ты же не в «Ударник» пришёл.
Он пропустил Глеба вперёд.
— Не скучаешь? — спросил хозяин у Вербицкой, когда они зашли в гостиную.
— Наоборот, очень даже мило трепемся, — ответила Вика, кивнув на Людочку.
Они сидели на диванчике в стиле ампир и потягивали через соломинку кока-колу из бутылочек.
— У нас дел ещё минут на десять, — сказал Феликс. — А потом…
— Ради бога! — сказала Вика.
Хозяин открыл перед Ярцевым одну из дверей. Их встретила оглушительная пальба. В углу комнаты на большом экране телевизора спортивного вида мужчина с квадратной челюстью расправлялся с дюжиной врагов. Все буквально содрогалось от звуков разлетающихся стёкол, рушившихся столов, шкафов. Блистательный супермен швырял в окно, шмякал об пол и стены дюжих молодцов, словно это были чучела, набитые соломой. Смачно хукали страшные удары в челюсть, в живот, в пах…
Обвыкшись в полумраке (окно было зашторено), Глеб разглядел с десяток молодых лиц, заворожённых стремительным действием. Кто курил, кто жевал резинку.
— Система «Акай», — тихо сказал Феликс.
— А что за фильм? — спросил Глеб.
— Джемс Бонд. С Шоном О'Коннори.
Тем временем знаменитый агент 007 уже мчался в умопомрачительном лимузине, преследуемый противниками. Роскошные автомобили на полном ходу врезались друг в друга, летели с обрыва, сплющивались в гармошку, взрывались.
Хозяин вышел, Ярцев — за ним. Феликс секунду поколебался, куда зайти, и наконец произнёс:
— Теперь посмотрим «Фин-люкс».
Эта комната была чуть побольше. Десятка полтора человек, тоже в основном молодёжь, затаив дыхание, наблюдали за жутким зрелищем на цветном экране телевизора.
Глеб в первую секунду даже не понял, что там происходило. А когда разобрался, тошнотворный комок подступил к горлу.
Руки людоеда с длинными загнутыми ногтями погрузились в разверстый человеческий живот. Крупные планы сменялись один за другим — хищный оскал клыкастого рта с куском кровоточащего мяса. Безумные глаза… Кровь, стекающая по подбородку…
Глеб невольно сделал шаг назад и, очнувшись в коридоре, перевёл дух.
— Как машина? — спросил Феликс, вышедший за ним. — Нравится? Последняя модель.
— Хорошая система, — стараясь не выдать своего состояния, согласился Ярцев. — Что за лента?
— Американская. «Белая богиня каннибалов».
Он прижался к стене, пропуская парочку: мужчину лет пятидесяти и совсем ещё молоденькую девушку. Парочка исчезла в одной из дверей.
В третьей комнате было только двое зрителей — мужчина лет сорока и женщина лет тридцати. Сидели на диване, слившись в поцелуе. Когда хозяин заглянул к ним, они спокойно оторвались друг от друга.
— Пардон, — извинился Феликс и хотел ретироваться.
— Заходи, заходи, — добродушно сказала женщина.
— Буквально на минуту, — сказал Феликс, приглашая Глеба.
Тот робко зашёл. А когда глянул на экран, то невольно отвёл глаза. Под томную музыку на роскошной кровати две совершенно обнажённые девицы предавались недвусмысленным ласкам.
Хорошо, что в комнате стоял полумрак и смущения Глеба никто не заметил.
Пахло кофе, и он подумал, что тут, вероятно, отдыхают по второму классу.
Выходя, Феликс многозначительно показал гостям на дверную задвижку.
— Система «Грюндиг», — пояснил он Ярцеву. — Фильм «Мелодии любви».
И он потащил Глеба в следующую комнату. Здесь не было никого. Видеосистемы — тоже.
— Моя конура, — сказал Феликс.
Небольшой письменный стол, рабочее кресло, уютная тахта с полосатым (под тигра) пледом, вдоль одной стены — полки с книгами, вдоль другой — стеллажи с видеокассетами. Их было куда больше, чем книг.
— Вот проспекты, — Феликс взял с полки стопку красочных брошюрок и протянул Глебу. — Характеристика видеосистем, инструкция, как пользоваться…
— Для меня это тёмный лес, — усмехнулся Ярцев, листая глянцевитые листы; тут же был русский перевод, отпечатанный на машинке. — Я доверяю тебе, шеф.
— Лично я посоветовал бы «Панасоник», — сказал Феликс, польщённый словом «шеф». — Кстати, посмотришь систему с Викой. Ты какие фильмы предпочитаешь? — Он обвёл рукой свою видеотеку.
— На твой вкус.
— Та-ак, — протянул хозяин, не зная, что выбрать. — У меня более тысячи кассет. Вот, например, «Кладбище ужасов». Про банду врачей, которые используют больных для своих опытов… Или «Элита убийц»… Как?
— Нет, давай что-нибудь повеселее, — сказал Глеб, вспомнив кошмарный фильм о каннибалах.
— Тогда, может, «Сексконцерт»? По названию видно, о чем речь.
— Сойдёт, — кивнул Ярцев.
— А вот ещё одна забавная штука! — Феликс достал кассету. — Концерт французского театра «голубых».
— Кого? — не понял Глеб.
— Гомосексуалистов, — как ни в чем не бывало пояснил хозяин. — Ещё рекомендую «Жеребца» и «Суку», это, я считаю, самые балдежные фильмы. Англичане умеют подать секс!
— Хорошо, — кивнул Ярцев. — А кассеты с фильмами продашь?
— Ну не будешь же ты на своей системе смотреть «Чапаева»! — засмеялся Феликс. — Вот список, выбирай. — Он протянул Ярцеву несколько листков с машинописным текстом.
Цена за видеокассету колебалась от ста пятидесяти до трехсот рублей.
— Названия мне ничего не говорят. — Глеб возвратил список хозяину. — Подбери, пожалуйста, сам с десяток.
— О'кей! — обрадовался Феликс. — Если эти понравятся, — он показал на отобранные для просмотра кассеты, — я их тоже включу.
— Когда платить? — поинтересовался Ярцев. — И когда можно забрать?
— Вика говорила, что ты завтра уезжаешь?
— Да, — кивнул Глеб. — Поздно вечером.
— Погоди, — Феликс записал в блокнот номер поезда, вагона и время отправления. — Доставлю прямо на вокзал, в упакованном виде. А башли дашь, когда будешь уходить сегодня.
Глеб на какой-то миг растерялся: сумма большая и отдать её заранее…
— Я не навязываюсь, — холодно произнёс Феликс, от которого не ускользнуло замешательство клиента.
— Не-ет, шеф, все в порядке! — поспешил заверить его Ярцев. — Просто может возникнуть ситуация, что я буду вынужден сдать билет… Одно дело горит, очень важное для меня.
— Ну что же, — спокойно сказал хозяин, — тогда позвонишь мне и скажешь, куда привезти товар.
— Договорились.
— Ну а за отдых и прочее рассчитаешься с Людой, — закончил деловую часть хозяин, ставший снова приветливым и доброжелательным.
Им отвели уютную обставленную комнату, предназначения которой Ярцев так и не понял. Тут была мягкая мебель, журнальный столик, большой аквариум с подсветкой. На стене висело несколько старинных ружей и кавказские кинжалы в ножнах, отделанных чеканкой. В углу стоял бар с холодильником.
Глеба, естественно, заинтересовала видеосистема. Экран телевизора был такой же, как у отечественных «Рубинов», но сам приёмник значительно компактней. А вот видеоприставка оказалась плоским ящичком, размером с том Советской энциклопедии. Устройство же дистанционного управления и вовсе было не больше пачки сигарет.
Феликс объяснил, как пользоваться аппаратурой. Впрочем, Вербицкая отлично знала, как с ней обращаться. Хозяин ушёл, пожелав хорошего отдыха. Потом Людочка принесла кофе и тоже удалилась.
За окном горел закат, позолотив чехарду московских крыш. В просветах между ними проскакивали жучки-автомобили, муравьями копошились человеческие фигурки. И в виду этой людской суеты квартира Феликса и то, чем здесь занимаются, показались Ярцеву фантасмагорией, странной реальностью, пока ещё не укладывающейся в его сознании.
Все, что обычно стыдливо скрывается, прячется от глаз и слуха, здесь выставлялось напоказ, было предметом привычной купли-продажи. Предчувствуя, какое предстоит увидеть зрелище, Глеб терялся, не зная, как себя вести. Ну ещё одному, например, или в мужской компании — куда ни шло, а тут с молодой женщиной наедине…
— Что будем пить? — спросила Виктория, открыв бар.
Ярцев затруднился с ответом: в баре шеренгами стояли бутылки с иностранными этикетками. Коньяк, ром, виски, мартини, джин, чинзано. Некоторые названия он вообще читал впервые.
— Выбери сама, — предложил он.
— Знаешь, чем спиваются англичане? — спросила Вербицкая, доставая красивую плоскую бутылку. — Джином с тоником. Давай и мы по-английски.
— Давай.
Она налила в два высоких бокала джин, разбавила тоником и бросила туда кубики льда. Отпила глоток. Глеб тоже попробовал напиток. Он приятно отдавал можжевельником и цитрусом. Даже горечь была пикантной.
— Давай обмоем твою покупку! — подняла Вика свой бокал.
— За тебя, — чокнулся с ней Ярцев. — Так бы она не состоялась.
— А что ты выбрал?
— Феликс порекомендовал эту систему, — кивнул Глеб на телевизор. — Так что у нас сейчас что-то вроде смотрин.
— Тогда приступим! — весело откликнулась Виктория.
И поставила видеофильм «Жеребец».
Ярцев не был ханжой, но то, что он увидел, поначалу просто ошеломило его. Глеб старался не видеть лица Вики. Сюжет был примитивный. Герой фильма по имени Тони являлся менеджером небольшого ночного клуба, где происходили необузданные оргии. Любовь показывалась совершенно открыто, происходила везде, где это возможно и невозможно, даже в плавательном бассейне.
От вида обнажённых тел, грубой неприкрытой страсти Ярцев совершенно обалдел. Но постепенно его смущение проходило. Виной тому, вероятно, послужил джин, бутылку которого они опустошили к концу фильма.
Вербицкая держалась спокойно. Разве что глаза… Глебу показалось, что они у неё куда-то плывут.
Когда фильм кончился, они сделали перерыв. Ярцев потянулся к пачке сигарет, которую положил на журнальный столик.
— Может, хочешь эти? — взяла с бара инкрустированную сигаретницу Вика и на его немой вопрос пояснила: — С травкой.
— Гашиш, что ли?
— В этом доме говорят — марихуана.
Глеб отказался.
Вербицкая поставила сигаретницу на место. И было непонятно: она не закурила в знак солидарности или вообще против наркотика.
Следующий фильм «Сука» являлся продолжением первого. Жена Тони убивала его и сама становилась владелицей клуба, предавшись страстям ещё пуще своего мужа.
Но происходящее на экране занимало Ярцева все меньше и меньше.
В какое-то мгновение он отчётливо понял, зачем Вика привела его к Феликсу, почему они остались вдвоём. Он чувствовал, что сидящая рядом девушка наэлектризована, как и он.
Она словно ждала, когда его рука прикоснётся к её колену. Дрожь пробежала по её телу…
Потом были её губы, жадные, влажные, и закрытые глаза, уголки которых совершенно уплыли вдаль…
…Уходили они, когда короткая летняя ночь сменилась бледной зарёй. Молчали пустынные улицы, громады уснувших домов. Глеб отвёз Вику на такси.
Когда он расплачивался у гостиницы с таксистом, то подгрёб последнюю мелочь. Вся наличность ушла на видеосистему с десятком фильмов, которые Феликс завтра доставит к поезду, и на «отдых».
Поначалу он протянул Людочке сотню, но оказалось, что и за свою спутницу Ярцев должен был выложить ещё столько же.
«Ничего, сниму с аккредитива оставшиеся», — с беспечностью подумал Глеб.
Он ощущал себя в какой-то невесомости.
Говорят, утро вечера мудрёнее. Проснувшись, Ярцев совершенно отчётливо понял, что без услуг пробивного настырного человека ему самому обмен не осилить. Вчерашнее мотание по Москве показало это с очевидностью.
«Слава богу, что взял номер телефона того деятеля, что ошивался у бюро», — подумал Глеб. И позвонил маклеру. Тот вспомнил Ярцева и сказал, что возьмётся за его дело. В качестве задатка маклер просил сто рублей. Узнав, что клиент уезжает, маклер продиктовал Глебу свой адрес, по которому тот должен был выслать задаток, и обещал все устроить наилучшим образом.
Ярцев решил, что сотня — не ахти какие деньги, потерять их беда небольшая, но зато в случае удачи…
Тут он вспомнил, что у него нет даже рубля, и помчался в центральную сберкассу. Вернулся Глеб в гостиницу как раз к тому времени, когда за ним заехала Вика, чтобы повезти к своим родителям на дачу. Зелёная «Лада» уже поджидала Ярцева.
— Привет. — Он сел рядом с Вербицкой. — Извини за опоздание.
— Ерунда, — сказала она, заводя машину.
Глеб пытался разглядеть выражение её глаз, но не мог, мешали тёмные очки на Вике.
— Нам долго ехать? — поинтересовался он.
— Порядочно. Час в один конец.
— Ничего себе! — присвистнул Ярцев. — Неужели Николай Николаевич не мог устроить себе дачу поближе?
— Теперь вообще выделяют у черта на куличках. Сто двадцать, сто пятьдесят километров. У нас ещё по-божески…
— Все равно далеко.
— Ну и пусть. В Москву каждый день родителям ездить не надо. Отец страшно доволен. Не знает, как благодарить маму, ведь это она настояла взять садовый участок. Ей-богу, старикан заболел бы от ничегонеделанья после ухода на пенсию.
— Пенсия хоть ничего?
— Сто шестьдесят рэ.
— Выходит, та история, ну, в Новый год, на нем не отразилась? — осторожно спросил Ярцев.
— Отразилась, и ещё как! Так бы он в Госагропроме занимал сейчас пост ого-го!
Они некоторое время молчали.
— И все же — персональная, — заметил Ярцев.
— А, ты в этом смысле? Да, не повлияло. Анкета у него для персональной самая подходящая. Председатель облисполкома, член коллегии министерства… Положено по всем статьям.
Глеб промолчал, а сам подумал: собственно, почему положено? Главное, не какой пост занимает человек, а как он работает. Ведь есть хорошие председатели и плохие министры тоже. Одни уходят на заслуженный отдых с почётом, других — «уходят». А пенсии все равно особые: повышенные, персональные! Разве это справедливо?
По случаю воскресенья движение было куда менее интенсивным, чем в будни, и скоро они уже мчались по загородному шоссе.
Ярцев испытывал зависть к Вике — соскучился по рулю.
— Нет, что ни говори, — продолжала она об отце, — а участок помогает ему здорово! Не так болезнен переход из одного состояния в другое. Был на виду, держал в руках бразды. Сколько человек от него зависело! Раньше попасть к Вербицкому — ну если не как к богу, то уж как к апостолу, это точно! В праздники отбою не было от поздравлений. Телефон обрывали, открытки и телеграммы — ворохами. С периферии приезжали и, чтобы без подарка, — ни-ни! А как вышел на пенсию — словно отрубили! Все исчезли. Человек, выходит, сам по себе ноль. Уважали не папу, а его кресло. Впрочем, так со всеми. Ценится не личность, а положение. Люди смотрят, у тебя служебная «Волга» или «Чайка», одна секретарша или две, дача в Барвихе или же в менее престижном месте…
Глеб вспомнил, что и его отец с пустыми руками никогда в Москву не отправлялся. Вёз целые окорока, ящиками фрукты, дюжинами коньяк.
«Вот черт! — спохватился он. — Еду к людям в первый раз в гости и не прихватил даже копеечного сувенира! На худой конец — букетика цветов Татьяне Яковлевне».
— Эх, надо бы цветов купить, — сказал он вслух.
— Зачем? — удивилась Виктория.
— Для мамы.
Она рассмеялась:
— В Тулу со своим самоваром… Да у нас там этого добра!
— Дорог не подарок, а внимание. Сама же говоришь, как только отец стал пенсионером…
— Самое удивительное, что как раз истинные друзья и стали бывать у нас. Те, кто прежде стеснялся или не решался… Между прочим, сегодня на дачу пожалует папин старинный знакомый. Григорий Петрович. Представляешь, когда отец был ещё председателем райисполкома, он его возил…
— На машине?
— В том-то и дело, что не на машине. На фаэтоне! Вскоре после войны.
— Словом, был обыкновенным кучером.
— Водителем кобылы, как в той песне Утесова, — засмеялась Вербицкая, затем, посерьёзнев, добавила: — Григорий Петрович человек необыкновенный. В то время ему было всего годков пятнадцать, а уже кормил семью. Отца убили на фронте, мать хворала. Помимо него ещё трое детей.
— Тогда, наверное, многие подростки находились в его шкуре, — заметил Ярцев.
— Да, — согласно кивнула Вербицкая. — Но главное не в этом… Представляешь, он буквально бредил математикой. Отец рассказывал: как выдаётся свободная минута, так он за книжку! Непонятно, правда? Простой деревенский мальчишка, а такая удивительная страсть!
— Ну почему же, — пожал плечами Глеб. — А Ломоносов? Или Петров-Водкин? Вышли из самых что ни на есть низов… И кем сейчас ваш Григорий Петрович?
— Кандидат наук. Работает в научно-исследовательском институте где-то в Сибири. Позвонил сегодня спозаранку, взял координаты дачи.
Ярцев слушал Викторию и все время пытался уловить или хоть как-то почувствовать отголоски прошедшей ночи. Но она вела себя так, словно не было тех часов, проведённых у Феликса.
— Да, старик, одна просьба, — неожиданно перескочила Вика на другое. — На даче будет друг нашего дома, не обращай на него внимания…
— В каком смысле? — не понял Ярцев.
— Воздыхатель, — улыбнулась Вика. — Спит и видит, чтобы я вышла за него замуж.
Это сообщение приятно пощекотало самолюбие Глеба: значит, Вике не безразлично, как он к этому отнесётся.
— И что представляет из себя этот воздыхатель? — поинтересовался Глеб.
— Юра. Сосед по даче. Бывший референт папы, а теперь помощник министра.
— Фью! — присвистнул Ярцев. — Что же ты, а? — подначил он Вербицкую.
— Голуба моя, если бы я сказала, кто мне делал предложения, ты бы уписался, — спокойно сразила его Вика и продолжала: — А вообще он интересный мужик. Головастый. Раньше, когда он был на подхвате у моего отца, я даже не замечала его. Этакий Молчалин… Как все-таки меняются люди, когда исчезает служебная зависимость! Отец, и тот удивился. Часами теперь говорят и наговориться не могут. Спорят до посинячки! Юра такие идеи толкает, что у отца челюсть отвисает.
— Сколько же ему лет?
— Под сорок. Но до сих пор не женат. У него только мать. Обожает её. А уж она сыночка — словами не передать. И ещё. Я думала, что Юра чернильная душа, дальше своих бумаг ничего не видит. Представляешь, оказалось — талант! Такое развёл на своём участке — диву даёшься! Впрочем, посмотришь сам. Он непременно потащит нас к себе.
За разговорами летели километры. И когда Вика свернула на узкое, петляющее в лесу шоссе, Глебу показалось, что они добирались не более получаса. Лесок быстро кончился, и взору их открылся садовый кооператив с рядами домиков посреди невысоких ещё деревьев.
Ворота были распахнуты настежь. «Лада» осторожно въехала на усыпанную гравием дорожку, сделала один поворот, другой и стала.
Заборов между участками не было. Их разделяли ягодные кустарники или цветочные бордюры.
Только они вышли из машины, как от небольшого домика с двускатной крышей к ним навстречу поспешила дородная женщина в стареньком ситцевом сарафане и мужских сандалиях на босу ногу.
— Глебушка, дорогой, вот здорово, что навестил нас! — заключила его в мягкие тёплые объятия женщина, в которой Ярцев с трудом узнал Татьяну Яковлевну.
Прямо-таки по-родственному расцеловав его в обе щеки, она затем небрежно чмокнула свою дочь.
Ярцев все ещё не мог прийти в себя от той перемены, которая произошла с женой Николая Николаевича. Встреть он Татьяну Яковлевну в городе, ни за что не узнал бы. И дело было не только в выцветшем платье и мужских босоножках. Осанка, вот что переменилось в ней. Он помнил её надменной, недоступной, проезжавшей в служебной «Волге» мужа по Средневолжску. Она всегда сидела рядом с шофёром, словно машина предназначалась не супругу, а ей. На Татьяне Яковлевне все было непременно самое лучшее — шуба ли, пальто ли, сапоги или шляпа.
Тут же появился из-за дома и сам Вербицкий. В заляпанных краской старых штанах и рубашке, с малярной кистью в руках.
Он тоже полез к Глебу с поцелуями, но без объятий, чтобы не испачкать гостя.
— Ну, спасибо! — расчувствовался Николай Николаевич. — Ей-богу, уважил!
С того трагического дня в Ольховке Вербицкий изменился. И, нужно сказать, в лучшую сторону. Пополнел, загорел, на щеках даже появился лёгкий румянец, о чем Глеб не преминул тут же сказать хозяину дачи.
— А все свежий воздух! — довольный тем, что услышал такой комплимент, откликнулся Вербицкий.
Он пошёл отмывать руки от краски.
Как-то незаметно появился ещё один человек, моложавый мужчина в шортах и пляжных резиновых сандалиях.
«Наверное, тот самый референт», — подумал Глеб и не ошибся.
— Юрий Васильевич, — представила его Татьяна Яковлевна. — Мой незаменимый и верный помощник, — добавила она с нежностью.
— Перешёл по наследству от папы, — не удержавшись, сострила Вика.
Юрий Васильевич извинился, что не может подать Глебу руку — он помогал Вербицкому красить.
Помощник министра был недурён собой. И рост хороший. Ярцев даже испытал что-то наподобие ревности. Правда, когда он пошёл мыть руки и нагнулся над умывальником, Глеб заметил на его голове плешь.
«Это уж наверняка не нравится Вике», — усмехнулся Ярцев.
Татьяна Яковлевна стала накрывать стол на верандочке, а Николай Николаевич потащил Глеба осматривать участок.
Все шесть соток были использованы, по словам Вербицкого, предельно рационально. И действительно, Глеб не увидел ни одного невозделанного клочка земли. Но когда они дошли до границы с соседом, Ярцеву бросилась в глаза небольшая полоска, поросшая крапивой.
— Руки не дошли? — с улыбкой спросил он.
— Вовсе нет, — возразил Николай Николаевич. — Татьяна Яковлевна специально из леса пересадила.
— Зачем? — удивился Ярцев.
— Очень полезное растение, — пояснил Вербицкий. — Фабрика витаминов. Едим, как только листочки проклюнутся… Ну а переросшую супруга моя сушит. Отвар из неё — лучшее лекарство для укрепления волос. Татьяна у меня вообще питает слабость к народным средствам. Пропагандирует дары природы. Приехал бы ты в начале лета, попробовал бы салат из одуванчиков. Или напиток из листьев мать-и-мачехи. У жены все идёт в пищу: и клевер луговой, и лебеда, подорожник, и даже молодой берёзовый лист… Я сперва относился скептически, потом привык. Даже нравится.
Был на участке и небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой, а также сарайчик. Сооружение это несколько поразило Глеба: нижняя его часть почти до окна была присыпана землёй.
— А это будущие наши с Татьяной Яковлевной апартаменты, — с улыбкой сказал Вербицкий.
— Как это? — не понял Глеб.
— Ну, выйдет же когда-нибудь Виктория замуж… Домик у нас молодые отберут, это факт, — шутливо продолжал Николай Николаевич. — Вот мы и позаботились заранее.
— Пропорции странные, — заметил Глеб.
— Маленькая хитрость, — подмигнул Вербицкий, распахивая дверь. Пол в сарайчике находился ниже уровня земли. — Понимаешь, строил я на глазок. Хотелось, конечно, повыше. Вдруг заявляется какой-то контролёр. Смерил и говорит: «Что же вы, дорогой товарищ, нарушаете положение? На пятьдесят пять сантиметров превысили норму высоты строения». Я прикинулся дурачком: не знал, мол, ошибся. А он и слышать ничего не хочет: укоротите или снесём. Ничего себе, думаю! Как укорачивать-то? Юрий Васильевич молодец, быстро скумекал. За одну ночь навозили мы с ним грунта, подняли уровень земли да ещё маргаритки посадили. Как чувствовали! На следующий день — комиссия из райисполкома. Тот контролёр успел рапортичку накатать. Ну, измеряют… Что такое? У меня сарай на семь сантиметров даже ниже предельной нормы. Конфуз! Извинились, пообещали контролёру шею намылить за ложный сигнал. Я на прощание несколько маргариток сорвал, преподнёс женщине, что возглавляла комиссию. Здорово мы их, правда? — довольно потёр руки Николай Николаевич.
Глеба удивило, что эта «победа» радует так Вербицкого, человека, который ещё совсем недавно мог росчерком пера решить судьбу целого региона страны!
— Неужели такие строгости? — подивился Ярцев.
— А ты думал!
— Я в прошлом году был на Кавказе. Там такие дома строят — дворцы! Два этажа над землёй и два под землёй. Там тебе и бар, и биллиардная, и даже плавательный бассейн! Сам видел, честное слово! Почему же никто не запрещает?
Николай Николаевич не успел ничего ответить — их позвали обедать.
На портативной газовой плитке жарились купаты, купленные Викторией в кулинарии. Их запах разжигал и без того разыгравшийся на свежем воздухе аппетит. Стол был уставлен тарелками с овощами.
— Все прямо с грядки, — похвалилась Татьяна Яковлевна, возясь с миксером. Она готовила какие-то коктейли.
Юрий Васильевич тоже участвовал в обеде. Он сел за стол в чем был. Глеба посадили так, что ему была видна в открытую дверь комната. Его поразила обстановка в ней: старенькая кушетка, допотопная железная кровать с панцирной сеткой, выцветший коврик на полу.
«Вот тебе и начальник главка!» — все ещё не мог поверить в увиденное Ярцев. В его понятии Вербицкий всегда был представителем самых верхних, обеспеченных кругов, у кого квартира не квартира, дача не дача, мебель не мебель. А тут…
— Ну-ка, матушка, подавай скорее купаты! — потёр руки хозяин. — А то мы совсем отвыкли от мяса.
— И очень хорошо, — назидательно произнесла Татьяна Яковлевна, расставляя бокалы с коктейлем. — Холестерина будет меньше. Овощи куда полезнее.
— Вот башка! — хлопнула себя по лбу Виктория. — Забыла! Григорий Петрович в Москве, звонил.
— Гриша? — обрадовался Николай Николаевич. — Тот?
— Ну да! Приедет сегодня сюда.
— Боже мой, сколько же мы не виделись, — грустно произнёс Вербицкий и ударился в воспоминания о послевоенном времени.
Татьяна Яковлевна приготовила ещё два коктейля — один из помидоров с молоком и лимоном, другой, на десерт, с морковью, сахаром и опять же с молоком.
И когда уже все, отяжелевшие от еды, хотели встать из-за стола, появился Григорий Петрович.
Первым его увидела Татьяна Яковлевна и бросилась навстречу так же, как к Глебу. Бывший кучер Вербицкого смутился от такого приёма. Он был чуть ниже среднего роста, кряжистый, с прозрачно-голубыми глазами, как у Есенина. Сходство с поэтом дополняли чуть волнистые волосы, распадавшиеся на его голове прямым пробором. Только были они у математика совершенно седые.
Григорий Петрович вручил хозяйке огромную коробку с тортом и букет роз.
Та рассыпалась в благодарностях и сказала:
— Приехали в самый раз к столу.
— Нет-нет, спасибо, — отказался гость. — Очень плотно пообедал.
— Ну хоть чайку?
— Это можно.
Николай Николаевич сердечно обнялся со своим бывшим «водителем персональной кобылы», представил ему Юрия Васильевича, Глеба. Здороваясь с Викой, Григорий Петрович отметил, что та повзрослела, похорошела; они виделись последний раз лет пять назад.
Пока хозяйка собирала чай, Вербицкий поинтересовался у гостя, здоровы ли жена и дети.
— Слава богу, все нормально, — ответил тот. — У вас, вижу, тоже?
— Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, — постучал по спинке стула хозяин. — Я теперь пенсионер.
— Слышал… Ну и как? Не скучаете?
— Какой там! Не поверишь, Гриша, только сейчас по-настоящему понял, что такое радость жизни! — искренне произнёс Вербицкий. — В сущности, человеку не так уж много надо… Яблоньки дадут нынче хороший урожай. Чёрная смородина тоже уродилась. Окна сегодня покрасил — вот и счастливо на душе!
— Я читала в журнале, — откликнулась от плиты Татьяна Яковлевна, — что иметь собственный клочок земли гораздо ценнее и полезнее, чем самый роскошный дворец развлечений.
— Ну а ты? Как работается? Зачем пожаловал в Москву? — забросал вопросами гостя Николай Николаевич. — Проездом на курорт?
— Не до курорта мне, — вздохнул математик. — Приехал сражаться.
— С кем это? — удивился Вербицкий.
— С бюрократами, Николай Николаевич. Ох и живучее племя! Я, например, уверен, что ваше министерство, — Григорий Петрович повернулся к Юрию Васильевичу, — абсолютно не нужно.
Помощник министра улыбнулся, ничего не ответил, зато Вербицкий округлил глаза.
— Как не нужно? А общее руководство, направление, так сказать? В конце концов хотя бы техническая политика? — спросил он.
— О какой политике можно говорить?! За все годы, что я работаю в институте, не помню ни одной рекомендации по совершенствованию производства. Ни одной! — горячо произнёс гость из Сибири.
— Прости, а где вы будете черпать идеи, передовой опыт? — возразил Николай Николаевич.
— Хорошо, давайте разберёмся, — поднял руку Григорий Петрович. — Чем занимаются отраслевые министерства? Что они производят? Идеи? Должны выдавать, но не выдают. А вот бумаг плодят — дальше некуда! Более того, бумага теперь заменила все, идеи в том числе! И это оборачивается сущей бедой для нижестоящих организаций и предприятий. Потому что бумагу нельзя ни обсудить, ни оспорить!
— Ну а учёт? — не сдавался Вербицкий. — Вспомним, что говорил Ленин: социализм — это учёт!
— Правильно, с этим тезисом никто не спорит. Но с каких-то пор в наш повседневный обиход ворвался другой термин — отчёт. Незаметно, тихой сапой, он подменил учёт. А если вдуматься, то между учётом и отчётом такая же разница, как между почётом и начетом.
— Ну зачем же так вульгарно? — поморщился Вербицкий.
— Может, несколько преувеличено, но суть верна, — заметил с улыбкой Юрий Васильевич.
— Понимаете, отчётность подменила созидательную деятельность! Ценится не тот, кто умеет работать, а кто лучше составит бумагу! Ненужными стали профессиональная компетентность, не говоря уже о таланте! Бумаготворчество вышло на первый план! И неудивительно, что в системе торговли, например, канцелярского персонала столько же, сколько специалистов! До какого же абсурда мы дошли, если для выпуска нового совка для мусора нужно собрать тридцать три подписи при согласовании технических условий! А то, что благодаря узаконенным директивам сырьё превращают во вторсырьё, чушку в стружку, слона в муху? Причём если бы ещё отчёты отражали истинное положение вещей! Ведь липу гонят наверх! И пошло это очень давно. Ещё Дзержинский, будучи председателем ВСНХ, утверждал, что цифры, которые дают тресты, раздуты, что они фантастичны, а та отчётность, которую мы собираем, есть фантастика, квалифицированное враньё!
— Постой, Гриша, постой, — перебил гостя Вербицкий. — Послушать тебя, выходит, что раньше и хлеб не растили, и дома не строили, и штаны не шили, так? А мы, руководители, только ушами хлопали да благодушествовали?
— Зачем вы так? — укоризненно покачал головой гость. — Растили хлеб, Николай Николаевич, возводили дома, штаны шили, делали все, что нужно. Но вот как? Давайте же смотреть правде в глаза — плохо! В последние годы и вовсе тяп-ляп! Почему? Причин много. Главная из них — потому что исходили из придуманного человека, а не из реального. Только теперь задумались что он есть такое на самом деле.
— Чай остынет, пейте, Григорий Петрович, — засуетилась хозяйка, бросив укоризненный взгляд на мужа.
— Я думаю, меня простят, если я оставлю компанию, — поднялась Виктория. — Слишком большие интеллектуальные нагрузки. Кто ещё со мной на природу?
— Извините и меня, — встал Юрий Васильевич.
Поблагодарив хозяйку за обед, а сибирского гостя за торт, он спустился вслед за Викой в сад. Глеб последовал за ними.
— Николай Николаевич, ну неужели вы, будучи на таком высоком посту, сами не видели, в какой тупик мы зашли? — снова заговорил математик.
— Я не хочу все оправдывать, — ответил Вербицкий. — И признаю, что кое-какие упущения имели место. Но я не согласен с твоим паническим настроением… Был тупик! Это же надо?
— А как же ещё? — горячился Григорий Петрович. — Оглянитесь вокруг! Знания подменили всезнайством, волю — волюнтаризмом, силу слов — пустословием! Те, кто призван руководить, совершенно оторвались от жизни. Мудрые садовники, устраивая газон, не прокладывают дорожку сразу. Они ждут, когда её протопчут люди, а уж потом прокладывают. Понимаете? Человек сам знает, где ему удобно. Нужно, просто необходимо доверять людям! Реальная жизнь и труд укажут на самые выгодные дорожки, поверьте! Это куда полезнее, чем предписывать их заранее.
— Ну, знаешь, если каждому позволить делать, что ему вздумается, весь газон истопчут, — заметил Вербицкий. — Ты зовёшь к анархии.
— Вовсе нет! К целесообразности, если хотите… Я не посягаю на то, что руководящая идея, сила нужны. Но вмешиваться по всякой мелочи — увольте! Сидя в министерском кресле, даже самый гениальный человек не может знать, что нужно и должно делать работнику на его конкретном месте. Теперь это многим становится ясно. Как и то, что давно уже пора упразднить некоторые звенья в управленческом аппарате. Вот тут и начинается главное! Кому хочется терять тёплое местечко? Для них перестройка — нож в сердце. Вот и развили ИБД.
— Что? — не понял Вербицкий.
— Имитацию бурной деятельности, — пояснил гость.
Вербицкий устал. Пропустив последнее замечание мимо ушей, перевёл разговор на другое, и гость понял, что он бьётся о глухую стену. Он засобирался в город. Вербицкий задерживать его не стал: ему надоел спор и он уж никак не был расположен дискутировать на темы, которые теперь никак его не касались.
— Будешь в Москве, заезжай, — сказал Вербицкий математику на прощанье дежурную для этого случая фразу.
— Непременно, — холодно ответил тот, явно давая понять, что потерял всякий интерес к своему бывшему патрону.
— По-моему, нехорошо получилось, — заметила Татьяна Яковлевна, когда гость ушёл.
— Пусть думает что угодно! — сердито отрезал Николай Николаевич. Он махнул рукой и отправился красить сарай, недовольный тем, что испортили воскресенье.
Вербицкий не знал, что в это время Юрий Васильевич нахваливал Глебу своего бывшего шефа. Он действительно затащил Вику и Ярцева к себе. Вика болтала с матерью Юрия Васильевича, худенькой экзальтированной женщиной, а помощник министра с Глебом осматривали участок.
— Работал Николай Николаевич, что говорится, от зари до зари, — рассказывал бывший его помощник. — Но стремился всегда быть в курсе. Требовал, чтобы я каждый день подробно докладывал об основных статьях в центральной прессе. Особенно о передовицах… Ну, куда ветер дует…
— Что, сам читать не любил?
— Да просто физически не мог! Вы не представляете, какая жизнь у руководителя его ранга. Вечные заседания, совещания, коллегии. С утра тащил целую кипу бумаг на подпись! И так изо дня в день. Входящие, исходящие… Девятый вал!
— Но ведь эти самые входящие и исходящие надобно читать, насколько я знаю, — заметил Ярцев.
— Смотря какие. Если бумаги сверху или же наверх, например, в Совмин или ЦК, эти он, конечно, читал в обязательном порядке. Остальные подмахивал, как правило, не глядя.
— Но ведь надо знать, кому какую бумагу направить, какое решение по ней принять, так?
— Ну, я писал на листочке, что и как, и прикалывал к документу скрепкой. Шефу оставалось только поставить подпись.
— Выходит, решает помощник, а не руководитель? — удивился Глеб.
— Ну, зачем так категорично? Помощник продумывает вопрос, готовит проект решения, — сказал Юрий Васильевич.
«Странная кухня, — недоумевал Ярцев. — Продумывает, подготавливает… По существу, получается, что решает один, а ставит подпись другой. Зачем и кому это нужно? Раз головой работает помощник, его бы и поставить начальником главка или министром».
Он чуть было не высказал эту мысль вслух, но воздержался. И спросил о другом:
— А сейчас, когда вы помощник министра, что-нибудь изменилось в вашем положении?
— Конечно! У министра два помощника. Мой напарник сидит исключительно на тех самых входящих и исходящих, а я — писарчук. Готовлю выступления для патрона. На коллегии, совещаниях, — охотно разъяснил Юрий Васильевич. — По радио, телевидению. Сейчас это вошло в моду — разные «круглые столы», ответы на вопросы телезрителей. Работёнка, скажу я вам, не из лёгких. Представляете, мне нужно предугадать, что взбредёт кому-то в голову спросить у министра. Ведь больных мест много! Иной раз такой вопросик выскочит — хоть стой, хоть падай! Вот и ломаешь голову!
— А как это практически? — спросил Глеб.
— Очень просто. Вызывает шеф, говорит, что пригласили на ЦТ. Такая-то направленность передачи. Я — за газеты. О чем могут спросить? Ну, подготовишь пятьдесят — шестьдесят ответов. Министр их проштудирует — и…
— А если зададут вопрос, который вы не предусмотрели?
— Нагоняй получу, — улыбнулся Юрий Васильевич. — Шутка ли — министру оконфузиться! Аудитория — десятки миллионов! Шеф потому и не любит выступать в таких передачах. Правда, я в последнее время нашёл выход. — Он хитро посмотрел на собеседника. — Подсадку использую. Мои люди задают нужные вопросы.
— Как в цирке? — засмеялся Ярцев.
— А что делать? — с улыбкой развёл руками Юрий Васильевич. — Жизнь учит, как надо приспосабливаться в стремительно изменяющихся условиях. Но вообще-то я больше люблю, когда заказывают брошюры, статьи в газеты, журналы. Шеф не беспокоит. Сиди себе, скрипи пёрышком.
— А кто получает гонорар?
— Тот, чья фамилия под материалом.
— Но ведь пишете вы!
— У меня — зарплата, — усмехнулся Юрий Васильевич.
— У министра тоже, — сыграл в наивность Глеб. — И куда больше вашей. Если вдуматься, — а не пахнет ли здесь нетрудовыми доходами? — поддел он собеседника.
Помощник обошёл этот вопрос и сказал:
— Министр всегда берет меня в загранкомандировки. Какой-никакой, а навар. Компенсация в определённой степени.
За разговором они не заметили, как к ним подошла Вика.
— Ну как тебе, а? — спросила она у Глеба.
— Что? — не понял тот.
— Посмотри, какая красота! — обвела рукой участок Вербицкая.
— Да-да, здорово, — согласился Глеб, который, по существу, так и не успел хорошо разглядеть его, хотя был несколько удивлён тем, как помощник министра распорядился землёй — большую часть занимал газон.
— Ой, Вика, не надо преувеличивать, ничего особенного, — постарался предупредить её восторги Юрий Васильевич.
— Ну-ну, не скромничай, — сказала Вербицкая и потащила Глеба к рядку штакетника, увитого лозами с… клубникой. — Прелесть, правда?
— Первый раз вижу такую, — признался Ярцев. — Неужели действительно клубничка?
— «Гора Эверест», — пояснил хозяин. — Ешьте, пожалуйста.
Повторять дважды не пришлось. Гости с удовольствием полакомились ягодами. Вербицкая на этом не успокоилась, повела Ярцева к теплице.
— А вот дыньками угостить не могу, — сказал Юрий Васильевич. — Рано ещё.
— Дыни?! В Подмосковье?! — поразился Ярцев.
В теплице дозревали на земле круглые плоды. Одни были уже желтоватые, другие — с зеленоватой кожицей.
— Эти вот — сорта Золотистая, — показал на первые хозяин. — А это — Грибовская.
— Я смотрю, вы не очень-то жалуете фруктовые деревья, — обратился к помощнику министра Глеб.
— Знаете, что говорили древние? Зрение ничем так не наслаждается, как мягкой, тонкой невысокой травой, — сказал Юрий Васильевич. — Я сюда приезжаю для отдыха, а не для производства овощей и фруктов. Клубника и дыни — скорее для души, а не для желудка.
Они пошли к дому, и Юрий Васильевич негромко попросил Глеба:
— Мама покажет своих питомцев, вы уж не пожалейте комплиментов, хорошо?
— Ради бога! — откликнулся Ярцев.
— Уважите её, а меня тем самым — ещё больше.
Вера Марковна — так звали родительницу Юрия Васильевича — только, казалось, и ждала, чтобы продемонстрировать новому гостю «ферму», как она выразилась.
В крохотной вольере у сарайчика возились в земле полдюжины молодых индюшек под присмотром дородной мамаши. Вера Марковна стала объяснять Глебу, какие это интересные животные, как они любят её.
— Вы знаете, — уверяла она Ярцева, — мне кажется, что они понимают, когда я с ними разговариваю. Честное слово.
Глеб подошёл поближе к сетке, и индюшка вдруг, растопырив крылья и распушив хвост, зашипела на него.
— Смотри-ка, бдительная мамаша, — заметил Глеб.
— Папаша, — поправил Юрий Васильевич.
— Да? — удивился Глеб.
— Это индюк, — подтвердила Вера Марковна. — Видите ли, их мать снесла яйца и померла. Высиживать пришлось отцу…
— Ну, старик, — засмеялась Вика, — спутать индюка с индюшкой…
— То-то, я гляжу, странная индюшка, — смутился Ярцев.
Вика спохватилась: пора было двигаться в Москву. Да и Глеб тоже спешил. Он договорился в ту ночь, когда бродил с Великановым, поехать с ним на дачу к Алику Еремееву. Киноартист, оказывается, был хорошо знаком с начинающим поэтом.
Вера Марковна огорчилась, что гости не смогут остаться подольше: она затеяла пироги.
Юрий Васильевич проводил Глеба и Вику до участка Вербицких.
— А где Григорий Петрович? — спросила Виктория.
— Уехал, — ответила Татьяна Яковлевна.
— Так быстро?
— На твоего отца ни с того ни с сего напустился, — поджала губы Вербицкая-старшая.
— Больно учёный, — сердито подхватил подошедший Николай Николаевич. — Сейчас все в умники лезут! Газет начитались! Им лишь бы покритиканствовать! Тоже мне, ниспровергатели! Хотят в мгновение ока рай на земле создать. Посмотрим, что из этого получится.
— Ладно, Коля, не нервничай, — успокаивала его жена. — Тебе оправдываться, а тем более стыдиться нечего. Ты своё отпахал. Дай бог, чтобы все так горели на работе!
Вербицкий ещё немного поворчал, но скорее для проформы. Слова Татьяны Яковлевны подействовали на него как лекарство. Он нарвал цветов, овощей и зелени для дочери, сердечно простился с Глебом, попросив его не забывать их, стариков.
Когда Вика с Ярцевым отъехали, они долго махали им вслед.
По дороге в Москву говорили мало. Каждый думал о своём. Виктория подвезла Глеба к памятнику Юрию Долгорукому, где они и расстались до вечера. Вербицкая пообещала приехать на вокзал проститься.
Артист опоздал на целых полчаса. Глеб уже подумал, что тот не придёт, но тут возле Ярцева остановилось такси.
— Привет! — распахнул дверцу Великанов. — Садись!
Облегчённо вздохнув, Глеб плюхнулся на заднее сиденье рядом с киноартистом, и машина тронулась.
— А я тебе все утро названивал в гостиницу, хотел предупредить, что задержусь, — вместо оправдания сказал Великанов.
— Ничего, бывает.
— Понимаешь, неожиданно вызвали на пересъёмку, — продолжал Великанов.
— Только что закончили.
— Значит, мы сейчас на электричку? — спросил Ярцев.
— Зачем, прямо до места, — откинувшись на спинку, небрежно сказал Великанов.
— И далеко нам? Я ведь ещё плохо ориентируюсь.
— Не очень. Под Звенигородом. Я шефу уже сказал, — кивнул на водителя Великанов.
Тот повернулся к ним и радостно сообщил:
— Довезу как надо, мужики!
Всем своим видом он давал понять, что считает за честь везти знаменитого киноартиста.
— Отдыхать на даче у Алика — одно удовольствие! — закатил глаза артист. — Ты у него бывал?
— Нет, — ответил Глеб. — Я же тебе говорил: дела, диссертация… Это же мой хлеб!
— Что даёт тебе твоя наука! — отмахнулся киноартист. — Если бы я жил лишь на то, что получаю в театре и кино…
Всю дорогу Великанов говорил о том, что актёрский труд оплачивается несправедливо. И когда такси остановилось возле дачи Еремеева, Ярцев, наслушавшись жалоб Великанова, хотел оплатить проезд сам.
— Ни в коем случае! — отвёл его руку артист и, дав шофёру несколько купюр, сдачу не взял.
Дачный участок был огромный. Особенно это бросалось в глаза после крохотных шести соток Вербицкого. Да и сама дача тоже производила впечатление: солидный двухэтажный дом с эркерами и застеклённой верандой. Старомодное строение, видимо, было сработано ещё до войны.
— Вот строили, правда? — заметил Великанов. — В таком доме чувствуешь себя человеком!
— Не ожидал, что у Алика такая дача, — признался Ярцев.
— У его жены дед был академик, — пояснил артист, заходя во двор. — И вообще здесь кругом дачи знаменитых учёных.
Во дворе стояли «Жигули»-шестёрка и чёрный приземистый «ситроен», похожий на хищное чудовище.
— Ба! — провёл рукой по его лакированному капоту Великанов. — Наш Феофан Грек тоже здесь.
— Кто? — не понял Глеб.
— Решилин. Художник.
— Феодот Несторович? Мы знакомы, — сказал Ярцев.
И тут они увидели самого живописца. Он о чем-то разговаривал с невероятно толстым человеком. Решилин был в светлых хлопчатобумажных брюках и косоворотке, подпоясанной шнурком с кистями.
— Играет под Толстого, — шепнул на ухо Глебу Великанов.
Не успели они поздороваться с художником, как к даче подъехала белая «Волга». Водитель вышел из машины, открыл ворота, заехал на участок. И тут Ярцев увидел, как из автомобиля вместе с шофёром вышел Скворцов-Шанявский.
— О, кого я вижу! — кажется, искренне обрадовался профессор, подходя к Глебу.
Они обнялись как старые друзья. Валерий Платонович, оказывается, был знаком со всеми. А с толстяком, насколько понял Ярцев, был в особенно близких отношениях и звал его Стёпа (полное имя мужчины было Степан Архипович).
Из-за дома появился наконец Алик Еремеев.
— Прошу всех в баньку! — сказал он торжественно, поздоровавшись с вновь приехавшими.
— А как же Леонид Анисимович? — спросил профессор. — Он говорил, что будет непременно.
— Семеро одного не ждут, — заметил Решилин.
— Подъедет, подъедет, — успокоил всех Алик.
Все двинулись за ним. Скворцов-Шанявский и Глеб шли последними.
— Как живёшь, что новенького? — спросил профессор.
— В двух словах не расскажешь. По-разному.
— Да, да, — кивнул Валерий Платонович, и его лицо погрустнело. — Слышал, брат, о твоём горе. Прими соболезнования.
Баня располагалась в углу участка. Возле неё был крохотный цементированный прудик. Из бани вышел глухонемой муж родственницы Решилина и жестами что-то показал Еремееву.
— Спасибо, спасибо, Тимофей Карпович, — поблагодарил Алик.
В предбаннике пахло распаренным деревом. Все ввалились в раздевалку. За ней была чайная.
Вдоль одной её стены располагался встроенный шкаф. Посреди комнаты стоял деревянный стол со скамьями. На нем — самовар в окружении чашек. Был тут и холодильник.
Алик нажал какую-то кнопку. Откуда-то с потолка и боков загремели невидимые динамики. Певец хриплым голосом — под Высоцкого запел:
Девушек любить, с деньгами надо быть, А с деньгами быть, значит, вором…
— Ну, предпочитаете русскую баньку или сауну? — обратился к гостям Алик. — Готовы обе.
— Конечно, русскую, — сказал Решилин, все так же окая. — Тимофей в этом деле толк знает.
Возражать никто не стал. Хозяин выдал каждому комплект для бани — чистую простынь, огромное махровое полотенце, в которое можно было завернуться с ног до головы, и полотенце поменьше.
Когда Степан Архипович взял в руки полотенце-гигант, Скворцов-Шанявский, не удержавшись, сострил:
— Да, Стёпа, тебе оно, конечно, маловато. Могу одолжить «облепиховому королю» ещё и своё.
— Боишься, что король будет голый? — усмехнулся толстяк.
— Э, нет, брат, ты у нас весь в броне, — со смехом продолжал профессор. — Из купюр.
— Завидуешь? — Степан Архипович разделся, обнажив свои непомерные телеса.
— Скорее — уважаю, — серьёзно сказал Скворцов-Шанявский и обратился ко всем: — Представляете, был я недавно в командировке. Сунулся в гостиницу — мест конечно же нет. И каким образом, вы думаете, мне удалось заполучить номер?
— За соответствующую купюру, вложенную в паспорт? — высказал предположение Великанов.
— Нет.
— Флакон французских духов? — выдвинул свою версию Глеб.
— Эка невидаль! — хмыкнул профессор. — Ладно, не буду дальше интриговать. За бутылку облепихового масла! Тут же выделили «люкс»! Спасибо, Стёпа надоумил и снабдил поллитровкой столь дефицитного продукта.
— Так вы можете достать? — вдруг загорелся Алик, обращаясь к толстяку.
— Сколько надо? — охотно откликнулся тот.
— Не знаю… Ну, бутылку-две, — сказал Еремеев. — Для сынишки. Врачи рекомендуют.
— Милый, — засмеялся Скворцов-Шанявский, — Степан Архипович ворочает тоннами! Причём маслице отменное! Частник делает.
— Вам, Алик, я презентую троечку бутылок. Качество гарантирую. Потому как отдельные типы мухлюют, подмешивают всякую дрянь, — сказал Степан Архипович.
Еремеев не знал, как и благодарить гостя.
Зашли в парную. В ней было все как надо: и шайки с водой, и полки из липы, и берёзовые веники. Аромат стоял удивительный — с мёдом и пряными травами.
Феодот Несторович залез на самый верх, где погорячее, и буквально блаженствовал, когда его принялся охаживать веником глухонемой родственник. Остальные гости лупцевали друг друга.
— Хорошо-то как, ах, хорошо! — стонал Решилин. — Знаете, как раньше банщики говорили: ваш пот, наши старанья!
— Слышь, Стёпа, потей! — продолжал подтрунивать над толстяком профессор. — Глядишь — десять кило долой! Тогда сможешь усыновить какую-нибудь сироту. А то куда свою мошну девать будешь?
— При чем тут усыновить? — не понял приятеля «король», кряхтя под ударами веника, которым ловко орудовал Алик, отрабатывая, видимо, обещанное масло.
— А при том. В Австралии, например, очень толстым людям отказывают в усыновлении, — пояснил Скворцов-Шанявский. — Дело в том, что чрезмерная полнота указывает на возможное нездоровье человека.
— У нас не Австралия, — откликнулся Степан Архипович. И блаженно заметил: — Да, кто придумал баньку, тому нужно памятник поставить. Словно десять лет сбрасываешь с плеч!
— Это ещё древние римляне поняли, — сказал Глеб. — Их знаменитый врач Гелен рекомендовал париться. Особенно старикам, у которых с возрастом кожа становится плотной, поры сужаются, а это затрудняет потоотделение. Вот баня и помогает порам открыться… Между прочим, встречая друг друга на улице, римляне говорили: «Как потеешь?»
— Русские тоже оценили баню по заслугам, — раздался сверху голос Решилина. — Когда хан Батый впервые увидел её, спросил у своего толмача, что это такое. Тот ответил, что, мол, русские моются в бане горячей водой и квасом, бьют себя берёзовым веником, затем окунаются в прорубь. Оттого они такие сильные… Для здоровья, конечно, это первое дело.
— Вон Суворов хиляк был от рождения, — снова проявил свои познания Ярцев. — А баней закалил себя.
— Ну а финны вообще свою сауну считают панацеей от всех болезней, — сказал Великанов. — Я там снимался в одном фильме, видел. Почти в каждом доме своя сауна. Они так и говорят: сауной может пользоваться каждый, кто способен до неё дойти.
Напарившись, хозяин и гости выбегали во двор и бросались в прудик. Затем все, укутанные в полотенца, уселись за стол в чайной. Еремеев достал из холодильника западногерманское пиво в банках и блюдо варёных раков.
Вкусы разделились: Решилин, Скворцов-Шанявский и «облепиховый король» предпочли чай, остальные с удовольствием пили пиво. Хозяин снова включил магнитофонную запись. Все тот же певец затянул:
От звонка до звонка я свой срок отсидел, Отмотал по таёжным делянкам Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел Мы с судьбою играли в орлянку.
— Алик, дорогой, — не выдержал Скворцов-Шанявский, — что у тебя за вкус!
У остальных гостей тоже были кислые лица.
— Понял, Валерий Платонович, понял! — остановил запись Еремеев и начал манипулировать кнопками.
В баню ворвалась бодрая мелодия с одесским уклоном.
Решилин снисходительно улыбнулся, но Валерий Платонович морщился, как от зубной боли, и качал головой.
— И это вам не по душе, — огорчился Еремеев, останавливая музыку.
— «Тишина — лучшее, что я слышал», — с улыбкой произнёс Великанов. — Борис Пастернак.
— Да, — согласился профессор.
Раздался телефонный звонок.
— Уверен: Жоголь, — обрадовался Алик, снова нажимая какую-то кнопку. Из столешницы выдвинулся телефонный аппарат. Он взял трубку. — Слушаю… Наконец-то, Леонид Анисимович! — радостно проговорил Еремеев. Но постепенно его лицо становилось все озабоченнее, а когда разговор окончился, он и вовсе помрачнел. — Но вы уж так не расстраивайтесь. Может, обойдётся… Ладно, до свидания.
— Что случилось? — спросил Скворцов-Шанявский, когда Еремеев положил трубку.
— Не приедет. С Мишей, с сыном, какая-то беда стряслась, — ответил Алик. — Оставил жуткую записку… Словом, кошмар! С женой Леонида Анисимовича припадок, сейчас там врачи.
В комнате воцарилась тишина.
— Довели-таки парня! — Решилин стукнул кулаком по столу.
— Миша — это сын Жоголя? — уточнил Степан Архипович.
— Да, — кивнул художник и коротко рассказал, что произошло в «Аукционе» и реакцию на это Жоголя-младшего.
— Парня, конечно, жалко, — сказал «облепиховый король». — И надо было ему рисовать церковнослужителей… Что, мало других тем? Зачем дразнить гусей? Хотел, наверное, удивить, а вышло себе дороже.
— Почему — удивить? — нахмурился Феодот Несторович. — Михаил стремился показать историческую правду! Просто мы забыли, что раньше религиозные идеи были тесно переплетены с вопросами государственной политики на Руси, национального престижа. Даже в конце прошлого века такие художники, как Васнецов, Нестеров, Врубель, не стыдились оформлять храмы. Наоборот! Это был их вклад в воспитание гражданственности и патриотизма людей.
— Возможно, возможно, — поспешил согласиться с художником Степан Архипович. — Дай бог, чтобы с Мишкой все обошлось. — Он расстроенно покачал головой. — Конечно, Леониду Анисимовичу теперь не до меня. А ведь это он назначил мне здесь встречу.
— Что-нибудь обещал? — поинтересовался Решилин.
— Да есть одно дело, — кивнул толстяк.
— У Стёпы проблема, — ответил за него Скворцов-Шанявский. — Хочет усыновить ребёнка.
— Больше не я, а моя благоверная.
— Неужели это так сложно? — удивился Великанов.
— Понимаете, раз уж брать в семью чужое дитя, так чтобы у него все было в порядке, — пояснил Степан Архипович. — Здоровье, наследственность… А вдруг родители алкоголики или психи? Короче, не хочется получить кота в мешке. А без протекции, как сами понимаете, у нас ничего нельзя сделать. Вот Жоголь и взялся устроить.
— Лёня сделает, — успокоил его Решилин.
— Так что не переживай, — сказал толстому приятелю Скворцов-Шанявский и перевёл разговор на другую тему.
И без Жоголя компания отлично провела время.
Глеб досидел до последнего. Хорошо, была под рукой машина: Скворцов-Шанявский дал задание своему шофёру Вадиму отвезти Глеба на вокзал.
Ярцев простился со всеми, провожать до авто его пошёл хозяин.
— Рад был с тобой пообщаться, — сказал Еремеев. — Когда снова думаешь объявиться в Москве?
— Сам пока не знаю, — ответил Глеб.
— Но в Южноморск приедешь, как договорились?
— Непременно, — пообещал Глеб. — Так что в любом случае встретимся не позже осени…
На вокзал он прибыл за двадцать пять минут до отправления поезда. А когда составу оставалось стоять минут десять, у вагона появились Вика и Феликс, сопровождаемые носильщиком. В купе были занесены картонные коробки с японским телевизором и видеоприставкой. В отдельной упаковке находились кассеты с фильмами. Прощание вышло сухое, деловое. А Глебу так хотелось побыть с Викой хоть две минуты без свидетелей, прояснить наконец, как же она к нему относится.
И вот поезд медленно отошёл от перрона. Глеб оказался в своём двухместном купе один — значит, второй билет не продали.
«Непостижимая штука — железная дорога, — удивлялся он. — Люди спят на вокзале, согласны хоть на верхнюю полку в общем вагоне, а тут свободное место… Хорошо, что я взял обратный билет в Средневолжске».
От чая, предложенного проводником, Ярцев отказался. И, запершись, повалился спать.
Но сон долго не шёл. Перед глазами плыли яркие картинки — московские впечатления. Он вспоминал дачу Решилина, солнечные блики на гребешках волн, поднятых «Ракетами» на глади водохранилища, студию-ателье художника и небольшую икону стоимостью в полмиллиона рублей. И почему-то те зайчики на воде представились Глебу в виде купюр…
«Да, живёт же человек», — вспыхнула горячая зависть в душе Ярцева.
Потом в его памяти возник странный дом Феликса, где деньги тесно переплетались с сексом.
«И этот тоже гребёт деньги лопатой!» — подумал Глеб о сыне внешторговца.
При воспоминании о той ночи в сердце шевельнулась жалость к совсем ещё молоденькой девчонке с пожилым ловеласом. Ярцеву пятидесятилетние мужчины казались глубокими стариками.
«Как это можно, — с тоской пронеслось у Глеба, — ведь ей вряд ли больше семнадцати! Совсем ещё юная! Едва-едва распустившийся цветок… А кто же он, тот кобель?»
Сами по себе возникли в голове слова песни: «Девушек любить, с деньгами надо быть, а с деньгами быть, значит, вором…»
Стучали колёса, и в их стуке скоро стало слышаться Глебу другое: «Эх, червончики, мои червончики… Эх, червончики, мои червончики»… Отвязаться от этих слов было невозможно.
«Будут у меня червончики, будут, родимые! — неожиданно решил Глеб. — Много! Как листьев на деревьях».
Эта мысль была последней перед тем, как Ярцев погрузился в блаженный сон.
До чего же это удивительное, нарядное дерево — хурма. На фоне густо-зеленой листвы яркими пятнами выделялись золотистые с багрянцем, словно светящиеся изнутри, шары плодов! Каждый раз выходя в сад, Орыся Сторожук не могла наглядеться на это чудо. Хозяйка, Элефтерия Константиновна, сказала, что хурма у неё самого лучшего сорта — «королёк». Мякоть сочная, красноватая, с терпко-сладким вкусом.
Вот и сегодня, сойдя с крыльца, Орыся невольно залюбовалась экзотическими деревьями. А за ними виднелось море. Оно было чуть-чуть голубоватое, с перламутровым отливом. Нарушая законы перспективы, море не опускалось к горизонту, а как бы вздувалось вверх, терялось вдалеке, сливаясь с бледным утренним небом.
Море… Увидев его две недели назад, Орыся сразу влюбилась в него. Может, оттого, что эта была первая в её жизни встреча с необъятным водным пространством. И ещё, наверное, потому, что слишком контрастен был переход от серой осенней Москвы к здешней природе. Выехали они со Скворцовым-Шанявским из столицы в начале октября, выдавшегося в этом году на редкость неуютным и промозглым. С неба сыпалась колючая крупа, вокруг стояли унылые леса и поля. Но по мере приближения к югу краски все теплели и теплели, оживали, а когда они прибыли в Южноморск, Орысю буквально ослепила здешняя красота. Большой город-курорт расположился между морем и горным хребтом, покрытым по-летнему ещё сочной растительностью. Да и сам Южноморск утопал в зелени. Она тоже казалась Орысе сказочной: пальмы, кипарисовые аллеи, олеандры, осыпанные нежно-розовыми гроздьями цветов, издающих миндальный аромат. Даже сосны тут были необычные — с длинной свисающей хвоей.
Было странное время года — не лето, но и не осень, какая-то мягкость и умиротворённость таилась в природе. Что называлось словами, в которых ощущался уют и нега, — бархатный сезон.
Приехали они на машине Валерия Платоновича. Хозяева уже ждали, были извещены заранее из Москвы. Профессор постоянно снимал у Элефтерии Константиновны Александропулос небольшой домик с тремя комнатками и крошечной верандой. Сами хозяева, а вернее вдова и две взрослые её дочери, жили в доме побольше. Сад был разгорожен невысоким забором, так что постояльцы чувствовали себя вполне самостоятельно. Вход был тоже отдельный. Имелся во флигельке и телефон, чем, вероятно, особенно привлекало Валерия Платоновича это жильё.
С хозяйской стороны все время доносились аппетитные запахи. Казалось, что пожилая Александропулос не отходит от плиты в летней кухне, расположенной во дворе. Признаться, готовила она вкусно, употребляла много пряностей и зелени: укроп, шафран, кинза, тархун. Но особенно упирала она на чеснок. И когда Орыся спросила, не слишком ли та увлекается им, Александропулос сказала:
— Так ведь он очень полезный! Вот, я читала, что в одном испанском городе даже устраивают каждый год праздник чеснока. Слагают в честь него песни и кладут буквально во все кушанья. Разве что кроме кулича и мороженого.
По договорённости стряпала Элефтерия Константиновна и для московских постояльцев. Правда, профессору все больше вареное или на пару, так как Скворцов-Шанявский предельно щадил свой жёлчный пузырь. Но зато Орыся и шофёр профессора Вадим предпочитали жирные и жареные блюда вдовы.
И вообще это была удивительно работящая женщина. Дочери её, темноволосые и востроглазые, работали, а все хозяйство лежало на её плечах. Нужно сказать, хозяйство немалое: сад, огород, домашняя птица. Откармливала она и двух кабанчиков. Имелось в погребе своё домашнее вино «изабелла». Графинчик духмяной «изабеллы» Александропулос непременно подавала к столу постояльцев. Валерий Платонович к нему не прикасался из-за болезни, Вадим не мог — за рулём, а вот Орыся позволяла себе выпить стаканчик-другой. Конечно, это была не та оголтелая пьянка, в которую её частенько ввергал в Трускавце Сергей, но отказаться от этого небольшого удовольствия Орыся уже не могла. Скворцов-Шанявский, конечно, делал ей замечания, однако, поняв, что Орыся «не зарывается», перестал обращать внимание…
— Доброе утро! — раздалось из-за ограды с хозяйской стороны.
Александропулос рвала хурму, чтобы успеть с утра продать на рынке.
— Здравствуйте, Элефтерия Константиновна, — приветливо ответила Орыся.
— Позавтракаешь? Хачапури свеженькие, только с огня…
Сторожук прошла через маленькую калиточку в заборе. Она любила завтракать с хозяйкой прямо во дворе, болтая о том, о сём.
Вдова подала на стол только что сорванную зелень, нарезала помидоров, выставила тарелку дымящихся хачапури.
— Твои ещё спят? — спросила она.
— Десятый сон видят, — сказала Орыся с полным ртом.
Хотя, если говорить правду, дома был только Вадим. Когда он вернулся ночью, Орыся не слышала. А Скворцов-Шанявский ещё не вернулся. Однако про то хозяйке знать было не обязательно.
Элефтерия Константиновна завела разговор о шофёре профессора. И по тому пристрастию, с каким она расспрашивала о Вадиме, было легко догадаться: вдова прощупывала, сгодится ли он в суженые одной из дочерей. Вопрос этот был наболевшим: девицы находились в критическом возрасте, и мать боялась, как бы они не остались в старых девах.
После завтрака хозяйка засобиралась на рынок, а Орыся — на море. Прихватив пляжные принадлежности, она отправилась на пристань. Оттуда на маленьком теплоходике можно было добраться до уютных бухточек, где нет такой толчеи, как на городских пляжах. Да и песок там, а не противная галька.
Купалась и загорала Орыся дважды в день. Утром и после обеда. Иногда вместе с профессором, но чаще — с Викой Вербицкой. Та тоже была не одна, с Жоголем.
Викторию Орыся увидела ещё издали: она стояла у кассы с ярко-жёлтой спортивной сумкой через плечо.
— Что, сегодня без Леонида Анисимовича? — спросила Сторожук после взаимных приветствий.
— Без, — коротко ответила Вербицкая.
Орыся едва успела взять билет, на судно они вбежали последними. Теплоходик тут же отошёл от причала.
— Ну, что у него слышно? — поинтересовалась Орыся, которая была в курсе несчастья Жоголя.
Сын его, Михаил, пропал куда-то ещё летом. Семья не знала, жив он или нет. Подали заявление в милицию, но розыски пока ничего не дали. Исчезновение сына явилось страшным ударом для жены Леонида Анисимовича: несчастную женщину положили в больницу с психическим расстройством.
Однако на этом неприятности Жоголя не исчерпывались. Недаром говорят, что беда не ходит одна. В то же самое время, когда произошла история с Михаилом, был арестован Цареградский, директор магазина, где работал Леонид Анисимович. Арестовали за взятки с работников вверенного ему предприятия. Но Цареградский упорно отрицает свою вину, хотя его уличают в поборах заведующие отделами и продавцы. Даже старший товаровед, через которого действовал взяточник, и тот сознался в передаче денег директору. А тот твердит, что это вовсе не взятка, а всего лишь возврат долга. Но кто поверит этим сказкам!
— Опять звонил вчера в Москву, — сказала Вика. — Ничего утешительного. Измучился — прямо страшно на него смотреть! О Мише я уж не говорю. За магазин душа болит. Ведь Леонид Анисимович один тащит воз — за директора и за себя как заместителя.
— А почему его не назначают директором? — спросила Орыся.
— Жоголь не особенно и рвётся. И потом, ведь следствие ещё не окончено. Начальство, видимо, ждёт, когда прояснится: кто есть кто? Слава богу, что мне удалось вырвать его из Москвы, немного передохнуть от всего этого кошмара.
— Что же он сегодня не поехал с нами?
— Сказал, что нужно опять связаться с Москвой, — ответила Вербицкая. — А может, просто хочет побыть один… Я уж стараюсь ему не надоедать.
Теплоход вышел в море. Южноморск с его суперсовременными гостиницами, пансионатами, парками, дендрарием и улицами-аллеями разворачивался во всем своём великолепии. Вышедшее из-за гор солнце играло в окнах зданий. Пассажиры были буквально заворожены захватывающей панорамой города.
Наблюдая за спутницей, Сторожук в который раз пыталась разобраться, что же на самом деле у неё с Жоголем? Вика ей все уши прожужжала, что дружит с Михаилом. Если это так, почему здесь, на курорте, она почти все время с Леонидом Анисимовичем?
«А может, между ними ничего и нет? — думала Орыся. — Стала бы она кокетничать с Глебом Ярцевым…»
При воспоминании о Ярцеве кольнуло сердце. Глеб ассоциировался у неё со Средневолжском. А там — Димка. Её Димка, сыночек…
«Господи, не видела его целую вечность!» — с невероятной тоской вспыхнуло в душе.
— Какая-то ты сегодня мечтательная, — заметила Вербицкая.
— Что? — очнулась от своих невесёлых дум Орыся и заставила себя улыбнуться. — Просто любуюсь, — кивнула она на прекрасный вид Южноморска.
— Не туда смотришь, — усмехнулась Вика и краешком глаза показала в сторонку.
У борта среди пассажиров выделялся черноволосый высокий парень южного типа в яркой рубашке и кожаных брюках. Он не отрываясь смотрел на Орысю. Их взгляды встретились. Южанин, словно ожидая этого, расплылся в улыбке.
«Начнёт сейчас цепляться», — подумала Орыся, поспешно отворачиваясь.
Тут, на юге, её снова постигла та же участь, как и в Трускавце: от ухажёров не было отбоя. И даже когда они были рядом с Викой, почему-то мужчины предпочитали её, а не Вербицкую. А ведь Орыся старше лет на шесть — восемь!
За почти полугодовое пребывание в Москве Орысе показалось, что там на женщин обращают меньше внимания, чем в её родном городе. Мужики вечно куда-то спешат, мучаются своими проблемами. И её, избалованную вниманием, это удивляло. Она даже думала, что причина тому — её провинциальность. Особенно почувствовала это Орыся, познакомившись с Викой. Та сразу поразила её своей раскованностью, умением вести себя свободно и легко в любой компании, говорить на любую тему. Орыся втайне завидовала ей и поймала себя на том, что где-то подражает Вербицкой.
И вот надо же, в Южноморске Орыся пользуется большим успехом, чем столичная художница.
«Может быть, и я уже стала настоящей москвичкой?» — не без гордости подумала она.
Вообще Орыся заметила, что по-другому говорит, да и манеры изменились. В Южноморске же она посвежела, загорела, что, естественно, не могло не сказаться на внешнем облике. Мужчины это здорово замечают. Вот и этот кавказец…
Стоило Орысе ещё раз бросить взгляд в его сторону, как он тут же подскочил к ним.
— Такая хорошая погода, а девушки скучают! — темпераментно начал он.
— Не скучаем, не скучаем, — пресекла его попытки приударить Орыся.
Южанин подлаживался и так и этак, но, получив решительный отпор, отошёл, хотя было видно, что успокаиваться он не собирается.
Теплоход пришвартовался к пристани «Солнечные пески». Здесь сошли почти все пассажиры, потому что неподалёку находился один из самых лучших пляжей в округе. Но у Вербицкой и Сторожук было своё облюбованное местечко. Правда, надо было протопать километра два по берегу, зато уголок для купания — сказка! Уютная бухточка, закрытая для посторонних глаз розовыми скалами. Песок — нежнее шелка. Можно было купаться нагишом — сюда никто не забредал.
Скинув с себя всю одежду, они с удовольствием бросились в море. Оно было совершенно спокойным. Вода прозрачная, как стекло. Потом лежали на песке, подставив тела ласковому солнцу. Никто их не тревожил. Только изредка промелькнёт над водой белокрылая стремительная чайка, да вылезет поглазеть на свет божий колченогий крабик и бочком, бочком проползёт стороной…
— Ой, умереть можно от счастья, — не выдержав, поднялась Орыся.
И вдруг она запела украинскую песню. Запела от всей души, словно переполнявшая её радость вырвалась наконец наружу.
Вика, поражённая силой и красотой её голоса, села и уставилась на Сторожук. И, когда та окончила песню, восхищённо произнесла:
— Откуда, Орыся, как?! Ну и ну!
— Понравилось, да? — Орыся была взбудоражена, взволнована.
— Да тебе хоть сейчас в Большой театр! Почему я в Москве никогда не слышала?
— А, где уж там! — махнула в сердцах рукой Орыся. — Вот в Трускавце я почти каждый день пела.
Похвала Вербицкой, её искреннее восхищение сжали горло. Орыся чуть не расплакалась. Ей вдруг показалось, что судьба к ней несправедлива до жестокости. Захотелось открыть перед Викой душу, рассказать о мечте и надежде, с которыми она ехала в столицу, а там её…
— Ой! — вдруг вскрикнула Вербицкая, хватаясь за платье и прижимая к себе.
Сторожук обернулась и обомлела: у скалы стоял тот самый настырный парень с теплохода. Зрелище двух прекрасных обнажённых женских тел настолько парализовало его, что он не мог даже пошевелиться. Орыся кинулась к своей одежде, прикрылась, и её прорвало: бухточка, только что бывшая свидетелем прекрасного пения, огласилась потоком бранных слов. Южанин в мгновение ока исчез, словно испарился.
— Дубина, весь кайф испортил! — сказала возмущённая Вика, когда они пришли в себя.
— Надо сматываться. — Орыся стала одеваться. — Этот кретин не отстанет, вот увидишь. Выждет немного и снова появится.
Они с сожалением покинули уютное местечко. На «Солнечных песках» валяться тоже не решились, опасаясь преследования незнакомца в кожаных брюках. Теплоход доставил приятельниц в Южноморск. Там они первым делом пошли на рынок и нос к носу столкнулись с Глебом Ярцевым и Степаном Архиповичем. Глеб был в странном одеянии: свободные белые штаны и просторная косоворотка, подпоясанная шнурком с кистями и застёгнутая наглухо. Скворцов-Шанявский потом объяснил Орысе, что парень совсем свихнулся на увлечении всем древнерусским и подражает художнику Решилину. Вообще она заметила, что профессор недолюбливает Глеба, хотя раньше, она слышала, они были большими друзьями. Все знавшие Ярцева говорили, что он неожиданно пополнел. Глеб жаловался, что это у него от болезни. Поэтому он даже не может купаться.
Вот и теперь Вербицкая стала подтрунивать над своим земляком.
— Опять ты в своих холщовых портках? — усмехнулась Виктория, поздоровавшись.
— Старушка, ты ведь не средневековый правитель, чтобы диктовать мне, что носить, а что нет, — раздражённо произнёс Глеб.
— А что, диктовали? — спросила Орыся, чтобы предотвратить перепалку.
— Ещё как! — ответил Ярцев. — Понимаешь ли, одежда должна была соответствовать общественному положению человека. И несдобровать было тому, кто нарушал запрет. Наказывали вплоть до смертной казни… В Венеции, например, в шестнадцатом веке была специальная служба надзора за одеждой. На правильные, так сказать, костюмы ставили особую печать. А неуставные конфисковывали, это в лучшем случае. Английский король Генрих Тринадцатый даже придворным не разрешал носить меха, парчу, красный и синий бархат. Чтобы выделяться среди них.
— Ладно, — смягчилась Виктория, — не хочу быть узурпатором, носи, что хочешь. Но хоть на пляж пойдёшь?
— Дорогуша, я ведь тебе говорил: щи-то-вид-ка! — Глеб зачем-то вынул из кармана какую-то бумажку. — Вот даже врачи…
— Щитовидка, — фыркнула Вербицкая. — А вчера я видела, как ты выходил из моря.
— Попробовал, а потом пожалел, — хмуро произнёс Ярцев. — Тахикардия мучила всю ночь. А ведь меня предупреждали: нельзя ни в коем случае! Проклятые эндокринные железы! И лишний вес от них!
— Виктория, возьмите на пляж меня, — расплылся в улыбке «облепиховый король». — Представляете, сбросил за полмесяца двенадцать килограммов! А все почему? Вода, солнце, волейбол! Хочу, как тот певец из Греции… Ну, эстрадный… — Он пощёлкал пальцами, вспоминая фамилию.
— Демис Русос, — подсказала Вербицкая.
— Во, он самый, — кивнул Степан Архипович. — Как прочитал, что он сбросил пятьдесят килограммов, так и подумал: а я что, хуже? Правда, как бы узнать точно, как он этого добился?
— Скоро Русое приедет в Москву на гастроли, вот и поинтересуйтесь, — посоветовала Вика.
— Да? Вы так считаете? — Толстяк вертел головой, переводя взгляд с одного на другого и не понимая, шутит девушка или же говорит всерьёз.
— Виктория запросто устроит вам эту встречу, — поддел, в свою очередь, Вербицкую Глеб. — Она знакома со всеми, разве что не представлена ещё римскому папе.
Вербицкая поджала губы и бросила на Ярцева холодный взгляд.
«Тоже непонятная парочка, — подумала Сторожук. — То перемигиваются, то скубутся».
Она увлекла компанию в рыбный ряд, где купила два маленьких акуленка — катрана.
— Как, их можно есть? — поморщился «облепиховый король». — Они же…
— Зря вы так, — сказала Орыся. — Очень даже вкусно! А Валерий Платонович считает, что похоже на отварную севрюгу.
— Я предпочитаю натуральную севрюжку, — осклабился Степан Архипович.
Расстались у автобусной остановки. Орыся поехала домой. Ни машины, ни Вадима не было. Валерия Платоновича тоже. Спрашивать у хозяйки, появлялся ли профессор, она не стала. Отдала катранов и попросила приготовить к обеду, к которому Скворцов-Шанявский обычно не опаздывал. Но сегодня почему-то задерживался. Элефтерия Константиновна дважды докладывала, что еда готова, а профессор все не шёл и не шёл.
Когда он наконец приехал, Орыся была удивлена: за все время пребывания в Южноморске у Валерия Платоновича ни разу не было такого дурного настроения. За стол он сел мрачнее тучи, своего любимого разварного катрана почти не ел — так, ковырнул пару раз вилкой, и все.
Встав из-за стола, профессор достал из чемодана аккредитив, сунул Орысе:
— Сходи в сберкассу. Срочно!
Сторожук поразилась ещё больше: буквально вчера у Валерия Платоновича денег было — не сосчитать. Приходил всегда с набитыми карманами. Настроение
— лучше некуда, даже напевал. И вдруг…
— Значит, снять? — все ещё не веря своим ушам, переспросила Орыся.
— До чего же ты бестолковая! — взорвался профессор. — Если даю аккредитив!.. Должен срочно отдать двадцать пять кусков.
— Значит, снять двадцать пять тысяч? — уточнила Орыся.
— Возьми все, до копейки, — приказал Валерий Платонович. — Понимаешь, Эрик предлагает одну прелестную вещицу…
Эрик Бухарцев, бывший шофёр Валерия Платоновича, появился в Южноморске неделю назад. Орыся встретила его случайно. Он куда-то спешил. Сторожук поинтересовалась, почему его мать не приезжала в этом году лечиться в Трускавец, ведь место в доме Орыси ей всегда обеспечено. Бухарцев ответил, что его родительница собирается на воды где-то в начале ноября. На том и расстались.
— Так, значит, Эрик продолжает спускать свои золотые цацки? — спросила Орыся.
— И ещё как! Представляешь, вчера продал Решилину перстень. Жаль, что меня при этом не было, непременно бы перехватил! И как только не стыдно этому богомазу! Облапошил парня, как младенца! Перстень стоит раз в пять дороже, чем отвалил денег Решилин.
Скворцов-Шанявский постепенно успокоился. И поторопил Орысю:
— Давай, давай за денежками!
Орыся стала одеваться. Кто-то позвонил Скворцову-Шанявскому, и тот срочно уехал. Орыся взяла хозяйственную сумку — профессор наказал купить к ужину ряженку, так как расшалился его жёлчный пузырь, — в неё она положила изящную индийскую сумочку из змеиной кожи, в которой находились паспорт и аккредитив.
До сберкассы было три остановки на автобусе. Орыся сошла на одну раньше, забежала в молочный магазин. И уже после этого отправилась за деньгами.
В кассе народу было немного. Почти все стояли к окошечку, где принималась плата за коммунальные услуги.
Когда контролёрша услышала, какую сумму снимает с аккредитива Орыся — пятьдесят тысяч — она с любопытством глянула на неё, но ничего не сказала. Но вот взгляд кассирши, отсчитывающей ей деньги, Орысе не очень понравился. Кассирша была не то грузинка, не то армянка, с большими выпученными глазами. Они словно гипнотизировали.
Все деньги были сотенными купюрами и в банковской упаковке. Орыся спрятала их в индийскую сумочку, а вот в хозяйственную класть не решилась. Так и села в автобус: в одной руке хозяйственная сумка, в другой — с деньгами. Опустив пять копеек в кассу, оторвала билет. Через остановку кто-то передал мелочь за проезд. Орыся находилась ближе всех к кассе. Чтобы было удобнее действовать, она опустила сумочку с деньгами в хозяйственную. И уже не вынимала её оттуда: ехать оставалось всего одну остановку.
Дома она вынула ряженку, а хозяйственную сумку поставила в комнату профессора, для спокойствия проверив индийскую сумочку. Все на месте, замок защёлкнут.
Потянуло в сон. Такая уж появилась у неё привычка в Южноморске: обязательно прикорнуть днём часика полтора-два.
Тут приехал Вадим.
— Умираю от голода! — объявил он прямо с порога. — Давай что-нибудь посущественнее.
— Надо было есть вовремя, — поворчала скорее для порядка Орыся.
— Вовремя! — хмыкнул шофёр. — Шеф посылал в одно место…
— Ладно, сейчас.
Орыся пошла на хозяйскую половину. Элефтерия Константиновна разогрела голубцы. Когда Орыся принесла их Вадиму, тот вмиг разделался с ними и снова куда-то умчался.
И только она прилегла, в дверь постучали. Пришёл Жоголь. Вид у него был до крайности озабоченный.
— Прости, Орысенька, что беспокою тебя, но позарез нужно позвонить в Москву, — сказал он.
— Ради бога, — кивнула Орыся на телефон.
— Понимаешь, с переговорной звонить — как на улице, — продолжал оправдываться Леонид Анисимович, набирая код и номер Москвы.
Орыся поняла, что он хотел бы поговорить без свидетелей, и, найдя какой-то предлог, вышла в сад.
Жоголь говорил минут пятнадцать. Появился он на крыльце какой-то странный, с растерянной улыбкой на лице.
— Ну, слава богу, слава богу, — проговорил Леонид Анисимович, прислоняясь к косяку.
— Добрые вести? — встрепенулась Орыся.
— Боюсь даже поверить, — ответил Жоголь. — Понимаешь, дома, в почтовом ящике, нашли записку от Михаила.
— Жив, значит? — обрадовалась за Жоголя Орыся.
— Жив, жив, и это самое главное, — вздохнул он. — А остальное — непонятно…
— Что именно?
— Записка странная. Дословно пишет: «Дорогая мама, не переживай, я здоров. Но не ищи меня. Твой любящий сын». — Жоголь сдавил пальцами лоб. — Хоть бы дал знать, где он, почему не хочет объявиться? Может, ему очень худо, может, нужна моя помощь!
— А из-за чего Миша сбежал? — осторожно спросила Орыся. — Ссоры никакой не было?
— Какая там ссора! — отмахнулся Леонид Анисимович. — Голоса на него никогда не повысил!
— Тогда что же? — допытывалась Сторожук.
— Этого, милая Орыся, я и сам не пойму. Все пытался разобраться, но… Наверное, трудно понять их, молодых. — Жоголь хрустнул суставами пальцев. — Ладно, будем надеяться, что благоразумие возьмёт верх. Я вот думаю, как воспримет эту весточку от сына жена. Конечно, обрадуется, но, с другой стороны, почему Миша запрещает его искать? Может, попал в руки каких-нибудь страшных людей? — Он с грустью посмотрел куда-то вдаль. — Вот так расти ребёнка, заботься, а что тебе уготовила судьба — бог весть…
Орыся постаралась успокоить Леонида Анисимовича, что, мол, обойдётся. Он простился с ней все ещё озабоченный и печальный, даже забыл прихватить клетчатую сумку на колёсиках, с которой пришёл. Орыся напомнила ему о сумке, оставленной в комнате. Жоголь забрал её и вышел со двора.
Орыся снова прилегла, заснула наконец. Ей приснился нехороший сон. Неведомо, в каком городе — то ли в Трускавце, то ли в Средневолжске, а возможно и в Южноморске — она увидела на улице в толпе своего Димку. Бросилась к нему, но сын затерялся среди людей. Сколько она его ни искала, нигде не могла обнаружить. И вдруг отчётливо и безнадёжно, как это может быть только в сновидении, Орыся поняла: утрата её окончательна. Ей захотелось плакать, но слезы не шли. Отчаяние перехватило горло. Кто-то тронул её за плечо и спросил:
— Где?
— Не знаю, — пробормотала она.
— Где деньги? — снова прозвучал голос Скворцова-Шанявского.
Орыся с трудом расклеила веки, все ещё не понимая, что с ней происходит. Явь медленно входила в сознание.
— Ты что, не ходила в сберкассу? — стоя над ней, спросил Валерий Платонович.
Тут только она окончательно проснулась, тяжело вздохнула, стряхивая с себя дурной сон, и сказала:
— Была, была… Там, в индийской сумочке, в твоей комнате. За шкафом.
Профессор вышел. Сторожук поднялась с постели, поправила причёску. Скворцов-Шанявский вернулся через минуту. В руках у него была сумочка из змеиной кожи.
— Что это? — зловеще спросил он, показывая какие-то пачки.
— Как что — деньги, — ответила Орыся.
В комнате был полумрак — днём Орыся зашторивала окна для прохлады.
— Не могла найти другое время для шуток? — вскипел профессор.
— Какие шутки? — удивилась Орыся. — В банковской упаковке, сторублевки…
— Сторублевки?! — завопил Скворцов-Шанявский, швырнув в неё сумочку с пачками.
Сумка шлёпнулась на пол, и бумажки разлетелись по комнате. Сторожук невольно нагнулась, подняла несколько штук и обомлела.
Это были листки перекидного календаря.
— А где… где деньги? — заикаясь, спросила Орыся.
Она ничего не понимала.
— Да, где? — сложив, как Наполеон, руки на груди, Скворцов-Шанявский смерил её презрительно-уничтожающим взглядом.
— Я же сама, своими руками… — лепетала Орыся, лихорадочно осматривая внутренности сумочки. — Два раза пересчитывала…
Кроме календарей, бог весть каким путём оказавшихся, в ней не было ни рубля.
Сбивчиво, находясь почти в истерике, Орыся стала объяснять, что действительно ходила в сберкассу и сняла с аккредитива все деньги.
— Давай подробно: как ты туда добралась, что именно делала и каким образом вернулась домой! — потребовал грозно профессор.
Он восседал на стуле в позе беспощадного судьи.
Орыся попыталась восстановить в мельчайших деталях свой поход за деньгами.
— А, может, это — кассирша? — высказала она своё предположение.
— Что — кассирша? — с сарказмом спросил Валерий Платонович.
— Ну, понимаешь, я сразу заметила: глаза у неё странные. Прямо как у гипнотизёра! Может, она того, загипнотизировала меня и вместо настоящих денег подсунула вот это? — схватилась за последнюю соломинку Сторожук, потому что совершенно не могла себе представить, каким образом радужные сторублевые банковские билеты могли превратиться в ничего не стоящие бумажки.
— Нет, ты понимаешь, что ты говоришь? — покачал головой профессор. — Это ведь полная чушь! Ребёнок, и тот не додумался бы до такой глупости!
— Но куда же они могли деться?! — Орыся в отчаянии заломила руки.
Скворцов-Шанявский встал, прошёлся по комнате.
— Кто-нибудь заходил к нам? — остановился он возле Сторожук.
— Никого посторонних, — заверила она. — Вадим приезжал обедать. Я пошла к Элефтерии Константиновне, принесла ему голубцов.
— Та-ак, — протянул Валерий Платонович. — Значит, какое-то время Вадим находился в доме один. — Он помолчал, подумал. — Ты говорила ему о деньгах?
— Зачем? — вопросом на вопрос ответила Орыся и, вспомнив, добавила: — Да, потом заходил Жоголь. Попросил разрешения позвонить в Москву. Чтобы не мешать, я вышла в сад.
Услышав имя Жоголя, Скворцов-Шанявский помрачнел.
«А может быть, пропажа этих пятидесяти тысяч сродни тому, как исчезли в Средневолжске наследственные драгоценности ярцевской жены?» — мелькнуло у него в голове.
— Значит, Ленечка тебя навещал, — процедил сквозь зубы Скворцов-Шанявский, чувствуя, что внутри у него все закипает. — И опять в моё отсутствие… Ну-ну! Вот кобелина! Впрочем, ты не лучше! Сука!
Орысе показалось, что профессор замахнулся. Резко оттолкнувшись от пола, она вместе со стулом отскочила назад. Стул упал. У Орыси потемнело в глазах — не дай бог ударит, тогда…
— Ты сам… сам! — гневно бросила она в лицо профессору. — Кто заставлял меня крутить шуры-амуры с твоим Жоголем? Кто?! Чуть ли не укладывал к нему в постель! Между прочим, твой Ленечка оказался благороднее тебя! Да, да, в тысячу раз порядочнее! Так, поиграл в поддавки, позлил тебя, и все!
Валерий Платонович сжал кулаки, подался вперёд, но сдержался. Последние слова молодой женщины произвели действие — он, кажется, справился с приступом ярости.
Воспользовавшись этим, Орыся поспешно пересказала, что сообщил ей Жоголь о своём сыне и его странной записке. Валерий Платонович не слушал. Его мучил вопрос: где взять деньги?
— Позор! — семенил он по комнате. — Я дал слово, соображаешь, слово дал, что верну сегодня долг!
— Попроси обождать, — осторожно сказала Орыся. — Ну, несколько дней.
— Да это хуже, чем… чем… — вскричал профессор, но так и не подыскал нужного сравнения.
Орысе стало жалко его. В таком положении Скворцова-Шанявского она ещё не видела. И ещё мучило, что всему виной она.
— Валерий, — сказала Орыся мягко, — ты же все можешь. Ну, позвони, пойди…
— Куда? — перебил он её. — К кому?! Вот если бы в Москве… — Он хотел ещё что-то сказать, но, передумав, махнул рукой и вышел, хлопнув дверью.
Оставшись одна, Орыся некоторое время сидела в оцепенении. Потом, словно очнувшись, зачем-то собрала разбросанные по полу листки календаря и сложила их в индийскую сумочку. А в голове лихорадочно билось: куда исчезли деньги, кто подменил их, где?
«Вадим?.. Жоголь?.. — размышляла она. — Не может быть. Шофёр профессора слишком обязан шефу. Да и Леонид Анисимович вряд ли пошёл бы на такое гнусное дело».
И чем больше Сторожук думала, тем чаще вспоминалось лицо кассирши сберкассы, особенно её большие выпуклые глаза, в которых совершенно нельзя было различить зрачков. Завораживающий, как у змеи, взгляд.
— Нет, тут что-то не так! — вслух произнесла Орыся. — Конечно же дело нечистое…
Идея эта настолько овладела молодой женщиной, что она решилась: если уж кто может разобраться и помочь, так это милиция.
Орыся лихорадочно переоделась и, словно боясь упустить время, буквально побежала в горуправление внутренних дел, которое приметила в трех кварталах от дома.
Дежурный офицер, выслушав взволнованный, сбивчивый рассказ Сторожук, направил её к начальнику отдела уголовного розыска майору Саблину.
Как только Орыся стала излагать историю пропажи денег, Саблин вызвал ещё одного сотрудника. Тот был помоложе, в штатской одежде и совсем не походил на милиционера. Представился он оперуполномоченным уголовного розыска капитаном Журом. Сторожук пришлось рассказывать сызнова. Выслушали её очень внимательно. В отличие от Скворцова-Шанявского, подозрения Орыси насчёт кассирши не вызвали ни насмешки, ни удивления. Задав несколько уточняющих вопросов — не заметила ли Орыся, что за ней следят в сберкассе, и вообще каких-нибудь подозрительных лиц, — майор Саблин попросил написать заявление. Надо сказать, что справиться с этим Орысе было нелегко: делала впервые в жизни, да и не знала, на что больше обращать внимание. Потом капитан Жур повёл её в свой кабинет, показал десятка два фотографий. Как Орыся поняла, это были преступники. Оперуполномоченного уголовного розыска интересовало, не видела ли она кого-нибудь из этих людей в сберкассе или в автобусе, когда ехала домой с деньгами. Но Сторожук припомнить никого не могла.
Напоследок Жур взял у неё злополучные календари (как он объяснил — изъял в виде вещественного доказательства) и записал телефон.
— Ну как, товарищ капитан, — с мольбой посмотрела на него Орыся, — есть надежда, что деньги найдутся?
— Поработаем, — ответил оперуполномоченный. — Ваш случай — третий за последнюю неделю. Почерк один и тот же. — И наставительно добавил: — Впредь постарайтесь быть поаккуратнее. Такая сумма, а вы… Подобная беспечность только на руку преступникам.
— Так ведь рядом, всего три остановки на автобусе, — оправдывалась Орыся.
— Бережёного бог бережёт, — серьёзно сказал капитан.
Возвращаясь домой, Орыся убеждала себя: отыщут вора, непременно отыщут и вернут пятьдесят тысяч.
Валерий Платонович сидел на верандочке, пил ряженку. Орыся открыла рот, чтобы поделиться с ним успокоительной новостью, но профессор опередил её:
— Где была?
— В милиции…
— Где, где? — заикаясь, переспросил он.
— В милиции. Написала заявление.
Скворцов-Шанявский побледнел, захватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыба, схватился за сердце и стал сползать со стула.
— Что с тобой? — в ужасе бросилась к нему Орыся, едва успев подхватить профессора. — Вызвать «скорую»?
— Не… Не… — заплетающимся языком проговорил Скворцов-Шанявский. — Валидол… Капли Вотчала…
Перетащив Валерия Платоновича на диванчик, Орыся кинулась за лекарством, дрожащими руками накапала в рюмку, влила в рот Скворцову-Шанявскому. Потом сунула ему под язык таблетку.
Он лежал с закрытыми глазами минут десять, и эти минуты показались Орысе вечностью.
Наконец он разлепил веки, слабо произнёс:
— Что ты натворила? Понимаешь или нет?!
— Я хотела… Как лучше хотела! — растерянно проговорила Орыся. — Ведь пятьдесят тысяч! Не рубль.
— Жалкие пятьдесят тысяч, — простонал профессор, положив ладонь себе на лоб. — О чем ты говоришь? Нет, зарезала без ножа! Форменным образом зарезала!
— Но ведь деньги тебе сейчас очень нужны. Так ведь?
— Что они решают? Да я за один день могу иметь сто тысяч. Да что там сто тысяч… — Он медленно приподнялся, сел. — Ну кто тебя просил ходить туда, кто? Ты хоть представляешь, что натворила? Ты можешь погубить меня! И всех подвести под монастырь!
Она начала лепетать насчёт того, что в милиции обещали сделать все, чтобы поймать вора, но профессор грубо перебил её:
— Заткнись! Найди лучше ручку и бумагу.
Орыся покорилась без слов. Под диктовку Скворцова-Шанявского она составила новое заявление в милицию, в котором просила аннулировать первое в связи с тем, что якобы, вернувшись домой, обнаружила пропавшие деньги целыми и невредимыми.
— Как же мне объяснить? — растерянно спросила она, пряча заявление в сумку.
— Как хочешь! Что в детстве тебя уронили с печки, что полный склероз, что… — снова вспыхнул профессор. Затем, сдержавшись, добавил: — Самое лучшее, скажи, что над тобой подшутили.
— Поверят ли? — с сомнением покачала головой Сторожук.
— Сделай так, чтобы поверили! — рявкнул Валерий Платонович. — Понимаешь, должны поверить! Иначе…
Она поспешила в милицию.
Начальник уголовного розыска уже собирался уходить, так как рабочий день кончился. Прочитав заявление, майор Саблин посмотрел, как показалось Орысе, на неё с подозрением, выразительно хмыкнул. Она стала сбивчиво объяснять, что, мол, над ней подшутили, но делала это, вероятно, не очень умело и убедительно, потому что майор усмехнулся:
— Я гляжу, что-то вы не очень рады обнаружению пропажи.
— Рада, рада! — неестественно весело произнесла Сторожук. — Понимаете, перенервничала — страсть! Потом поругалась, конечно: тоже мне — шуточки!
— Да уж… — Саблин неопределённо повертел головой и принял заявление.
Дома Скворцов-Шанявский дотошно расспросил о реакции милиции и, кажется, остался доволен тем, что удалось замять эту историю.
— Смотри, — предупредил он, — больше никакой самодеятельности!
Профессор, вопреки обыкновению, остался дома. Орысю он словно не замечал. И кажется, даже обрадовался, когда к вечеру заглянула Элефтерия Константиновна с приглашением на чашку чая по случаю своего дня ангела. Орыся, сославшись на нездоровье, не пошла. Скворцов-Шанявский и Вадим отправились на хозяйскую половину без неё. Профессор прихватил с собой книгу.
— Прошу прощения за скромный презент, — сказал он Александропулос, вручая книгу. — Надо было предупредить заранее.
Та рассыпалась в благодарностях, заметив, что дорого внимание, а не подарок. Прочитав название книги, она и вовсе растрогалась — это был сборник легенд и мифов Древней Греции.
— Вы всегда умеете преподнести что-нибудь такое-этакое, — чуть не прослезилась вдова. — Ну прямо по сердцу…
Тем временем Орыся не находила себе места. Её мучили мысли — что же произошло с деньгами? Где их украли? Кто? Когда?
«Чего теперь гадать? — вдруг подумала она. — Надо помозговать, где достать пятьдесят тысяч. Может, слетать в Трускавец, снять со сберкнижки? А вдруг встречусь с Сергеем?»
Орыся заперлась в своей комнатке, бросилась на кровать. Ей почему-то вспомнилось слово «сука», которым обозвал её профессор. Зарывшись лицом в подушку, Орыся разрыдалась.
«Во что я превратилась? — спрашивала она себя. — В тряпку, о которую вытирают ноги все, кому не лень… С Сергеем была — дрожала каждую минуту: прибьёт или нет… Вырвалась наконец в Москву. Какие мечты были! Стать певицей, зажить по-человечески… И вот стала… Валерий относится к ней хуже, чем к собаке. Хочет — приласкает, хочет — гонит прочь!»
Подушка стала мокрой от слез. Но желанное облегчение не наступало. Орыся вспомнила мужа Василя, вспомнила Димку и застонала от боли, стальным обручем сжавшей сердце.
«Так можно свихнуться!» — пронеслось у неё в голове.
Она встала, посмотрела в окно. Сквозь ветви деревьев светилась веранда хозяйского дома. Оттуда доносилась музыка.
Орыся проверила, хорошо ли заперта дверь, потом нашарила под кроватью заветный графинчик с «изабеллой», который прятала от Валерия Платоновича.
Вино становилось в последнее время её единственной отдушиной.
…Скворцов-Шанявский пришёл через час. Торкнувшись к Орысе и не получив ответа, он, поворчав, направился к себе. В отличие от неё, сваленной пьяным сном, профессор никак не мог заснуть. Несколько раз за ночь вставал, принимал лекарства: чай из хмеля и валерианку, как советуют в этом случае врачи, но ничего не помогало. Бессонница доводила до отчаяния, выматывала все нервы. Мысли, одна мрачней другой, сверлили мозг. Больше всего беспокоило то, что Орыся ходила в милицию.
«Дай бог, чтобы пронесло!» — молил судьбу профессор.
Забылся он только к утру и не слышал, как поднялась и ушла из дома Орыся.
А она отправилась к Эрику Бухарцеву, бывшему шофёру Скворцова-Шанявского. Мысль обратиться к нему возникла у Сторожук совершенно спонтанно. А может быть, потому, что с Эриком связывали её другие отношения, чем с иными приятелями профессора. В определённом смысле Бухарцев был Орысе многим обязан: вот уже сколько раз она давала приют его матери в своём трускавецком доме.
Услышав, что Сторожук нужны деньги, Эрик сказал:
— Не знаю, может, не поверишь, но нету. Позавчера продал золотишко, вчера — тоже. И все улетучилось как дым.
— Что же делать? — растерянно произнесла Орыся.
— Хочешь? — Бухарцев снял с пальца перстень. — Прилично дадут…
— А кому я его сбуду? — заколебалась Орыся.
— Есть один человечек. Надёжный. Правда, облапошивает, но не так все же, как Решилин.
— Можешь свести меня с тем человеком? — спросила Орыся, у которой возникла спасительная идея.
— Ради бога! — охотно согласился Бухарцев.
…Когда Валерий Платонович пробудился ото сна, — а это было около полудня, — Орыся выложила перед ним пятьдесят тысяч рублей.
— Откуда?.. Где взяла? — удивлённо и радостно спросил профессор.
— Представляешь, я действительно сумки перепутала. Деньги были не в индийской, а в той, под крокодилову кожу.
— Да? — подозрительно посмотрел на неё Валерий Платонович.
— А чего мне врать? — не моргнув глазом, ответила Орыся.
Скворцов-Шанявский побежал отдавать долг.
Леонид Анисимович был из тех людей, которые привыкли властвовать над обстоятельствами. Но в последнее время он почувствовал, что эта власть поколебалась. Положение, как говорится, уходило из-под его контроля. По нескольку раз на день Жоголь звонил в Москву. Вести становились все более тревожными. В гастрономе царила растерянность. Запаниковали даже те, в ком он был раньше абсолютно уверен. А записка сына хоть и несколько успокоила, но, с другой стороны, уколола больно и глубоко.
«Почему Михаил обращается в ней только к матери? — мучительно размышлял Леонид Анисимович. — Выходит, я для него не существую? А может, это сделано намеренно, с явной демонстрацией?»
Мысли о сыне были, пожалуй, даже невыносимей, чем тревога за положение в гастрономе. Бывали мгновения, когда он был готов кинуться в аэропорт и улететь домой.
Ничто не радовало Жоголя в Южноморске. Даже присутствие рядом Виктории. Её молодость и красота потеряли для него былую притягательность. Иногда он ловил себя на мысли, что она его раздражает. Если что-то и подогревало в Жоголе интерес к ней, так это ревность к Ярцеву. Но и ревность была какая-то вялая, вымороченная. Примитивное проявление чувства собственности: хоть костюм поношенный, но свой, видеть его на плечах другого не хотелось бы.
Сегодня у Жоголя была запланирована встреча с профессором, но тот после встряски, которую получил в результате пропажи денег, валялся в постели с давлением. Деться было некуда, одна дорожка — на пляж.
День выдался просто волшебный. В природе царствовали три цвета — золотистый, зелёный и голубой. Море было спокойным и прозрачным. Они пришли с Викторией на своё излюбленное место, недалеко от гостиницы «Интурист». Пляжем пользовались в основном тоже иностранцы. Здесь был буфет, где продавали на валюту пиво в банках, кока-колу, фигурное печенье. Жоголь с Викой пользовались его услугами.
Взяв лежак, Жоголь положил его у самой кромки воды и растянулся под мягким, ласкающим кожу солнцем. Он настроил транзистор на «Маяк» и весь отдался музыке.
Виктория взяла напрокат шезлонг с навесом: в дневные часы она не загорала, а только принимала воздушные ванны. Достав из сумочки журнал мод, она принялась лениво разглядывать иллюстрации.
Вдруг её словно что-то подтолкнуло. Вика подняла глаза от журнала, огляделась. У неё было такое ощущение, что кто-то рассматривает её. Но ничего подозрительного не заметила.
Она снова углубилась в чтение, но чувство, что за тобой пристально наблюдают, не покидало.
«Телепатия, что ли? — удивилась она. — Кто же этот экстрасенс?»
Вика посмотрела вокруг внимательнее. Неподалёку, ближе к игрокам в карты, сидел в таком же шезлонге, как и она, спортивного вида мужчина лет сорока пяти, в тёмных очках. В руках английская газета.
«Неужели этот иностранец?» — подумала она. Но глаз его не было видно за дымчатыми стёклами очков.
Вика достала несколько долларов и пошла к буфету. Взяв бутылку кока-колы и пачку «Честерфильда», она вернулась на место. Мужчины не было. В пустом шезлонге лежала только газета.
Не успела Вербицкая устроиться в своём, как из воды показался незнакомец. Высокий, прекрасно сложенный, он направился прямо к ней. Остановившись возле шезлонга, он поднял упавший на землю журнал и подал Виктории.
— Кажется, ваш? — на чистом русском языке сказал он. — Прошу.
— Спасибо, — ответила Вербицкая, чувствуя, что незнакомец не прочь поболтать с ней.
— Не боитесь сгореть? — показал мужчина на солнце в зените. — Сейчас не самое лучшее время…
— Я же в тенёчке, — щёлкнула она пальцем по навесу.
— Рассеянный, то есть отражённый, свет тоже может доставить неприятности.
— А вы сами?
— Я сегодня первый день здесь. Соскучился по теплу. В Ленинграде нынче очень ранняя осень. Дожди, холод. А вы откуда?
— Из Москвы.
— И у вас не лучше. Если не возражаете, я устроюсь поближе? — попросил незнакомец.
Вика позволила. Он перенёс свой шезлонг. Через минуту она уже знала, что зовут его Павел Кузьмич Астахов, он доцент и занимается проблемами внеземных цивилизаций.
— А вы, мне кажется, имеете отношение к искусству, — серьёзно произнёс Павел Кузьмич. — Во всяком случае — к творчеству. — Он кивнул на журнал, который машинально перелистывала Вербицкая.
— Насчёт искусства вы угадали, — улыбнулась она. — А по поводу этого,
— Вика провела рукой по глянцевитой бумаге, — только потребитель.
— И вы бы одели подобное? — спросил Астахов, показав на снимок манекенщицы в какой-то странной не то рубашке, не то майке и коротких белых штанах в обтяжку.
— Ни за что, — усмехнулась Вербицкая. — Не стиль, а бог знает что.
— Кстати, вы знаете, откуда пошло слово «стиль»?
— Нет, — призналась Вербицкая.
— От фамилии Стиль, — пояснил доцент. — Был такой журналист в Англии. Жил он в восемнадцатом веке и отличался от своих коллег своеобразной манерой письма. Впрочем, не только этим. Был оригинал в одежде, манере поведения. Словом, имел свой стиль, — с улыбкой закончил Павел Кузьмич.
— У человека, который обладает вкусом, это получается само собой. И навязывать ему нечто неподходящее невозможно. А вот это я бы одела с удовольствием, — Вербицкая ткнула пальцем в модель элегантного жакета с большим воротником. — Симпатично, правда?
— И мне нравится, — сказал Астахов. — А если к нему ещё устройство компании «Мибуко»…
— Что? — не поняла Вика.
— Японцы выпускают что-то вроде музыкального воротника, который можно пристегнуть к пальто, пиджаку, куртке с помощью обыкновенной «молнии». Поднял воротник — к ушам прижимаются микрофончики, а миниатюрный магнитофон находится у вас в кармане. Можете слушать музыку, никому не мешая. Мы и так находимся под постоянным воздействием вредных шумов. Автомобили, самолёты, приёмники, телевизоры, стройки… А последствия — разрушение психики, возникновение самого страшного демона нашего времени — стресса. Но лучше не доводить себя до этого.
— Легко сказать, — вздохнула Вика. — Жизнь не становится спокойнее. Наоборот. Может, у вас есть секрет, как уберечься от этих самых стрессов?
— Не обращайте внимания на неприятности. А есть ещё один способ. Я представляю себе необъятность вселенной, бесконечность мироздания. Ведь, в сущности, человеческая жизнь — миг. И мы должны этот драгоценный дар беречь как зеницу ока. Вспомните, какие катаклизмы сотрясали землю в прошлом, какие катастрофы, вероятно, ожидают в будущем, — и наши каждодневные страхи покажутся смешными.
— Какие именно катаклизмы в прошлом вы имеете в виду? — спросила Вербицкая.
— Ну хотя бы встреча с огромными небесными телами. Например, некоторые учёные считают, — и я сторонник этой гипотезы: динозавры вымерли от того, что на нашу планету упал гигантский астероид. В результате в воздух поднялся буквально океан пыли, которая не давала возможности пробиться солнечным лучам. А без них, как вы знаете, гибнет все живое. Кстати, в случае атомной войны жизни на земле угрожает то же самое.
— Понятно, — кивнула Вика. — А какие напасти, не считая ядерного оружия, могут угрожать нам в будущем?
— Самое реальное — оледенение, — ответил Павел Кузьмич. — Кое-кто из учёных полагает, что мы на пороге великого нашествия льдов. Как это уже имело место в не таком уж далёком будущем.
— Ничего себе, — присвистнула Вербицкая. — Нам мало житейских невзгод, так тут ещё надвигаются глобальные катастрофы. И после всего этого вы предлагаете не обращать внимания на неприятности?
— А что нам остаётся делать? — философски заметил Астахов. — Глобальные, как вы говорите, катастрофы тем паче не подвластны человеку. И вообще пора уже освобождаться от эгоистического заблуждения, что с нашей гибелью исчезнет разум. Мы не являемся избранными существами, на которых клином сошёлся свет.
— Вы считаете, что где-то существуют братья по разуму?
— Иначе я не занимался бы этой проблемой.
— Я всегда думала, что этот вопрос волнует только писателей-фантастов,
— призналась Вика.
— Что вы! — воскликнул Павел Кузьмич. — На поиски внеземных цивилизаций брошен сейчас весь арсенал современной науки! Астрофизики, радиофизики, биологи, кибернетики, лингвисты — целый легион учёных! Причём светил в своей области! Систематически собираются всесоюзные, да что там всесоюзные, международные совещания, симпозиумы по этой проблеме! Существует множество направлений, школ…
— Ну и как?
Вербицкую все больше увлекал разговор. Она даже забыла про Жоголя, который успел окунуться в море и снова устроиться на своём лежаке.
— Что как? — не понял доцент.
— Обнаружили внеземные цивилизации?
— Буду честным: пока нет. Но это ещё ни о чем не говорит: слишком короткий срок занимается человечество поиском.
— А в чем заключается этот поиск? — продолжала расспрашивать Вика.
— Ну, прежде всего, ракеты, улетающие с космодрома Байконур. — Астахов улыбнулся. — Между прочим, в «Московских губернских новостях» за тысяча восемьсот сорок восьмой год сообщалось, что некий мещанин Никифор Никитин за крамольные речи о полёте на Луну сослан на поселение в Байконур.
— Что, действительно? — засмеялась Вербицкая. — Забавно.
— Факт! В истории полно подобных курьёзов, — кивнул доцент и продолжил: — Помимо спутников мы зондируем космос с помощью радиотелескопов, не шлют ли нам весточку из далёких миров? И от себя шлем им закодированные сигналы. Но я считаю, что внеземные цивилизации нужно искать по внешним признакам. Например, по интенсивному тепловому излучению или производимому ими загрязнению окружающей среды, то есть самого космоса.
— Загрязнению? — изумилась Вика. — Господи, неужели наши братья по разуму такие же неразумные, как и мы?
— Кто знает, может быть, ещё хуже, — ответил Астахов. — И вообще не надо переоценивать разумность внеземных цивилизаций. Понимаете, трудность контакта, возможно, и заключается в том, что уровень развития разный.
— А если все же мы во вселенной одни? — спросила Вика, стараясь ещё больше разжечь доцента. По всему, он был человеком незаурядным, да и ей не хотелось ударить лицом в грязь, вот почему Вербицкая призвала на помощь весь свой интеллект.
— Нет, — решительно произнёс Астахов. — Я убеждён, что жизнь на землю привнесена из космоса. Вернее, скорее всего она разлита во всей вселенной. Приведу всего один факт: самый примитивный вирус устроен неимоверно сложно, и вероятность самозарождения даже такой формы жизни из неживых органических молекул крайне ничтожна! Не буду утомлять вас выкладками, но скажу: по существу, жизнь на земле родилась сразу, без промедления. Разумеется, по космическим меркам… И так происходит на любой планете, как только там возникают благоприятные условия… Вы хотели бы возразить? — спросил он, глядя на озабоченное лицо собеседницы.
— Возражений нет, — встрепенулась Вербицкая. — Да и откуда им быть, если я не специалист? Я в этом совершенно не разбираюсь. Хотя ваша точка зрения мне импонирует больше, чем утверждение, что мы возникли случайно. Человеку, по-моему, нужно иметь веру во что-то. Например, в высшее предназначение, высшую справедливость.
— Совершенно верно! — обрадовался Павел Кузьмич. — Если все случайно, значит, нет идеала и любое зло и кривду можно оправдать.
— Вам свойственна железная логика плюс точная аргументация. Словом, мужская уверенность и определённость.
— Мужская, — хмыкнул Астахов. — Сократ считал, что женская природа ни в чем не уступает мужской. И советовал мужьям смело учить своих жён всему, чему угодно.
— Представляю, какая эрудированная у вас жена, — заметила с улыбкой Вербицкая. — Или вы холостяк?
— На курорте мы все холостяки, — усмехнулся Астахов и предложил: — Давайте искупаемся?
Они сделали небольшой заплыв, и, когда вернулись в свои шезлонги, Павел Кузьмич посоветовал:
— Кроме солнца и моря тут, по существу, нет никаких развлечений. А какие возможности! Водные лыжи, прогулочные катера… Хорошо бы соорудить фуникулёр. — Он показал на вершину горы над Южноморском. — А там можно было бы организовать целый городок развлечений. Люди мечтают потратить деньги, а где?
— Может, когда наберут силу кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность, все это и будет?
— Может быть, может быть, — сказал Астахов. — Да, все хочу спросить у вас, кто же вы по специальности?
— Художница.
— Вот видите, я как чувствовал! — обрадованно проговорил Павел Кузьмич. — Значит, угадал! В каком жанре работаете?
— Собственно, ещё учусь. Заканчиваю Суриковский институт.
— Прекрасно, прекрасно! Лучший наш художественный вуз! — продолжал восхищаться доцент. — Но, Виктория Николаевна, на пути у вас столько терний! Говорю вам об этом потому, что мой ближайший друг, милейший талантливейший человек, ничего не нажил за всю свою жизнь, кроме двух инфарктов и кучи врагов в Союзе художников… Ой, хватит ли у вас сил? — Он покачал головой.
Вербицкая улыбнулась, но ничего ответить не успела: к ним подошёл Жоголь. Она представила мужчин друг другу. Время было обеденное, и Леонид Анисимович предложил пойти куда-нибудь поесть.
— Павел Кузьмич, вы составите нам компанию? — обратилась к доценту Вика.
Дважды приглашать Астахова не пришлось.
Когда капитан милиции Жур зашёл в кабинет прокурора города Захара Петровича Измайлова, тот разговаривал с кем-то по телефону и жестом показал оперуполномоченному уголовного розыска на стул. Жур сел. Ждать пришлось минуты три.
— С чем пожаловали, Виктор Павлович? — спросил прокурор, положив трубку.
— С постановлением на арест. — Жур протянул Измайлову бумагу.
— Изголяев и Рундуков, — прочитал прокурор. — Что за птицы?
— Щипачи, — пояснил капитан. — Мы целую неделю охотились за ними. Задержали вчера в троллейбусе, когда они вытащили у одного отдыхающего «лопатник» с тремястами пятьюдесятью рублями. «Пасли» его от почты, где он получил перевод.
«Щипачи» — карманные воры на их жаргоне, «лопатник» — бумажник или кошелёк, а термин «пасли» означал следили.
— Наши или?.. — спросил Измайлов.
— Гастролёры. Один из них, Рундуков, дважды судим, а его напарник Изголяев задержан впервые. Рундуков, по-видимому, обратал его совсем недавно. Держал на подхвате, передавал ворованное.
— Молодой?
— Изголяев? — уточнил Жур. — Восемнадцать лет. Но гоношистый. Сначала грозился, что у него папаша большая шишка. — Виктор Павлович усмехнулся. — Чудило, в наше время об этом лучше помалкивать. Если это правда, не завидую я тому папаше!
— Значит, говорите, неделю за ними охотились? — спросил Измайлов.
— Может, чуть больше, — поправился старший оперуполномоченный уголовного розыска. — Этот Рундуков прямо-таки артист.
— Ну? — заинтересовался Измайлов.
— Понимаете, поступает к нам заявление. Одно, другое, третье! Четвёртое, наконец! У людей исчезают деньги. В общественном транспорте.
— И что в этом удивительного? — не понял прокурор.
— Но как! Кошельки и бумажники на месте, а содержимое — тю-тю! Представляете состояние человека, когда он открывает портмоне, а там пусто? Не знаешь, то ли украли деньги, то ли ты сам их потерял. Я даже думаю, что к нам обратились не все, кого обчистил Рундуков.
— Выходит, он забирал деньги и незаметно возвращал пострадавшим их кошельки?
— Точно! — кивнул Жур. — А с одной гражданкой и вовсе проделал невероятную штуку. Она сняла с аккредитива пятьдесят тысяч и положила в сумочку. Так этот фокусник умудрился стащить деньги, а вместо них положить несколько перекидных календарей!
— Ну и ну! — поразился Измайлов. — Впервые такое встречаю.
— Правда, с этой женщиной что-то непонятное… — нерешительно произнёс Жур.
— А что именно?
— Гражданка приехала отдыхать из Трускавца, правда, без путёвки, снимает жильё. Фамилия — Сторожук. Прибежала к нам, оставила заявление насчёт кражи. А через несколько часов опять пришла в милицию и написала новое заявление, что якобы эти самые пятьдесят тысяч нашлись. Но на допросе Рундуков признался, что вытащил деньги у Сторожук.
— Сам признался?
— Конечно. Рундуков — воробей стреляный. Взяли его с поличным. Он отлично понимает, что имеет один шанс облегчить свою участь — полное признание. По всем эпизодам! Ведь мы все равно докопаемся.
— А Изголяев? Он подтвердил факт кражи у Сторожук?
— Его показания слово в слово совпали с рундуковскими. Как её начали «пасти» в сберкассе, как обчистили в автобусе. Деньги, как обычно, выкрал Рундуков и передал напарнику. Про календари Изголяев тоже рассказал.
— Странная история, — задумчиво сказал Измайлов. — Какое впечатление производит потерпевшая? Тут у неё все в порядке? — покрутил пальцем у виска прокурор.
— Вроде нормальная, — улыбнулся капитан. — Хотя какой нормальный человек откажется от своих пятидесяти тысяч?
— Что вы думаете с ней делать?
— Вызвал повесткой на семнадцать часов. — Жур глянул на часы. — Сведу её на очной ставке с Рундуковым и Изголяевым, посмотрю, что она скажет.
— И позвоните мне, Виктор Павлович, — попросил Измайлов, утверждая постановление на арест задержанных.
— Непременно, Захар Петрович, — пообещал капитан.
Жур относился к Измайлову с большой симпатией. Чего нельзя было сказать о многих работниках горуправления внутренних дел. Измайлов был требователен и не давал послабления никому, кто хоть на йоту отступал от закона. Даже сейчас, когда начали наводить порядок и многие растерялись, шарахаясь из одной крайности в другую, прокурор был непоколебим в своих убеждениях.
И вот за эту принципиальность, которую Измайлов проявлял всегда и во всем, его и не жаловали многие работники милиции.
Захар Петрович не терпел искажения статистики. От него крепко доставалось тем, кто пытался скрыть «мелочёвку» — квартирные, карманные кражи, хулиганство и другие правонарушения. Прокурор города считал: если работники милиции не сумели раскрыть тот или иной случай, это было плохо, но если при этом они ещё и скрыли его, — это уже было преступлением! На этой почве у Измайлова постоянно возникали стычки с прежним руководством горуправления. И ни для кого не было секретом, что бывший начальник управления спал и видел, как бы избавиться от такого прокурора. Больше всего его бесило, что Захара Петровича не за что было уцепить. Он даже жил замкнуто, не бывая ни у кого в гостях и не принимая компаний в своём доме. Короче, был белой вороной на фоне беспрерывных пьянок и застолий, устраиваемых в честь приезжавших на курорт влиятельнейших чиновников из Москвы. Это время было ещё хорошо памятно и для Виктора Павловича. Принимали столичных боссов широко и хлебосольно. В закрытых пансионатах и загородных особняках, в отдельных кабинетах самых фешенебельных ресторанов и на частных квартирах текли коньячные и водочные реки, столы ломились от дефицитных деликатесов. Наперебой старались угодить не только московским шишкам, но также их жёнам, чадам и домочадцам. Для этого держались лучшие номера в гостиницах и палаты в санаториях, предназначались отдельные коттеджи, а к наиболее сановным гостям прикреплялись легковые автомобили с круглосуточным дежурством. После таких встреч гости уже не забывали услуг, что оказывали им южноморские хозяева, которые постепенно привыкли к бесконтрольности и вседозволенности. Пышным цветом расцвели взяточничество, хищения, злоупотребление властью и служебным положением. Нельзя было тронуть даже заурядного гостиничного администратора — тут же за него вступалось какое-нибудь ответственное лицо. Доходило до того, что в гостиницах проживали преступники, объявленные во всесоюзный розыск.
Мало кто решался тогда выступать против зарвавшихся хапуг. Измайлов решился. Возбудил уголовное дело против управляющего трестом ресторанов. Что поднялось вокруг прокурора, трудно передать словами! Это был шквал возмущённых звонков, просьб, уговариваний, предостережений и прямых угроз. В ответ на это Захар Петрович предложил следователю взять под стражу управляющего и утвердил постановление на его арест. А через неделю был арестован и покровитель преступника — заместитель председателя горисполкома.
Этот шаг произвёл в городе эффект разорвавшейся бомбы. Те из работников милиции, кто служил закону и правде, а не начальству, зауважали Захара Петровича. Но не дремали и те, кому он прищемил хвост. В Москву полетели доносы и анонимки. Даже был делегирован в столицу один из ходоков от имени «обиженных» Измайловым искать заступничества у тех, кого щедро поили и кормили местные подхалимы. По Южноморску поползли слухи, что Измайлова вот-вот снимут и якобы уже есть замена строптивому прокурору. Захар Петрович не сдавался, более того, добился, что одних деятелей незаконной наживы привлекли к уголовной ответственности, других приструнили в партийном порядке, а третьим было предложено уйти со своего поста «по собственному желанию». Был разжалован и уволен из органов милиции начальник южноморского управления внутренних дел. Он лишился полковничьих погон. А ведь мечтал стать генералом, и, возможно, мечта его осуществилась бы, если бы не перестройка, ворвавшаяся во все сферы нашей жизни, а также настойчивость и принципиальная позиция Измайлова. В управлении поговаривали, что несостоявшийся генерал чудом избежал уголовного преследования. Перестройка перестройкой, но старое ещё не сдаёт всех своих позиций, и кое-кто помог бывшему начальнику горуправления остаться на плаву. Из Южноморска он, как говорится, слинял и где теперь обретался, неизвестно.
А Измайлов выстоял. Он совершенно не изменился, остался таким же педантом и строгим ревнителем законов.
Вот о чем вспомнил капитан Жур, возвращаясь из прокуратуры города в управление. Там его уже ждал один из потерпевших по делу Рундукова и Изголяева, пришедший немного раньше назначенного срока.
Допросив и отпустив его, старший оперуполномоченный уголовного розыска выглянул в коридор. На скамейке у дверей кабинета сидела Сторожук. Было ровно пять часов.
— Прошу, заходите, — пригласил её Жур.
Она робко вошла в комнату, села.
— Ну, здравствуйте, Ореста Митрофановна, — приветливо сказал капитан.
— Здравствуйте, — негромко ответила Сторожук, роясь в сумочке. Она достала платочек, аккуратно приложила к носику.
Виктор Павлович отметил про себя: скованна, чего-то боится, даже не хочет смотреть ему в глаза.
— Как отдыхается? — спросил Жур, чтобы как-то расположить к себе молодую женщину.
— Что? — вздрогнула она, ожидая, видимо, совсем другого вопроса.
— С погодой, говорю, везёт в этом году, — сказал капитан.
— Да-да, — поспешно согласилась Сторожук, стараясь смотреть куда угодно, лишь бы не на старшего оперуполномоченного.
Жур поинтересовался, с какими достопримечательностями она успела ознакомиться в городе, ездила ли на озеро Рицу — природа там просто сказочная. Сторожук отвечала односложно — да и нет, её напряжённость не ослабевала. Разговорить Орысю капитану так и не удалось.
— Ну, хорошо, — решил он наконец приступить к главному. — Скажите, пожалуйста, какое ваше заявление правдивое — первое или второе?
— О чем вы? — глухо спросила Сторожук.
— О заявлениях по поводу кражи у вас денег.
— Господи, я же говорила, что не теряла. То есть у меня их не воровали… — сбивчиво стала объяснять она, и лицо её покрылось красными пятнами.
— Значит, деньги нашлись? — решил подыграть ей капитан. Он намеревался провести нехитрый психологический опыт.
— Нашлись, нашлись, — закивала Сторожук.
— Все, до копейки?
— Конечно.
— Знаете, моя мама любила говорить: самая большая радость, когда что-то потеряешь и найдёшь, — продолжал с улыбкой Виктор Павлович.
— Точно, — поддакнула молодая женщина.
— Ну что же, Ореста Митрофановна, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, вы покажете мне эти деньги. Идёт? — невинно попросил Жур.
Реакция была такой, какую ожидал капитан: Сторожук вконец растерялась, стала говорить, что этих денег у неё в настоящий момент нету, мол, часть дала кому-то в долг, истратила на покупки. Больше всего её почему-то страшила перспектива поездки с Журом к ней домой.
Виктор Павлович ознакомил Сторожук с показаниями Рундукова и Изголяева. Орыся стояла на своём.
Ничего не оставалось делать, как вызвать из изолятора временного содержания арестованных карманников. Сторожук они опознали сразу.
Такой сцены капитан Жур ещё не видел: преступники с пеной у рта доказывали, что обокрали потерпевшую, приводя при этом такие детали и подробности, что не поверить им было просто невозможно, а обворованный человек твердил, что никакой кражи не было.
Уж на что Рундуков был, видимо, тёртый калач, но и тот опешил.
— Ты что, чокнутая?! — вызверился он на сжавшуюся в комок, словно затравленную, женщину. — Пятьдесят кусков у тебя лишние, да?!
Орыся молила бога, чтобы все поскорее кончилось. Она чувствовала себя между молотом и наковальней: с одной стороны этот въедливый капитан, с другой — Скворцов-Шанявский, который ждёт её дома и весь исходит злобой и жёлчью.
— Гражданин начальник! — взмолился Рундуков. — Она что, издевается, падло?!
«Щипач» был на грани истерики. Старший оперуполномоченный спросил у Сторожук, с какой целью она отрицает факт кражи денег.
Нервы у Орыси не выдержали, и она разрыдалась. Жур отпустил потерпевшую.
Виктор Павлович терялся в догадках насчёт поведения Сторожук. Чего она боится? Конечно, неспроста она отказывается от таких денег. Мысль об этой странной истории не давала покоя капитану весь вечер.
А Орыся, возвратившись домой, попала, что говорится, из огня да в полымя. Профессор, дотошно расспросив, что и как было в милиции, закатил ей страшный скандал.
— Вот видишь, до чего довела твоя тупость! — заорал он напоследок и, хлопнув дверью, куда-то уехал.
Утром по дороге в управление Виктор Павлович отводил дочку в детский сад. Вот и сегодня после обычных напутствий жены отец с дочкой вышли из дома и влились в толпу спешивших на работу людей.
Жур любил эти утренние прогулки. Слушая неумолчный весёлый лепет маленького существа, он неспешно обдумывал загадки и сюрпризы, на которые так щедра была его работа. Этим утром капитан постоянно возвращался к событиям вчерашнего дня. А вернее — к допросу Сторожук.
По своему опыту оперуполномоченный уголовного розыска понимал: за этим скрывается что-то серьёзное. Но что? Обычно человек боится показать, что у него имеются деньги, если они добыты преступным путём. Честные рубли карман не жгут! Но Сторожук вроде и не опасается признать, что имеет такую большую сумму. Её пугает другое. И пугает очень сильно. Может, она в чем-то замешана? А если да, то в чем?
Виктор Павлович вспомнил её внешность, поведение. Приятная, красивая. В Сторожук было что-то простодушное и искреннее. Впрочем, Журу приходилось встречать совсем ещё юных девушек с открытыми наивно-детскими лицами, которые, однако, уже крепко погрязли в страшном пороке — проституции.
«А может, Ореста тоже? — мелькнуло в голове капитана. — Приехала сюда не отдыхать, а работать на панели?»
Последние годы девицы, которых в милицейских протоколах стыдливо именовали «лицами с пониженной социальной ответственностью», стали форменным бедствием в городе. Они слетались в Южноморск из Москвы, Ленинграда и других городов, как вороньё на свалку. По вечерам возле гостиниц вызывающе одетые кокотки нахально приставали к мужчинам. Особенно подвергались нашествию интуристовские заведения. Пробавлялись там так называемые «путаны», проститутки, продававшие себя иностранцам и берущие плату за торговлю своим телом валютой и заграничными шмотками.
Этот позор и бедствие давно уже не были ни для кого секретом, но замалчивание продолжалось. Работники гостиниц стонали от непотребства куртизанок, просили срочно принять меры, но что могли сделать работники правопорядка? Официально в стране проституции не существовало. А раз так, то и не было соответствующей статьи в законе, которая предусматривала бы наказание за торговлю телом. Если и задерживали этих девиц, то лишь в связи с каким-нибудь другим правонарушением — кражей у клиента, валютными махинациями, дебоширством и так далее.
Короче, как со страусом: спрятал голову в песок — и вроде нет на горизонте опасности. А то, что опасность существовала, Виктор Павлович отлично знал. Он особенно, потому что у него росла дочь. Частенько он думал, когда же наконец вещи будут названы своими именами, когда кончится страусовая политика и с такими социально и нравственно опасными явлениями будет вестись настоящая борьба? Правда, совсем недавно кто-то из москвичей уверял, что скоро будет установлена административная ответственность за проституцию. Но поможет ли десятирублевый штраф, если она за ночь имеет тысячу?
Что касается жены капитана, то она давно уже предлагала уехать из Южноморска.
— Я же в органах, — говорил ей Виктор Павлович. — Где прикажут, там и служу.
— А что увидит тут наша дочь, когда вырастет? — вопрошала жена.
Она, конечно, сгущала краски, но Жура самого тревожило, как скажется на дочери жизнь в городе-курорте. В последнее время он серьёзно подумывал: а не подать ли рапорт начальству с просьбой перевести его в другое место.
Они подошли к детскому саду. Капитан переодел дочурку, поцеловал и сдал её воспитательнице.
До работы было несколько минут хода.
В управлении Жур сразу отправился к начальнику уголовного розыска, даже не зайдя к себе. Кирилл Александрович Саблин сидел в своём кабинете мрачный. Одна щека у него была в два раза толще другой — флюс. Майор часто страдал зубной болью, и его сослуживцев удивляло, почему Саблин не избавится от этого мучения кардинальным способом. Но дело в том, что Кирилл Александрович, человек бесспорно смелый и отважный, не раз смотревший смерти в глаза, который мог не задумываясь вступить в схватку с преступником, вооружённым пистолетом, кастетом или финкой, при одном только упоминании о зубном враче бледнел и дрейфил, как малое дитя.
Так и продолжалось: Саблин время от времени «полнел» на одну щеку, пригоршнями глотал болеутоляющие таблетки, но идти к стоматологу упорно отказывался.
— Ну, что дала вчера очная ставка? — еле шевеля губами, спросил майор после взаимного приветствия.
Жур доложил. И только он закончил, как раздался телефонный звонок. Начальник уголовного розыска снял трубку. Это был дежурный по горуправлению майор Вдовенко.
— Кирилл Александрович, — сообщил он, — представляешь, в море на удочку поймали сотенную купюру…
— Вдовенко, — поморщился Саблин, которому не то что говорить, дышать было больно, — кончай шуточки.
— И не одну, — продолжал дежурный.
Но начальник угрозыска с треском швырнул трубку на рычаг: ему было не до розыгрыша. Однако телефон тут же зазвонил снова.
— Ты чего трубку бросаешь? — спросил Вдовенко как ни в чем не бывало.
— Нашёл время хохмить, — проворчал Саблин. — Зуб… Хоть на стенку лезь!
— Вырви его к чёртовой матери! — посоветовал дежурный. — И слушай: тут у меня писатель-фантаст Зайковский из Москвы, он и обнаружил те самые деньги.
— Серьёзно, значит, — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнёс Саблин.
— На полном серьёзе! — подтвердил Вдовенко.
— Где это случилось?
— Возле Верблюда, — пояснил дежурный. — Там, где речушка впадает в море.
— Знаю, знаю, — сказал Саблин. — Чернушка.
Верблюдом южноморцы называли гору километрах в десяти от города. Она напоминала своими очертаниями «корабль пустыни». Но вот почему речку окрестили Чернушкой, непонятно: вода в ней всегда отличалась прозрачностью и чистотой и была такой холодной, аж зубы ломило.
— Надо срочно разобраться, что это за деньги, чьи, как попали в море,
— продолжал Вдовенко. — Кого пошлёшь?
Саблин посмотрел на сидящего перед ним капитана и, долго не раздумывая, ответил:
— Жура.
— Жду, — сказал дежурный и положил трубку.
— Ну и чудеса творятся на свете, — протянул начальник угрозыска.
Передав Журу то, что сообщил Вдовенко, Саблин приказал ему поехать с московским писателем на Чернушку.
— А может, это из области фантастики? — с улыбкой спросил капитан.
— Вот на месте и выяснишь, — сказал Кирилл Александрович, приложив, как младенец, ладошку к раздувшейся щеке.
В кабинете Вдовенко Журу представили писателя. Марату Спиридоновичу Зайковскому было за пятьдесят. Он был в потёртых джинсах, ковбойке, на груди болтался полевой бинокль. Зайковский держал в руках две удочки, которые не знал куда девать. Старший оперуполномоченный обратил внимание на очки писателя в массивной тёмной оправе, с толстыми линзами, делающими глаза выпуклыми и большими.
Тут же находились две незнакомые капитану женщины. Как выяснилось — понятые. За столом дежурного сидел лейтенант из научно-технического отдела и рассматривал несколько мокрых сотенных билетов государственного банка.
— Настоящие? — поинтересовался Жур, поняв, что речь шла именно об этих купюрах.
— Посмотрим, — уклончиво ответил эксперт НТО. — Проведём исследование.
— Виктор Павлович, — поторопил Жура Вдовенко, — машина уже у подъезда. Если нужна будет помощь, звони.
— Хорошо, — кивнул капитан.
Как только он, Зайковский и женщины-понятые сели в милицейский «рафик», машина стремительно сорвалась с места.
— Ну, Марат Спиридонович, я вас слушаю, — сказал Жур.
Зайковский был под сильным впечатлением случившегося, речь его была взволнованной и эмоциональной. Писатель рассказал, что приехал в Южноморск три дня назад, остановился в Доме творчества литераторов, который находился в чудном тихом ущелье за городом. Он убежал из суматошной Москвы, чтобы закончить очередной роман (фантастический, разумеется). По словам писателя, лучшей обстановки для творчества, чем Южноморск, для него не существует. А самые плодотворные идеи рождаются, когда он сидит с удочкой на море. Вот и сегодня, взяв рано утром лодку у приятеля из местных, Зайковский расположился в своём излюбленном месте — рядом с устьем Чернушки. Берег тут всегда пустынный, никто не мешает вдохновению.
— Клевало средненько, — рассказывал писатель. — За час всего три вот такие ставридки поймал, — показал он пол-ладони. — Но меня это не огорчало. Главное, стала выстраиваться глава, над которой я бился в Москве недели две. Я так увлёкся, что стал вслух произносить диалоги моих героев. И чуть не прозевал очередную поклёвку. Подсёк я, значит, рыбку, а она чем-то облеплена. Присмотрелся и ахнул! Сторублевка! За шип плавника зацепилась. Ну, метнул я крючок в то же место и вытащил купюру уже без рыбы. Огляделся получше — вроде бы рядом с лодкой ещё деньги плавают…
— Почему вроде? — спросил капитан, который слушал писателя с каким-то необъяснимым недоверием.
— Понимаете, не те! — в сердцах произнёс Зайковский, сняв очки и потрясая ими в воздухе. — У меня двое — для чтения и на дальность. Я сегодня впопыхах надел вот эти, которые для чтения. Так что в двух-трех метрах любой предмет для меня выглядит совершенно расплывчато! Но без них я бы и вовсе ничего не смог разобрать.
— Теперь понятно, — кивнул Жур. — Продолжайте, пожалуйста.
— Ну, думаю, братец, начинается, — рассказывал дальше писатель, покрутив пальцем возле виска. — Довела-таки московская житуха! Поймал в воде ещё одну сотню, рассмотрел получше — нет, не мерещится! Скажу честно, даже обрадовался: в последнее время у меня была какая-то невезучая полоса. Повесть не взяли в сборник, а в планах издательства мою книгу передвинули на два года… В долгах — как в шелках! Поверите, на билет не было, пришлось просить помощь в Литфонде, — откровенничал Зайковский. — Хорошо ещё, что путёвка льготная. А тут как бы сам бог послал богатство!
— Что, так много купюр было в воде? — поинтересовался Жур.
— Много, товарищ капитан, — кивнул Зайковский. — Даже трудно сказать сколько. Вот тут-то и ударило мне в голову: а что, если произошла катастрофа? Может, где-то погибли люди, а я хочу воспользоваться! Это же мародёрство! Ну, я скорей к берегу…
— Как далеко вы были в море?
Зайковский задумался.
— Метрах в ста пятидесяти, не больше, — ответил он и продолжил: — Вытащил я лодку на песок, побежал к шоссе. Остановил грузовик, доехал до города…
— Вы никому не сообщали о находке?
— Нет, прямо к вам, в горуправление, — ответил писатель и спросил: — А побыстрее нельзя? Не дай бог, ещё кто-нибудь обнаружит… Да и лодка чужая, не увели бы…
— Куда уж скорее, — откликнулся водитель, молоденький сержант милиции, который и так гнал на всю железку, включая перед людными перекрёстками сирену спецсигнала.
Они уже были на загородном шоссе. Виктор Павлович терялся в догадках, как могли попасть в море деньги. Зайковский, словно угадав его мысли, поинтересовался:
— А что вы скажете, товарищ капитан?
— Пока, Марат Спиридонович, я знаю ещё меньше вашего, — усмехнулся Жур.
«Может, действительно авария?» — думал он, припоминая ориентировки. Но события последних дней, отражённые в них, никак не связывались с находкой Зайковского.
— Происки врагов! — решительно заявила вдруг одна из понятых.
— В каком смысле? — несколько опешил Жур.
— Вредительство! Сбросили с самолёта или с подводной лодки фальшивые банкноты, чтобы устроить инфляцию.
— А я думаю, что деньги эти выбросил какой-нибудь хапуга, — сказала вторая женщина.
— Как же, станет человек свои деньги выбрасывать в море, — покачала головой первая женщина.
— Ещё как выбрасывают! У нас рядом с посёлком выловили из речки больше миллиона!
— Где это у вас? — уточнил Зайковский.
— В Узбекистане. Потом выяснилось, что сплавил их директор хлопкового завода, которого вот-вот должны были арестовать за махинации. Он испугался, что дома могут обнаружить такие деньги.
— Вполне может быть, — сказал писатель. — У вас там такое творилось!
От украинского коллеги, приезжавшего в Южноморск в командировку, капитан слышал, что один высокопоставленный взяточник и расхититель, чтобы скрыть размеры содеянного, помимо огромной суммы денег, сжёг также несколько десятков бесценных ковров.
«Вот ещё одна из версий», — подумал Жур.
За очередным поворотом показался Верблюд.
— Орешину видите? — возбуждённо проговорил Зайковский, показывая водителю на раскидистое дерево. — За ней — сразу к морю!
Сержант так и сделал. Микроавтобус свернул к берегу и остановился в нескольких метрах от вытащенной на песок лодки.
Все вышли из машины.
— Ну, слава богу, никого! — облегчённо вздохнул писатель.
Жур огляделся. Место и впрямь было нелюдимое.
Зайковский сорвал с себя очки, отчего взгляд его стал беспомощно-растерянным, приставил к глазам окуляры бинокля.
— Вон! — закричал писатель, показывая рукой на море.
Действительно, метрах в ста пятидесяти от берега колыхалось огромное пятно, похожее на рыбий косяк, разреженный по краям.
— Батюшки! — всплеснула руками одна из женщин. — Сколько денег!
— Я же говорил! — торжествующе проговорил Зайковский.
— Да, — протянул капитан, который, признаться, до конца не был уверен, что писатель-фантаст не преувеличивает. — Что же с ними делать? — невольно вырвалось у него.
— Выловить! — шагнул к воде Марат Спиридонович.
— Но… — начал было Жур и замолчал.
Он был в большом затруднении, ибо в подобной ситуации оказался впервые. В том, что купюры следует поскорее достать из воды, сомнений не было. Но вот как это сделать практически? Лодка Зайковского была маленькая и больше трех человек не выдержала бы.
— Все в лодку, — принял решение капитан. — Вы, Марат Спиридонович, — за весла.
— А вы? — спросил писатель.
Вместо ответа Жур быстро разделся, оставшись в «семейных» трусах.
— Я тоже, — начал расстёгивать гимнастёрку сержант.
— Отставить! — скомандовал Жур. — Дуй в управление, обрисуй Вдовенко картину, пусть катер пришлёт или там ещё чего.
— Слушаюсь! — откозырял сержант и бросился к «рафику».
Круто развернувшись, микроавтобус помчался к шоссе.
Капитан вместе с Зайковским столкнули лодку на воду, помогли войти в неё женщинам. Писатель сел за весла, а Жур поплыл к светлевшему впереди кругу.
Марат Спиридонович был прав: купюр плавало видимо-невидимо. В основном
— сотни и пятидесятки. Выловить их было делом отнюдь не простым. Жур отдавал мокрые банкноты сидящим в лодке женщинам и Зайковскому. Писатель хотел раздеться, чтобы помочь капитану, но Жур отказался, так как от полуслепого помощника особого толка не ожидал.
Дно лодки уже покрыл слой дензнаков, но их как будто и не становилось меньше в воде. Жур работал с остервенением, боясь, как бы купюры не отогнало в море, с берега временами налетал ветерок, и деньги медленно дрейфовали.
С непривычки икры ног одеревенели.
«Как бы судорога не схватила», — с тревогой подумал капитан.
Вдруг послышался шум двигателя. Со стороны города спешил катер на подводных крыльях.
«Неужто подмога?» — обрадовался Жур.
И действительно, когда катер застопорил ход, оседая корпусом на воду, на его палубе Жур увидел двух людей в милицейской форме. Одного из них, старшего лейтенанта, Жур знал: тот работал в портовой милиции.
— Здравия желаю, Виктор Павлович! — крикнул он, когда катер остановился неподалёку от лодки. — Как рыбка, ловится?
— Ловится, ловится, — ответил капитан, держась за борт лодки и еле переводя дыхание. — Косячок ничего? — показал он рукой на деньги.
— Ого! — присвистнул старший лейтенант.
— Тут трал нужен, — сказал Жур.
— Трала нет, а вот сети имеются… Ну, ребята, надо поработать, — обратился он к парням, сгрудившимся на палубе и заворожённо глазевшим на купюры в воде.
С катера спустили надувную лодку, сети. Виктор Павлович сказал Зайковскому, чтобы тот грёб к берегу. Писатель и женщины-понятые, видя, как устал капитан, уговаривали его влезть в лодку. Но Жур не хотел терять марку и, собрав последние силы, заработал руками и ногами.
Только они причалили к берегу, как с шоссе свернул к морю кортеж автомобилей — две «Волги» и «рафик». В одной из «Волг» Жур узнал машину начальника горуправления внутренних дел полковника Свешникова. Другая принадлежала прокурору города.
Измайлов и Свешников вышли из машин одновременно. А из микроавтобуса выбрался майор Саблин и ещё человек пять работников милиции.
Виктор Павлович растерялся: как докладывать, будучи в одних трусах?
Прокурор города приветливо поздоровался с ним, Саблин пожал капитану руку.
— Ну, рассказывайте, — попросил начальник горуправления.
Не успел Жур начать, как к ним подскочил лейтенант милиции, один из тех, кто приехал на «рафике» с Саблиным.
— Товарищ полковник, — взволнованно проговорил он, — там в воде что-то краснеет.
— Краснеет? — встревожился Свешников. — Где?
Лейтенант провёл начальство по берегу метров сто, остановился и показал:
— Вон, видите?
Действительно, в воде проглядывало алое пятно.
— Что это может быть? — спросил Свешников.
— Кровь? — высказал предположение Измайлов. — Но откуда она?
— Сейчас выясним, — сказал полковник.
— Разрешите мне? — попросил все ещё раздетый Жур.
— Действуйте! — кивнул Свешников.
Виктор Павлович снова бросился в воду. До подозрительного пятна было метров тридцать, и когда Жур подплыл к нему, то увидел под водой крышу автомобиля. Он был красный, судя по контурам — «Жигули»-фургон.
Глубина была метра три, не больше. Виктор Павлович нырнул, обогнул машину, ощупывая её руками. Дверцы были закрыты, стекла подняты.
Капитан вынырнул, набрал в лёгкие побольше воздуха и снова погрузился в воду. Он заглянул в салон и невольно отпрянул от машины: прямо на него были уставлены выпученные застывшие глаза.
Человек был мёртв.
Жур вылетел на поверхность как пробка, замахал тем, кто ждал его сообщения, и крикнул, что обнаружил машину с трупом. Вскоре от берега отчалила лодка с начальником угрозыска Саблиным и лейтенантом, который заметил подозрительное пятно.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Кирилл Александрович, машинально держась за раздутую щеку. — Мы ничего не поняли.
— Автомобиль, — показал вниз Жур. — На заднем сиденье покойник.
Лейтенант разделся и полез в воду, чтобы получше обследовать затонувшую машину. А Жур поплыл к берегу.
Сообщение капитана о страшной находке породило массу вопросов: как автомобиль мог оказаться в море? Почему далеко от берега?
— Что гадать, — сказал прокурор города. — Нужно прежде вытащить машину из воды, а уж потом размышлять.
Полковник тут же связался по радиотелефону из своей «Волги» с горуправлением внутренних дел и дал соответствующие указания.
Тем временем подоспели с катера, который занимался ловлей денежных знаков. В присутствии понятых стали считать выловленные купюры. Словом, шла обычная милицейская работа, однако все были наэлектризованы тем обстоятельством, что совсем рядом в воде находился автомобиль с мертвецом.
Прибыл трактор. Одновременно с ним приехал судмедэксперт Дьяков.
К затонувшей машине прицепили трос, и могучий тягач выволок автомобиль из воды. Государственный номер — иногородний.
— Барнаульский, — сказал сотрудник ГАИ, прибывший вместе с судмедэкспертом.
На заднем сиденье в машине находился труп мужчины, которому можно было дать от сорока пяти до пятидесяти пяти лет. Тело вынули и подвергли осмотру.
На покойнике была белая сорочка индийского производства, французский галстук, дорогой австрийский костюм-тройка, туфли западногерманской фирмы «Саламандра», а на руке массивные золотые швейцарские часы-хронограф «ролекс».
— Первоклассная машина, — не сдержал своего восхищения Дьяков и печально добавил: — Да, человек умер, а они продолжают идти…
На теле умершего не было обнаружено никаких ранений или следов борьбы. По мнению судмедэксперта, смерть скорее всего наступила в результате утопления.
— Когда наступила смерть? — спросил Дьякова прокурор.
— Часов пять — восемь назад, — ответил судмедэксперт.
— Почему так расплывчато? — удивился Измайлов.
— Труп находился в воде, и это сильно искажает картину, — пояснил Дьяков. — Все прояснится во время вскрытия. Как и причина смерти.
Осмотрели вещи утонувшего. В карманах брюк обнаружили только носовой платок, а в пиджаке — авторучку фирмы «Монблан» и гостевую карточку гостиницы «Прибой», самой лучшей в Южноморске.
Никаких документов, ни паспорта, ни служебного удостоверения.
— Варламов Ким Харитонович, — прочитал на гостевой карточке капитан Жур.
— В этой гостинице простые смертные не останавливаются, — заметил Измайлов и попросил капитана: — Виктор Павлович, будьте добры, свяжитесь с администрацией «Прибоя».
— Хорошо, Захар Петрович, — кивнул Жур.
Из машины начальника горуправления внутренних дел он позвонил в гостиницу. Ответил дежурный администратор. Жур назвал себя и спросил, проживает ли у них Варламов.
— Минуточку, — раздалось в трубке, а спустя некоторое время капитан услышал ответ: — Ким Харитонович Варламов прибыл позавчера и поселился у нас в номере тридцать семь.
— А более подробные сведения о нем есть?
— Конечно. Год рождения — тысяча девятьсот тридцать четвёртый, родился в Саратове, проживает в Москве на Кутузовском проспекте, — перечислял администратор. — Место работы — Министерство строительства, должность — заместитель министра.
— Как вы сказали? — переспросил капитан. — Вы не путаете?
— Заместитель министра, — подтвердил дежурный администратор и для пущей убедительности добавил: — Передо мной лежит «Листок прибытия», заполненный лично товарищем Варламовым.
Виктор Павлович поблагодарил и пошёл докладывать начальству.
— Замминистра?! — вырвалось у Свешникова. — Ничего себе! — Он посмотрел на прокурора города. — Что будем делать, Захар Петрович? Это же ЧП союзного масштаба! Я считаю, надо срочно поставить в известность горком партии и Москву.
— Сначала необходимо убедиться, что утонувший действительно Варламов,
— ответил Измайлов.
— Но ведь гостевая карточка… — возразил было начальник горуправления.
— Чего не бывает, — пожал плечами прокурор. — Карточка — не удостоверение личности. А вдруг она случайно попала в карман пиджака умершего?
— И что же вы предлагаете? — спросил Свешников.
— Вы пока продолжайте работать, а я поеду в гостиницу. Чтоб уж знать наверняка.
— Вы правы, конечно, — кивнул полковник. — Не стоит пороть горячку. Поднимем шум, а это другой человек.
— Если вы не возражаете, — добавил прокурор, — со мной поедет Виктор Павлович.
— Не возражаю, — ответил Свешников.
Измайлов и Жур отправились в город на машине прокурора. Захар Петрович молчал, озабоченный. Капитан не решался заговорить первым.
— Ну что, Виктор Павлович, — обратился наконец к нему прокурор, — подкинули нам загадку, не так ли? Как вы любите выражаться, рекбус…
— Это точно, — кивнул Жур. — Заковыристая задачка. Связаны ли деньги в море с этой машиной? Если Варламов из Москвы, почему он очутился в «Жигулях» с барнаульским номерным знаком? Причём на заднем сиденье?.. А где водитель?.. И как машина могла оказаться в море?
— Вот-вот, — кивал Измайлов. — Мистика какая-то! Нет никаких следов, указывающих, что машина съехала по берегу. Словно по мановению волшебника перенеслась.
— А вы обратили внимание, что за вещи в «Жигулях»? Портативная газовая плита, походные лопатка, топорик, мясная тушёнка, пакеточные супы, сапоги резиновые и вдруг — замминистра! Не сочетается.
— Если это действительно Варламов, — предостерегающе поднял палец прокурор.
— Я почти не сомневаюсь в этом. Посмотрите, как он одет! Все импортное, шикарное!
— Да, вещи дорогие, — согласился Измайлов. — Но это ещё ничего не доказывает. Дефицит у нас не только в распределителях и «Берёзке», но и у спекулянтов. Были бы только шальные деньги.
Здание гостиницы было старинное, помпезное, с колоннами и портиком. Швейцар, узнав прокурора города, предупредительно открыл перед ними двери. И не успели они войти в вестибюль, как к Измайлову тут же подошёл замдиректора гостиницы Зуев.
— Здравствуйте, здравствуйте, Захар Петрович, — произнёс он с дежурной радостью. — Давненько вы к нам не захаживали.
Измайлов даже забыл, когда был тут, хотя начальство, приезжая в Южноморск, останавливалось в «Прибое». Но Захар Петрович был не из тех, кто старался угодить руководству.
Он сдержанно ответил на приветствие.
— Какие дела привели вас к нам? — продолжал Зуев.
— Кое-что нужно выяснить, — уклончиво ответил Измайлов и добавил: — Позвольте, с вашего разрешения, воспользоваться вашим кабинетом?
— Ради бога! — Зуев гостеприимным жестом показал на двери кабинета.
Прокурор попросил пригласить для беседы дежурного второго этажа. Что и было незамедлительно сделано.
Дежурная была ещё довольно молодая женщина.
— У вас на этаже живёт Варламов, так? — спросил у неё Измайлов.
— Да, в тридцать седьмом номере, — насторожённо ответила дежурная. — А что, есть жалобы?
— Никаких жалоб нет, — успокоил её прокурор. — Скажите, Варламов сейчас у себя?
— Нету его. Понимаете, ушёл ещё вчера вечером и до сих пор не возвращался… Ключ так и лежит на месте.
Жур незаметно переглянулся с Измайловым. Прокурор продолжал расспрашивать дежурную:
— Вы помните, в котором часу ушёл Варламов?
— В девятом, — ответила женщина. — И, подумав, уточнила: — Да, где-то в восемь двадцать.
— Он вышел один или с кем-нибудь?
— Один, один, товарищ прокурор.
— И ещё… Как он был одет?
— Светло-серый костюм-тройка, галстук в косую красную полосу, бежевые полуботинки, — без заминки перечислила женщина.
— Ясно, — кивнул Измайлов.
И посмотрел на капитана.
— Чего уж там — он, — сказал Жур.
— Ну что ж, нам нужно осмотреть номер, где проживал Варламов, — поднялся прокурор и обратился к Зуеву: — Прошу и вас присутствовать при этом.
— Как прикажете, Захар Петрович, — развёл в полупоклоне руки замдиректора гостиницы.
Когда дежурная открывала ключом дверь тридцать седьмого номера, Измайлов на всякий случай предупредил её и Зуева:
— Так что, товарищи, прошу вас быть понятыми.
Принимая во внимание пост, который занимал Варламов, прокурор старался избежать огласки.
Номер был просто шикарный: спальня, кабинет и большая комната для гостей. Везде ковры, картины, хрусталь. На окнах — тяжёлые дорогие портьеры, мебель импортная в стиле ампир. В гостиной стоял цветной телевизор. Тоже цветной, но поменьше, был и в спальне.
Жур заглянул в бар-холодильник. Он был забит бутылками с напитками. Часть из них начата. На столе стояла ваза с фруктами, явно купленными на рынке: сочные груши, неправдоподобной величины гранаты, кисти крупного чёрного винограда.
Все комнаты был чистыми.
— Горничная полчаса как прибрала, — сказала дежурная.
— Это видно, — кивнул Измайлов, подумав, что не мешало бы поговорить и с горничной.
Осмотр начали с бельевого шкафа. Там висели на вешалках несколько сорочек, два костюма — тёмный, строгий и светло-коричневый. Были тут ещё кожаная куртка и плащ.
Во внутреннем кармане тёмного пиджака Жур обнаружил любительское удостоверение на право вождения автомобиля на имя Кима Харитоновича Варламова. Достаточно было мельком глянуть на фотографию, чтобы убедиться: покойный был Варламовым.
— Других документов нет? — спросил Измайлов, кладя книжечку на стол.
— Вроде нет, — ответил капитан.
— Странно… А служебное удостоверение, паспорт? А партбилет?
Старший оперуполномоченный осмотрел ящики стола, тумбочки, но тоже ничего не обнаружил.
— Может, в чемоданах? — высказал предположение прокурор.
Чемодана было два: один большой, жёлтой кожи. Другой — новенький «дипломат». В жёлтом лежала стопка носовых платков, носки, майки, трусы. На самом дне находилась целлофановая сумка с рекламой автомобиля «фольксваген», а в сумке — газетный свёрток.
Виктор Павлович вытащил сумку.
— Тяжёлая? — спросил Измайлов, видя, какие усилия приложил для этого капитан.
— Кирпичей, что ли, наложили? — удивился Жур, вытаскивая из сумки свёрток. Он раскрыл газету и присвистнул: в ней плотно лежали новенькие купюры ещё в банковской упаковке.
Директор гостиницы, который во время осмотра старался сохранять величественное спокойствие, не удержался.
— Ну и ну! — воскликнул он.
— Снова деньги… — пробормотал Измайлов.
Пересчитали, переписали номера на них. Денег в чемодане оказалось семьдесят пять тысяч.
Затем принялись за «дипломат». Его замок был закрыт на ключ, но Жур справился с ним при помощи гвоздика. В «дипломате» тоже были деньги, а также сафьяновая коробочка с изящным перстнем из жёлтого металла и зелёным камнем. Приглядевшись, на нем можно было различить искусно вырезанную лилию. Денег же в «дипломате» насчитали пятьдесят тысяч. Их номера тоже переписали.
А вот никаких документов ни в чемодане, ни в «дипломате» обнаружить не удалось.
Осталось осмотреть только ванную. Там не оказалось ничего примечательного. На вешалке висел банный халат, а на полочке возле зеркала лежала электробритва «Ремингтон».
— Будем составлять протокол? — спросил Жур.
— Да. Придётся вам быть за писарчука, — сказал Измайлов.
Все вернулись в кабинет. И только капитан устроился за письменным столом — раздался телефонный звонок. Капитан вопросительно посмотрел на прокурора.
— Возьмите, — сказал тот.
Виктор Павлович снял трубку.
— Ким Харитонович? — раздался в ней женский голос.
На миг капитан растерялся, что ответить? Врать не хотелось, но что-то подсказывало ему, что нужно начать игру.
— Слушаю, — проговорил он, стараясь придать своему голосу солидность.
— Ну слава богу! — продолжила женщина. — Я буквально обзвонилась к вам! Вчера вечером, сегодня с утра раз десять… Наверное, отдыхали?
— А что здесь люди делают?
Измайлов внимательно следил за капитаном, понимая, что телефонный звонок касался покойного и оперуполномоченный начал какую-то игру.
— Для вас, конечно, тут сплошные развлечения, забавы, а для других…
— вдруг стала напористо наступать женщина. Голос у неё был низкий, хриплый, какой бывает у пьющих и курящих женщин. — Короче, уважаемый Ким Харитонович, у меня к вам серьёзный разговор…
Жур подумал, что не мешало бы услышать этот голос и прокурору, и он сделал знак Захару Петровичу взять трубку параллельного аппарата. Измайлов понял его и вышел в гостиную.
— А кто со мной говорит? — строго спросил Жур.
— Ах, извините, забыла представиться. Я мама Светланы, Елизавета Николаевна…
— Ну и что? — с неопределённой интонацией произнёс Жур.
— Как это что?! — возмутились на том конце провода. — Вы хотите сказать, что уже забыли мою Светочку? Так? И как вы провели с ней позавчерашнюю ночь в вашем номере, тоже не помните?
«Вот это оборотец! — чертыхнулся про себя Виктор Павлович. — Интересно, это правда или шантаж?»
Он лихорадочно соображал, как среагировать на слова Елизаветы Николаевны, но ничего в голову не приходило.
— Слушаю… — совсем уж невпопад сказал он.
— Что вы заладили: слушаю, слушаю! — перешла на крик оскорблённая мать. — Не держите меня за идиотку! Света моя единственная дочь, и я не дам её в обиду! Ей ещё нет и шестнадцати лет! Понимаете? Воспользоваться детской наивностью и надругаться! О, я не посмотрю на ваш пост, слышите?!
— Конечно… — ответил капитан, стараясь придать своему голосу растерянность и озабоченность.
— Я буду драться за Свету! — грозно пообещали на том конце провода. — И не остановлюсь ни перед чем! Вы, наверное, уже хватились своих документов, не так ли?
— Ну?
— И не ищите! — торжествовала Елизавета Николаевна. — Они у меня! Да-да, паспорт, служебное удостоверение и партийный билет!
— Смотрите-ка, — хмыкнул капитан.
— Не верите? Могу прочитать все данные!
— Сделайте одолжение, — попросил Жур.
Мама Светы сообщила все подробности, касающиеся документов: где, когда и кем выданы, номера и даты.
— Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы представить, что произойдёт с вами, если я передам документы с соответствующими объяснениями министру или в ЦК! Уверяю: от вас останется одно мокрое место!
— Что вы хотите? — выдержав паузу, спросил капитан.
Теперь на некоторое время замолчала обиженная мать.
— У вас есть возможность замолить свою вину перед обманутой девочкой,
— наконец произнесла она с трагической интонацией. — Я имею в виду денежную компенсацию.
— Сколько вы хотите?
— Десять тысяч. Наличными и сегодня. В обмен на документы.
— Это слишком, — недовольно заметил Жур.
— Смотрите, вам куда дороже обойдётся, если я…
— Но у меня нет на руках такой суммы, — продолжал рядиться капитан.
— С вашими знакомствами не составит труда собрать эту сумму, — усмехнулась на том конце провода мамаша. — Только свистните!
— Хорошо, — снова немного повременив, сказал Виктор Павлович. — Как это можно сделать практически?
— Здание главпочтамта, надеюсь, знаете?
— Конечно.
— Перед ним фонтан… Я буду стоять возле дельфина.
— Как я узнаю вас?
— Среднего роста, шатенка, стрижка короткая, — стала объяснять Елизавета Николаевна. — На мне будет платье цвета электрик, в руках — чёрная лаковая сумочка и журнал «Здоровье». А в чем будете вы?
— Вы шутите, — строго произнёс капитан. — При моем-то положении! Нет, приеду не я, а мой товарищ…
— Понимаю, понимаю… Валентин Эдуардович, наверное?
— Кто-кто? — переспросил Жур, сделав вид, что не расслышал.
— Ну, Блинцов, что так старается для вас.
— Нет, приедет Владимир Иванович, — с начальственной ноткой произнёс Жур и описал внешность коллеги, которого решил послать на встречу. — Вы не сомневайтесь, он сам вас узнает. В котором часу желаете встретиться?
— В пять вечера.
— Лучше попозже.
— В семь вечера устроит?
— Вполне, — дал согласие Виктор Павлович. — Договорились.
В трубке послышались гудки. Измайлов, выглянув из гостиной, позвал Жура.
— Извините, товарищи, — сказал капитан понятым, — я вас оставлю на пару минут…
Зайдя к Измайлову, он с облегчением произнёс:
— Вот вам и разгадка, где документы Варламова.
— Думаете, у этой женщины? — недоверчиво посмотрел на него прокурор.
— Уверен, — кивнул Виктор Павлович. — Она приводила такие подробности из документов, которые вряд ли возможно выдумать. А вот в том, что она Елизавета Николаевна, и Светлана есть Светлана, тем более — что это мать и дочь — ой как сомневаюсь!
— Интересно, этот замминистра действительно был любителем клубнички или стал жертвой аферистов? — задумчиво произнёс Захар Петрович.
— Посмотрим, что скажет несчастная мать и погубленное дитя, — усмехнулся Жур.
— Да почему вы отодвинули свидание? — поинтересовался прокурор. — Ведь, как говорится, куй железо, пока горячо.
— Ну, во-первых, было бы несолидно предлагать встречу тут же. Да и подозрительно… Во-вторых, надо же подготовиться к этой встрече. В-третьих, я хочу подстраховать коллегу, который пойдёт на свидание, а мне надо встретиться со Сторожук. Помните потерпевшую из Трускавца?
— А как же! Вы так и не дали мне знать о результатах вчерашнего допроса.
— Пожалуйста, могу сейчас, — начал было капитан.
Но Измайлов, посмотрев на часы, остановил его:
— Некогда, Виктор Павлович, теперь уж в другой раз. Мне нужно срочно сообщить о смерти Варламова местному начальству и московскому. Вы тут заканчивайте оформлять бумаги и опечатайте номер. Я поехал в горком.
Старший оперуполномоченный вернулся к Зуеву и дежурной по этажу.
Звонки, звонки, звонки. Они раздавались непрерывно с утра в кабинете старшего следователя по особо важным делам при Прокуроре РСФСР Игоря Андреевича Чикурова. Вернее, с тех пор как он вернулся от начальника следственной части Прокуратуры республики Олега Львовича Вербикова, поручившего ему заняться расследованием гибели Варламова.
А покинул кабинет Вербикова Чикуров всего несколько часов назад.
Игоря Андреевича беспокоило высокое начальство: своё и умершего. Когда погиб Варламов, при каких обстоятельствах, это несчастный случай или насильственная смерть — вот какие вопросы сыпались на следователя. Но что он мог ответить, если сам знал о трагической кончине заместителя министра строительства всего ничего? Информация Чикурова базировалась на скупой телефонограмме из южноморской прокуратуры.
В кармане следователя уже лежало командировочное удостоверение, однако он пока ещё не знал, когда сядет в самолёт, улетающий к берегам Чёрного моря. Нужно было многое выяснить здесь, в Москве. В семье Варламова, в министерстве, у знакомых, словом, в «среде обитания». Как ни лапидарно было сообщение из Южноморска, в нем ясно читалось, что гибель Кима Харитоновича обставлена какими-то странными обстоятельствами. И желательно было прибыть на место происшествия, имея кое-какой багаж.
Но, с другой стороны, засиживаться в столице Чикуров тоже не имел права. Хоть мудрые говорят: поспешай медленно, но в следственном деле это неприемлемо.
Руководство предложило создать следственно-оперативную группу, включив в неё ещё одного следователя — из Главного следственного управления МВД СССР, а также оперуполномоченных уголовного розыска. Такое взаимодействие, по мнению начальства, помогло бы скорее «раскрутить» дело.
Идея хорошая. Но когда встал вопрос о формировании группы, оказалось, что с кадрами в министерстве не очень-то густо. Вернее, найти свободного человека просто невозможно.
Чикуров приехал в министерство, чтобы встретиться с людьми, с которыми ему предстояло работать по южноморскому делу. Зашёл к генералу и напомнил ему, что заместитель министра согласился выделить следователя и двух оперуполномоченных угрозыска.
— Выделим, конечно, а как же! — бодро начал генерал.
— Кого конкретно? — поинтересовался Игорь Андреевич.
Генерал стал чесать затылок, полез в какой-то список и вдруг озабоченно проговорил:
— Признаться, даже не представляю… Свободных нет.
— Как же так?
— А вот так, — вздохнул генерал. — Задыхаемся! Все в разгоне… Сам небось отлично осведомлён, сколько сейчас расследуется дел о хозяйственных преступлениях, о художествах в торговле! — Он с надеждой посмотрел на Игоря Андреевича: может, войдёт в положение?
Но Чикуров входить в положение не собирался.
Генерал покряхтел, поёрзал в кресле и предложил:
— Слушай, а может, возьмёшь кота в мешке?
— То есть? — не понял следователь.
— Есть один человек… Кичатов… Признаться, сам я даже в глаза его не видел. Он работал начальником следственного отдела в Рдянском областном управлении внутренних дел. Не знаю, за какие-такие грехи, но прежний министр его разжаловал и отчислил из органов. Год он где-то болтался. А вот новый министр восстановил Кичатова в звании и предложил работу в Москве.
— Редкий случай, — усмехнулся Игорь Андреевич. — Обычно у нас если уж поставят на человека отметину, так потом всю жизнь приходится отмываться. Тут же не только восстановили прежний статус-кво, но ещё, как я понимаю, с повышением. Интересно почему?
— Ей-богу, не знаю. Короче, берёшь его?
— Хорошо, рискну, — согласился Чикуров, понимая, что большего все равно вряд ли добьётся.
— Ладненько! — не смог скрыть облегчения генерал.
— Ну а насчёт сыщиков? — спросил Игорь Андреевич.
— Может, сам кого порекомендуешь? — задал встречный вопрос генерал. — Из тех, с кем тебе приходилось работать? — Он смотрел на следователя прямо-таки с отеческой лаской. — Видишь, какой даю тебе простор?
— Сразу как-то в голову не приходит…
— И меня выручишь, — добавил генерал.
— Хорошо, выручу, — улыбнулся Игорь Андреевич, вспомнив вдруг оперуполномоченного уголовного розыска капитана Латыниса. С Яном Арнольдовичем он работал по делу о березкинском экспериментальном научно-производственном объединении «Интеграл». Правда, теперь Ян Арнольдович уже был майором.
Его кандидатуру и предложил Игорь Андреевич.
— Не возражаю, — сказал генерал, записывая координаты Латыниса. — А вторым будет Жур, капитан из южноморского горуправления внутренних дел. По-моему, опер что надо! Занимался делом с самого начала, так сказать, стоял у истоков. Это раз! Очень толковый офицер — это два!
— Знаком вам по прежним делам? — полюбопытствовал Чикуров.
— Я с первых слов чувствую, каков работник, — не без гордости заявил генерал. — Жур понравился мне своим докладом. По телефону. Коротко, чётко, ясно!.. Ну вот, кажется, мы обо всем договорились?
— Почти, — кивнул следователь. — Последний вопрос: скоро появится кот из мешка? Ему нужно быть в Южноморске.
— Когда?
— Вчера, — с улыбкой ответил Игорь Андреевич.
— Хорошо, я сейчас же дам команду разыскать Кичатова, а уж он сам найдёт тебя. Лады?
— Лады, — сказал Чикуров и попрощался с хозяином кабинета.
Следующим пунктом, куда направился Чикуров, было Министерство строительства. Но только чтобы попасть в него, он потерял драгоценные полчаса: по служебному удостоверению его не пустили, потребовали заказать пропуск.
Когда наконец пропуск был выписан, Чикуров поднялся на лифте и вошёл в приёмную. Но министра на месте не было. Его помощник ясно дал понять следователю, что с «самим» Игорю Андреевичу встречаться незачем, достаточно побеседовать с кадровиком.
— В крайнем случае — с первым замом, товарищем Паршиным, — закончил помощник.
Чикуров выбрал «крайний случай».
Паршину было около пятидесяти. Голова гладкая, как биллиардный шар. И брови у замминистра были такие светлые, что разглядеть их можно было с большим трудом.
Замминистра встретил следователя чрезвычайно любезно. Узнав, что речь пойдёт о Варламове, Паршин позвонил в отдел кадров и попросил принести личное дело погибшего, что и было тут же сделано.
— Что же все-таки произошло с Кимом Харитоновичем? — спросил он.
— Вот это мы и выясняем, — ответил Чикуров, доставая бланк протокола допроса свидетеля.
Паршин, покосившись на бланк, заметил:
— Вначале у вас было желание просто поговорить, а теперь, как я вижу, намереваетесь допросить меня?
— Таков порядок, — объяснил следователь. — Я должен зафиксировать нашу беседу соответствующим образом.
Любезная улыбка исчезла с лица замминистра. Он строго посмотрел на Чикурова, словно хотел спросить, согласован ли вопрос, и если да, то с кем? Но раздумал и, дав указание секретарю ни с кем не соединять его по телефону, сухо произнёс:
— Что вас интересует?
— Расскажите, пожалуйста, о Варламове.
Паршин раскрыл папку с личным делом умершего, и потекли официальные округлые фразы. Схематично биография Варламова выглядела так: школа, институт, затем планомерное восхождение от мастера участка через все промежуточные начальственные должности до заместителя министра.
Заключительным аккордом прозвучало:
— Окончил народный университет марксизма-ленинизма, являлся активным пропагандистом. Идейно выдержан, в быту замечаний нет.
«Да, биография выглядит образцово-показательно, хоть сейчас в хрестоматию», — подумал Чикуров.
— Знаете, хотелось бы услышать, что он за человек? Ну, какой у него характер? — спросил следователь.
— Характер… — повторил замминистра, поглаживая лысый череп. — Какое теперь имеет значение? — Он вздохнул. — Кима Харитоновича нет, и копаться…
— Поймите, я не ради праздного любопытства! Варламов погиб при довольно загадочных обстоятельствах. Для установления истины все важно, все имеет значение! — убеждал Игорь Андреевич, жалея, что поспешил с бланком. Можно было оформить протокол и после.
— Говорите, загадочных? — переспросил Паршин.
— Вот именно, многое пока неясно. — Следователь демонстративно отложил ручку, как бы приглашая говорить «не для протокола». — Как давно вы знаете Кима Харитоновича?
— Давненько. С того времени, когда он ещё начальником СМУ работал. — Замминистра немного расслабился, откинулся на спинку кресла. — На него всегда можно было положиться. Если скажет «сделаю», то разобьётся в лепёшку, но своё слово сдержит. Никогда не ныл, не жаловался на так называемые объективные обстоятельства, что поставщики подводят и так далее. Держал подчинённых во! — Паршин показал крепко сжатый кулак. — Его подразделение всегда было в передовых. Ну, естественно, премии, дополнительные квартиры, путёвки в санатории, загранку и прочие блага. Зато уж с лодырями и разгильдяями не церемонился! Гнал взашей!
— Значит, имел недоброжелателей? — уточнил Чикуров.
— Недоброжелателей, — усмехнулся Паршин. — Мягко сказано! Тут премию урежешь или лишишь «тринадцатой зарплаты» — злобы не оберёшься. А если уволишь пьяницу или лентяя — враг на всю жизнь!
— Вы можете назвать кого-нибудь конкретно? — спросил следователь.
— Конкретно не знаю, — ответил Паршин. — Но что Варламову старались насолить, это факт. Анонимки строчили и министру, и в Совмин, и в ЦК, что, мол, груб. А стали проверять — просто требователен. И правильно: не будешь спрашивать с подчинённых, плана не видать как своих ушей. А план, как вы знаете, для нас закон!
— Ещё в чем обвиняли Варламова анонимщики? — продолжал расспрашивать Чикуров.
— Что с его ведома был принят объект, который не был закончен.
— Подтвердилось?
— К сожалению, да, — кивнул Паршин и добавил: — Но когда это было? Три года назад. Три! — поднял он палец. — Тогда почти все объекты сдавали подобным образом! Но не по своей воле, сами отлично знаете…
— Липа есть липа, — пожал плечами Игорь Андреевич.
— А у вас её мало было? — заметил с усмешкой Паршин. — Ходили в безгрешных. Прямо ангелы. А что теперь пишут о правоохранительных органах? Такого-то арестовали ни за что ни про что, такого-то, наоборот, освободили от наказания, а ему место в Сибири! А в Белоруссии и вовсе отчубучили: оказывается, расстреляли невиновного, а настоящий убийца продолжал гулять на свободе. — Он переложил личное дело Варламова с одного места на другое.
— Так что, уважаемый товарищ следователь, ещё не знаем, чья липа, как вы изволили выразиться, страшнее.
— Любой обман страшен, — согласился Игорь Андреевич. — И у вас, и у нас. Везде! Но продолжим о Киме Харитоновиче. За что ещё его критиковали?
— Ко всему цеплялись, — махнул рукой Паршин. — Что было и чего не было.
— И относительно женщин? — закинул удочку следователь, вспомнив сообщение из Южноморска, что погибший попал в какую-то историю с местной проституткой.
— Вы имеете в виду выступление инженера Золотухина на партсобрании? — задал встречный вопрос замминистра.
«Кажется, попал в точку», — понял следователь.
— Хотелось бы знать об этом подробнее, — сказал он.
— Пожалуйста, — откликнулся замминистра. — Хотя до сих пор не знаю, чем оно больше продиктовано, политической безграмотностью или же личной корыстью… Понимаете, коммунисты министерства собрались сразу после двадцать седьмого съезда партии. Собрались, чтобы послушать его делегата, нашего министра. Сообщение было очень интересное. Чрезвычайно! Что вам говорить, съезд исторический… Какие дебаты начались на собрании! Выступали страстно, ярко, полемически. И вдруг поднимается на трибуну Золотухин. Начал он тоже по существу, но потом такое понёс! Ей-богу, стыдно за него было. В зале росло возмущение, а секретарь парткома, который вёл собрание, вместо того, чтобы одёрнуть Золотухина, осадил тех, кто справедливо негодовал по поводу инсинуаций инженера.
— В чем именно выражались эти инсинуации? — уточнил Чикуров.
— Начнём с того, что один из самых главных вопросов перестройки — вопрос кадровый. Так?
— Разумеется, — кивнул следователь.
— Что требует партия? — патетически продолжал первый заместитель министра. — Смело выдвигать молодёжь, а также людей талантливых и компетентных. И между прочим, добавил бы я ещё — лично скромных. Да-да, это важнейшее качество для руководителя! И вот Золотухин прямо обвинил Варламова, что тот продвинул на должность замначальника отдела Стеллу Григорьевну Ростоцкую, а он, Золотухин, инженер-экономист с двадцатилетним стажем, уже восьмой год сидит на должности старшего экономиста. Видите ли, его возмущало, что Ростоцкая всего за два года прошла путь от технического секретаря до замначальника отдела! Но о том, что Стелла Григорьевна блестяще закончила заочное отделение института и получила диплом с отличием, Золотухин не обмолвился ни словом.
— Простите, — перебил Паршина Игорь Андреевич. — У кого была Ростоцкая техническим секретарём?
— У Варламова, у кого же! И эти недостойные намёки Золотухина не к лицу коммунисту. Выглядел некрасиво он, а не Варламов! Если уж говорить точно, то Стелла Григорьевна была переведена в отдел просто экономистом. В чем же вина Кима Харитоновича? Что у Ростоцкой голова на плечах? Что она знающий, энергичный работник? Кстати, куда более подходящий на должность руководителя, чем Золотухин! А назначили её заместителем начальника отдела потому, что прежний ушёл на пенсию. Поговорите с людьми в отделе — за Стеллу Григорьевну все проголосуют обеими руками!
— А кто курирует отдел?
— Я понял ваш вопрос, — сказал Паршин. — Не Варламов, другой зам.
— Ясно, — кивнул Чикуров. — Ну и что Золотухин?
— Ушёл из министерства, — сухо ответил Паршин. — Ким Харитонович, уверяю вас, тут ни при чем.
«Надо бы узнать, где теперь Золотухин, — подумал следователь. — Встретиться с ним необходимо. Не мешало бы также поговорить с Ростоцкой».
— Ещё вопрос, — продолжил Игорь Андреевич. — Каково материальное положение Варламова?
— Откуда мне знать? — удивлённо вскинул бровки Паршин. — Могу лишь сообщить вам, что оклад у него пятьсот рублей.
— А помимо оклада других доходов нет?
— Мне известно, что Ким Харитонович иногда выступал по радио, на телевидении. Писал по заказу статьи для газет и журналов.
— Вы имеете в виду гонорары? — уточнил следователь.
— Да, — подтвердил замминистра. — А почему, собственно, вы заговорили об этом?
— Потому что в его номере в гостинице обнаружили сто двадцать пять тысяч рублей, — спокойно ответил Чикуров.
— Сто двадцать пять тысяч?! — так и подскочил Паршин. — Нет, нет! Что-то не то!
— Да, — подтвердил Игорь Андреевич. — В чемодане лежали и в «дипломате».
— А чемодан и «дипломат» его? — все ещё сомневался Паршин. — Может, кто подменил? У меня однажды в аэропорту перепутали кейс. Жена открыла — и в обморок! Представляете, — хихикнул Паршин, — там была «неделька», ну, женские трусики, импортный набор, и прочие предметы дамского туалета.
— Увы, все принадлежало Варламову, — разочаровал собеседника Игорь Андреевич.
— А что, если это провокация? — высказал новое предположение Паршин. — Или вы исключаете?
— Почему же, — пожал плечами Чикуров. — Все может быть.
— Господи, сто двадцать пять тысяч! — не мог успокоиться замминистра.
— Я таких денег сроду в руках не держал, хотя ворочаю миллионами! На бумаге, естественно… Откуда они у Кима Харитоновича?
— Меня это тоже интересует, — усмехнулся Игорь Андреевич и задал очередной вопрос: — Скажите, с какой целью Варламов поехал в Южноморск?
— Служебная командировка.
— Это я знаю, Ким Харитонович указал в «листке прибытия» в гостинице. Я имею в виду, чем она вызвана?
— Время такое, Игорь Андреевич, новый стиль руководства, — ответил Паршин. — Раньше руководили, не выходя из кабинета. — Он кивнул на телефонные аппараты, выстроившиеся на столике у кресла. — Это были и глаза, и уши, и руки. А теперь надо быть в самой жизни, в самой гуще! Непосредственно там, где дело. А в Южноморске у нас важный объект — санаторный комплекс. По последнему слову науки и техники. Главное — все для целой семьи: и отдых, и лечение, и спорт. Даже учёба для детишек! Возглавляет стройку Блинцов. Можно сказать, один из наших маяков! Руководитель, на которого можно положиться закрыв глаза! Все шло отлично — перевыполнял, опережал график, переходящее Красное знамя не уступал никому. И вдруг — бац — полгода назад статья в газете «Труд»: Блинцов игнорирует профком, администрирует, зажимает демократию! Мы разобрались, Блинцов обещал учесть. А тут месяц назад снова выступил «Труд». Теперь уже фельетон. Главный герой — все тот же Блинцов! Вот мы и решили командировать Кима Харитоновича, чтобы разобрался. За мужика обидно, я имею в виду Блинцова: всего три года осталось до пенсии, подумал бы, как достойно уйти на заслуженный отдых, ан нет…
— Вы говорите, фельетон появился месяц назад?
— Да.
— А Варламов полетел разбираться только сейчас. Почему?
— И так еле вырвался, — вздохнул замминистра. — Дел — это что-то невообразимое! Ежедневно сидим до десяти — двенадцати ночи! Я уже не помню, когда в субботний день был с семьёй. Да и воскресенье частенько приходится прихватывать. — Он печально улыбнулся. — Не представляю, как ещё нас жены терпят!
— Раз уж вы заговорили о жёнах, семье… Как у Варламова в этом отношении?
— По-моему, все нормально, — немного помедлив, ответил Паршин. — Во всяком случае, никаких сигналов от жены Кима Харитоновича не поступало.
Ответ насторожил Чикурова: когда между супругами все хорошо, об этом говорят другими словами. Он хотел расспросить подробнее, но зазвонил телефон. Белый, с гербом Советского Союза.
Замминистра поспешно схватил трубку. Разговор был очень короткий, и, когда он закончился, Паршин сказал:
— Извините, больше не могу уделить вам ни минуты! — Он нажал клавишу селектора и приказал: — Машину!
— Хорошо, Сергей Иванович, — ответил секретарь.
Хозяин кабинета вышел из-за стола.
— До свидания, — сказал он, протягивая руку следователю.
— До свидания, — ответил Чикуров и добавил: — Если у меня возникнут ещё вопросы, я, с вашего разрешения…
— Да-да, — перебил Чикурова Паршин. — Звоните.
Игорь Андреевич вышел в приёмную. Настенные часы показывали без четверти семь.
«Жаль, рабочий день кончился, — расстроился он. — А так надо было бы встретиться сегодня с Ростоцкой…»
На всякий случай Чикуров спросил у секретаря замминистра, какой у Стеллы Григорьевны телефон.
— Внутренний или городской? — уточнила секретарь.
— Давайте оба.
Он все же набрал номер замначальника отдела — чем черт не шутит?
— Ростоцкая слушает, — раздалось в трубке.
Чикуров назвал себя и попросил разрешения зайти.
— Я вас жду, — сказала Стелла Григорьевна.
Её кабинет находился на самой верхотуре. Из окна разворачивалась панорама Москвы. Ростоцкой было лет тридцать. Не очень высокая, но стройная, ладная, она сидела за столом над ворохом деловых бумаг. Какие-то сметы, отчёты, гроссбухи…
— Извините, что я задерживаю вас в неурочное время… — начал было Игорь Андреевич после взаимного представления, но Стелла Григорьевна прервала его.
— О чем вы! — усмехнулась она. — Не помню уже, когда уходила в шесть.
— Так много дел?
— Дел мало, бумаг много, — вздохнула Ростоцкая. — И самое страшное — их количество растёт не по дням, а по часам!
— А как же борьба с бюрократизмом? — спросил Чикуров. — Вернее, с пресловутым бумажным девятым валом?
— Борьба сама по себе, бумажный вал — сам по себе, — снова усмехнулась Стелла Григорьевна. — Вроде говорим все правильно, принимаются нужные постановления, но что-то не срабатывает. — Она спохватилась. — Извините, вас конечно же интересует не это. Позвольте спросить, чем обязана визиту?
— Я расследую дело о гибели Варламова.
— Боже мой, просто не верится!
Стелла Григорьевна прижала ладони к лицу, некоторое время сидела так, не произнося ни звука, потом достала платок, промокнула им уголки глаз.
— Это ужасно! — сказала она дрогнувшим голосом. — И так несправедливо: погибнуть в расцвете лет. — Она закурила. — Ким Харитонович мог сделать столько полезного, хорошего! Скажите, как это произошло?
— Увы, — развёл руками Игорь Андреевич. — Пока неизвестно.
— Неизвестно? — удивилась Ростоцкая. — Странно… Я вчера смотрела фильм, там убийство раскрывают за сутки!
— Выходит, у меня ещё есть шансы, — невесело улыбнулся Игорь Андреевич. — Я принял дело к своему производству… — он посмотрел на часы,
— шесть часов сорок минут тому назад. И посему не будем терять драгоценные секунды.
Ростоцкая кивнула, мол, к вашим услугам. Но когда Чикуров достал бланк протокола допроса свидетеля, лицо у неё так же, как и у Паршина вытянулось. Но Стелла Григорьевна ничего не сказала, лишь насторожилась.
Следователь занёс её данные в протокол. Ростоцкой шёл тридцать первый год. Незамужняя.
— Давно знаете Варламова? — спросил Чикуров.
— Четырнадцать лет… Подумать только, почти половину сознательной жизни! Я ведь пришла к нему работать сразу после школы. Ким Харитонович был тогда начальником главка. А потом уже его назначили замминистра. Два последних года у него другая секретарша. А я — вот. — Она показала на стены кабинета.
— Что можете сказать о Варламове?
— Так он меня, можно сказать, в люди вывел! В институт заставил поступить! Прекрасный был человек, что и говорить. — Она снова вздохнула. — Партиец не на словах, а на деле. Принципиальный, требовательный. Но это, как вы сами понимаете, не всем нравится.
Когда Чикуров поинтересовался, что и кого Ростоцкая имеет в виду, она стала говорить об анонимках, о пресловутом партсобрании и Золотухине. Игорю Андреевичу пришлось выслушать почти то же, что он узнал от первого заместителя министра.
— Стелла Григорьевна, — спросил Чикуров, когда она замолчала, — вы, как бывший секретарь, видимо, довольно хорошо были осведомлены о жизни Кима Харитоновича. Скажите, могли его убить?
— Убить? — переспросила Ростоцкая. — За что?
— Подумайте… И если да, то кто?
— Даже представить себе не могу. Золотухин исключается. Вы не можете себе представить, как он переживал, что его занесло на том собрании! А кто другой — не знаю. Да и не верю…
Следователь осторожно спросил, известно ли ей, какие были отношения в семье Варламова. Ему показалось, что вопрос этот смутил Ростоцкую. Однако она быстро взяла себя в руки.
— Ким Харитонович, насколько я помню, никогда слова плохого не говорил ни о жене, ни о детях. Сам был очень внимателен и заботлив к ним. Настоящий муж и отец! — сказала Стелла Григорьевна. — Правда, относился к своим без лишней сентиментальности.
Затем разговор коснулся увлечений Варламова.
— Какие там увлечения! Работа отнимала у него все время и силы. Единственно, что он любил, так это водить машину. Заядлый автомобилист. Шутил, что в нем умирает классный автогонщик. Говорил, что за рулём отдыхает телом и душой.
— Когда же он успевал, если, как вы говорите, был донельзя загружен работой?
— Из дома — на работу, с работы — домой… У него была собственная «Волга» с форсированным двигателем.
— Но ему же полагалась персональная? — удивился следователь.
— Была персональная и два сменных шофёра, но Ким Харитонович ею не пользовался. Все считали, что чудит. Другие норовят за счёт государства, сами эксплуатируют да ещё их жены, дети. А Варламов даже в Совмин, ЦК или на объекты ездил на собственной.
— Что же делали его шофёры?
— Козла забивали, — ответила Ростоцкая и вдруг заволновалась. — Я думаю, эта страсть к быстрой езде и погубила его! Я как-то сидела с ним в машине, так столько страху натерпелась! Всю дорогу глаза закрывала!
Сообщение Ростоцкой было весьма важным.
«А может, это действительно явилось причиной несчастного случая?» — подумал Чикуров.
Он колебался, стоит ли затрагивать вопрос о тысячах, найденных в чемодане погибшего, и в конце концов решил не говорить об этом с Ростоцкой. Происхождение денег пока неизвестно, и в случае если они принадлежат кому-нибудь другому, на честь Варламова может быть брошена тень.
Памятуя о том, что «Жигули», в которых обнаружили тело замминистра, зарегистрированы в Барнауле, Чикуров спросил у Ростоцкой, были ли у Варламова там друзья или знакомые.
— По службе, видимо, были… Вернее, подчинённые. А что касается друзей, таких не знаю, — ответила Стелла Григорьевна.
Следователь закончил допрос, оформив его как положено. На улицу он вышел около девяти часов вечера.
Подъезжая к дому, Игорь Андреевич вдруг вспомнил звонок жены. Надя позвонила, когда его вызвал шеф, и Игорь Андреевич спешил.
— Постарайся сегодня не задерживаться, — только и успела сообщить жена.
Чикуров пообещал, но забыл про это. И теперь мучился, что не перезвонил домой и не узнал, для чего нужно было прийти с работы вовремя.
Когда Игорь Андреевич переступил порог своей квартиры, то в открытую дверь большой комнаты увидел праздничный стол.
— Наконец-то дедуля пожаловал! — раздался звонкий голос Нади.
Чикуров не понял, журит его жена или же искренне радуется. Он заглянул в комнату. За столом сидели родственники. Сын Нади Кеша, его жена Альбина, родители Альбины, а также тёща Игоря Андреевича Варвара Григорьевна. Чикуров поздоровался с гостями. Ему дружно ответили.
— Заждались вас, дорогой зятёк, — с ноткой осуждения произнесла тёща.
— Минуточку, только руки вымою с дороги, — сказал он.
Но тут поднялся из-за стола незнакомый человек, которого Чикуров видел со спины, и вышел в коридор. Прикрыв за собой дверь, незнакомец представился:
— Подполковник Кичатов Дмитрий Александрович, следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД СССР!
Он с каким-то особым удовольствием назвал свою должность и звание.
— Значит… вы? — несколько растерялся Игорь Андреевич, размышляя, как тот очутился в его доме. — Честно признаться, думал, что мы с вами увидимся только завтра.
— Понимаю, понимаю, — смутился Кичатов. — У вас торжество, а я…
— Нет, нет, я рад, что вы так оперативно разыскали меня, — успокоил его Чикуров. — Пойдёмте поговорим.
Чикуров заглянул во вторую их комнату — там спала Анжелика, девятимесячная внучка. В третьей, которую занимали Игорь Андреевич с женой, был страшный раскардаш. Оставалась кухня.
— Не возражаете, если мы тут уединимся? — открыл в неё дверь хозяин.
— Конечно, конечно, — закивал подполковник. — Я ведь почему у вас… Меня ввели в курс дела и сказали, что нужно срочно лететь в Южноморск.
— Совершенно верно, — подтвердил Игорь Андреевич, усаживая Кичатова на единственную табуретку, а сам устраиваясь на подоконнике.
— Я уже и билет взял… Вылет ночью, в четыре пятьдесят.
— Когда же вы успели? — удивился Чикуров.
— Приказ обо мне был подписан в шестнадцать сорок. В семнадцать двадцать мне сказали, что я включён в вашу следственно-оперативную группу. Я уговорил кадровика выписать удостоверение личности. А то как же? В командировке и без удостоверения! Совсем негоже.
— Это верно, — улыбнулся Игорь Андреевич.
— Ну я и помчался в кассу Аэрофлота. Потом звонил к вам в прокуратуру
— вас не было. Я решил сюда…
— Все правильно, — одобрил его действия Чикуров.
Игорь Андреевич приглядывался к коллеге, с которым ему предстояло работать. Дмитрию Александровичу было лет сорок. Высокий, широкоплечий. Над крупными, резко очерченными губами — густые усы, в тёмных волосах — седина.
Чикуров подумал, что пережить подполковнику, видимо, пришлось изрядно, отсюда и эта пороша на висках. Он вспомнил, с какой гордостью Кичатов представился следователем МВД СССР…
— Понимаете, когда я позвонил к вам домой, — продолжал оправдываться Дмитрий Александрович, — жена ваша и словом не обмолвилась, что у вас сегодня крестины внучки.
— Что? — округлил глаза Чикуров. — Какие крестины?
— Крестины, по-моему, бывают одни, — улыбнулся гость.
— Вот народ! — Чикуров соскочил с подоконника, нервно прошёлся по кухне. — Я думал, тёща пошутила, когда сообщила, что будет крестить Анжелику. Честное слово! Самое удивительное, что никто из родных не верит ни в бога, ни в черта!
— Выходит, вы и сами не знали? — спросил подполковник.
— В том-то и дело! Тоже мне, сюрприз преподнесли! — расстроился Игорь Андреевич.
Ему было страшно неудобно. Во-первых, потому что родственники не послушались его, во-вторых, — об этом узнал посторонний человек. И какое у него сложится мнение об Игоре Андреевиче, ещё неизвестно.
«Ладно, — взял он себя в руки. — Самое нелепое сейчас — это что-то объяснять, слать громы и молнии на голову тёщи или, не дай бог, оправдываться. Если Кичатов не лишён ума и деликатности, сам поймёт. А ежели дурак и ханжа, нечего перед ним бисер метать».
— Давайте лучше о деле, — сказал Чикуров. — Значит, перво-наперво по приезде в Южноморск свяжитесь с капитаном Журом из горуправления внутренних дел…
— Я с ним сегодня разговаривал.
— Ну, Дмитрий Александрович, вы прямо на ходу подмётки рвёте, — ухмыльнулся Чикуров. — И что поведал вам Жур?
— Есть кое-что новенькое. Красные «Жигули»-фургон, в которых нашли Варламова, принадлежат жителю Барнаула Привалову, администратору вокально-инструментального ансамбля «Крылья молодости».
— Самого Привалова отыскали?
— А он и не прячется, — усмехнулся подполковник. — Находится с ансамблем на гастролях в Западной Сибири, у нефтяников Тюмени.
— Странно, — покачал головой Чикуров. — Машина на берегу Чёрного моря, а владелец — за тысячи вёрст!
— Капитан Жур сказал, что он связался с работниками УВД Тюменской области, чтобы те выяснили, где сейчас ансамбль, и допросили Привалова.
— Ещё что?
— Неподалёку от того места, где утонул Варламов, был найден киноартист Великанов. Без сознания, с тяжёлой травмой черепа.
— Это тот, что снялся в картине «Выстрел на рассвете»? — уточнил Игорь Андреевич.
— Он, — подтвердил Кичатов. — Находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние крайне серьёзное.
— Прекрасный актёр! Между прочим, он мне больше нравился на сцене, чем на экране. Вы не видели его в театре?
— Увы, Игорь Андреевич, в Москве я бывал наездами и на короткий срок. До театров, как говорится, руки не доходили.
— Надеюсь, наверстаете теперь? — улыбнулся Игорь Андреевич.
— В обязательном порядке. Жена моя завзятая театралка. Да и меня приохотила.
— Вместе перебрались? — полюбопытствовал Чикуров.
— Что вы, она с детьми ещё в Рдянске.
— Рады небось, что будут жить в столице?
— Как вам сказать… Лариса — жена — не хочет. В Рдянске у неё хорошая работа, авторитет. А вот мои сорванцы в восторге! Пацанята ещё, новизна привлекает. И перед сверстниками форсят. — При воспоминании о семье лицо Кичатова буквально засветилось. — А вообще у меня славная жена. Да и мальчишки… — Он вдруг застыдился своей откровенности, смущённо прокашлялся и сказал: — Вот такие новости из Южноморска…
— Какая же все-таки связь между гибелью Варламова и Великановым? — задал вопрос Игорь Андреевич не то себе, не то собеседнику.
Кичатов развёл руками.
— Ну что ж, Дмитрий Александрович, надеюсь, ваше присутствие в Южноморске поможет ускорить дело. Как только сориентируетесь на месте, тут же звоните. В прокуратуру, сюда — все равно. — Он посмотрел на часы. — Больше не буду задерживать, вам надо поспать хоть пару часов перед отлётом. Вы остановились в гостинице?
— Да, но как только взял билет, тут же рассчитался, — ответил Кичатов.
— Чемоданчик со мной. Сейчас поеду прямо на центральный аэровокзал, а там как-нибудь перекантуюсь…
Игорю Андреевичу стало неловко, что не может даже предложить раскладушку: её буквально некуда поставить.
— Вот черт! — взъерошил он волосы. — Рад бы вас оставить, но сами видите…
— Не переживайте, Игорь Андреевич, — принялся успокаивать Чикурова гость. — Все будет тип-топ! У меня железный организм: было бы где присесть, тут же задаю такого храпака, пушкой не разбудишь. В аэровокзале одно-то сиденье найду!
Вышли в коридор. Чикуров предложил посидеть за столом, но подполковник отказался.
— Такси возьмите, — посоветовал Чикуров.
Кичатов замялся.
— Взял бы с удовольствием, если… — Он виновато улыбнулся. — Если одолжите десятку.
— Ради бога! — полез в карман Игорь Андреевич.
— Понимаете, я ведь не успел получить в бухгалтерии под отчёт…
— Как? — рука Чикурова с красненькой застыла в воздухе.
— Смотался за билетом, вернулся в министерство уже в половине седьмого… Поэтому и лечу без командировочного удостоверения и денег. Обещали завтра же подослать.
— Тогда десять вам мало, — забеспокоился Игорь Андреевич. — Вот ещё четвертной, — присовокупил он к десятке двадцать пять рублей. — Хватит?
— Спасибо, вот так! — показал выше головы Дмитрий Александрович и спрятал деньги в бумажник.
Чикуров вышел с ним на улицу, помог поймать такси. Пожелав подполковнику счастливого полёта, Игорь Андреевич медленно побрёл назад.
«Все-таки Аэрофлот — это вещь!» — подумал Кичатов, когда огромный аэробус оторвался от взлётной полосы Внукова.
Самолёт, пробившись сквозь свинцовый слой туч, вырвался в светлое небо. И теперь уже солнце не отпускало их до самого Южноморска.
Через два часа «Ил-86» зашёл на посадку со стороны моря. Глядя на город, подковой расположившийся у подножья горы, Дмитрий Александрович вспомнил, как приехал в это райское место в первый раз. С тех пор минуло пятнадцать лет.
Взгрустнулось по тем прекрасным временам, когда он, ещё молоденький лейтенант милиции с такой же юной женой, прибыл в Южноморск в свадебное путешествие. Кто посоветовал им отправиться сюда, Кичатов уже не помнил. Деньги дали родственники, его и Ларисы. Однако провести медовый месяц среди пальм и кипарисов им не довелось: сбежали. Путёвки им достали на турбазу, причём в разные номера, ей — в женский, ему — в мужской. Это были огромные комнаты, где помещалось десятка полтора человек. О каком уединении могла идти речь! Они по вечерам бродили или сидели, обнявшись, в парке, словно влюблённые школьники. А когда их однажды пристыдили дружинники, терпение лопнуло: молодожёны плюнули на деньги, истраченные на путёвки, на всю эту ненужную им красоту, и махнули к родителям Ларисы в кубанскую станицу.
Ах, какие там были жаркие ночи! До сих пор он помнит запах свежего сена и яблок…
Через девять месяцев у Кичатовых родился первенец, Кирилл, названный в честь деда, отца Ларисы…
А лайнер уже подруливал к зданию аэропорта.
Когда вчера подполковник говорил с капитаном Журом, тот сказал, что обязательно встретит следователя. Дмитрий Александрович стал было отговаривать, но оперуполномоченный угрозыска и слышать ничего не хотел.
Кичатов вспомнил, как сам встречал коллег из Москвы, и подумал: теперь вот и он столичная шишка, надо привыкать…
Капитана Дмитрий Александрович узнал сразу по его же собственному описанию: чуть ниже среднего роста, коренастый, круглолицый, а глаза голубые-голубые, как у Ларисы. И даже «Известия» не надо было Виктору Павловичу держать в руках, тем более что у трапа, кроме Жура, никого не было.
Как только подполковник сошёл на землю и поздоровался с Журом, к ним подкатила «Волга» с антенной на крыше. Сели в машину и поспешили в город.
— Как долетели, Дмитрий Александрович? — вежливо поинтересовался капитан.
— Прекрасно! — ответил гость, любуясь изумительным видом, открывающимся по обе стороны шоссе.
— По телевидению передают, что в Москве погода неважная, — продолжал Жур.
— Отвратительная! — подтвердил Кичатов. — Прямо не верится, что где-то может быть солнце и лето! — показал он вокруг.
— Понежитесь немного в тепле.
— Да нежиться, собственно говоря, некогда. — Следователь дал понять, что «неофициальная часть» разговора окончена. — Как состояние артиста Великанова?
— Все ещё без сознания, — ответил Жур.
— Вы тогда, по телефону, в двух словах, а теперь, пожалуйста, расскажите подробнее, как его обнаружили, кто и где?
— Нашли его двое отдыхающих студентов. Между прочим, будущие медики. Парень и девушка поехали за город…
— Влюблённые, что ли? — полюбопытствовал Кичатов, вспомнив своё пребывание в Южноморске с молодой женой.
— Ну да! Решили уединиться, а место у Верблюда, как прозвали гору, для этого самое подходящее, — рассказывал Виктор Павлович. — Шли вдоль берега и увидели, что у самой кромки воды лежит человек. Подумали, пьяный. Присмотрелись — на голове кровь… Пульс бьётся… Парень остался с ним, а девушка побежала звонить в «Скорую» и по 02. Врачи и наши работники приехали очень быстро. Санитарка «Скорой» как увидела, так и закричала, что это же знаменитый артист! Действительно, в кармане у Великанова нашли паспорт, членскую книжку Союза кинематографистов, билет на самолёт Таллинн
— Москва — Южноморск. Ну, отвезли в больницу, в реанимацию, где он сейчас и находится.
— Когда Великанов прилетел сюда?
— Три дня назад.
— Где остановился?
— В том-то и дело, что мы обзвонили все гостиницы, пансионаты, санатории и турбазы, но нигде артист не значится в проживающих.
— Может, он снимал жильё у частника? Или к кому-то приехал?.. Должен же он где-то оставить вещи!
— В принципе — да, потому что при нем ничего не было. И денег в кармане — одна мелочь, что-то около рубля.
— А что, если его ограбили и бросили у моря?
— Не исключена и такая возможность, — ответил Жур.
— Почему он летел из Таллинна, а не из Москвы? — продолжал расспрашивать Кичатов. — Выяснили?
— Да, — кивнул Жур. — Великанов участвовал там в съёмках фильма. У режиссёра… — Он достал записную книжечку, глянул в неё. — У режиссёра Лежепекова.
— Ну и что тот говорит?
— Этот самый Лежепеков даже не знал, что Великанов полетел в Южноморск. По его словам, у артиста выпало несколько дней, свободных от съёмок, и он собирался полететь домой, в Москву.
— А очутился здесь… — задумался подполковник. — Как далеко его нашли от места, где выловили «жигуленок» с Варламовым?
— Метров двести, Дмитрий Александрович, не больше.
— Какая-нибудь связь прослеживается?
— Пока что чисто географическая, — ответил Жур и добавил: — Да, забыл вам сказать: вчера поздно вечером приехала жена Варламова с сыном, чтобы увезти гроб с телом. Хочу допросить её. Обещала зайти к нам в управление к шестнадцати часам. Не желаете с ней встретиться?
— Конечно, желаю! — откликнулся подполковник.
— И последнее, — как бы подытожил новости Жур. — Из Барнаула сообщили, что жена Привалова, владельца красных «Жигулей»-фургона, в настоящее время находится в Крыму. Не то отдыхает, не то лечится… У неё, понимаете ли, бесплодие, хочет заиметь ребёночка.
— Уточнили, где именно в Крыму она обосновалась?
— Пока нет, но местные товарищи обещали выяснить. Тут же дадут знать.
Машина уже въехала в город. Они направились прежде всего в гостиницу, в которой для подполковника был забронирован отдельный номер.
Гостиница была скромная, но уютная.
«Эх, мне бы такие апартаменты пятнадцать лет назад!» — подумал Кичатов, умываясь с дороги.
— Есть предложение, товарищ подполковник, — сказал Жур, изображая гостеприимного хозяина. — Давайте перекусим в буфете, а потом уж в управление.
— Принимается! — весело откликнулся следователь.
— Понимаете, рестораны ещё не работают, рано, — оправдывался капитан.
— Сойдёт и буфет, — успокоил его Кичатов.
Буфет располагался на этом же этаже, неподалёку от номера подполковника. Они взяли салат из помидоров, сосиски и чай. Но едва успели приступить к еде, как прибежала дежурная по этажу.
— Вы товарищ Жур? — обратилась она к капитану.
— Да, я, — ответил Виктор Павлович.
— Вас срочно просят к телефону.
Извинившись перед Кичатовым, старший оперуполномоченный пошёл к столу дежурной. Звонил начальник угрозыска майор Саблин. Прежде всего поинтересовавшись, прибыл ли следователь МВД СССР из Москвы, и получив утвердительный ответ, Саблин сказал:
— Слушай, Виктор Павлович, опять заявился писатель-фантаст. Это какой-то роковой человек! Представляете, опять невероятная история. Опять покойник! И покойник какой-то странный: на теле непонятная аппаратура, провода…
— Где же Зайковский обнаружил труп?
— Все там же, неподалёку от Верблюда, в пойме Чернушки.
— Та-ак! — протянул капитан. — И место тоже роковое… Мы с товарищем Кичатовым срочно жмём туда!
— Сначала подскочите к управлению, заберите писателя. Он вам расскажет подробности и укажет место.
Виктор Павлович вернулся в буфет. Услышав его сообщение, Кичатов решительно поднялся из-за стола, так и не закончив завтракать. Он забежал в свой номер, взял следственный чемодан, и они спустились к машине.
В управление домчались за считанные минуты. Прихватив Зайковского и двух понятых — молодого парня и женщину лет сорока по фамилии Маджидова, устремились к загородному шоссе, оглашая улицы сиреной.
Писатель был в тех же потёртых джинсах, ковбойке, с с биноклем на груди, но на сей раз без удочек. Он до сих пор находился в сильном волнении. Прежде всего Зайковский попросил спички. Водитель дал ему коробок.
— Из-за них, можно сказать, и произошло, — начал Марат Спиридонович, жадно затягиваясь дымом сигареты и возвращая спички.
— В каком смысле? — уточнил Кичатов.
— Понимаете, я снова удил сегодня с лодки. Клевало, как никогда! Только успевал снимать с крючка рыбу за рыбой… И вдруг захотелось курить. Взял сигарету в рот, полез за спичками, а в коробке последняя, да и та без серы. Не посмотрел утром, когда брал с собой. Ну, продолжаю я рыбачить, а сам время от времени на берег посматриваю. — Он дотронулся до бинокля. — Не появится ли кто. Вскоре увидел двух мужчин. Один с аквалангом, высоченный, а второй ему по грудь. Этот второй что-то объясняет аквалангисту и показывает в сторону моря…
— Вы далеко были от берега? — спросил Кичатов.
— Метров семьсот… А что?
— Ничего, — сказал следователь. — Продолжайте, пожалуйста.
— Аквалангист полез в воду. А у меня снова поклёвка. Подхватил я сачком, отменная рыбина попалась. Вот такая кефаль! — развёл в стороны руки Зайковский. — И рыбалку такую удачную жалко кончать, и курить все сильнее хочется. Глянул в бинокль, а на берегу уже трое. Причём, третий лежит на земле, а мужчина, что пониже, нагнулся над ним и вроде бы искусственное дыхание ему делает. Не по себе мне стало. Думаю, откуда взялся этот третий? И почему его откачивают? Словом, забеспокоился и погреб к берегу. Пока плыл, не видел, что там делается, а спрыгнул с лодки — тех двоих и след простыл.
— Как же так? — вырвалось у капитана.
— Я же грёб спиной к берегу и ничего не видел, — оправдывающимся тоном произнёс писатель. — Подбежал я к лежащему — сердце так и оборвалось: утопленник!.. Я побежал к шоссе…
— Почему вы решили, что он утонул? — задал вопрос следователь.
— Да я столько утопленников видел, не приведи господь, — вздохнул Зайковский. — Во время войны служил на Севере матросом. Там судов потопили
— не счесть! И немецких, и союзнических, которые везли нам грузы по ленд-лизу, и наших…
— А что за аппаратура на теле покойного? — спросил Кичатов.
— Откуда же я знаю? Провода какие-то, а на поясе что-то вроде патронташа, — ответил Марат Спиридонович. — Честно говоря, толком не рассмотрел, одно было на уме: как бы поскорее сообщить вам.
— И все же как вы думаете, куда исчезли те двое? И почему?
— Понятия не имею, — пожал плечами Зайковский. — Может, меня испугались?
— Возможно, — задумчиво кивнул подполковник. — А вы не заметили, машины или мотоцикла у них не было?
— На берегу не было. А вот на шоссе — не обратил внимания.
По рации, находящейся в машине, Кичатова вызвал начальник угрозыска Саблин. Дмитрий Александрович ответил.
— Товарищ подполковник, — информировал его майор. — на месте происшествия уже находится и охраняет его подвижная милицейская группа.
— Очень хорошо, — одобрил Кичатов, которого волновало, что место происшествия находилось без присмотра.
Вскоре они уже и сами были там. «Волгу» встретили лейтенант и сержант милиции, прибывшие ранее на «Москвиче» с надписью «ПМГ». Лейтенант доложил, что за время их пребывания на берегу никто не появлялся.
Следователь прежде всего сфотографировал труп с разных точек. Со всех десяти пальцев у него были сняты отпечатки.
Это был светловолосый молодой мужчина лет тридцати, не больше, отлично сложенный. На нем были просторные светлые брюки из хлопчатки, задранная до шеи синяя рубашка и носки. Обувь отсутствовала. И никаких документов.
С особой тщательностью Кичатов осмотрел странную аппаратуру. То, что Зайковский принял за патронташ, на самом деле являлось матерчатым поясом с завязками, обхватывающим талию покойного. В поясе имелось много кармашков с батарейками — элементами питания типа «316 УРАН», соединёнными между собой последовательно.
Дмитрий Александрович посчитал батарейки. Их было двести двадцать штук!
Когда стали осматривать брюки, обнаружили ещё два устройства. Одно, в левом кармане, походило на выключатель. Другое, в виде маленькой прямоугольной алюминиевой коробочки, окрашенной в серый цвет, было пришито изнутри к поясу брюк.
Третье устройство находилось в правом рукаве рубашки с внутренней стороны манжеты. Оно было смонтировано на латунной пластинке.
Примечательно, что все эти непонятные штуковины соединялись между собой многожильными кабелями разноцветных проводков с разъёмными устройствами в виде вилочек и иголок.
— Да, мудрёная аппаратура, — заметил капитан Жур. — Интересно, для чего она предназначалась?
— Может, это медицинская? — высказал предположение лейтенант. — Я слышал, сердечникам ставят.
— Ты наверняка имеешь в виду стимулятор сердца? — сказал Жур, у которого тесть был сердечник со стажем. — Но его вшивают прямо в тело, под кожу, вот сюда, — он показал на левую сторону груди.
— А что, если это шпион? — робко промолвил сержант.
Кичатов и сам подумал об этом. В любом случае следовало бы поставить в известность местное управление Комитета госбезопасности и пограничников.
— Чего на кофейной гуще гадать? — сказал Кичатов. — Тут необходимо заключение специалистов. А пока, не теряя времени, надо искать тех двоих: высокого аквалангиста и мужчину пониже. Вы их разглядели? — обратился он к писателю.
— В деталях, признаться, нет, — виновато ответил Зайковский.
— Ну хоть какие-нибудь приметы? — допытывался Жур.
— Аквалангист был в маске. А у второго брюки вроде коричневого цвета…
— Вроде или точно? — настаивал Жур.
Писатель беспомощно хлопал глазами.
Берег был устлан крупной галькой, и никаких следов обнаружить не удалось.
— Срочно займитесь поисками неизвестных, — сказал оперуполномоченному угрозыска Кичатов.
— Слушаюсь! — откозырял Жур. — Разрешите ехать?
— Конечно, — улыбнулся следователь, давая понять, что можно было бы обойтись и без такой официальщины. — А я дождусь судмедэксперта. И хочется ещё осмотреться вокруг…
Жур уехал на ПМГ. С ним отбыл и Зайковский.
Через несколько минут на «скорой» прибыл врач Дьяков, который уже был тут, когда обнаружили Варламова. Судмедэксперт и следователь приступили к осмотру трупа. На теле покойного не оказалось никаких повреждений.
— Пока можно предположить, что смерть наступила в результате утопления, — осторожно высказался Дьяков. — Но конечно же вскрытие покажет точно. — Он снял резиновые перчатки и спросил у Кичатова: — Ещё на что мне следует обратить внимание?
Дмитрий Александрович сам пока находился в затруднении, ибо картина гибели этого молодого мужчины была ему неясна.
— Помимо времени и причины смерти, то, что меня заинтересует, я сформулирую в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы, — немного подумав, ответил Кичатов и добавил: — А постановление передам вам сегодня же, но немного позже.
— Добро, — кивнул врач.
Следователь спросил у него, не служит ли аппаратура на теле покойного каким-либо медицинским целям? Может быть, для контроля за деятельностью организма, как, например, у космонавтов?
— Не похоже, — ответил Дьяков. — Впрочем, судить не берусь.
«Надо будет сразу же отдать её в научно-технический отдел для исследования», — подумал Кичатов, упаковывая одежду и все это устройство в целлофановый пакет.
— Труп можно увезти в морг? — спросил судмедэксперт.
— Можно, — разрешил следователь.
На берегу остались только подполковник и понятые. Дмитрий Александрович предложил подвезти их в город, но немного погодя. Однако молодой человек отказался ждать и поспешил к шоссе. Ему, видимо, хотелось убраться отсюда поскорее, потому что обстановка сильно действовала на психику. А вот Маджидова согласилась подождать.
Кичатов неспешно прошёлся вдоль берега, постоял у Чернушки, чьи прозрачные буйные струи сливались со спокойной стихией моря.
Следователь огляделся. Горная речушка петляла по ущелью, терялась в густых зарослях деревьев и кустов. Зелень тут, на юге, была ещё пышная, почти не тронутая увяданием. Лишь орешины и платаны чуть просвечивали багрянцем.
«Да, загадочное место, — думал следователь, созерцая громаду горы, таинственно темнеющей неподалёку. — И почему её назвали Верблюд? Не очень-то и похоже. Может, нужно смотреть с другой точки?»
Он направился к поджидавшей его «Волге», поймав себя на мысли, что, если разобраться, ничего таинственного в этом уголке побережья нет и ощущение тревожности возникает лишь от тех загадок, которые предстоит разрешить следствию. А загадок хватало. Несколько сот тысяч, плавающих в воде, автомобиль в море с погибшим заместителем министра; и вот новая — утопленник, опутанный непонятной аппаратурой.
И никаких зацепок, никаких ниточек, указывающих на то, что же тут произошло в действительности.
Кичатов подошёл к машине. Понятая о чем-то оживлённо беседовала с водителем.
— Товарищ подполковник, — взволнованно обратился к следователю шофёр,
— вы только послушайте, что она рассказывает!
— Не верите, что ли? — обиделась Маджидова.
— Уж больно чудно! — почесал затылок водитель.
— А зачем мне врать? Зачем? — кипятилась женщина.
— Погодите, — успокоил её следователь. — Расскажите толком, в чем дело?
Его насторожило слово «чудно».
— Понимаете, рыбу я позавчера видела, — показала она в сторону ущелья.
— Много рыбы!
— В речке, что ли? — не понял Кичатов.
— На земле! В кустах! И даже на деревьях!..
Кичатов оторопело глядел на женщину. Водитель не выдержал, хихикнул.
— Если не верите, могу показать! Сами убедитесь, что ничего я не сочиняю!
Маджидова говорила так убедительно, что Дмитрий Александрович решил отправиться с ней.
— Далеко? — спросил он.
— Меньше километра.
С ними захотел пойти и водитель. Он запер машину, и небольшая процессия, возглавляемая Маджидовой, двинулась в глубь урочища.
— Я сюда приезжала за ягодами, — сказала Маджидова. — Кизил, шиповник… В этом году очень много тёрна…
И действительно они встретили заросли терновника, сплошь сизого от ягод.
Маджидова взяла в сторону от Чернушки. Когда они прошли по ущелью метров семьсот, она победно закричала:
— Пожалуйста, полюбуйтесь!
Кичатов глянул и остановился, поражённый: в зарослях шиповника блестели рыбёшки.
— Эге! — присвистнул водитель, нагибаясь и поднимая рыбу. Он понюхал её и сморщился: — Уже того, с душком…
— Два дня лежит! — темпераментно взмахнула рукой женщина.
— Может, рыба из Чернушки? Сколько до неё? — прикинул Кичатов.
— Метров пятьсот будет, — сказал шофёр и добавил: — Но рыба не из неё.
— Почему?
— Скумбрия, — улыбнулся шофёр недогадливости подполковника. — Она в море водится, а не в горных реках.
— Да, да, — смутился Кичатов от того, что попал впросак.
Они стали осматривать местность. Рыбы было немало. Потускневшая, уже начавшая тухнуть, она лежала в траве, между стволами деревьев, а отдельные зацепились за ветки кустов.
«Откуда она здесь? — недоумевал следователь. — Прямо чудеса, да и только!»
И вдруг он вспомнил, что читал в научно-популярном журнале о том, как один лондонец обнаружил в своём огороде рыбу, плескавшуюся в воде, бог весть откуда взявшейся между грядок. Более пятисот рыбин — таков был «урожай» удачливого жителя столицы Великобритании. Потом уже было установлено, что «небесный» подарок занёс на его огород смерч, пронёсшийся над Темзой, которая находилась более чем в двух милях.
А тут до моря было и того меньше.
Словно в подтверждение его догадки, водитель вспомнил случай, вычитанный им в газете. Но там был описан «дождь» из монет, принесённых издалека ураганом.
«Монеты, рыба — ещё куда ни шло, — размышлял Кичатов. — Но никакая стихия не в силах занести сюда автомобиль из Алтайского края».
Потратили часа полтора, чтобы определить границы, в пределах которых в ущелье была разбросана скумбрия.
— Смотрите, товарищ подполковник, что получается, — подытожил водитель. — Рыба лежит как бы полосой шириной метров в пятнадцать — двадцать и длиной метров сто. И ещё — морская растительность…
Действительно, в этой полосе, пересекающей Чернушку, находилась не только рыба, но в спутанной траве на земле темнели пучки засыхающих водорослей.
— И часто здесь у вас бывают такие сюрпризы природы? — спросил у своих помощников следователь.
— Случаются смерчи, — кивнул водитель.
— Ещё какие ураганы бушуют! — более эмоционально ответила Маджидова.
— Если вам нужно получить более полные сведения, поехали к синоптикам,
— предложил шофёр.
— Дельная мысль, — согласился Кичатов.
Но прежде чем отправиться к машине, он набросал схему, где прошёл смерч по ущелью.
Поехали в город. Сначала подбросили домой Маджидову, затем завезли одежду и аппаратуру с покойного в НТО, а уж потом побывали на местной гидрометеорологической станции.
Виталий Тарасович Сирбиладзе, начальник службы гидрометеорологии и контроля природной среды (так официально называлась его должность), услышав о находке возле Верблюда, стал благодарить Кичатова:
— Хорошо, что сообщили, товарищ следователь! Об этом смерче у нас никаких сведений нет!
— А что, были и другие? — поинтересовался Дмитрий Александрович.
— Да, неделю назад был ураган с другой стороны города, но не такой силы, — ответил Сирбиладзе. — Послабее.
— А очень сильные бывают?
— Конечно! Катастрофические, можно сказать! В прошлом году в декабре смерч нанёс такой удар порту, что трудно словами передать! — рассказывал Виталий Тарасович. — Портовые краны опрокинул. А каждый из них двести тонн весит. Представляете? Контейнеры разметал по причалу, словно детские кубики. Крыши с домов срывал, автомобили отбрасывал на несколько десятков метров!
— Автомобили? — переспросил Кичатов, у которого из головы не выходил «жигуленок» с барнаульским номером.
— Для урагана, какой был тогда, даже самосвал — все равно что игрушка!
— А жертвы были?
— Да, к сожалению, — вздохнул Сирбиладзе. — Я уж который год бьюсь, чтобы создать службу предупреждения стихийных бедствий, но никакой поддержки! Многие уверены, что подобные удары непредсказуемы и неизбежны! А я считаю, что нужно вести систематическое наблюдение за морем! Техника есть, нужно только с умом её использовать!
И начальник гидрометеослужбы развернул перед Кичатовым свои планы по искоренению трагических последствий смерчей и ураганов. Он был, по всему видать, болеющий за дело и знающий специалист, но, увы, не могущий пока сломать барьеры косности и предубеждения.
Выслушав его внимательно и посочувствовав, Дмитрий Александрович попросил Сирбиладзе составить подробную справку о прошедшем в районе Чернушки смерче с указанием времени прохождения, силы урагана и его направления.
— Сделаем, товарищ следователь, — пообещал Сирбиладзе, принимая официальный запрос. — Сейчас же пошлю туда людей.
— Если можно, побыстрее, пожалуйста.
— Не волнуйтесь, не задержим.
Попрощавшись, Кичатов поехал в горуправление внутренних дел. Жур только что сам прибыл туда: он занимался поисками неизвестных, которых видел Зайковский на берегу.
— Тяжёлый случай, — пожаловался капитан. — Ищу то, не знаю что! Ни единой приметы! Я уже опросил водителей загородных автобусов, таксистов… Это в случае, если те двое возвращались в город общественным транспортом. Но ведь они могли поехать и на своём авто или мотоцикле. Так?
— Так, — согласился следователь.
Он понимал, что повода для претензий к оперуполномоченному уголовного розыска у него нет: пока капитан действует оперативно и грамотно.
— Дмитрий Александрович, а что, если эти незнакомцы оказались там случайно? — спросил Жур.
— Случайно вытащили из воды мертвеца? — хмыкнул подполковник. — Ну, допустим… Но почему тогда они не сообщили о, мягко выражаясь, странной находке в милицию? Как это сделал Зайковский?
— Испугались… Кому охота, чтобы таскали? — дал своё объяснение капитан.
— Такое, конечно, возможно. Но, мне кажется, маловероятно. Поэтому прошу, Виктор Павлович, не ослабляйте усилий в их поиске.
— Само собой! — заверил Жур. — А у вас какие успехи? Что-то задержались вы возле Чернушки.
Кичатов рассказал о том, что ему удалось узнать. По реакции старшего оперуполномоченного Дмитрий Александрович увидел, что тот расстроен, подобные сведения скорее уж его, сыщика, хлеб, а не следователя.
Они не успели обсудить, имеет ли отношение смерч к трагическим событиям в районе устья Чернушки, так как пришла вдова Варламова. Допросили её в кабинете Жура.
Вероника Петровна, как выяснил из анкетных данных Кичатов, была на три года старше мужа. Но выглядела ещё более пожилой. Может, от того, что была крупная, высокая, с рублеными чертами лица. Женственного в ней было чрезвычайно мало. Она и профессию имела неженскую — технолог сталелитейного производства.
Вдова была в чёрном костюме и коричневой блузке. Выражение лица — больше суровое, чем скорбное. Во всяком случае, следователь не заметил той опустошённости и отчаяния, которые ему приходилось видеть у женщин, только что потерявших любимого человека. На вопрос Кичатова, зачем она прилетела в Южноморск, Вероника Петровна ответила:
— Чтобы отправить Кима Харитоновича в Москву.
— Неужели тут не нашлось никого, кто мог бы сделать это без вас? — заметил Дмитрий Александрович. — Женское ли это дело?
— А я считаю, что как раз-таки на вашего брата, мужчину, не очень-то можно полагаться, — сказала вдова без тени юмора и вообще каких-либо эмоций.
И она поведала Кичатову, сколько нужно приложить усилий, чтобы организовать отправку в Москву запаянного цинкового гроба с телом покойного. Это при том, что расходы по транспортировке берет на себя министерство, которое всячески способствует преодолению разного рода трудностей.
— Представляете, речь идёт о замминистра! А что бывает, когда простой смертный?
Следователь перешёл к тому, какой был у покойного круг знакомых по службе и вне её, почему Варламов очутился в автомобиле с барнаульским номером и что Вероника Петровна могла бы сказать об огромной сумме денег, найденных в чемодане её мужа.
Но, к удивлению следователя, вдова почти на любой поставленный вопрос отвечала: «Не знаю».
Дмитрий Александрович терялся в догадках: она действительно не осведомлена или это всего-навсего какая-то непонятная для следователя тактика? Обычно жены знают о своих мужьях больше, чем им положено, а тут…
Быть настойчивым мешали обстоятельства, в которых находилась Вероника Петровна. Подполковник решил прекратить допрос.
— Да, странная женщина, — сказал Жур, когда они остались одни. — Заметили, ни слезинки, ни вздоха по покойному?
— Может, умело скрывает своё горе, — пожал плечами следователь.
— Такое не скроешь, — покачал головой Виктор Павлович. — Не баба, а мужик в юбке, честное слово!
Кичатов вспомнил, что рассказал ему Чикуров о бывшей секретарше Варламова: молодая, стройная, миловидная.
«Да, — подумал он, — вполне возможно, что Золотухин прав: не за деловые качества двигал замминистра Ростоцкую вверх по служебной лестнице».
Старший оперуполномоченный отправился по делам, а подполковник позвонил в Москву Игорю Андреевичу. Они обсудили события сегодняшнего дня.
— Ваша версия, что оба покойника, найденные в море, жертвы смерча, весьма перспективна, — сказал Чикуров. — Работайте в этом направлении, но не забывайте и о других.
— Само собой разумеется, — ответил Кичатов. — Когда будете в Южноморске?
— Завтра. Билет уже в кармане. — Следователь прокуратуры назвал номер рейса.
— Тогда до встречи, — сказал Дмитрий Александрович. — Надеюсь, до вашего приезда не будет никаких сюрпризов…
— Я уже боюсь зарекаться, — засмеялся на том конце провода Чикуров.
Попрощавшись с ним, Кичатов позвонил в местное управление госбезопасности и сообщил о необычном утопленнике. Затем связался с руководством порта, где ему обещали выделить завтра катер с водолазом для обследования дна моря в районе устья Чернушки: вдруг там удастся обнаружить ещё кого из погибших или что-нибудь, проливающее свет на странные события последних трех дней.
После этого Кичатов наконец отправился в гостиницу.
Игорь Андреевич Чикуров оказался прав: нельзя было зарекаться от очередных сюрпризов.
Утром, в половине восьмого, подполковника Кичатова разбудил телефонный звонок Жура.
— Дмитрий Александрович, выезжаю за вами! — взволнованно сказал старший оперуполномоченный угрозыска.
— А что случилось? — спросил следователь, с трудом соображая, где он и что, так глубоко спал после бессонных сорока восьми часов.
— Опять вести с нашего злополучного места!
— И неужто снова наш роковой гонец Зайковский? — предположил Кичатов, окончательно сбрасывая с себя остатки сна.
— Нет, на сей раз дежурному по городу звонил спасатель из Дома творчества. Но по поручению Марата Спиридоновича. Ещё один труп обнаружен.
— Ладно, расскажете, когда приедете, — сказал Дмитрий Александрович. — А мне надо умыться, одеться.
— Буду через семь минут! — пообещал капитан.
Он постучался в дверь минута в минуту, как обещал.
— Так что же там произошло? — спросил Кичатов, когда они, перепрыгивая через несколько ступеней, спешили вниз по лестнице к выходу.
— Сегодня Зайковский отправился на рыбалку не один. Чувствовал, что ли… Взял с собой спасателя.
Они вышли из гостиницы, вскочили в милицейский «уазик».
— Сели наши рыбачки в лодку, отплыли от берега, — продолжил капитан. — И только закинули в воду удочки, как заметили утопленника. В одежде. Мужчина. Раздулся уже… Значит, утонул несколько дней назад. Как увидел Зайковский труп, за сердце схватился! Хорошо, у его напарника по рыбалке был с собой валидол, сунул Марату Спиридоновичу таблетку под язык. Тот еле в себя пришёл. А когда пристали к берегу, Зайковский заявил: хватит с меня покойничков, сейчас же упаковываю чемодан — и в Москву! А то, говорит, так недолго и самому загреметь в могилу или попасть в дурдом… «Скорую» вызвал и нам звонил уже один спасатель, без Зайковского.
— Нервы не выдержали, — заметил Кичатов.
— А чего вы хотите? Не знаю, у кого они могут выдержать: третий день подряд как ни вырвется, бедняга, на море рыбачить, так сплошные утопленники!
На сей раз «скорая помощь» прибыла раньше работников милиции. Врач был другой, не Дьяков. Он подтвердил, что смерть наступила несколько дней назад. На теле покойного были прижизненные ссадины, царапины, однако, по мнению врача, они вряд ли могли послужить причиной гибели этого мужчины лет сорока — пятидесяти. Установить его личность пока не удавалось, так как в карманах брюк и лёгкой синтетической курточки никаких документов не было.
— Очень полный был, — сказал доктор, когда они со следователем закончили осмотр и сняли отпечатки пальцев.
Кичатов поначалу его полноту отнёс за счёт того, что труп раздулся под воздействием газов.
Пообещав прислать постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, следователь разрешил увезти покойного в морг. Машина «скорой помощи» уехала, а Кичатов и Жур ещё раз осмотрели берег, подходы к нему. Оба были крайне озабочены.
— Восемь лет служу в милиции, но такого не припомню. Фантастика! — в сердцах сказал Виктор Павлович.
— И все время служите здесь?
— Да, в Южноморске, — кивнул капитан. — Это же надо — сразу столько загадочных смертей!
— Но ведь смерчи были у вас и раньше, — напомнил Кичатов. — Местный бог погоды, Сирбиладзе, говорил мне, что в прошлом году, в декабре, во время стихийного бедствия погибло более десяти человек.
— Погибли, да, — подтвердил Жур. — Но тогда была ясность. И родственники сразу подняли тревогу. А вы обратили внимание, что никто, буквально ни один человек не забеспокоился, не заявил ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем утопленнике?
— Но это как-то можно объяснить, — сказал Кичатов. — Все они, вероятно, приезжие.
— И все равно странно, — возразил капитан. — Ведь каждый приезжий где-то живёт, с кем-то общается. В санатории, пансионате или на частной квартире. И когда пропадает человек на несколько дней, об этом, как правило, сообщают.
— Пожалуй, вы правы, — согласился следователь.
— И ещё. Есть у меня одно соображение, но не знаю, стоит ли… — Жур покосился на Дмитрия Александровича.
— Давайте, давайте, выкладывайте, — подбодрил капитана следователь.
— А что, если смерч ни при чем? — спросил Жур.
— Вы хотите сказать, здесь, — Кичатов показал на море, — произошло другое?
— Вот-вот! Точнее, причина смерти этих троих другая?
— Вполне вероятно, — подумав, ответил Кичатов. — Я это допускаю. Авария, злой умысел… Или у вас есть более определённая версия?
— Есть, Дмитрий Александрович, — кивнул Жур. — Только вы не смейтесь… — Он смущённо кашлянул.
— Какой там смех, — серьёзно произнёс следователь. — Мы в таких потёмках, что любой лучик, любой проблеск… Ну, не стесняйтесь, как красная девица, — нетерпеливо подстегнул он Жура.
— А вдруг виноваты какие-нибудь газы или ядовитые испарения? — решился наконец Жур. — Может, читали о таком?
— Нет, — признался Кичатов. — А как это произошло?
— Понимаете, в окрестностях озера обнаружили более сорока погибших людей и множество трупов животных, — стал рассказывать капитан. — Сначала тоже не могли понять причину смерти. Вроде целые, невредимые… А когда пригласили специалистов, выяснилось, что под дном озера скапливаются вредные газы — двуокись углерода и другие. Они-то и убили вокруг все живое… Между прочим, случай этот не единичный. Подобная штука произошла и возле другого озера. Там масштабы катастрофы были ещё более внушительными — более полутора тысяч человек. А уж сколько погибло домашних и диких животных — не счесть!
— Постойте, постойте, а где это все случилось? — спросил подполковник.
— В Африке, — ответил капитан. — Первый случай у озера Монун, второй — у озера Ниос.
— Где Африка, а где Чёрное море!
— А вдруг и здесь нечто подобное?
— Ладно, дадим Сирбиладзе ещё одно задание: пусть проверит заодно и состав воздуха, — после некоторого размышления сказал следователь.
Их внимание привлёк катер, входивший в акваторию устья Чернушки. Когда он приблизился настолько, что можно было различить отдельные фигуры людей на его палубе, с судна рявкнула сирена и кто-то помахал рукой.
Кичатов посмотрел на часы: именно в это время обещали прислать сюда водолаза.
Он помахал в ответ.
С катера спустили шлюпку, и она ходко направилась к берегу.
Приехав утром на службу, Игорь Андреевич Чикуров прежде всего зашёл в здание Прокуратуры Российской Федерации, находящееся на Кузнецком мосту, чтобы уплатить партийные взносы. А уж потом направился в своё здание, располагавшееся между Петровкой и Неглинной; в нем и помещалась следственная часть прокуратуры республики.
На улице было промозгло, сыро. Чикуров втянул голову в плечи, прикрываясь воротником от пронизывающего ветра.
— Ты что, не слышишь?! — раздался сзади него знакомый голос.
Игорь Андреевич остановился, обернулся, его догонял коллега Вася Огородников, следователь по особо важным делам прокуратуры города Москвы. С Огородниковым он был знаком ещё со студенческой скамьи, оба учились на юрфаке МГУ.
— Привет! — протянул ему руку Чикуров. — Ну и погодка!
— Не говори! — Василий крепко ответил на пожатие.
— К нам?
— Да, — кивнул Огородников.
Нырнули наконец в подъезд здания прокуратуры, прошли в кабинет Чикурова. Игорь Андреевич чувствовал, что Васе непременно хочется кому-то излить душу — такой удручённый был у него вид. Обычно Огородников слова не скажет, чтобы не схохмить.
— Что ты, Васенька, невесел? — спросил Игорь Андреевич, вешая мокрое пальто на вешалку за шкафом. — Что ты голову повесил?
— С Петровки тридцать восемь нам передали дело. Поручили мне. Я ознакомился. На первый взгляд — проще пареной репы. Директор гастронома Цареградский брал взятки с заведующих секциями. Накрыли Цареградского с поличным, просто и надёжно: работники ОБХСС пометили купюры, вручили заведующим секциями, те дали деньги взяточнику. Их тут же обнаружили в столе директора. Свидетели, то бишь взяткодатели, уличили Цареградского полностью.
— И много брал? — уточнил Чикуров.
— По свидетельским показаниям — пятьсот рублей в неделю.
— От каждого?
— Нет, в общей сложности.
— Когда возбудили дело? — продолжал расспрашивать Игорь Андреевич.
— Летом.
— Выходит, совсем недавно? — Чикуров покачал головой. — Удивительные люди! Брать взятки сейчас, когда все накалены до предела… В газетах то и дело разоблачают руководителей торговли такого ранга!
— Если человек не способен ни на что, — перебил вдруг Огородников, — он способен на все!
— Что-то не понял, — уставился на приятеля Чикуров. — Ты имеешь в виду директора-взяточника?
— Нет, — ответил Огородников, — я имею в виду тех, кто даёт показания против него. А Цареградский, уверяю тебя, мужик с головой! Знаешь, из разряда неуживчивых! Причём неуживчивых с точки зрения тех, кто кричал: «Заменить меня некем!» А ведь и впрямь, рядом с такими «незаменимыми» деятелями, кроме подхалимов, ловкачей и хапуг, нет никого! Потому что очень далеко оттеснили они неуживчивых, кто не хотел мириться, как теперь говорят, с застоем и негативными явлениями в обществе!
— Погоди, ты хочешь сказать, что твой директор невиновен?
— Он категорически отрицает, что брал взятки, — ответил Огородников.
— А как же меченые деньги? — удивился Чикуров. — Показания заведующих секциями?
— Видишь ли, старик, нечестные люди умелее, — Вася поднял палец к потолку, — куда более умелее развивают средства подавления честности, чем честные развивают средства подавления бесчестности и непорядочности. Ты согласен?
— На все сто процентов!
— Отличный ответ! — обрадовался Огородников. — Впрочем, умно можно ответить лишь тому, кто умно спросил.
— От скромности ты не умрёшь, — усмехнулся Игорь Андреевич.
— Я умру от другого, — печально изрёк Василий. — От доверчивости… Понимаешь, я поверил Цареградскому! И вот — результат…
Следователь прокуратуры города вытащил из кармана газету и протянул Чикурову.
Весь подвал в ней занимал фельетон.
Игорь Андреевич пробежал его глазами. Суть сводилась к тому, что в то время, когда «партия, государство, народ объявили беспощадную войну таким уродливым явлениям, как хищения и взятки», следователь Огородников «взял под защиту» пойманного с поличным директора гастронома Цареградского. Более того, человек, призванный стоять на страже закона, не щадя сил бороться с преступностью, выпустил вышеупомянутого Цареградского на свободу и (неслыханная вещь!) настаивает, чтобы его восстановили в должности директора гастронома.
Прочитав фамилию автора, Чикуров присвистнул:
— Смотри-ка, жив курилка!
— Ты о ком? — спросил Огородников.
— О фельетонисте.
— Откуда ты его знаешь?
— Мелковского? Да он проходил года три тому назад по одному делу, которое я расследовал. Ты, наверное, помнишь, о нем писали — махинации в березкинском объединении «Интеграл»; убийство директора, покушение на самоубийство главврача…
— Да-да, — кивнул Василий Лукич, — припоминаю. Какая-то афёра с лекарственным препаратом, так?
— Совершенно верно, — подтвердил Чикуров. — …Баурос… назывался. Что-то вроде прохладительного напитка, а выдавали чуть ли не за эликсир жизни! Мелковский был в этой шайке как бы пресс-агентом. Рекламировал «чудодейственные» качества «Бауроса» в газетах, по радио, на телевидении и в кино, за что и получал щедрые вознаграждения. Ему даже оплачивали персональную машину в Москве, снимали особняк. Короче, этот писака сыграл не последнюю роль в одурачивании десятков тысяч людей!
— Кем он проходил в деле? — полюбопытствовал Огородников.
— Я собирался предъявить ему обвинение, но меня одёрнули: Мелковского, мол, трогать нельзя.
— Кто одёрнул?
— Сверху, — ответил Игорь Андреевич и, заметив на лице приятеля усмешку, вздохнул: — Ты даже не можешь себе представить, с каких высот вступились за Мелковского! Уж на что Вербиков не робкого десятка, но и тот спасовал.
Чикуров глянул на дату — газета была вчерашняя. От Огородникова это не ускользнуло.
— А сегодня уже вызвали на ковёр к… — Василий Лукич назвал одного из замов прокурора республики. — Что он за мужик? Крутой?
Чикуров не успел ответить — в дверь заглянули.
— Разрешите, Игорь Андреевич?
— О, конечно, конечно! — Чикуров поднялся со своего места, чтобы поприветствовать Яна Арнольдовича Латыниса.
Они встретились как старые приятели. Огородников заспешил, пора было идти к начальству.
— Выше голову, старик! — подбодрил его Чикуров.
— Опасно. Если не споткнёшься о порог, то уж непременно расшибёшь лоб о притолоку, — сострил напоследок Огородников.
Когда они остались одни, Чикуров забросал оперуполномоченного вопросами о житьё-бытьё. Они не виделись с тех пор, как вместе расследовали дело о березкинском объединении «Интеграл». Майор поначалу был сдержан: видимо, на его психику давил кабинет. Но мало-помалу Латынис расковывался, и вскоре они уже беседовали совсем как тогда, в дни совместной работы.
— Смотрю, вы вроде бросили курить? — обратил внимание Латынис. — Прежде, помнится, смолили одну за другой.
— Уже сорок четыре дня не смолю, — посмотрев на календарь, ответил Игорь Андреевич.
— Решились все-таки? — порадовался за следователя Ян Арнольдович. — Поздравляю!
В дверь постучали. Игорь Андреевич глянул на часы.
— Это, наверное, Золотухин, — пояснил он Латынису. — Как раз по южноморскому делу… Войдите! — крикнул он.
В кабинет робко вошёл мужчина лет сорока пяти. Действительно, он оказался бывшим старшим инженером-экономистом одного из отделов Министерства строительства.
— Присаживайтесь, — предложил ему следователь, представив Яна Арнольдовича как участника следственно-оперативной группы.
Золотухин устроился на краешке стула и сложил руки на коленях.
«Словно набедокуривший школьник, вызванный к завучу», — подумал о свидетеле Чикуров.
Он был несколько озадачен: ожидал, что инженер из породы напористых, смельчаков и горлопанов (выступить на собрании против замминистра!), а Золотухин вёл себя тише воды, ниже травы.
Игорь Андреевич поинтересовался, почему и как инженер ушёл из Министерства строительства. На вопрос «почему» Золотухин предпочёл не отвечать, а вот насчёт «как» буркнул:
— По собственному желанию.
— Что, на новом месте условия лучше? — допытывался следователь.
Золотухин стал бормотать что-то про «спокойную жизнь».
— А в зарплате выгадали или наоборот? — задал вопрос Чикуров.
Допрашиваемый с трудом признался, что ставка на новой работе у него ниже на сорок пять рублей.
«Клещами нужно тянуть каждое слово!» — терял терпение следователь. Он не понимал, чего или кого боится Золотухин.
Однако постепенно Чикуров стал приходить к мысли, что не только, а вернее, не столько страх диктует поведение инженера: тут скорее уж имело место разочарование.
— Эх, товарищ следователь, товарищ следователь, — тяжело вздохнул Золотухин. — Неужели вы сами не понимаете, что со мной произошло? Конечно, в том, что мне пришлось уйти из министерства, виноват я сам! А почему? Начитался, дуралей, газет, поверил… Смело, мол, идите в бой против бюрократов, самодуров-администраторов и прочих ретроградов и перерожденцев! Вот я и сходил! А чем все кончилось? «Ушли» меня с должности! Элементарно расправились. — Глаза у него сузились, на секунду в них сверкнул гневный огонёк. — Я б всех этих журналистов, подстрекающих честных людей идти на медведя с десертным ножичком…
Но инженер не договорил, какую кару обрушил бы на газетную братию. Он только махнул рукой и снова сник. Игорю Андреевичу, как говорится, крыть было нечем. Следователь понял: Золотухин не из тех, кто будет мстить человеку, навредившему ему по службе, — слишком интеллигентен и робок.
Он закончил допрос и отпустил свидетеля. А тот и не скрывал своей радости, что можно поскорее покинуть это заведение.
Оставшись с Латынисом, Игорь Андреевич ввёл его в курс дела.
— Значит, вы летите в Южноморск, — сказал Ян Арнольдович. — А что делать мне?
— Пока поработайте в Москве, — сказал Чикуров. — Задание у вас следующее: откуда у Варламова могли быть такие деньги? И не только деньги. Перстень, который нашли в его «дипломате», — очень редкая и ценная вещь.
— Понял, — кивнул оперуполномоченный угрозыска.
— И вообще соберите как можно больше сведений о заместителе министра… Второе: киноартист Великанов. С чего это он поехал в Южноморск? Знаком ли с Варламовым? — Игорь Андреевич посмотрел на часы. — К сожалению, более обстоятельно поговорить не удастся. Но мы будем созваниваться. Идёт?
— Разумеется, — пообещал Латынис.
На этом они простились.
В Южноморск Чикуров попал впервые. По службе бывать не приходилось, а отдыхать на таких многолюдных, суматошных курортах он разлюбил с тех пор, как однажды провёл отпуск в путешествии по северу европейской части России, которым был просто очарован.
В аэропорту Игоря Андреевича встретил Кичатов. И только они сели в «Волгу», предоставленную горуправлением внутренних дел, подполковник с ходу огорошил следователя прокуратуры.
— Ещё один труп…
— Помимо того, что нашёл сегодня в воде Зайковский? — уточнил Чикуров.
— Да. Водолаз обнаружил.
— Причина смерти? Кто он, что? — забросал коллегу вопросами Игорь Андреевич.
— Скорее всего — утонул, как и другие, — ответил тот. — Мужчина лет пятидесяти пяти, высокий, с бородой. В кармане куртки — членский билет Союза художников СССР.
— Значит, личность установили?
— Увы, — развёл руки Кичатов. — Ни фамилии, ни имени-отчества разобрать не удалось: размыло водой. Но, слава богу, есть фотография, переснимем, увеличим и пошлём в Москву, в правление Союза художников. Там-то уж должны опознать.
— Это надо сделать как можно быстрее!
— Завтра же, — ответил подполковник.
— Ещё что-нибудь водолаз нашёл?
— Нашёл, — кивнул Кичатов. — Спортивную сумку. Импортную, «Адидас». А в ней — около пяти тысяч рублей.
— Так, — встрепенулся Игорь Андреевич. — Опять деньги… И в каких купюрах?
— В основном сотенные и пятидесятки.
— В сумке больше ничего не было?
— Бритвенный прибор, голландский «Шик». Ну, соответственно принадлежности для бритья — пачка лезвий, помазок, крем. Блок московских сигарет «Ява» в мягкой упаковке. Все, конечно, размокло. И ещё том из Собрания сочинений Достоевского. В нем два романа: «Записки из Мёртвого дома» и «Игрок».
— Какой-нибудь подписи или экслибриса на книге нет? — спросил Игорь Андреевич.
— Нет, все страницы чистые.
— Чья сумка, выходит, неизвестно, — не то вопросительно, не то утвердительно произнёс Чикуров.
— Выходит так, Игорь Андреевич, — ответил Кичатов.
Дорога пролегала почти по самой кромке морского берега. Следователь прокуратуры задумался, глядя на ленивые барашки волн, с шипением накатывающихся на гальку.
— Четыре покойника! — нарушил наконец он молчание. — И все в одном месте.
— И автомобиль, — напомнил подполковник.
— Послушайте, Дмитрий Александрович, неужели это мог натворить смерч?
— спросил Чикуров.
— Другого объяснения, увы, нет. Буквально два часа назад я снова беседовал с Сирбиладзе.
— Местным начальником гидрометеослужбы?
— Да. Он такие сведения привёл, в которые даже трудно поверить! Стоит, к примеру, на пути смерча дом. Прошёл смерч — и нет дома! Разметало по щепочкам. Или такие случаи: попадёт курица в полосу смерчевого вихря, так в мгновение ока становится голенькая, словно её ощипали.
Чикуров представил себе подобную курицу и не смог сдержать улыбку.
— Факт! — горячо заверил его Кичатов. — Это не анекдот! Да что там курица! Знаете, что бывает здесь, на побережье? Смерч как насосом затянет в свою воронку огромное количество воды и перебрасывает в предгорья. — Он показал на поросший лесом хребет. — А оттуда вода бешеным потоком несётся вниз и сметает на своём пути буквально все!
— И часто такое случается?
— Катастрофические случаи бывают, конечно, нечасто, — ответил Кичатов.
— Однако подобное произошло в районе Сочи-Мацестинского курорта осенью тысяча девятьсот семьдесят пятого года… И ещё в конце лета восемьдесят пятого года, в районе Лазаревского.
— А самое последнее, значит, в районе Чернушки? Так?
— Да. Как установили работники южноморской гидрометеослужбы, смерч пронёсся около шести часов утра с двадцать первого на двадцать второе октября. То есть три дня назад… Помните, я вам рассказывал про рыбу в кустах?
— Конечно.
— Так вот в том месте смерч и обрушил на землю буквально водопады! Сила вихря, по-видимому, была велика…
— Почему по-видимому? Разве точных сведений нет?
— Понимаете, более полную картину происшествия Сирбиладзе обещал представить через день-другой, — пояснил Кичатов. — В официальной справке.
— Ясно, — кивнул Чикуров. — Давайте подъедем к устью Чернушки. Хочу осмотреть то место.
— Пожалуйста.
И подполковник дал команду водителю везти их к Верблюду.
— Ну а что женщина, которая звонила в номер Варламова, когда там проводился обыск? — продолжал расспрашивать коллегу Игорь Андреевич.
— Женщина… — хмыкнул Кичатов и зло добавил: — Язык не поворачивается называть так это чудовище!
Чикуров удивлённо вскинул брови: Дмитрий Александрович все время был сдержан и вдруг…
— Извините, Игорь Андреевич, — спохватился Кичатов. — Знаю, надо быть объективным, стараться без эмоций.
— Это на допросах, — улыбнулся Чикуров. — А между собой, я считаю, наоборот. Страсти, они помогают. И что же вас так возмутило?
— Лучше по порядку…
— Давайте, — кивнул следователь прокуратуры.
— Фамилия Елизаветы Николаевны Тимофеева, — продолжал. Кичатов. — Тридцать три года, а выглядит на все пятьдесят! На лице прямо-таки светятся все пороки, которыми она обладает. А их куда как много! Проститутка, воровка, фарцовщица, сводница, шантажистка!
— Ничего себе букетик! — усмехнулся Чикуров.
— А все началось ещё со школы, — рассказывал Дмитрий Александрович. — Чуть ли не с пятого класса. Ставила мальчишкам-воздыхателям условие: хочешь поцеловать, купи эскимо на палочке или поведи в кино. Немного подросла, и кино и мороженое её уже не устраивали, а подавай кафе или ресторан. В шестнадцать лет она впервые отдалась за деньги. Ну и пошло-поехало! Причём Елизавета Николаевна быстро сообразила, что импортные шмотки, до которых была страсть как охоча, легче всего заполучить у «фирмачей» — так на их жаргоне звались иностранцы. И Тимофеева превращается в «путану».
— Это ещё что за птица? — удивился Игорь Андреевич.
— Проститутка, отдающаяся иностранцам. За валюту и за тряпки. Ничем не брезгуют: пиво в банках, печенье, сигареты. Лишь бы не наши. Между прочим, на французском языке «путана» — шлюха.
— И тут страсть к иностранщине, — усмехнулся Чикуров.
— А как же! Короче говоря, в восемнадцать лет у Тимофеевой родилась дочь Светлана. А через пару лет Тимофеева попадает в колонию: обворовала иностранца. Воспитанием дочери занималась родственница, не то бабка Елизаветы Николаевны, не то тётка. После освобождения Тимофеева пытается вернуться к прежней профессии, но, увы, колония — не курорт, да и прежняя бурная жизнь сделала своё: нет былой свежести, красоты, фигура расплылась. В общем, с молодыми «путанами» она уже не могла тягаться. А честно зарабатывать деньги ой как не хотелось! Тимофеева занялась фарцой, валютными махинациями и сводничеством. Ну и погорела, конечно. Снова суд, нары, тюремная баланда.
После третьего срока она вышла на волю всего полгода назад. Видит, дочь подросла. К сожалению великому, яблоко от яблони упало совсем рядышком… Елизавета Николаевна стала её наставницей по части проституции…
— Погодите, Дмитрий Александрович, — перебил коллегу Чикуров. — Если Тимофеевой сейчас тридцать три, то сколько же её дочери?
— В том-то и дело, что девчонке всего пятнадцать лет! — Кичатов поморщился, словно от зубной боли.
— Да-а! — вырвалось у Чикурова. — Прямо не верится. Чтобы мать свою несовершеннолетнюю дочь толкала на панель!
— Вы послушайте, чем они занимались, — продолжил подполковник. — Елизавета Николаевна подыскивала для дочери клиентов. А глаз у неё намётан, старалась подобрать из тех, у кого тугая мошна. Но в основном охотилась за пожилыми мужчинами, занимающими высокое положение. У Тимофеевых было два варианта, как выудить денежки. Первый: Светлана завлекала любителя молоденьких девушек на специально снятую для этого квартиру. Когда клиент входил в раж, появлялась мамаша. Она разыгрывала оскорблённую честь, совала под нос метрику дочери, грозилась ославить, подать в суд и так далее. Короче, доводила клиента до шокового состояния. И тут, как говорится, Елизавета Николаевна брала его голыми руками — требовала компенсации. Если у клиента не было с собой соответствующей суммы, заставляла писать расписку.
— Какая такса?
— В зависимости от достатка и положения жертвы. Обычно десять тысяч. Иногда — больше, если чувствовала, что клиент особенно перепуган и готов на все.
— А второй способ?
— Светлана шла с клиентом в гостиницу. Потом, ублажив его, напоив, забирала документы и поминай как звали! На следующий день в номере раздавался телефонный звонок. Елизавета Николаевна угрожала, предлагала встретиться, требовала в обмен на документы деньги. Словом, как в случае с Варламовым. Здорово все рассчитала, бестия! Клиенты выкладывали требуемую сумму как миленькие.
— Психолог, — усмехнулся Игорь Андреевич. — Но каким образом ей удалось подцепить Варламова?
— Понимаете, тут замешан Блинцов, управляющий местным строительным трестом.
— А, тот самый герой газетного фельетона! — вспомнил Чикуров разговор с замминистра строительства Паршиным.
— Он самый, — кивнул подполковник. — Блинцов, видимо, во что бы то ни стало хотел угодить Варламову. Управляющему трестом порекомендовали Тимофееву как поставщицу девочек. Он сам лично привёз Светлану в гостиницу «Прибой». Так сказать, преподнёс шефу на блюдечке с голубой каёмочкой. Представляете, сунул девчонке двести пятьдесят рублей и обещал дать ещё, если Варламов останется доволен. Бедняга не знал, какую свинью подложил он начальнику!
— Вы что, допросили Блинцова?
— К сожалению, пока нет. Его срочно вызвали в министерство, он улетел вчера вечером в Москву, — ответил Кичатов. — Ну а в номере у Варламова все происходило по наезженному сценарию: Светлана ублажила его, подождала, пока он заснёт, а около полуночи покинула гостиницу, не забыв прихватить документы заместителя министра.
— Какого числа это было?
— Двадцатого октября, — ответил Кичатов. — В тот же день, когда Варламов прилетел в Южноморск.
— А через сутки прошёл смерч, — задумчиво произнёс Чикуров. — Как вы думаете, мать и дочь имеют какое-нибудь отношение к гибели Варламова?
— Скорее всего — нет. Обе Тимофеевы до этого не знали Кима Харитоновича. И общих знакомых не имели.
— А Блинцов? — напомнил Чикуров.
— Я же говорю: Блинцова свели с этой бандершей-мамашей буквально за несколько часов до того, как состоялось свидание Светланы и Варламова в его номере. И потом, Игорь Андреевич, сами подумайте, какая выгода Тимофеевым в смерти Варламова? Они хотели получить с него свои десять тысяч. И то, что Елизавета Николаевна полтора дня названивала в гостиницу заместителю министра, подтверждает её знакомая. Более того, уходя из номера, Светлана могла бы прихватить не только документы, но и деньги! Вон сколько их было в чемодане и «дипломате»!
— А может, она и взяла какую-то сумму, — пожал плечами Чикуров. — Мы же не знаем, сколько денег было до её прихода.
— Логично, — согласился Кичатов. — Пока этот вопрос будем считать открытым. Я попрошу Жура проверить. И уж коли мы заговорили о деньгах, обнаруженных в номере Варламова… Любопытная штука получается…
— Что там ещё, — насторожился Чикуров. — Опять какая-нибудь закавыка?
— Угадали, — кивнул подполковник. — Начнём с «дипломата». Как вы знаете, в нем находилось пятьдесят тысяч рублей…
— И перстень, — напомнил Чикуров.
— Так вот: на ручке «дипломата» имеются отпечатки пальцев Варламова, а на купюрах таковых не обнаружено. На перстне тоже.
— Вы хотите сказать, он к ним не прикасался?
— Совершенно верно. Значит, считал эти пачки с купюрами и положил «дипломат» другой человек. Как и перстень.
— Это действительно любопытно, — задумался Игорь Андреевич. — Выходит, деньги заместителю министра кто-то передал. Интересно, кто, за что и когда?
— За что и когда — пока совсем ещё неясно, — сказал Кичатов. — А вот кто… Видите ли, Игорь Андреевич, на деньгах и на перстне имеются отпечатки пальцев, которые идентичны тем, что обнаружены и на ручке «дипломата» вместе с варламовскими пальчиками. Можно предположить, что именно этот человек набил «дипломат» купюрами, положил туда перстень и передал заместителю министра.
— Остался чистый пустячок, — усмехнулся Чикуров. — Установить, кому они принадлежат.
— Установим я думаю, — не среагировал на тон следователя прокуратуры подполковник. — Хотя совсем нет уверенности, что это имеет отношение к происшествию в районе Верблюда.
— Вполне возможно, — согласился Чикуров.
— Но, как вы выразились, закавыка этим не исчерпывается, — продолжал Кичатов. — Денежки в большом жёлтом чемодане тоже с каким-то секретом. Вернее, с запашком…
— В переносном смысле? Вопреки поговорке, что деньги не пахнут?
— Эти семьдесят пять тысяч из варламовского чемодана пахнут в прямом смысле слова.
— И чем же? — заинтересованно оживился Чикуров.
— Плесенью.
— Вы же говорили, что они совершенно новенькие!
— В том-то и дело, купюры совершенно новые! А выпущены в тысяча девятьсот восемьдесят втором году, то есть несколько лет назад. И сложены так, что номера на банкнотах идут по порядку. А на запах обратил внимание капитан Жур. И эксперты установили, что купюры действительно покрыты плесенью. Видимо, долгое время находились где-то в сыром месте. Главное, что эти деньги не были в употреблении все эти годы!
— Интересно, кто же держал их в чулке? — задумался Чикуров.
— Мало ли у кого они были! Может быть, у жулика, спекулянта, взяточника. Ну, кто скрывает нечестные доходы. Мне кажется, важнее ответить на вопрос «почему?», — многозначительно произнёс подполковник.
— Нужно послать запрос в ваше ведомство, то есть в Главное управление уголовного розыска министерства, — понял коллегу Чикуров.
— Уже, — кивнул Кичатов. — Я попросил пройтись по давним делам. Чтобы особое внимание обратили на нераскрытые случаи ограбления банков, сберкасс, кассиров, учреждений, инкассаторов.
— Отлично! — одобрил его действия Игорь Андреевич. — Ну, надеюсь, на сегодня сюрпризы исчерпаны?
— Не исчерпаны, — улыбнулся подполковник. — Но — последний… В затонувшей машине, в которой был Варламов, находилось запасное колесо. Так вот, в камере были запрятаны двести пятьдесят тысяч рублей и наркотики.
— Четверть миллиона! — округлил глаза Игорь Андреевич. — Прямо наваждение какое-то: деньги, деньги, везде деньги — на воде, в номере у Варламова, в чьей-то сумке «Адидас», а теперь нате вам, в запаске! Эти-то двести пятьдесят тысяч кому принадлежат — владельцу «Жигулей» или Варламову? — Чикуров вдруг загорелся. — Дмитрий Александрович, а может, разгадка связана с наркотиками? Вокруг этой заразы порой такие страсти бушуют! И деньги вращаются огромные.
— Вот у меня голова прямо-таки забита всякими версиями, — признался Кичатов. — Вплоть до того, что, возможно, замешана контрабандная пересылка.
— Он кивнул на море. — За нашей акваторией — воды чужой страны.
— И это предположение придётся отрабатывать, — согласился Чикуров.
— Ну вот, мы и приехали, — показал на залитую вечерним светом гору, похожую на двугорбого верблюда, Кичатов.
Водитель остановил машину. Следователи осмотрели берег моря в устье Чернушки, где развернулись трагические события последних трех дней, поднялись по ущелью. Протухшая рыба, выброшенная смерчем, собрала стаю ворон. Отяжелевшие наглые птицы даже не улетали при появлении людей, лишь отскакивали на другое место.
Когда Чикуров и Кичатов спустились к «Волге», солнечный диск краешком коснулся водной глади. В Южноморск они приехали, когда уже зажглись уличные фонари.
Чикурову был забронирован номер в той же гостинице, где жил и Кичатов.
Они ещё долго говорили о деле, позвавшем их в этот прекрасный город-курорт. Было решено собраться завтра на совещание в горуправлении, где следственно-оперативной группе Чикурова выделили комнату, и совместно со старшим оперуполномоченным уголовного розыска Журом выработать план дальнейших действий.
Утром следующего дня Игоря Андреевича разбудил звонок из Москвы. Это был Латынис.
— Извините, что рано, — сказал Ян Арнольдович, — но я боялся, как бы вы куда-нибудь не закатились.
— Какой там рано, — ответил следователь. — Солнце жарит вовсю… Что, есть важные новости?
— Не знаю, насколько важные, но насчёт артиста Велика-нова удалось кое-что узнать. Кстати, как его дела? Я имею в виду состояние.
— Вчера вечером оставалось по-прежнему. А сегодня ещё не узнавал.
— Ну тогда для вас каждое сообщение будет нужным. И я не зря бегал, — продолжал Латынис. — Постараюсь по пунктам, которые вы продиктовали вчера… Вы меня слышите?
— Да, да, Ян Арнольдович, — откликнулся следователь. — Хорошо слышу.
— Значит, в Таллинне Великанов снимался в главной роли в картине под условным названием «Сегодня ты, а завтра я». По роману Достоевского «Игрок»…
— Как-как? — вырвалось у Чикурова.
— В роли Алексея Петровича по роману «Игрок» Достоевского, — повторил майор.
— Почему снимают в Таллинне? — поинтересовался Чикуров.
— Должны были ехать за границу, ведь действие романа происходит там, но Госкино запретило. Сказали, что самая достоверная заграница отлично получается в Прибалтике. Великанов, как выяснилось, отказывался от других предложений и все ждал, когда начнёт снимать Лежепеков. Вообще все говорят, что Великанов самозабвенно влюблён в свою профессию. Жил в долгах, терпел нужду, но на халтурные роли не соглашался. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: полгода назад умерла Евгения Великанова, народная артистка… Знаете, конечно?
— А как же! Даже был с ней знаком.
— Она родная тётка Александра Великанова. Умирая, оставила ему по завещанию все, что имела.
— Приличное наследство?
— Судите сами: только денежный вклад на сберкнижке составлял сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей. Плюс к этому — дача под Москвой, обстановка в квартире, картины, хрусталь и так далее.
— А что, у неё своей семьи не было?
— Был муж, боевой генерал, но он недавно скончался. А детей они не имели. Евгения Великанова страшно любила племянника, — рассказывал Латынис.
— Правда, между ними одно время пробежала, как говорится, чёрная кошка. Понимаете, она терпеть не могла жену Александра.
— Так Великанов женат?
— Нет. Уже нет. Развёлся года полтора назад, — ответил Ян Арнольдович.
— Но я продолжу о наследстве… Шестимесячный срок со дня смерти завещателя истёк девятнадцатого октября.
— Понятно, — сказал следователь. — И Александр мог вступить в наследование.
— Совершенно верно. Он прилетел из Таллинна двадцатого, тут же пошёл в сберкассу и потребовал выдать все деньги, оставленные ему тёткой. Но в сберкассе сказали, что для получения такой большой суммы нужно делать предварительный заказ. Что Великанов и сделал. В сберкассе его конечно же узнали. Только и говорили о нем… На следующий день Александр явился за наследством. Это все хорошо помнят, особенно кассирша, молоденькая такая, по-моему, страстная поклонница киноартиста. Во всяком случае, на её рабочем месте пришпилена фотография Великанова. Её удивило легкомыслие, с каким относился к деньгам Александр.
— В чем это выражалось?
— Побросал, говорит, в спортивную сумку — и через плечо…
— Погодите, погодите, — заволновался следователь. — Кассирша случайно сумку не запомнила?
— Она все запомнила, — ответил майор. — «Адидас».
— Отлично! — вырвалось у Чикурова.
— Что, фирма имеет значение?
— Думаю, что да. — Игорь Андреевич рассказал Латынису о находке водолаза. — А если ещё принять во внимание томик Достоевского с романом «Игрок», — поделился своей догадкой следователь, — то можно с уверенностью сказать, что сумка эта принадлежит Великанову.
— Но в сберкассе он положил в неё не пять, а почти пятьдесят тысяч, — напомнил Ян Арнольдович. — Где же остальные?
— Я бы тоже хотел знать это, — сказал Чикуров. — Попробуйте выяснить, сколько Великанов прихватил с собой в Южноморск.
— Постараюсь, — откликнулся майор. — Понимаете, живёт он один. Никто не мог мне даже сказать, зачем Александр полетел в Южноморск, где там остановился и прочее.
— Ничего, — подбодрил майора следователь. — За вчерашний день вы узнали об артисте немало. Ещё что-нибудь есть?
— Пока все.
Чикуров поручил Латынису установить, не являлись ли Великанов и Варламов наркоманами, знакомы ли, может быть, связаны бизнесом на этой отраве. Заканчивая разговор, условились, что Ян Арнольдович перезвонит вечером.
Только Чикуров положил трубку — снова звонок. На этот раз следователь услышал голос капитана Жура.
— Когда прислать машину, Игорь Андреевич? — спросил Жур.
— Зачем? — поинтересовался следователь. — Надо срочно встретиться?
— Ничего срочного. Просто спрашиваю, — растерянно ответил оперуполномоченный уголовного розыска.
— В половине десятого мы с Кичатовым будем в управлении, — сказал Игорь Андреевич, понимая, что начальство Жура не хочет ударить лицом в грязь перед москвичами. — Насколько я знаю, тут рукой подать. Ещё час в запасе.
Чикуров быстро умылся, побрился, позвонил Кичатову. Тот, оказывается, был давно на ногах, но не решался беспокоить коллегу.
Позавтракав на скорую руку, они отправились в горуправление внутренних дел. Игорь Андреевич рассказал о звонке Латыниса.
— Слава богу, хоть что-то прояснилось, — сказал подполковник, который тоже разделил мнение Чикурова о том, что сумка «Адидас» — великановская. — И купюры только сотенные и пятидесятки, какие он взял в сберкассе.
— Я вот думаю, не они ли плавали в море, — задумчиво произнёс следователь прокуратуры. — У меня все не идёт из головы, что Великанов получил больше сорока восьми тысяч.
— Вполне может быть, — согласился Кичатов. — Водолаз обнаружил сумку в воде полуоткрытой.
День разгорался чистый, светлый, дымка тумана над морем таяла буквально на глазах. Игорю Андреевичу было непривычно шагать в пиджаке, без пальто. Но больше всего поражали запахи, в них вплетались ароматы незнакомой растительности и морские испарения.
Южноморск был сказочно красив. Но красота эта казалась неестественной, декоративной, искусственной, что ли…
Они подошли к горуправлению. Капитан Жур уже ждал московских следователей. Теперь Чикуров познакомился с ним лично и, не мешкая, приступил к совещанию.
— Сначала, Виктор Павлович, — попросил руководитель группы, — что удалось установить о перстне из «дипломата»?
— Вещь очень редкая. Я показывал тут одному ювелиру, который обычно консультирует нас, так он затруднился даже приблизительно определить его стоимость, — ответил старший оперуполномоченный уголовного розыска. — Говорит, что нам следует обратиться к искусствоведам, а может, и к историкам.
— Почему? — вскинул брови Чикуров.
— Ювелир считает, что перстень, возможно, имеет не только материальную, художественную, но ещё и историческую ценность. — Жур вынул из конверта увеличенные фотографии кольца, найденного в номере Варламова. — Видите, камень — гемма. На изумруде вырезана лилия. Работа очень старинная.
— Хорошо, будем искать соответствующих специалистов, — сказал Игорь Андреевич.
— Но на вещдоке имеются и современные улики, — продолжил Виктор Павлович. — Вот, смотрите, здесь и здесь, — водил он по снимку пальцем, — в стыках, в глубине узоров сохранились микрочастички почвы.
— Вы хотите сказать, что эта вещь лежала в земле? — спросил Кичатов.
— Не знаю, лежала или же земля попала, когда перстень находился на руке, главное другое: эксперты говорят, что состав почвы не характерен для здешних мест.
— Что же, сведения интересные, — одобрительно посмотрел Чикуров на капитана. — Хотя и не знаю пока, как их можно использовать. Варламов ведь тоже не из местных… Но вполне вероятно, что сведения эти могут пригодиться, и весьма. По перстню все?
— Все, — кивнул Жур.
— Я не мог дозвониться в больницу, вы не знаете, как там Великанов? — спросил у него Кичатов.
— Пока все ещё без сознания, — ответил Виктор Павлович. — Я забегал. — Он улыбнулся. — Зав реанимационным отделением в панике, просит принять меры.
— Какие? — не понял Чикуров.
— Весь город только и судачит о том, что у них лежит знаменитый Александр Великанов, — пояснил капитан. — Вернее, взбудоражена женская половина Южноморска… Девчонки дежурят под окнами. Всеми правдами и неправдами стараются прорваться к нему. А это ведь нельзя ни в коем случае
— реанимация! Цветов натащили и каждый день заваливают нянечек из отделения, просят передать. Даже предлагают свои услуги в качестве сиделок.
— Ничего не поделаешь — слава! — развёл руками Кичатов.
— А вообще бы неплохо потолкаться среди почитателей, — высказал предложение Игорь Андреевич. — Авось кто-нибудь прольёт свет на то, как очутился возле Чернушки их кумир. И что же произошло там на самом деле.
— Смерч, — сказал Жур. — Установлено совершенно категорически.
— Я с этим не спорю, — заметил следователь прокуратуры. — Но давайте лучше обмозгуем все известные нам факты. Итак, в ночь с двадцать первого на двадцать второе октября произошло катастрофическое природное явление. На следующее утро в море были обнаружены плавающие деньги, а также автомобиль с погибшим Варламовым. Далее: проходят сутки, и писатель Зайковский становится свидетелем, как двое неизвестных вытаскивают из моря ещё одного утопленника с непонятной аппаратурой на теле. В тот же день находят на берегу Великанова с черепной травмой. Ещё через четыре часа все тем же Зайковским был обнаружен третий труп, полного мужчины. Вскоре водолаз поднимает со дна моря четвёртый труп, скорее всего какого-то художника, а также сумку «Адидас» с деньгами, принадлежащую, по всей видимости, артисту Великанову. Но, помимо всего прочего, в гостиничном номере Варламова вы, Виктор Павлович, вместе с прокурором Измайловым находите чемодан и «дипломат» с деньгами и чрезвычайно ценным перстнем… Так?
— Ну, — кивнул Жур.
— Что нам известно ещё? — продолжал Игорь Андреевич. — Варламов прилетел в Южноморск в командировку за день до смерча, а Великанов — за несколько часов. Теперь смотрите, что получается. Смерч пронёсся в ущелье, по которому течёт Чернушка. Наводнение, смывшее в море четырех человек и автомобиль, произошло в пустынном месте. Понимаете, в глухом ущелье, где нет ни жилья, ни кемпинга и так далее! Что делали в это время там люди, оказавшиеся жертвами стихийного бедствия? — И следователь прокуратуры замолчал, переводя взгляд с Кичатова на Жура и обратно.
— Это вопрос вопросов, — усмехнулся подполковник. — Действительно, нахождение в этом месте Варламова как-то можно объяснить: ехал на машине, и бурный поток смыл в море…
— Не очень убедительное объяснение, — заметил Игорь Андреевич. — Ведь заместитель министра находился на заднем сиденье «Жигулей». То есть не за рулём…
— Его могло швырять в машине, когда несло наводнением, — пожал плечами Кичатов. — Вот поэтому он и оказался сзади.
— Хорошо, — с натяжкой согласимся, — сказал Чикуров. — А как же остальные утопленники?
— Но ведь машину скорее всего несло не один десяток метров, — заметил Жур. — Дверцы могли открываться и закрываться…
— Но почему остальные утопленники должны были находиться в этой машине, — подполковник сделал ударение на слове «этой». — А может, они ехали в другой? И водолаз просто не обнаружил эту другую?
— Не обижайтесь, Дмитрий Александрович, — сказал Чикуров, — но, по-моему, дно моря в этом месте обследовали из рук вон плохо! Когда вы вчера рассказывали мне, я не хотел акцентировать… Хорошо, что вы сами подняли этот вопрос. Я считаю, что нужно обшарить все, буквально все! Захватить куда больше территории дна! И привлечь к этому не одного водолаза, а пять, десять!..
— Согласен с вами, — кивнул подполковник. — Моё упущение.
— Понимаете ли, — продолжал Чикуров, — у меня такое ощущение, что есть ещё, обязательно существуют какие-то вещи, улики, указывающие на то, почему погибшие оказались в районе наводнения. И скорее всего, улики эти смыты в море! Возможно, палатка или ещё автомобиль… Потому что ночью в ущелье просто так не прогуливаются.
— Я тоже думал об этом, — подхватил Жур. — Ведь вокруг Южноморска полным-полно дикарей. Сейчас, осенью, конечно, меньше, чем летом, но все равно есть! Одни ставят палатки, другие спят в своих машинах, а некоторые, особенно молодёжь, ночуют прямо под открытым небом в спальных мешках.
— Вот именно, — кивнул Игорь Андреевич. — Просто на земле вряд ли бы кто улёгся спать… Но вернёмся к утопленникам. Одна это компания или же совершенно не связанные друг с другом люди? И действительно ли все они жертвы несчастного случая, то есть разбушевавшейся стихии? А может, кто-то из них попал в море до смерча? — он снова замолчал, ожидая услышать мнение собеседников.
— Приходится признать, — спустя некоторое время сказал Кичатов, — что пока мы только ставим вопросы, а ответов на них — увы…
— Я тоже склонен так считать, — вздохнул Игорь Андреевич. — Единственное, что бесспорно, — это смерч. Остальное покрыто мраком.
— Нашей южной чёрной ночью, — усмехнулся капитан Жур. — И все же кое-какие проблески есть. Так сказать, сверкают отдельные звёздочки…
— Звезды тут у вас яркие, — улыбнулся подполковник, вспоминая свой неудачный медовый месяц, уж они-то с Ларисой насмотрелись на ночное небо.
— Как я понял, вы имеете в виду проблески по нашему делу?
— Так точно, Игорь Андреевич, — сказал Жур. — Кажется, мне удалось выйти на аквалангиста.
— Это который вытащил из моря утопленника со странной аппаратурой на теле? — уточнил Кичатов.
— Его, — подтвердил капитан и продолжил: — Помните, Зайковский показал, что человек с аквалангом был значительно выше второго мужчины на берегу? Из всех подозреваемых я остановился на инструкторе физкультуры детского санатория «Ласточка». Валентин Трёшников, двадцати шести лет от роду, рост под два метра, кандидат в мастера спорта по подводному плаванию. В Южноморск приехал в прошлом году после окончания института физкультуры. Как ему удалось устроиться в санаторий, сказать трудно, во всяком случае — живёт он на птичьих правах. Ни кола, как говорится, ни двора… У Трешникова одна надежда решить проблему с жильём — жениться на Нелли Колесниковой, которая работает в том же санатории воспитательницей.
— Любовь по расчёту? — спросил Кичатов.
— Нет, любовь настоящая, оба готовы хоть в шалаш, лишь бы вместе, — ответил капитан Жур. — Но поначалу ситуация для влюблённых складывалась так скверно, что дальше некуда. Папаша Нелли был категорически против зятя-физкультурника. Мол, что это за профессия для мужчины? Ежели бы ещё знаменитый чемпион, заслуженный мастер спорта, тогда другое дело! Слава богу, за дочку вступилась мамаша. Да и Нелли проявила характер: не дадите благословения, горевать не будем, поедем жить в Кинешму, к матери Валентина. Побушевал Колёсников, да и смирился. Жених и невеста подали заявление в загс. А расписываться они должны были вчера. Однако позавчера, то есть двадцать третьего октября, когда обнаружили утопленника с аппаратурой, произошли события, которые не укладываются ни в какие рамки. Валентин Трёшников в этот день не вышел на работу — это раз. После обеда он позвонил директору санатория и сообщил следующее: получил телеграмму из Кинешмы, что мать в тяжёлом состоянии, и поэтому он срочно улетает, — это два. Директор, естественно, выразил сочувствие и не стал препятствовать. Таким образом, соединение двух горячо любящих сердец, которого они так ждали и добивались, откладывается на неопределённый срок — это три!
Виктор Павлович замолчал.
— Ну и что в этом необычного? — нетерпеливо спросил Кичатов.
— Во-первых, никакой телеграммы из Кинешмы Трёшников не получал, — стал загибать пальцы Жур. — Во-вторых, мать его совершенно здорова. И в-третьих, Валентин Трёшников вчера улетел в Алма-Ату… Вот какие зигзаги в поведении парня.
— К кому он полетел? — спросил Чикуров.
— У Трешникова там дед, отец матери.
— Адрес?
— Есть, — кивнул Жур.
— Ну что ж, — как бы подытожил его сообщение Игорь Андреевич, — скорее всего, Трёшников действительно тот самый аквалангист, которого видел Зайковский. А насчёт второго мужчины что-нибудь узнали?
— Глухо, — ответил Виктор Павлович. — То есть ни одной ниточки, ни одной зацепочки.
— А что сообщили насчёт Приваловой, жены владельца «Жигулей»-фургона?
— Она уже в Барнауле, — сказал капитан. — Вернулась домой после отдыха.
— Пора бы уже прояснить вопрос, почему автомобиль здесь, а хозяин в Сибири, — нахмурился Игорь Андреевич. — Не дай бог, Привалов вместе с культурой несёт в массы гашиш! Считаю, Виктор Павлович, что вам нужно отправиться в Барнаул, а затем навестить в Алма-Ате Трешникова.
— Все понял, Игорь Андреевич, — ответил Жур.
Он позвонил в аэропорт. Самолёт на Барнаул улетал через три часа.
— Успеете собраться? — спросил Чикуров.
— Какие там сборы, — улыбнулся Жур. — Чемоданчик дома всегда наготове.
Следователи пожелали оперуполномоченному уголовного розыска счастливого пути.
После его ухода Кичатов отправился в НТО, а Чикуров поехал в порт «выбивать» водолазов. Там Игорю Андреевичу пришлось приложить немало усилий, чтобы ему выделили катер, который тут же отчалил в сторону устья Чернушки. Сам Чикуров разработал с тремя здоровенными парнями, которым предстояло обшарить морское дно, план поисков. Понятыми должны были быть двое членов команды.
Прибыли на место.
И хотя условия для задуманного следователем были не самые лучшие — море было неспокойно, — очень скоро один из водолазов обнаружил раскладной походный столик и четыре стула, вершу с несколькими живыми рыбками, мангал для жарения шашлыка. Другой отыскал несколько дешёвых стаканов (по семь копеек за штуку), коробку с костяшками домино, половину комплекта шахматных фигур, которые утонули из-за того, что имели для устойчивости свинцовые бляшки внутри. Третий водолаз поднял на поверхность мужскую шерстяную куртку большого (не меньше 56-го!) размера, непарные башмаки (оба почему-то на левую ногу) и странный предмет, похожий на шкуру длинношёрстного зверька. Приглядевшись, Чикуров удивился ещё больше: то был женский парик чёрного цвета. Потом некоторое время находок не было, и Чикуров дал распоряжение сменить место поисков.
И сразу же был найден прицеп-дача.
Открытие оказалось очень важным: на прицепе был тот же номер, что и на «Жигулях», в которых нашли Варламова.
Материя крыши дачи была в нескольких местах порвана. Можно было предположить, что, когда её подхватил смерч, она находилась в разобранном, то есть жилом, виде. Рядом с ней на морском дне валялась переносная лампочка с проводами, питающаяся, очевидно, от автомобильного аккумулятора. Здесь же находились недостающие шахматные фигуры, несколько разбухших от воды игральных карт и два металлических шезлонга. Затем была обнаружена большая брезентовая палатка.
Ветер тем временем крепчал. Члены команды поглядывали на небо, затянутое тучами. Игорь Андреевич понимал, что поиски, к сожалению, придётся прекратить. Два водолаза закончили работу, их подняли на борт и освободили от скафандров. А третьему уже дали команду по телефону двигаться к катеру. Он находился как раз напротив того места, где нашли на берегу киноартиста Великанова. И вдруг командир катера, державший связь с водолазами, встревожился.
— Что, что? — крикнул он в микрофон. — Кого видишь?.. Понятно. — Командир повернулся к Чикурову и взволнованно сказал: — Товарищ следователь, утопленник на дне!
Эта весть взбудоражила команду. Не без труда удалось доставить тело покойного на борт: волны то и дело захлёстывали судно. Катер тут же взял курс в порт. Чикуров попросил командира связаться по рации с руководством, чтобы то сообщило о трупе в горуправление внутренних дел.
Утопленник был мужчиной лет тридцати-сорока, в брюках, рубашке и лёгкой куртке из синтетики. При первом же взгляде на покойного Чикуров увидел дырочку от пулевого ранения возле уха. Второе отверстие находилось под противоположным ухом. Цвет кожи был белым-белым, хищные обитатели моря успели попортить лицо. Документов при нем не оказалось. В кармане куртки следователь обнаружил несколько смятых купюр — двадцать семь рублей — и мелочь. Имелась также связка ключей. Их было три: два от английского замка и один очень необычный. Этот ключ был явно от импортного замка.
Когда катер пришвартовался, Чикурова на берегу уже ждали Кичатов и судмедэксперт Дьяков.
— Пулевое ранение, — констатировал врач при осмотре трупа. — Сквозное. Скорее всего, оно и послужило причиной смерти.
— Вы хотите сказать, что покойный попал в воду уже мёртвым? — спросил Игорь Андреевич.
— Где был во время выстрела потерпевший, я не знаю, — ответил Дьяков.
— Но обратите внимание на направление выстрела. Вероятнее всего, он находился в положении, близком к горизонтальному.
— Лежал, что ли? — уточнил Чикуров.
— А может быть, плыл, — пожал плечами врач. — Но об этом лучше скажут эксперты.
Труп сфотографировали с нескольких точек. Сняли отпечатки и покойного отправили в морг, на вскрытие.
— Вот это сюрприз, — заметил Кичатов.
— И не говорите, — вздохнул Чикуров, которого слегка подташнивало от того, что провёл несколько часов на качающейся палубе. — Куда же нам все это везти? — показал он на поднятые со дна моря вещи, сложенные на причале.
— В горуправление, куда же, — усмехнулся Кичатов. — Не в гостиницу же.
Шторм усиливался, волны обрушивались на пристань. Надо было спешить.
Когда Чикуров глянул утром в окно, то увидел совершенно другой Южноморск. Исчезли яркие, радующие глаз краски, город накрыла монотонно-серая пелена дождя.
«Недолго же баловало меня солнышко», — подумал Игорь Андреевич.
Выйдя на улицу, следователь почувствовал, как его обволокла всепроникающая влажность. Он шёл по уже ставшей знакомой дороге в горуправление внутренних дел и невольно сравнивал перемену в погоде с тем, что произошло в следствии. Ещё вчера утром предположение о том, что Варламов и трое других мужчин погибли в результате смерча, казалось самым близким к истине. Но вот найден ещё один покойник, застреленный, и версия эта покрылась туманной дымкой, как горы вокруг Южноморска, укутанные тучами.
Насильственная смерть неизвестного мужчины круто меняла дело.
Игорь Андреевич присутствовал на вскрытии трупа, которое показало: пулевое ранение было смертельным, погибший утонул уже мёртвым.
Выходит, в гибели людей виноват не только смерч? И помимо катастрофы в природе произошла человеческая трагедия? С кем, почему, на какой почве?
Чикуров с тоской смотрел на ощетинившееся свинцовыми волнами море и жалел о том, что вчера не удалось завершить работу по обследованию дна. И когда это можно будет сделать, неизвестно: в ближайшие несколько дней синоптики ничего хорошего не обещали.
Да, находок вчера было много, но относятся ли они к смерти пятерых мужчин? А может быть, выловлено далеко не все? И не все пятеро являются жертвами какого-то одного непонятного происшествия?
По мнению эксперта, застреленный был поражён выстрелом из нарезного огнестрельного оружия. Стреляли с расстояния нескольких метров. Возникло множество вопросов. Убийство произошло на берегу и труп бросили в воду, или же это случилось в море, когда неизвестный плыл? А может, его застрелили на каком-нибудь судне и кинули за борт? Из чего стреляли — пистолета, винтовки? Где искать орудие убийства?
Над всеми этими вопросами они с Кичатовым ломали голову чуть ли не полночи, но, сколько ни думали, проблем становилось лишь больше.
С раннего утра Кичатов помчался в больницу: может быть, артист Великанов пришёл в себя? Помимо этого, у Дмитрия Александровича было немало и других дел. Как, впрочем, и у Чикурова.
Когда Игорь Андреевич пришёл в горуправление, тут же с головой окунулся в работу. В середине дня, выбрав свободную минуту, он хотел сбегать пообедать в буфет, но уже с порога его вернул звонок Жура из Барнаула.
— Как успехи? — спросил Чикуров после взаимного приветствия.
— Успехи это или нет, не знаю, — ответил капитан. — Но, сдаётся, работёнки прибавилось… Понимаете, вчера как раз вернулся с гастролей ансамбль «Крылья молодости». Ну, я с утречка встретился с Приваловым, вызвал с работы в отделение милиции…
— Наконец-то! — не сдержавшись, воскликнул Чикуров. — Ну и что там с этим администратором, владельцем «Жигулей»?
— Что Привалов работает в ансамбле администратором — это факт, — подтвердил старший оперуполномоченный уголовного розыска. — А вот насчёт «Жигулей»… Какая-то непонятная петрушка, Игорь Андреевич. — Жур немного помолчал, затем выпалил: — Привалов говорит, что у него нет никакой машины!
— Постойте, постойте, Виктор Павлович, — забеспокоился Чикуров. — В ГАИ напутали, что ли?
— Ничего не напутали! Машина действительно зарегистрирована на имя Привалова Степана Архиповича, — рассказывал Жур. — Вижу, гражданин что-то уж больно нервничает. Попросил его посидеть в другой комнате, а сам допросил жену Привалова, которую ребята любезно привезли в отделение. Спрашиваю: автомобиль имеете? Отвечает: имеем «Жигули»-фургон красного цвета. А где он? Гражданка отвечает, что муж уехал на автомобиле с месячишко назад… Куда? А вот этого Привалова якобы не знает. Её Степан, как она выразилась, ей не докладывается. И ещё, говорит, он не вернулся…
— Как так? — вырвалось у следователя.
— Я не меньше вашего удивился. Подумал, может, муженёк по возвращении с гастролей завернул к зазнобе, а супруга законная и знать ничего не знает. Бывает же, верно? Но мне-то в прятки играть некогда. Пригласил администратора, представляю: ваш муж, Привалов Степан Архипович… У женщины аж челюсть отвисла. Когда шок прошёл, заявила, что никакой он не муж, она его знать не знает, впервые видит. — В трубке послышался тяжёлый вздох Жура. — Администратор тоже с ней не знаком.
— Ничего не понимаю! — сказал следователь. — Однофамильцы, что ли?
— Да нет, Игорь Андреевич… В паспорте у работника ВИА Привалова вписана как жена, да и прописка по тому же адресу. И фотография — самого администратора… Попросил его объяснить, что все это значит? Молчит, только побледнел. А Привалова в истерику: где муж, что с ним сделали? Недаром, говорит, нашла в доме тряпку в крови… Ну, я тут же решил произвести обыск.
— Квартира, дом? — спросил Чикуров.
— Домина — прямо замок средневековый! — ответил Жур. — Однако никакого трупа и ничего, что бы говорило об убийстве, мы не нашли. Зато обнаружили восемь сберегательных книжек и наркотик…
— Наркотик? — переспросил следователь. — Какой именно?
— Гашиш. Около трех килограммов.
— Ничего себе!
— Интересная деталь, Игорь Андреевич, знаете, где нашли? В гараже, в автомобильной шине, в покрышке.
— Та-ак, — протянул следователь. — Как и в здешнем «жигуленке». Один и тот же способ!
— Владелец-то один, выходит, — поддакнул капитан.
— Ещё что-нибудь интересное нашли?
— Очень даже, — сказал Жур, и Чикуров уловил в его голосе усмешку. — Весьма даже примечательное… Статую.
— Ну и что?
— Скульптура человека в натуральную величину, — продолжал рассказывать Жур. — С очень значительным выражением на лице. Глянул, думаю, кого это он напоминает? И кажется, узнал.
— Кого же? — нетерпеливо спросил Чикуров.
— Того толстяка-утопленника, который сам всплыл.
— Вы не ошибаетесь, Виктор Павлович? — взволнованно спросил следователь.
— Думаю, что нет, — после некоторого колебания ответил Жур.
— Вы спросили у Приваловой, кто изображён?
— Конечно! Она сказала, что это её муж, Степан Архипович. И то ли женщина что-то почувствовала, то ли на моем лице что углядела, но вдруг расплакалась и стала допытываться, что с Приваловым, её мужем. Ну, врать не хотелось, я ей этак осторожненько сообщил: кажется, с ним в Южноморске несчастье произошло…
— Эх, Виктор Павлович, как же это вы не догадались прихватить снимки с покойников? — с укором произнёс следователь. — Предъявили бы для опознания…
— Да я и сам пожалел, — снова вздохнул на том конце провода капитан. — Завтра Привалова летит в Южноморск, к вам. Помог ей с билетом.
— Ну а приваловский двойник по документам? — напомнил Чикуров. — Выяснили?
— Какой там! Наотрез отказывается давать показания! Задержали, разбираемся.
— Да-а, загадки как из рога изобилия, — раздумчиво произнёс следователь. — Вот и у нас сюрпризец… — И Чикуров сообщил Журу о неожиданном повороте в деле, вызванном обнаружением в море покойника с огнестрельной раной.
В заключение Игорь Андреевич наказал оперуполномоченному уголовного розыска собрать как можно больше сведений о Привалове и его супруге.
Только он положил трубку, пришёл Кичатов. Услышав барнаульские новости, подполковник удивился тому, как много успел сделать Жур за полдня.
— Почему же за половину, — посмотрел на часы Игорь Андреевич. — Там уже вечер.
— Совсем забыл! — хлопнул себя по лбу Кичатов. — Там же другой часовой пояс…
— Ладно, перейдём к здешним делам, — сказал Чикуров. — Что Великанов?
— Слава богу, кажется, выкарабкивается, — ответил Кичатов. — Сегодня перевели из реанимационного отделения в палату. Там повеселее, да и Юля рядом.
— Простите, какая Юля?
— О, Юлечка Табачникова — удивительный человек! — с уважением произнёс Дмитрий Александрович. — Что делает любовь, а? Представляете, сама врач по образованию, а специально перешла из санатория в больницу простой медсестрой, чтобы быть рядом с Великановым!
— Знакомая его, что ли?
— Да нет, просто страстная поклонница. Призналась мне, что влюблена в него с детства, по кинофильмам. Собирала из газет и журналов вырезки о нем, портреты покупала, открытки. Целый альбом! И вот она настояла, чтобы Сашу поместили в палату, окна которой выходят прямо в больничный парк: Юля как-то читала интервью, где Великанов сказал, что он очень любит природу. Она твёрдо убеждена, что должна помочь ему встать на ноги.
— А допросить его когда будет можно?
— Увы, — развёл руками Кичатов. — Врачи и сами не знают. Но Табачникова обещала: если Великанов заговорит или произнесёт хоть бы одно слово, возможно, во сне, а может быть, в бреду, она будет записывать и передавать мне. Вдруг мы ухватимся за какой-нибудь кончик?.. Так что я постоянно в курсе.
— Это хорошо, что у вас есть такой помощник, — улыбнулся Игорь Андреевич.
— Главное — надёжный. Мне сказали, что Юля не отходит от Великанова. Даже домой не отлучается, все время в больнице. Вот это преданность! — Кичатов вздохнул, помолчал и продолжил: — Теперь о другом… Установлено, чьи отпечатки пальцев на деньгах в «дипломате».
— Из номера Варламова? — зажёгся Чикуров. — И кому же они принадлежат?
— Блинцову.
— Опять Блинцов! — Чикуров встал, прошёлся по комнате. — Значит, «дипломат» с деньгами принёс заместителю министра он?
— Да. Но не забывайте, — напомнил подполковник, — помимо пятидесяти тысяч там находился перстень. Вещь очень дорогая! И на нем тоже наследил Блинцов… Интересно, кому предназначались эти подношения — самому Варламову или кому-то ещё? И вообще, что это — взятка или нечто другое?
— Странная личность этот управляющий трестом. С одной стороны, вроде бы отличный руководитель, всегда в передовиках, на гребне, так сказать, а с другой… Судя по фельетону — самодур и волюнтарист. Выходит, у него ещё есть третья ипостась.
— Может, возьмём его в оборот? — предложил Кичатов. — Он должен вернуться из Москвы не сегодня-завтра. Вызовем, допросим, а?
— Я бы с этим не торопился, — подумав, ответил Чикуров. — Что мы ему предъявим? «Дипломат»? А он скажет, что просили передать. От кого? Варламов поручил, мол, принять от неизвестного мне человека… Варламов-то мёртв!
— А его пальчики на купюрах и перстне?
— Скажет, что заглянул в «дипломат» просто из любопытства… Нет, по-моему, надо сначала узнать, что за птица Блинцов, и копнуть поглубже. Чует моё сердце, тут будет над чем потрудиться работникам уголовного розыска и ОБХСС. И вот тогда…
— Наверное, вы правы, — согласился Дмитрий Александрович.
Чикуров сел на место, озабоченно обхватил лоб пятернёй.
— Чего зажурились, Игорь Андреевич?
— Получается, что в данный момент мы остались здесь без рук и без ног,
— невесело улыбнулся Чикуров. — Я имею в виду наших оперов.
— Латынис прилетит завтра, — сказал Кичатов. — А может, попросить в группу ещё работников уголовного розыска? Дело вон как растекается по городам и весям! Москва, Барнаул, Алма-Ата… И что ещё выскочит, неизвестно.
— Да, невод мы забросили во многие места. Но будет ли толк, если наша группа начнёт разбухать? Я в этом не уверен, Дмитрий Александрович. Количество не всегда перерастает в качество! — Чикуров снова встал, подошёл к окну.
Дождь сеял и сеял, не переставая, а туман, как показалось ему, ещё более сгустился. Игорь Андреевич вспомнил свои размышления на утренней дороге в горуправление милиции и вслух произнёс:
— Блуждаем мы с вами, подполковник, в тумане… Понимаете, нет путеводной идеи! Поэтому и мечемся пока, нет целенаправленных действий.
— Зачем так пессимистично? — улыбнулся Кичатов. — Я думаю, на вас плохо действует сегодняшний дождь. Безнадёгу нагоняет.
«Может, я и впрямь кисну из-за погоды? — подумал Игорь Андреевич. — Ведь это вполне естественно, что нет пока ощутимых результатов: следствие идёт всего ничего».
И все же на душе у него было неуютно. Как всегда, когда дело буксовало.
С утра на следователей обрушился шквал звонков из Москвы.
Сначала из правления Союза художников СССР. На фотографии утопленника с бородой, которого обнаружили в море 24 октября, узнали Феодота Несторовича Решилина, художника, вокруг имени которого давно уже бушевали страсти: одни возносили его творчество чуть ли не до небес, другие ругали почём зря. Чикуров тоже о нем слышал, и даже как-то Надежда хотела вытащить его на вернисаж Решилина. Но Игорь Андреевич был очень занят и на выставку пойти не смог.
— Ну, Дмитрий Александрович, держитесь, — предупредил он коллегу. — Решилин — даже не замминистра!
И действительно, после сообщения из Союза позвонили из Худфонда, спрашивали, когда и где можно забрать тело знаменитого живописца. Похороны должны были быть очень пышными и торжественными.
Затем зашевелились центральные газеты, информационные агентства. Всем нужны были подтверждения о гибели художника, подробности. Чикуров отвечал уклончиво: идёт, мол, следствие, а посему ничего более сообщить нельзя. Прорвался к ним даже работник посольства западной страны. По его словам, Решилин взялся рисовать портрет посла и даже получил аванс. Разумеется, в валюте. Что, мол, теперь делать? Игорю Андреевичу пришлось дипломатничать, заверив в конце концов, что все сведения о художнике тот получит через соответствующие каналы. Хотя и сам толком не знал, что это за каналы и вообще как действовать в данном случае.
Наконец позвонил Вербиков, начальник следственной части Прокуратуры республики. Чикуров доложил ему о том, как идёт следствие, и, в частности, передал разговор с иностранцем.
— Правильно ты ему ответил, — одобрил действия следователя Вербиков. — Но смотри, на тебя теперь как бы направлен прожектор!
— Вот спасибо, утешили, — кисло улыбнулся Чикуров. — Да и то, подумать только: заместитель министра, известный киноартист, а теперь ещё и Решилин!
Вербиков пожелал Игорю Андреевичу успеха и попросил регулярнее, чем прежде, держать его в курсе.
А в Южноморске шёл дождь. Погода была явно нелётная. Беспокоясь о Латынисе, Кичатов позвонил в аэропорт, и там сказали, что во второй половине дня, возможно, начнут принимать самолёты.
— Я уверен, Ян Арнольдович пробьётся, — с улыбкой заверил подполковника Чикуров.
И действительно, около пяти часов открылась дверь, и на пороге возник Латынис. Игорь Андреевич представил его Кичатову.
— Слава богу, наконец познакомились лично, — сказал подполковник. — А то все по телефону докладывали.
— Главное, Дмитрий Александрович, было бы что, — с улыбкой произнёс майор, делая ударение на последнем слове.
— А есть? — поинтересовался Кичатов.
— Так точно. Новости свеженькие, можно сказать, тёпленькие ещё, — ответил Латынис. — И касаются вашего запроса насчёт нераскрытых ограблений сберкасс, инкассаторов и так далее.
— Выкладывайте, выкладывайте, — оживился Кичатов.
Да и Чикуров приготовился, что говорится, слушать в оба уха.
— Подняли в министерстве архивы. Ориентировались на то, что деньги из чемодана Варламова, которые с плесенью, выпущены в тысяча девятьсот восемьдесят втором году. Было два предположения. Первое, что деньги из тех, которые грабители взяли у инкассаторов, вёзших выручку из аэропорта Домодедово…
— Так ведь номера купюр из чемодана идут один за одним! — воскликнул Кичатов. — А в кассах аэропорта номера на банкнотах совершенно хаотичны!
— Вот поэтому эту версию сразу же отмели, — кивнул Ян Арнольдович. — Второй вариант — ограбление кассы одного из металлургических комбинатов. Деньги предназначались для зарплаты рабочим и служащим, привезли их из банка… А сегодня утром, прямо перед отъездом во Внуково, я заскочил в министерство. Ну просто как чувствовал! Меня, оказывается, разыскивал коллега из Главного управления угрозыска. Он работал по делу, которое так и осталось нераскрытым. Вот оно в общих чертах. Представьте себе областной центр, окраина, сберкасса…
— Ага, все-таки сберкасса! — Кичатов кинул на Игоря Андреевича победный взгляд. — Извините, Ян Арнольдович, что перебил. Слушаем.
— Зима, февраль, — продолжил Латынис. — Мороз стоит, вьюга, в такую погоду, как говорится, даже хозяин собаку во дворе не оставит. Посетителей в сберкассе никого. И вдруг заходит женщина. В жалком пальтишке, стоптанных сапожках, укутанная платком так, что только одни глаза видны. Протянула кассирше лотерейный билет, рубль выиграла. Спрашивают: деньгами возьмёте или новые билеты на счастье купите? Рубль взяла, вышла и тут же вернулась с бутылкой кефира и булкой. Попросилась погреться… У нас ведь народ жалостливый. Почему бы и нет? Грейся! Заведующая, кассирша и контролёрша разговорились с ней. Женщина назвалась Катериной, Катей. Работницы сберкассы чай себе вскипятили, предложили и Кате стаканчик. Та взяла, уж так благодарила, чуть ли не в слезы ударилась. Ей говорят: жарко ведь, сними платок. Нет, говорит, не могу, увидите меня, испугаетесь. Слово за слово, поведала Катя женщинам свою душераздирающую историю. Сама она, мол, деревенская, и вот в позапрошлом году был у них на уборочной шофёр из города, пригожий и добрый парень. Короче, влюбился в неё и сделал предложение. Она, как телка, потянулась за ним, уехала из дома, бросив больную мать. У него однокомнатная квартира, все чин по чину. Катя не верит своему счастью! Забеременев, ждёт ребёнка. Но постепенно выяснилось, что у шофёра было уже три жены, а Катя — четвёртая. Живот у неё, естественно, растёт, а муж все налево шастает… В общем, пудрит мозги Катя женщинам в сберкассе…
— Понятно, — кивнул Кичатов. — На жалость давит.
— Точно, — сказал майор и продолжил: — Родила эта самая Катя дитя, и вдруг в один прекрасный день заявляется женщина, якобы новая патронажная медсестра. Ей нужно посмотреть ребёнка. Нужно так нужно… Медсестра попросила Катю принести тёплой водички. Вышла Катя на кухню и вдруг слышит страшный крик. Вбегает — все вокруг в дыму, её дитя корчится в объятых пламенем пелёнках. А медсёстры и след пропал…
— Картина, конечно, впечатляющая, — с усмешкой покрутил головой подполковник.
— Ещё бы! — хмыкнул Латынис. — Уж эта Катя не пожалела красок для описания гибели на её руках ребёночка. Она, мол, и сама обгорела, еле выжила. И была, мол, это не медсестра, а очередная любовница шофёра. Катя сказала, что сама она только что из больницы. Работницы сберкассы чуть ли не рыдают, думают, как бы помочь страдалице. Тут привезли деньги, около восьмидесяти тысяч. Из банка. Накануне вкладчики заказали. Заведующая положила их в сейф, закрыла двери сберкассы, так как начинался перерыв… Катя вдруг выхватила из-под пальто пистолет. Заставила заведующую открыть сейф, отдать ей все деньги, — а там в общей сложности было сто семнадцать тысяч, — и, крикнув: «Стоять на месте!» — отперла дверь и дала тягу. Ошеломлённые таким превращением «бедной страдалицы», несчастные женщины пока очухались, пока нажали кнопку сигнализации, пока позвонили в милицию — Катеньки след простыл! До сих пор не найдена…
Оперуполномоченный уголовного розыска замолчал. Некоторое время молчали и следователи, переваривая услышанное.
— Но почему ваш коллега уверен, что это имеет отношение к деньгам из чемодана Варламова? — спросил Чикуров.
— Так номера на купюрах те самые! — ответил Ян Арнольдович. — С материалами я, естественно, ознакомиться не успел, но вот, — он протянул Чикурову листок. — Здесь номер дела, даты, город и так далее.
— Нужно срочно истребовать дело, — сказал Игорь Андреевич, ознакомившись с записями Латыниса.
— Да, одна деталь, — вспомнил майор. — Очень важная! Катенька-то была мужиком! Когда она складывала деньги в сумку, платок сбился. На преступнике был женский парик…
Это сообщение обсудить не успели: позвонил дежурный по горуправлению и сказал, что Чикурова хочет видеть прилетевшая из другого города гражданка Привалова.
— Пропустите, — сказал следователь и, положив трубку, обратился к Латынису: — А вам бы не мешало отдохнуть с дороги, Ян Арнольдович. Все мы,
— обвёл он рукой присутствующих, — в одной гостинице. Номер вас ждёт.
— Но я не устал, — запротестовал было Латынис. — И если что нужно…
— Сегодня, пожалуй, нет, — улыбнулся Чикуров. — Езжайте, езжайте.
Майор ушёл. И буквально минуты через три постучали.
— Да-да, входите! — откликнулся Игорь Андреевич.
В комнату робко, с опаской вошла высокая худая женщина в чёрном траурном платке на голове.
«Как с ней говорить?» — с тоской подумал Чикуров. Уж сколько раз ему приходилось по долгу службы сообщать родственникам скорбную весть о смерти близкого человека, и каждый раз ему было не по себе, каждый раз ныло сердце.
Познакомившись, он предложил Приваловой стул.
Они с Кичатовым решили узнать по возможности как можно больше о муже, а уже потом провести опознание. Но, глядя на несчастную женщину, Чикуров с трудом сохранял спокойствие, избегая смотреть ей в глаза, которые как будто спрашивали: «Ну, когда же будет произнесено самое страшное?»
Заполнив анкетные данные, Игорь Андреевич поинтересовался местом работы Степана Архиповича Привалова.
— Да вроде в филармонии, — ответила женщина.
— Почему вроде? — продолжал задавать вопросы Чикуров.
— Степан Архипович мне никогда не докладывался, — ответила женщина, опустив глаза. — По документам он оформлен в филармонии. Администратором ансамбля.
— По документам, — повторил Игорь Андреевич. — А на самом деле? Чем он занимался? Откуда у вас такой дом, обстановка, машина?
— Муж меня в свои дела никогда не посвящал, — произнесла Привалова ещё тише.
И о чем бы её ни спрашивали следователи, отвечала уныло: не знаю, не интересовалась, муж ничего не говорил и все в том же духе.
«Похоже, она и впрямь такая рохля, — подумал Игорь Андреевич. — А может, муж запугал. Пора, кажется, закругляться».
Кичатов, видимо, был того же мнения.
Предстояло самое тягостное — опознание.
Увидев фотографию покойного мужа, Привалова узнала его и лишилась чувств. Её с трудом привели в себя. Очнувшись, она попросила разрешения увезти тело мужа домой, в Барнаул, Чикуров дал согласие. Он подумал: несчастная женщина, ей предстоит испытание пострашнее — опознание в морге.
В морг с Приваловой ездил Кичатов, так как Чикурова попросил зайти в горком партии первый секретарь, известие о гибели Решилина расходилось кругами, охватывая все более высокие сферы.
Подполковник вернулся в гостиницу усталый, но не столько физически, сколько морально. Не успел он снять пиджак, так сказать, рассупониться, раздался телефонный звонок. Следователь взял трубку.
— Дмитрий Александрович! — услышал он взволнованный голос Юли Табачниковой. — Сашу снова перевели в реанимацию!
— С чего это? — удивился подполковник. — Вы же заверяли, что дело идёт на поправку.
— Тут одно происшествие… — Голос девушки стал тише и глуше, видимо, она прикрывалась ладонью.
— Какое? Может, мне приехать?
— Жду.
Дмитрий Александрович снова надел пиджак, плащ и поспешил в больницу, теряясь в догадках, чем вызван звонок Юли. Табачникова была серьёзной девушкой и не стала бы паниковать по пустякам.
Она встретила следователя у служебного входа и повела в пустой процедурный кабинет, где им никто не должен был помешать.
— Что же стряслось? — спросил Кичатов.
Юля на всякий случай плотно прикрыла дверь.
— Я вам говорила, что вчера вечером Великанова перевели из реанимации,
— начала она. — Сегодня ему было уже лучше. Даже улыбнулся… В палате помимо Саши ещё двое. Им принесли ужин…
Кто лежал вместе с артистом, подполковник знал. Один из них — пожилой мужчина по фамилии Лебедев. История того, как он попал на больничную койку, была трагикомической: сидел на концерте Михаила Жванецкого, смеялся от всей души, и вдруг — сильная боль под лопаткой, вызвали «скорую» — инфаркт. И вот уже месяц Лебедев не встаёт с постели.
Другой больной тоже попал в клинику необычно. Второго дня рыбаки подобрали его в море на надутом баллоне от автомобиля. Кто он, врачи не знали. По их предположению, мужчина провёл в море несколько дней без воды и пищи. Когда его выловили, он был без сознания. Привести в чувство несчастного удалось, а вот добиться хотя бы одного слова — увы. Он не реагировал ни на устную, ни на письменную речь. Зная, что ему пришлось перенести, больного старались пока не беспокоить. Он в основном ел, пил и спал. Трудно сказать, был он от рождения глухонемой или же это результат стресса. Мужчине было лет под сорок, смуглый, с усами.
Сердечная, добрая медсестра ухаживала за ними обоими с не меньшей заботой, чем за Великановым.
— Я покормила Лебедева, — рассказывала дальше она. — Усатик ел сам. Саша спал. Я подошла к нему, стала поправлять подушку. Он открыл глаза, и мне показалось, что Саша взглядом поблагодарил меня… От радости прямо-таки захотелось плакать. — Табачникова вытерла платочком повлажневшие глаза. — Тут Лебедев попросил, чтобы я помогла ему лечь поудобнее. Я пошла к его кровати. И вдруг Великанов заговорил. Еле слышно: «Он, он убил меня… Он меня…» Я бросилась к Саше. Он весь дрожит, глаза закатились. Я сначала подумала, что мне показалось. Нет, слышу, Саша опять шепчет: «Он убил…» Я стала его гладить по руке, успокаивать, говорю: «Сашенька, милый, здесь все хорошие, никто тебя убивать не собирается». А он побледнел, задыхается, пульс так и скачет! Я растерялась, думаю, неужели все, неужели конец?! Позвала старшую медсестру, завотделением… Великанову ввели массу лекарств, и он забылся. Решили снова перевести в реанимацию…
Табачникова замолчала.
— Когда это случилось? — спросил Кичатов.
— Во время ужина, часа полтора назад. Слава богу, теперь он крепко заснул. Я вспомнила про вашу просьбу и…
— И что вы скажете? — спросил следователь. — С чего это он вдруг заговорил?
— Вернее, чем вызван его бред? — поправила Табачникова и задумчиво произнесла: — Наверное, его мучают какие-то страшные воспоминания.
— Но почему так неожиданно? — допытывался Кичатов.
— Трудно сказать, — пожала плечами Юля. — Человеческая психика — загадка. У здорового понять причину тех или иных поступков сложно, а у больного тем паче. Не забывайте, у Великанова травма головы!
— А как реагировали на его поведение соседи по палате? — поинтересовался Дмитрий Александрович.
— Лебедев переживал за Сашу. Ну а тот, усатик, поначалу совсем никак не реагировал. Понятное дело, глухонемой. Но когда в палату понабежало народу и стали суетиться вокруг Великанова — вроде сочувствовал. Вообще-то, честно говоря, я не обращала внимания ни на кого, Дмитрий Александрович. О Саше только и думала…
— Ясно, — кивнул подполковник.
У него были ещё вопросы к Юле, но она, поглядев на часы, сказала:
— Побежала к Великанову.
— Вы же сказали, что он успокоился, спит.
— Мало ли что может случиться! Особенно после того приступа!
Вернувшись в гостиницу, Дмитрий Александрович рассказал обо всем Чикурову и Латынису.
— Значит, какие-то страшные воспоминания, — повторил слова Табачниковой Игорь Андреевич. — Выходит, Великанова хотели убить?
— Вполне возможно, — сказал Кичатов. — Мы ведь пока не знаем, удар по голове нанёс ему человек или это травма в результате несчастного случая. Предположим, что покушение на убийство. Тогда возникает вопрос: с какой целью?
— Ограбление? — осторожно высказался Латынис. — У него же в сумке было почти пятьдесят тысяч рублей.
— Верно, — кивнул Игорь Андреевич. — Однако пять тысяч осталось. Если его грабили, то почему взяли не все деньги? Нелогично… А может, ревность? Поклонниц у Великанова — тьма. Многие влюблены до самозабвения. Возьмите хотя бы эту Юлю. — Чикуров вздохнул. — Как жаль, что состояние здоровья артиста не позволяет его допросить.
Время было уже позднее, разошлись по своим номерам, оставив дальнейшую дискуссию на завтра.
Но Кичатов спал плохо, в его голове продолжалась работа. Проснулся засветло, и ему показалось, что он недостаточно внимательно отнёсся к какому-то обстоятельству из сообщения Табачниковой. Этим Дмитрий Александрович и объяснял глухое недовольство собой.
Следователь еле дождался рассвета, оделся и, подгоняемый тревожным чувством, поехал в больницу. Прибыл он туда в начале восьмого, когда больные уже прошли разные процедуры — градусники, уколы, лекарства. Он поднимался по знакомой лестнице в отделение реанимации, как вдруг с ним едва не столкнулась Табачникова, нёсшаяся вниз.
— Дмитрий Александрович! — воскликнула она, еле переводя дух. — Слава бог что вы уже тут! А я названивала в гостиницу — никто не отвечает. Вот, решила сама к вам…
— Что случилось? — встревожился следователь.
— Пропал! — выпалила Юля. — Усатик пропал!
— Как? — заволновался Кичатов. — Когда?
— Кажется, ещё вчера вечером.
Дальше они бежали вместе. Из больных в палате находился один Лебедев. Подполковник допросил дежурную медсестру, которая показала: она вошла в палату минут сорок назад, чтобы сделать уколы, а постель «глухонемого» была пуста. Подумала, что он в туалете. Подождала — нету. Сунула руку под одеяло
— постель холодная, вроде в ней никто и не спал. Дежурная дала знать Табачниковой.
Кичатов спросил у Лебедева, помнит ли он, когда вышел его сосед?
— Вскоре после того, как артиста увезли, — ответил тот, — и, жестом попросив подполковника нагнуться, он дошептал Кичатову на ухо: — Я вот что скажу, товарищ следователь… Усатый этот вовсе не глухонемой.
— С чего вы взяли? — поинтересовался подполковник, не понимая, почему Лебедев опасается говорить громко.
— Ну, когда мы остались вдвоём, усатый все время прислушивался, — опять тихо ответил инфарктник. — И глаза у него были испуганные.
— Вам не показалось?
— Сначала я и сам подумал, что кажется, но тут в коридоре громко стукнула дверь. Так он чуть не подскочил на кровати. Потом так посмотрел в мою сторону…
— Как?
— Нехорошо, вот как. Ну, я сделал вид, что сплю… Он тихонько вышел. А я и впрямь уснул.
По просьбе подполковника обшарили всю больницу, каждый закуток — мало ли что? И когда следователь убедился, что «глухонемой» действительно сбежал, позвонил Чикурову. Того уже не было в гостинице. Зато Латынис находился в номере.
— Ян Арнольдович, — сказал Кичатов, — срочно приезжайте в больницу, я в отделении реабилитации. Все объясню на месте.
— Слушаюсь! — чётко ответил оперуполномоченный уголовного розыска.
И был на месте в считанные минуты, словно перелетел по воздуху.
Дмитрий Александрович начал с того, что попросил лечебную карту усатого беглеца. В графах о его данных — фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее — стояли сплошные прочерки. Врач из приёмного покоя сказала, что «глухонемого» доставили в карете «Скорой помощи».
Следователь составил приметы сбежавшего по описанию медсестёр, врачей и Лебедева. Вручив их Латынису, он попросил оперуполномоченного отправиться в горуправление с тем, чтобы были приняты все меры к поиску и задержанию неизвестного.
— Вы думаете, — спросил майор, — именно его испугался Великанов?
— Кто знает? — развёл руками Кичатов. — Но зачем человеку притворяться глухонемым? Почему он сбежал?
— Да, очень подозрительно, — согласился Латынис.
— Постарайтесь узнать подробности, кто, как и где подобрали его в море, — дал дополнительное указание Кичатов. — И постоянно держите со мной связь.
Майор уехал, а следователь продолжил работу в больнице. Выяснилось, что, когда неизвестного привезли в больницу, на нем были только трусы, майка, рубашка и носки.
— А ещё сумочка при нем была, — вспомнила медсестра из приёмного покоя.
— Какая сумочка? — насторожился подполковник.
— Ну, такая, небольшая, с ремешком. Мужчины их на запястье носят, — пояснила та.
— И где же она?
— Да в камере хранения, где вещи больных находятся.
Прежде чем ознакомиться с сумочкой, Кичатов снова позвонил Чикурову. На этот раз он застал Игоря Андреевича и рассказал о сумке.
— Думаете, там документы? — спросил Чикуров.
— А вдруг…
— Хорошо, Дмитрий Александрович, если будет что интересное, звоните, — попросил руководитель группы. — Я на месте.
— Конечно, — ответил Кичатов.
В камеру хранения пригласили понятых, — медсестру и нянечку. При них подполковнику вручили сумочку «глухонемого». Но расстегнуть молнию не удалось — она заржавела. Принесли скальпель. Кичатов сделал аккуратный надрез.
И тут, к изумлению всех присутствующих, из сумки на стол посыпались изделия из жёлтого металла — кольца, браслеты, серьги, кулоны, броши, корпуса от часов, а также три зубных коронки.
Никаких документов, никаких бумаг.
Подполковник составил протокол. Всего в сумочке находилось сорок четыре предмета.
Кичатов позвонил Игорю Андреевичу.
— В больнице, пожалуй, вам сегодня делать больше нечего, — сказал Чикуров, выслушав подполковника. — Высылаю машину.
Когда Кичатов прибыл в управление, то прежде всего поинтересовался, как идут поиски «глухонемого».
— Приметы уже есть во всех отделениях милиции города, на вокзале, в аэропорту, — ответил Игорь Андреевич. — Интересно, в чем он удрал, неужели в больничной одежде?
— Больше не в чем. Но меня удивляет другое, как он подался в бега, оставив вот это…
И Кичатов положил перед руководителем следственно-оперативной группы сумочку. По мере того как Чикуров вынимал из неё драгоценности, лицо его становилось все озабоченнее. Украшения разложили на столе.
— Да, если это все золото — богатство огромное! — покачал головой Игорь Андреевич.
Он вооружился лупой и стал рассматривать каждый предмет в отдельности.
— Точно — целое состояние! — подтвердил Кичатов. — Тысяч на двести-триста, не меньше.
— Кто знает, Дмитрий Александрович, кто знает, — задумчиво произнёс Чикуров и показал коллеге медальон с крупным светлым камнем. — Может, это бриллиант, представляете, сколько он стоит?
— Интересно, откуда это все у «глухонемого»? Краденое?
— Действительно, подбор вещей странный. — Игорь Андреевич дотронулся до зубных коронок. — Как-то не сочетается с ювелирными изделиями.
Вдруг внимание подполковника привлекли две серьги с зеленоватыми камнями.
— Разрешите лупу? — попросил он.
Чикуров отдал ему лупу, и Дмитрий Александрович стал разглядывать серёжки через увеличительное стекло.
— Присмотритесь-ка, Игорь Андреевич, — взволнованно сказал он, возвращая лупу.
Чикуров только глянул на заинтересовавшие подполковника вещицы и, ни слова не говоря, полез в сейф.
Рядом с серёжками из сумочки беглеца лёг перстень из «дипломата», переданного Варламову Блинцовым.
— Та-ак! — протянул Игорь Андреевич. — Что же получается?
— А получается то, что серьги и перстень из одного гарнитура! — сказал подполковник. — Узоры на металлической части идентичны. А резьба на камешках? Смотрите, здесь лилия и здесь!
Волнение подполковника передалось и Чикурову.
— Насчёт того, что изделия эти из одного гарнитура, пусть дают заключение специалисты. Как и определят стоимость всего этого добра. И ещё. Смотрите, на предметах из сумочки сохранились частицы почвы. Их тоже нужно исследовать. Возможно, состав их соответствует тому, что был на перстне.
Когда первое волнение улеглось, Чикуров взял лист бумаги, авторучку и сказал:
— Итак, Дмитрий Александрович, давайте составим схему. Блинцов, — Чикуров нарисовал кружок, вписал в него фамилию управляющего стройтрестом.
— Он принёс Варламову «дипломат» с деньгами и перстнем. — Игорь Андреевич нарисовал другой круг с фамилией заместителя министра. — Неизвестный, которого мы будем пока именовать «глухонемой», владелец сумочки с ювелирными изделиями, в том числе серёжками, составляющими, по-видимому, гарнитур с перстнем. Вполне допустимо предположить, что вся эта троица чем-то связана. Так?
— Связана, Игорь Андреевич, я не сомневаюсь! — горячо произнёс подполковник.
— Хорошо, — улыбнулся Чикуров, соединив три кружка и нарисовав четвёртый, в который внёс фамилию киноартиста. — Встаёт вопрос: а Великанов? Имеет ли он отношение к ним?
— Во-первых, его нашли неподалёку от того места, где утонул в машине Варламов, — начал перечислять Кичатов. — Во-вторых, поведение Великанова в больнице: он очнулся, увидел «глухонемого», и это привело артиста в сильнейшее волнение, закончившееся приступом! Узнал его Великанов, честное слово! Поэтому усатый и сбежал!
— Почему именно?
— Очень просто: «глухонемой» и саданул Великанова по голове! Помните его слова: «Он убил, он!»
— Вы хотите сказать, усатый покушался на убийство Великанова? — уточнил Чикуров.
— Я так думаю, — кивнул подполковник.
Игорь Андреевич провёл черту от кружка с фамилией киноартиста к кружку со словом «глухонемой».
— Связь действительно прослеживается, — сказал он, не так однако категорично, как подполковник. — Но вот на какой почве? Ведь существовал интерес, который объединял их!
— И не только их…
— А Решилин? — напомнил Кичатов. — А Привалов?
— Тоже непонятно, — вздохнул Игорь Андреевич. — Совершенно разного круга люди! Но что могло объединить знаменитого художника с каким-то сомнительным типом из Барнаула?
— Деньги, Игорь Андреевич, деньги! — убеждённо ответил Кичатов. — Здесь пахнет, как говорится, крупным бизнесом!
— Каким именно? Спекуляцией, валютными махинациями?
— А может, наркотики? — высказал предположение Кичатов. — Вспомните, сколько гашиша нашли в машине Привалова и у него дома в Барнауле?
— Подпольная торговля дурманом, — Чикуров задумчиво посмотрел в окно.
— Не исключено.
— Возможно, кто-то делал деньги, а кто-то покупал для себя, — продолжил свою мысль подполковник.
— Наркотики, наркотики, — повторил Игорь Андреевич, находясь, видимо, во власти какой-то идеи. — А что, Дмитрий Александрович, это бы много объяснило… Для чего тому же Великанову нужно было брать в Южноморск столько денег? Да и Варламову иметь в номере? Потом, есть одно существенное обстоятельство: все эти люди собрались тайно и вдалеке от человеческого жилья!
— Что ж, пусть Латынис поработает в этом направлении, — сказал Кичатов.
Чикуров не успел ответить, зазвонил телефон. Он взял трубку.
— Слушаю… А, это вы, Ян Арнольдович? Легки на помине, — сказал Игорь Андреевич, а затем на протяжении всего разговора лишь бросал односложно: «Да», «ясно», «хорошо».
Закончив говорить с майором, руководитель группы поднялся, подошёл к карте Южноморска и окрестностей.
— Вот, — ткнул он пальцем в карту и пояснил подошедшему коллеге: — Здесь подобрали в море «глухонемого». В двенадцати километрах от берега.
— Байчунак, — прочитал подполковник.
— Да, небольшой рыбацкий посёлок, — сказал Чикуров. — От Южноморска — километров сорок. Возле него рыбаки спасли нашего беглеца. Он лежал без сознания на баллоне… Ничего нового, помимо того, что вы узнали в больнице, Латынису раздобыть не удалось.
— Смотрите, где Байчунак, а где Чернушка, — сказал Кичатов.
— А когда подобрали «глухонемого»? Аж двадцать пятого октября! — поднял вверх палец Игорь Андреевич. — Если он попал в море в ночь смерча, то болтался на воде около четырех суток. Могло и подальше отнести!
Снова зазвонил телефон. На этот раз трубку снял Кичатов — был ближе к телефону. Говорил он недолго и, закончив, сообщил Чикурову:
— Блинцов прилетел. В Москве его вопрос рассматривали на коллегии министерства.
— Кто это вас снабдил информацией? — полюбопытствовал Игорь Андреевич.
— Тёр-Осипов, из ОБХСС, — ответил подполковник.
— А, Самвел Оганесович… Какие ещё у него новости?
— В тресте началась комплексная ревизия, — сказал Кичатов. — Ну что ж, может, и нам пора? Вопросиков-то назрело много…
— Нет, Дмитрий Александрович, — возразил Чикуров. — Рано. Да и ревизия, наверное, что-нибудь даст. Впрочем, нам не следует ждать подачек от какого-нибудь дяди, самим тоже нужно поработать.
— Значит, снова Латынис?..
— Что поделаешь! — вздохнул Игорь Андреевич. — Придётся ему пока тянуть здесь за двоих — за себя и за Жура.
«Глухонемой» как сквозь землю провалился. Разыскать его не удалось. Хотя была поднята вся южноморская милиция. Вероятно, он улизнул из города до того, как начали его разыскивать, а может быть, притаился до поры до времени где-нибудь в Южноморске и носа не кажет.
Великанов, чьё состояние так и не улучшалось, не мог пролить свет на эту странную историю.
Сумочку беглеца исследовали в научно-техническом отделе, и вот что выяснилось. Первое: на украшениях, а также на зубных коронках имелись частицы почвы, идентичные тем, что были обнаружены на перстне из «дипломата». Второе: все предметы представляли из себя совершенно случайный набор. Наряду с дорогим медальоном с крупным бриллиантом в сумке было, например, дешёвенькое серебряное колечко, правда позолоченное. На вопрос следователя, каково происхождение изделий, где они изготовлены, эксперты ответили, что на существующих ювелирных предприятиях страны такие не изготавливаются. Третье: серьги с камнями-геммами, без сомнения, были из одного гарнитура с перстнем. Об этом говорит совершенно одинаковый состав сплава, а также совпадающие в мельчайших деталях узоры на металлических частях всех трех предметов и рисунки на изумрудах. Определить их стоимость оказалось невозможным: весьма вероятно, что эти украшения представляли из себя музейную ценность.
— Показали бы специалистам, — сказал Чикуров подполковнику.
— Увы, Игорь Андреевич, здесь нет столь компетентных. Придётся везти серёжки и перстень в Москву.
— Ну а остальные предметы?
— Эксперты оценили в общей сложности в тридцать шесть с половиной тысяч, — ответил Кичатов.
— Немало, хотя и не рекорд, — усмехнулся Чикуров.
— В каком смысле? — не понял Кичатов.
— Перед отъездом я был у приятеля в Прокуратуре Союза, — объяснил Чикуров. — Тоже, как и мы с вами, — важняк… Показывал мне фотографии конфискованных ценностей у взяточников и расхитителей. Вы даже не можете себе представить, какие богатства они прятали по подвалам, чердакам, зарывали в землю! Между прочим, мой приятель, о ком я говорю, вот уже несколько лет работает в бригаде, которая раскручивает неблаговидные дела в Узбекистане. За это время они изъяли у преступников и вернули государству ценностей и денег на двадцать восемь миллионов рублей!
— Ничего себе! — присвистнул Кичатов. — Действительно рекорд!
— Но вернёмся к нашему «глухонемому», — сказал Игорь Андреевич. — Откуда у него это добро? Кто он? Вор? Взяточник? Расхититель?
— Кто бы ни был, меня смущают зубные коронки! — воскликнул подполковник. — Ведь кто-то их носил! А снять мог только дантист!
— Ограбили зубного врача? — вопросительно посмотрел на коллегу Чикуров.
— В Южноморске дантистов не грабили, — сказал Кичатов. — Это установлено. Но я вот о чем подумал: может быть, коронки куплены у зубного врача просто как золото? Ювелиры говорят: золотой лом…
— Есть подозрение, у кого купили?
— Как вам сказать… — несколько замялся подполковник. — Понимаете, имеется один факт, касается Блинцова.
— Блинцова? — насторожился Чикуров.
— Да, — кивнул Кичатов. — Управляющий стройтрестом оберегает своё здоровье как зеницу ока. Массаж, сауна, бег трусцой. И вот недели три назад Блинцов, совершая каждодневный бег, споткнулся о камень. Растянулся на земле. Все бы ничего, да зуб поломал. Ну и пошёл к дантисту. Тот вставил ему фарфоровый…
— Откуда такие сведения, Дмитрий Александрович?
— От Саблина, начальника уголовного розыска, — ответил Кичатов.
О том, что Саблин мучается зубами и смерть как боится дантистов, были наслышаны не только все работники управления, но даже приезжие следователи.
— Как же он решился пойти к врачу? — улыбнулся Чикуров.
— Допекло, видать. И, представляете, встретил там Блинцова. Выяснилось, что дантист большой приятель управляющего стройтрестом. Ну, Латынис, по моей просьбе, проверяет, не приторговывает ли тот врач золотишком.
— Это вы хорошо сделали, — одобрил Игорь Андреевич. — Но, как я понимаю, сломанный зуб и бег трусцой не самое главное, что интересует нас в Блинцове.
— Это так, частности, — улыбнулся подполковник. — Валентин Эдуардович
— личность непростая. И, как верно вы заметили, многогранная. Большинство людей знают его по парадному, так сказать, фасаду: имеет орден, две медали, полученные за трудовые достижения руководимого им треста.
— Это я знаю.
— Образцовый семьянин, — продолжал Кичатов. — Заботливый отец. Дочь учится в Ленинградском университете, сын закончил Академию внешней торговли и сам уже имеет семью. Если же говорить о Блинцове как о дедушке, то лучше не сыщешь не только в Южноморске, но, пожалуй, и по всему побережью. Подарки делает внукам — любой взрослый позавидует.
— Да, фасад производит самое приятное впечатление, — усмехнулся Чикуров. — Ну а что за ним?
— Винтики, пружины, рычаги, которые обнажают механизм успеха и славы этого руководителя. Когда-то судьба свела Блинцова и Варламова в Москве. Варламов был начальником СМУ, а Блинцов — его заместителем, — рассказывал Кичатов. — Дальнейший их путь был связан синхронным продвижением. Варламов поднимался вверх по служебной лестнице, а Блинцов опускался вниз… — Он снова улыбнулся. — Нет-нет, это было понижение не в должности, а по географической широте: Валентин Эдуардович неуклонно приближался к благодатному Южноморску, где и возглавил в конце концов строительный трест. Событие это произошло в тот же год, когда Ким Харитонович Варламов занял кресло заместителя министра.
— Понятно, Варламов был тем самым добрым гением, с помощью которого на Блинцова сыпались награды и переходящие знамёна.
— Плюс фонды, лимиты и сверхлимиты, — продолжил Кичатов. — В ответ на это в Москву непрерывным потоком шли дары юга: фрукты и овощи, марочные вина и коньяки. По поводу семейных торжеств и без всякого повода. А в пятидесятилетний юбилей Варламова Валентин Эдуардович выехал в столицу на своей машине, под завязку нагруженной подарками… Так что можете себе представить, какую радость заместитель министра доставлял Блинцову, когда приезжал отдыхать в Южноморск?
— Да уж! — покрутил головой Игорь Андреевич. — Как говаривал Чичиков из «Мёртвых душ», именины сердца!
— Во-во! Тут уж в номер гостиницы или санатория, где останавливался Варламов, несли и несли! Доставлялись все курортные блага, вплоть до молоденьких девочек!
— Знакомая картина, — погрустнел Игорь Андреевич. — За все это, естественно, Варламов оберегал своего протеже от всяческих неприятностей.
— Само собой! С Блинцовым местное руководство предпочитало не ссориться, а на жалобы инженеров, техников и рабочих не обращало внимания. Блинцов начисто игнорировал в своём тресте и профсоюзную организацию, и местком, и партком. Всем распоряжался сам: путёвками за границу, квартирами, повышением по службе и так далее. Но, увы, не прочувствовал, какие наступают времена… Не выдержали его подчинённые, подняли бунт. Дошло до Москвы, появилась заметка в газете. Варламову удалось погасить пожар. Блинцов отделался строгим выговором по службе, а по партийной линии
— просто выговором. Тогда Валентин Эдуардович решил свести кое с кем счёты. Но, как говорится, вляпался ещё больше: теперь уже вышел фельетон в «Труде»… Не понимаю, Игорь Андреевич, что он думал? Сейчас ведь такие штучки не проходят!
— К сожалению, кое-где проходят, — вздохнул Чикуров. — И не так уж редко, как вы думаете.
— Но в случае с Блинцовым не прошло! — сказал Кичатов. — На коллегию вызывали, и ревизия вот… Все говорят, что Блинцова снимут. Справедливость восторжествовала!
— Не знаю, восторжествовала бы она, будь жив покровитель Блинцова, — с сомнением покачал головой Игорь Андреевич. — Кстати, о покровителе… Блинцов доставил Варламову в номер дипломат с деньгами и перстнем, как вы думаете, это не связано с хищениями?
— Ревизия пока ничего не вскрыла, — развёл руками Кичатов. — Тёр-Осипов обещал, как только будут интересующие нас материалы, тут же даст знать.
— Как живёт Блинцов? Скромно или шикует?
— Нынче никто не шикует, даже если имеет возможность, — усмехнулся подполковник. — Но говорят, он и раньше вёл довольно скромный образ жизни. Не кутил, особняков себе не строил. Единственная слабость — женский пол. Тут уж Блинцов не скупился, но и то больше не деньгами расплачивался, а кому сантехнику доставлял, кому паркет… Сами знаете, что касается ремонта квартир или индивидуального строительства, — все дефицит!
— Что он, каждой проститутке натурой платил? — подивился Игорь Андреевич.
— Зачем каждой. Бандершам платил, то есть сводницам, которые поставляли девочек ему и Варламову. Кстати, на сберкнижке у Блинцова всего четыре тысячи восемьсот рублей.
— Значит, не исключено, что он передал деньги Варламову от кого-нибудь?
— Понимаете, Игорь Андреевич, за день до прилёта заместителя министра Блинцов купил в универмаге возле своего дома новый «дипломат»…
— Тот самый?
— Во всяком случае, такой же, — сказал Кичатов. — Но Блинцов оказывал услуги Варламову и другого порядка. Об одной такой удалось разузнать Тёр-Осипову. Ведь ОБХСС, слава богу, смотрит не только на документы. Пять лет назад в пригороде Южноморска была снесена старенькая развалюха, принадлежавшая Маргарите Прокофьевне Кроль. На месте хибарки силами рабочих СМУ Э 1 был построен на берегу моря двухэтажный особняк. В порядке, так сказать, шефской помощи…
— А кто такая Кроль? Ветеран труда, партии?
— Простая учительница. На пенсии. Все дело в том, что Маргарита Прокофьевна похвасталась как-то перед соседями, что её дочь живёт в Москве и выходит замуж за заместителя министра… И действительно, будучи в Южноморске, Варламов каждый раз заезжал к бывшей учительнице. Правда, никогда не останавливался у неё, только навещал.
— А при чем здесь Блинцов?
— Так ведь СМУ Э 1 подчиняется непосредственно его тресту! Более того, выстроить дом старушке Кроль помогли по личному указанию Блинцова!
— Иметь при живой жене официальную невесту… — Игорь Андреевич покачал головой. — Интересно, кто она?
— По-моему, скопилось немало вопросов, разрешить которые можно только в Москве, — заметил подполковник. — Ян Арнольдович того же мнения и рвётся в столицу.
— Я с вами согласен, — после некоторого раздумья сказал руководитель следственно-оперативной группы. — Решилин, Великанов, Варламов — все они москвичи. Их связи, круг знакомых, интересы можно проследить только там. А теперь ещё эта невеста Кима Харитоновича… Опять, значит, останемся без оперов, — хмыкнул он, почёсывая затылок. — Справимся, Дмитрий Александрович?
— Поднатужимся — осилим! — засмеялся Кичатов.
Громко и отрывисто затрезвонил телефон. Междугородняя…
Игорь Андреевич взял трубку. Звонил капитан Жур из Барнаула. Чикуров сказал, чтобы Кичатов взял трубку параллельного телефона на своём столе.
— С Приваловым, слава богу, разобрался, — докладывал Виктор Павлович.
— И кто, так сказать, подлинный? — спросил Игорь Андреевич.
— Который утонул в Южноморске, — ответил Жур. — А тот, что работал в филармонии, фальшивый. Его настоящая фамилия — Комаров.
— Почему они жили с идентичными документами?
— Потому что это было выгодно обоим. Толстяк, то есть настоящий Привалов, по образованию провизор. Аптекарь. Но по призванию — большой любитель нетрудовых доходов. И в этом деле здорово преуспел. Недаром отгрохал себе памятник при жизни, носил титул «облепиховый король»…
— Какой, какой? — переспросил подполковник.
— Об-ле-пи-хо-вый, — повторил по слогам капитан. — Есть такая ягода.
— Знаю, — сказал подполковник. — Очень целебная.
— Но ещё целебнее масло из облепихи, — продолжал капитан. — Спрос колоссальный! Все медицинские препараты из облепихи на строгом учёте. Так вот, этого маслица государство вырабатывает пока ещё далеко не достаточно. Естественно, где дефицит, поднимает голову частник. Собирают дикорастущую ягоду и добывают масло кустарным способом. Цена за пол-литра — пятьдесят рублей.
— Сколько? — не поверил Чикуров.
— Полсотни, говорю, за бутылку… Некоторые подпольные фармацевты выжимают из облепихи на пятьдесят тысяч рублей маслица за один сезон! Привалов поначалу сам добывал дефицитное лекарство, но постепенно стал перекупщиком, за что и короновали его. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Облепихового промысла Привалову стало мало. Конечно, если швырнуть скульптору двадцать семь тысяч за памятник из бронзы. Вот он и занялся ещё скупкой и перепродажей наркотиков.
— Ну а для чего ему нужен был Комаров? — спросил Чикуров.
— Привалов постоянно в разъездах на своей машине, заниматься честным трудом времени нет, — стал объяснять Жур. — С Комаровым они познакомились случайно. Комаров был БОМЖем[3], находился в бегах как злостный алиментщик. Встретились и поняли, что нужны друг другу как воздух! «Облепиховый король» якобы потерял паспорт. Это так написано в его заявлении в милицию… Ему, естественно, выдали новый. Тогда Привалов один паспорт передал Комарову, а второй оставил себе. Одним выстрелом убил двух зайцев: теперь он вроде честно служил администратором ансамбля «Крылья молодости», и никто его не попрекал тунеядством, с другой стороны, Комаров тоже обезопасил себя: спрятался за чужую фамилию, никто не найдёт и не накажет за бегство от уплаты алиментов.
— Хорошо устроились! — усмехнулся Чикуров.
— Ну да! Комаров почти не бывает в Барнауле, все в разъездах. И когда Привалов уезжал по своим тёмным делам, тоже никого не удивляло!
— Но как же все-таки участковый не разобрался с двойной жизнью Привалова? — посетовал Кичатов.
— И неудивительно, — сказал Игорь Андреевич. — У нас, к сожалению, главное — документ, а не человек.
— Точно, — подтвердил Жур. — У бумаг — великая сила! Но разобраться участковый и не стремился, потому что частенько захаживал к Приваловым, за сувенирами. Это теперь, когда местные товарищи узнали, что Привалов матёрый спекулянт и распространитель наркотика, схватились за голову! Сейчас, слава богу, крепко берутся везде за искоренение наркомании. Уже нащупали кое-какие связи Привалова. Я попросил, чтобы они проинформировали вас, Игорь Андреевич.
— Прекрасно! — обрадовался Чикуров. — Просто отлично, Виктор Павлович! Видите ли, мы с Дмитрием Александровичем все больше склоняемся к мысли, что из-за этих проклятых наркотиков и разгорелся сыр-бор в Южноморске.
— Ясно, Игорь Андреевич, — откликнулся капитан, и в голосе его проскользнули торжествующие нотки: не зря, выходит, он работал в Барнауле.
— Какие будут дальнейшие указания?
— Как условились, теперь отправляйтесь в Алма-Ату, — сказал Чикуров. — Разыщите Трешникова. Нужно установить, что и зачем искал он в море двадцать третьего октября? Почему улетел в Алма-Ату? Может быть, Трёшников является курьером, то есть перевозит наркотики? Или сам заготавливает гашиш?
— Все понял, — отчеканил Жур.
Перед тем как проститься, Игорь Андреевич рассказал ему о том, что произошло за последнее время в Южноморске, в частности, о странном «глухонемом», сбежавшем из больницы.
По Москве гулял холодный ветер, швыряя в лицо прохожим сухие колючие снежинки. Чувствовалось — зима на пороге.
Как только Ян Арнольдович Латынис прилетел в столицу, тут же без промедления отправился в Министерство строительства.
Сдавая в гардеробе пальто, майор увидел в углу на полу портрет Варламова в траурной рамке. Видимо, он совсем недавно висел на видном месте. По словам гардеробщика, гражданская панихида и похороны состоялись дня два назад.
Но не дань уважения привела майора на место работы Варламова. Латыниса интересовало, где мог находиться Ким Харитонович двадцатого февраля 1982 года — в день, когда на окраине областного города в центре европейской части России была ограблена сберкасса.
В связи с тем что на похищенных тогда купюрах были обнаружены отпечатки пальцев Варламова, следовало проверить, а не скрывался ли под личиной «несчастной женщины» Кати сам Ким Харитонович? Предположение, конечно, дикое, но вдруг? Если он был наркоманом, то таких людей не смущают способы добычи денег, они готовы на любое преступление, лишь бы заполучить дурман. Эта версия вроде подкреплялась тем, что в море рядом с «жигуленком» нашли женский парик, а ведь налётчик предстал перед работниками сберкассы в женском обличье. Правда, как удалось установить, голова у Варламова была пятьдесят восьмого размера, а парик — пятьдесят шестого. Но учитывая, что некоторое время парик находился в воде, можно было бы предположить, что он просто-напросто усел.
Для того чтобы провести опознание, не является ли Варламов грабителем, были изготовлены несколько фотографий Кима Харитоновича, на которых художник «одел» его в женский парик с платком и без платка.
Кадровик министерства, к которому обратился майор, поднял архивы начала 1982 года. Оказалось, что с шестнадцатого февраля по семнадцатое марта заместитель министра находился в очередном трудовом отпуске.
Так что не исключено…
Ночь Латынис коротал в скором поезде и раненько утром прибыл в областной город, где произошло ограбление. Сберкасса открывалась в девять часов, и ему пришлось маяться до этого времени.
Опознание провели по всем правилам, с понятыми. Из трех свидетелей преступления остались двое: одна кассирша переехала в другой город. Заведующая сберкассой считала, что Варламов в парике похож на «Катю», а контролёр категорически утверждала обратное — ничего общего с преступником.
Возвращался в Москву Ян Арнольдович, что говорится, при своих интересах. Предстояла нудная работёнка — спустя столько лет допытываться, что делал и где находился Варламов в момент того далёкого ограбления. Как выяснилось, путёвка у него была в Кисловодск.
Но встал вопрос, действительно ли Варламов ездил на этот знаменитый курорт? И если ездил, то не отлучался ли из Кисловодска 20 февраля 1982 года?
Получить ответ можно было только на месте, и Латынису пришлось вылететь в Минеральные Воды.
В санатории, где отдыхал Варламов, врач и процедурная медсестра подтвердили, что замминистра действительно лечился у них срок в срок, указанный в путёвке. Варламов добросовестно прошёл весь курс процедур, что было зафиксировано в его лечебной карте.
Но одно обстоятельство насторожило оперуполномоченного уголовного розыска: оказывается, в Кисловодске Ким Харитонович отдыхал не один, а со своей двоюродной сестрой, которая лечилась по курсовке в городской поликлинике, а питалась в столовой санатория. Талоны на питание оплачивал Варламов. Ели они вместе, за одним столом.
Выходит, сестра могла знать, не отлучался ли брат из города? Но где искать эту женщину? Набравшись смелости, Латынис позвонил в Москву, вдове заместителя министра. Принеся тысячу извинений, он спросил у неё, где проживает сестра Кима Харитоновича. К немалому удивлению майора, вдова сообщила, что у её погибшего мужа нет никаких сестёр, ни родных, ни двоюродных, правда, имеется двоюродный брат, но Ким Харитонович не поддерживал с ним отношений последние десять лет.
Ян Арнольдович связался с Чикуровым в Южноморске, обрисовал ситуацию.
— Знаем мы таких сестричек, — сказал с усмешкой Игорь Андреевич. — Ещё одна любовница, это факт.
— Ну и любвеобильный же был гражданин, — заметил Латынис. — Дочка учительницы Кроль, девочки, поставляемые Блинцовым, и вот теперь ещё эта…
— Найдите её, Ян Арнольдович, — настойчиво попросил руководитель следственно-оперативной группы. — Нужно в конце концов внести ясность в историю с ограблением.
— Буду стараться, — заверил майор.
Пришлось переворошить в санатории десятки папок с документами. И когда уже Латынис отчаялся, на глаза ему попалось заявление Варламова на имя главврача, в котором Ким Харитонович просил прикрепить к столовой некую Голубкину С.Г. за наличный расчёт.
Дальше уже было легче. В паспортном столе горотдела внутренних дел отыскали сведения о Голубкиной, временно прописавшейся в гостинице той зимой.
«Сестра» Варламова проживала в Москве, работала… в том же министерстве, что и Ким Харитонович, референтом. Имя и отчество Голубкиной
— Стелла Григорьевна — насторожили Латыниса, он слышал их прежде. Майор позвонил в отдел кадров министерства, и знакомый кадровик ответил:
— Так это же Ростоцкая, бывшая секретарь Варламова.
— Но почему же тогда была Голубкиной? — спросил Латынис.
— Фамилия её мужа, — пояснили на том конце провода. — Когда она развелась, то восстановила прежнюю, девичью.
Таким образом, круг замкнулся. Латынис вылетел в Москву.
Стоит ли идти прямо к Ростоцкой и в открытую расспрашивать её о Варламове? Ян Арнольдович решил посоветоваться с Чикуровым и позвонил в Южноморск.
— Мне кажется, что Стелла Григорьевна вряд ли станет откровенничать, — сказал следователь, выслушав Латыниса. — Не в её это интересах.
— Что же делать?
— Постарайтесь собрать побольше информации о связях Ростоцкой с Варламовым у сослуживцев, соседей, знакомых. Ну а потом сами смотрите, как это использовать. И не забывайте, помимо денег, похищенных в сберкассе, нас интересует, были ли знакомы Решилин и Варламов. Это, кстати, можете выяснить у вдовы Варламова.
— Удобно ли? — Майор вспомнил портрет Кима Харитоновича в чёрной рамке в гардеробе министерства. — В трауре небось.
— Кичатов встречался с ней в Южноморске, говорит, что женщина она сильная, рассудительная.
— Ладно, свяжусь с ней, — сказал Латынис.
Он тут же позвонил Варламовой, и она разрешила майору приехать к ней. Что Ян Арнольдович и сделал.
Вдова была одна в огромной квартире на проспекте Мира, и их беседе никто не мешал. Ян Арнольдович прежде всего попросил прощения, что вынужден задать несколько вопросов относительно Кима Харитоновича, когда в доме такое горе, но Вероника Петровна перебила его:
— Не надо извиняться. Спрашивайте. Если что знаю — скажу, нет — не обессудьте.
Майора удивило её спокойствие, даже невозмутимость: ведь всего несколько дней назад похоронила мужа.
— Скажите, вы знаете художника Решилина? — начал он.
— По-моему, этого художника должен знать каждый культурный человек. — Варламова закурила «Беломор», по-мужски сжав мундштук папиросы. — Во всяком случае, кто считает себя таковым…
— Да-да, разумеется, — смутился Ян Арнольдович. — Но я вот о чем хотел бы знать: ваш муж был знаком с Решилиным?
— Знаком? — удивилась вопросу вдова. — Никогда не слышала об этом. Хотя решилинская картина у нас есть. Вон висит…
Вероника Петровна показала на работу художника. На картине было изображено одухотворённое юношеское лицо. Светлые волнистые волосы, голубые глаза. Картина была написана на деревянной доске, как икона. И манера была иконописная.
— Называется «Молодость художника», — пояснила Варламова.
— Откуда она у вас? — поинтересовался Латынис.
— Кто-то из знакомых подарил Киму Харитоновичу, — ответила Вероника Петровна. — А может быть — подхалим. Собственно, картин было две, но другая уплыла…
— К кому?
Вопрос повис в воздухе. Варламова глубоко затянулась дымом и некоторое время с прищуром глядела на решилинское творение, вероятно колеблясь, стоит ли открываться собеседнику.
— К кому? — повторила вдова. — К одному человеку, к которому много чего ещё уплыло… К женщине.
— Ростоцкой? — невольно сорвалось с языка у Латыниса.
Он испугался: вдруг его бестактность обидит Варламову. Однако она даже глазом не моргнула, только потушила докуренную папиросу и засмолила новую.
— Да, у Стеллочки ручки хоть и нежные, но цепкие, — усмехнулась вдова.
— Что в них попало, считай — пропало…
— Поскольку уж зашёл разговор о Стелле Григорьевне, — осмелел Ян Арнольдович, — что вы можете рассказать о ней? — И поправился: — Конечно, если не хотите, можете ничего об этом не говорить.
— Что правда, то правда, большого желания нет, но, очевидно, придётся,
— вздохнула Варламова. — Я ведь вижу, вас интересует это неспроста. И делить нам с этой женщиной теперь нечего. Понимаете, последние лет восемь нас с Кимом Харитоновичем объединяла лишь общая крыша над головой. Ну, ещё необходимость изображать благополучную супружескую пару. Но фактически он имел другую жену, Ростоцкую…
— Понятно, — кивнул Латынис, немало поражённый тем, что вдова Варламова говорит об этом так буднично и просто.
Она, словно прочитав мысли майора, усмехнулась:
— Удивляетесь, чего это я разоткровенничалась? Так вы же все равно об этом знаете, я уверена.
— Не знаем, — мотнул головой Ян Арнольдович.
— Ну, так узнали бы. Да ещё подумали: несчастная женщина, которую обманывали почти десять лет! Так вот, к чести Кима Харитоновича будет сказано, в прятки он со мной не играл. Сам открылся. Единственное, о чем я его просила, чтобы не знали дети. Во всяком случае, до тех пор, пока не станут совсем взрослыми. Это условие Ким Харитонович выполнял. — Вероника Петровна, тяжело задумавшись, помолчала. — Может, и хорошо, что сын и дочь так и не знают, что их отец… — Она снова вздохнула.
«Вот, значит, почему она не убивалась из-за смерти мужа», — подумал Латынис.
Подробности отношений Ростоцкой и Варламова он ворошить не стал и последнее, о чем спросил, были ли у покойного вредные пристрастия — к выпивке или, может, к наркотикам?
— Хорошее вино и коньяк муж любил, — отвечала Вероника Петровна. — Но пил в меру. Ну а насчёт наркотиков… Ким Харитонович предпочитал удовольствия реальные, осязаемые… Впрочем, категорически утверждать не берусь. По существу, последнее время мы были чужие люди.
Больше ничего интересного выведать у вдовы не удалось. Но и то, что она сообщила, было ценным. Майор решил эти сведения углубить, расширить, в чем и преуспел.
Действительно, последние восемь лет Варламов и Ростоцкая фактически были мужем и женой, что они, однако, пытались тщательно скрывать от окружающих, особенно от сослуживцев. Фамилия Ростоцкая досталась Стелле Григорьевне от отца. Правда, около трех лет она была Голубкина. Брак секретаря Варламова с ничем не примечательным инженером Голубкиным был загадочным пятном во всей этой истории. Но в этот промежуток времени Стелла Григорьевна с мужем переехала в трехкомнатную кооперативную квартиру в самом центре Москвы, после чего последовал развод. Супруги расстались, инженер из квартиры выселился. Можно было предположить, что этот брачный финт задумали и проделали из-за дополнительных квадратных метров: так бы секретарша могла претендовать лишь на однокомнатную квартиру.
Все расходы по роскошному уютному гнёздышку: паевой взнос (а он был выплачен полностью), мебель и прочая обстановка — нёс Варламов. Более того, совсем неподалёку от столицы, в деревне, на имя Ростоцкой была приобретена ветхая избушка, которая в минимально короткий срок — всего лишь за одно недолгое московское лето — превратилась в премиленькую комфортабельную дачу, включая сауну на участке. Здесь же имелся под домом тёплый гараж, где стояла новенькая «Волга», оформленная на имя Стеллы Григорьевны.
По самым скромным подсчётам, дача обошлась Варламову не менее, чем в тридцать тысяч, не считая, естественно, автомобиля. А вот сколько он вложил в двухэтажный особняк на окраине Южноморска, в котором проживала родительница Стеллы Григорьевны пенсионерка Кроль, сказать было трудно. Тут уж постарался Блинцов, выкроив для строительства дома самые лучшие дефицитные материалы.
Стелла Григорьевна навещала мать несколько раз в году, живя у неё по два-три дня. Но вообще-то она не афишировала своё имущество, ни движимое, ни недвижимое. А тем считанным людям, которые знали о нем, Ростоцкая говорила, что якобы все это оставил ей муж, Голубкин…
Когда Латынис сообщил все эти сведения руководителю следственно-оперативной группы, Чикуров заметил:
— Откуда у Варламова могли быть такие деньги? Его зарплаты явно не хватило бы на все эти приобретения и расходы.
— Учтите, Игорь Андреевич, он содержал ещё и свою законную семью! У них обстановка тоже очень даже богатая, у детей дублёнки, всякие там мохеры, джинсы, «Шарпы», «Панасоники»… Опять же — «Волга»!
— Это меня и смущает. Но один из основных вопросов, связаны ли Варламов и Решилин, так и остаётся невыясненным, — сказал следователь.
— Я встречусь с Ростоцкой. Может быть, Варламов был с ней более откровенен, чем с законной супругой.
— Только не надо её настораживать, — посоветовал Чикуров. — Мы ещё не знаем взаимоотношений Стеллы Григорьевны с Блинцовым. Кто может поручиться, что они не связаны какими-нибудь махинациями? Тем более что работают в одной системе и Блинцов в какой-то степени зависит от Ростоцкой.
— Хорошо, Игорь Андреевич, — сказал Латынис. — Я что-нибудь придумаю.
И он надумал отправиться к заместителю начальника отдела министерства под видом любителя и коллекционера современной живописи. Латынис позвонил Стелле Григорьевне на работу и попросил продать ему картину Решилина, в крайнем случае — обменять на какое-нибудь произведение искусства: у него-де есть выгодное предложение. Ростоцкая удивилась, откуда известно, что она имеет работу знаменитого художника? Ян Арнольдович ответил, что эти сведения он получил из уст самого Решилина, трагически погибшего несколько дней назад на Чёрном море. Приманка сработала безотказно: Стелла Григорьевна была заинтересована. Тем более что сообщение о смерти художника появилось в газетах и взбудоражило всю Москву.
Ростоцкая назначила встречу Яну Арнольдовичу вечером у неё дома, предупредив, однако, что будет не одна. Возможно, она опасалась, как бы под личиной коллекционера к ней не завалился грабитель.
Жила Стелла Григорьевна на улице Герцена, рядом с Центральным Домом литераторов. Открыл Яну Арнольдовичу здоровый цветущий мужчина лет тридцати. Раздевшись в передней, Латынис прошёл в комнату, сопровождаемый недобрым взглядом раскормленного дога ростом с телёнка.
Решилинскую картину он «узнал» сразу (выспросил о ней дотошно у вдовы Варламова), чем развеял последние сомнения у хозяйки квартиры, если они у неё были. Потом завели светский разговор. Пытаясь выведать, была ли Ростоцкая знакома с художником, или, может быть, Решилина знал её бывший шеф, Латынис был крайне осторожен, старался ни на чем не заострять внимания хозяйки.
Увы, Стелла Григорьевна отрицала как своё знакомство со знаменитым живописцем, так и Варламова. Говорила она, по-видимому, правду. Солгала лишь в том, что картина досталась ей от мужа, с которым она развелась.
«Сделка», разумеется, не состоялась: Ян Арнольдович нарочно предложил смехотворную цену за картину Решилина. Отказавшись от кофе, Латынис раскланялся.
А на следующий день он отправился на дачу погибшего художника, где тот проводил большую часть времени и где жила родная сестра Феодота Несторовича.
Ехать пришлось на электричке, затем — на автобусе. Погода стояла совершенно неподходящая для загородных прогулок: шёл настырный холодный дождь, порывами налетал ветер. Сойдя на последней остановке в чопорном дачном посёлке, Ян Арнольдович узнал, что до решилинского участка топать ещё километров пять. Ему показали тропинку, которая огибала водохранилище. Майор и так весь озяб и промок, а глядя на свинцовые волны, ходившие по водным просторам, ощутил холод ещё сильнее. Сырость словно проникла до самого мозга костей.
«Отсюда, наверное, и пошло слово „промозглый“, — мрачно думал Латынис, борясь со встречным ветром.
Когда он добрался до небольшого посёлка, состоящего всего из десятка необъятных участков с солидными домами, то совершенно закоченел. Постучал в одни ворота, другие — никто не откликался (в решилинскую дверь майор не звонил, у него были другие планы — пока что поговорить с соседями). Наконец его впустили. Это была дача военного, какого-то генерала армии. Фамилию майор не расслышал, а переспрашивать было неудобно. Открыл калитку отец этого самого генерала. Старик оказался сердечный, повёл Яна Арнольдовича в тёплую комнату, предложил горячего чая. То, что милиция интересовалась Решилиным и его родственницей, его не удивило: ежели уж человек пришёл пешком в такую погоду, резон, выходит, имеется.
— Я лично у художника на даче не был ни разу, — рассказывал словоохотливый старик. — У него три вот таких пса бегают на участке без привязи, — он показал от пола метра полтора. — И злющие, страсть! А с сестрой Решилина иногда видимся. В посёлке, в продмаге. Она всем хозяйством заправляет. И мужик у ней домовитый. Немой, правда…
— Как вы говорите, немой? — переспросил Латынис.
— Да, от рождения, как сказала Ольга, — кивнул отец генерала. — Но все понимает. По губам. Мужик приветливый, всегда первым здоровается. Кивает, стало быть…
Сообщение соседа очень заинтересовало майора. Во-первых, на даче Решилина была прописана только его сестра, Ольга Несторовна. По документам
— холостая. Во-вторых, человек, живущий на даче в качестве её мужа, был глухонемым.
Но ведь сбежавший из больницы в Южноморске человек тоже вроде был глухонемой!
Ян Арнольдович стал расспрашивать старика, как выглядит муж Ольги Несторовны.
— Такой крепенький мужчина, — стал объяснять сосед.
— Цвет волос?
— Тёмный. Шатен, стало быть. И сам смуглый, — ответил генеральский папаша. — Ну, это скорее всего от постоянного пребывания во дворе, на солнце…
— Усы у него есть?
— Имеются, — кивнул сосед. — Небольшие.
— Где сейчас муж Ольги Несторовны, не знаете?
— Да что-то давненько его не видал.
— Ну, как давненько? — допытывался Латынис, еле сдерживая волнение.
— Пожалуй, с того времени, как Решилин уехал, — сказал старик и поправился: — Недели три, стало быть.
— А сестра художника в настоящее время живёт на даче одна?
— Зачем одна. Братец пожаловал, — ответил сосед. — Очень, между прочим, на художника похож.
Поблагодарив старика за чай и полученные от него сведения, Ян Арнольдович поспешил в поссовет, к участковому инспектору. Тот подтвердил, что приехал родной брат погибшего художника и что у них с Ольгой якобы большие разногласия по поводу наследства.
— Позавчера я ехал с ними в одной электричке в Москву, так они всю дорогу скубались, — сказал участковый. — А от Решилина добра осталось много, ой, много! На даче прямо музей! Нотариус описывал имущество целый день!
Латынис спросил у него, что это за глухонемой муж у сестры художника, как фамилия, чем он занимается?
Вопрос поставил участкового в тупик: никакими сведениями о сожителе (так он выразился) Ольги Решилиной он не располагал.
— Как же так? — удивился оперуполномоченный уголовного розыска. — Должны располагать! Он проживает на вашем участке!
Участковый инспектор стал оправдываться: это, мол, дача, человек здесь не прописан…
Не удержавшись, Ян Арнольдович сделал участковому внушение, а напоследок попросил приглядеть за домом художника, не объявится ли муж Ольги Несторовны. А может, он уже здесь, скрывается на даче?
— Проверю, товарищ майор! — козырнул участковый.
— Только аккуратненько, не переполошите жильцов, — предупредил Латынис.
Он отправился в Москву, снедаемый вопросом: разные люди муж Ольги Решилиной и «глухонемой» из южноморской больницы или это один и тот же человек? Ян Арнольдович сопоставлял приметы, которые сообщил сосед Решилина, с описанием беглеца, составленным со слов медперсонала больницы. Кое-что совпадало, а кое-что — нет. Тот, из Южноморска, был лет сорока, а этот вроде помоложе. Тот кудрявый, а здешний — прямоволосый. У того усы пышные, густые, у этого — небольшие.
«Может, отец генерала плохо разглядел? — думал майор. — Вон у него какие линзы в очках! Зрение небось ни к черту!»
Пока он добирался до города, созрела идея, под каким соусом появиться завтра на даче Решилина. Ян Арнольдович разыскал нотариуса, которая занималась наследством погибшего художника. Нотариальная контора уже закрылась, рабочий день кончился, но Латынису повезло: нотариус оформляла стенгазету к октябрьским праздникам. Это была совсем ещё молодая девушка, год назад окончившая юридический факультет МГУ.
Латынис представился. У неё было редкое имя — Вета. Заметив, с каким увлечением она рисовала шапку стенгазеты, Ян Арнольдович сказал:
— В вас пропадает истинный художник!
— Да, когда-то мечтала… А стала юристом.
— Тогда помогите мне, Вета Владимировна, — попросил оперуполномоченный уголовного розыска. — Как юрист юристу.
И он обрисовал свой план: отправиться завтра на дачу Решилина якобы для того, чтобы посмотреть, как хранятся описанные вещи, и разрешить спор между родственниками художника, который действительно имел место. Латынис же будет представлен под видом консультанта областного отдела юстиции, проверяющего работу нотариуса.
— Я — пожалуйста, — согласилась Вета Владимировна. — А вот отпустит ли меня начальство?
— Попробую уломать, — улыбнулся Ян Арнольдович.
— Что, добираться будем своим ходом? — с тоской посмотрела на майора нотариус.
Ян Арнольдович вспомнил своё путешествие под дождём и сказал:
— Машину я организую.
Условились встретиться в девять утра.
Насчёт машины посодействовали московские братья-сыщики, не то пришлось бы несладко: погода была ещё более отвратительной, чем вчера, — шёл мокрый снег. В теплом салоне «Москвича» Вета Владимировна говорила по дороге о своём увлечении картинами Решилина, о необычном, наполненном драматическими зигзагами творческом пути художника.
— Представляете, — рассказывала она, — был как многие официальные художники-аллилуйщики, рисовал доярок, стахановцев, портреты вождей и вдруг исчез куда-то. Потом возник в совершенно новом качестве. Словно это был другой человек! Прозрачная, чистая живопись, в которой ожили традиции древнего русского искусства, иконописи… Говорят, первая же выставка этого направления прогремела как гром среди ясного неба! А потом Решилин постепенно превратился буквально в легенду. Правда, кое-кто ругал его, мол, эпигонство, эклектика. Но я думаю, что все идёт от зависти.
— Интересно, что думал Решилин, когда смотрел на свои старые картины?
— хмыкнул Латынис. — Наверное, стыдно было.
— А не на что было смотреть, — ответила нотариус. — Он, можно сказать, совершил подвиг — сжёг всех доярок, трактористов и прочих…
— Сжёг? — удивился Латынис.
— Ну да! Вот что значит настоящий талант, истинный! И право же, до того грустно смотреть, как сестрица и братец Феодота Несторовича грызутся из-за его творений… Страшно подумать, Решилин отдал всю душу, а здесь — низкий торг. Поистине: сик транзит глория мунди[4].
За разговорами незаметно доехали до привилегированного дачного посёлка. Когда Латынис нажал на кнопку звонка в высоком глухом заборе, сначала к воротам с той стороны прибежало несколько собак, зашедшихся в злобном лае, и только спустя минут пять в щели над почтовым ящиком появились чьи-то глаза. Женский голос угомонил церберов, и дверь отворилась.
— Здравствуйте, Вета Владимировна! — поздоровалась с нотариусом женщина в пальто и чёрном траурном платке.
— Здравствуйте, Ольга Несторовна, — сказала нотариус. — Разрешите к вам…
— Пожалуйста, проходите, — насторожённо глядя на незнакомого мужчину, пригласила Решилина.
Прошли через обширный участок к дому. Покрытая чёрной от влаги дранкой громадина казалась мрачной и нежилой. Но внутри было уютно и тепло. Разделись. Вета Владимировна пояснила хозяйке цель их посещения.
— Не беспокойтесь, все на месте, — сказала Ольга Несторовна. — Можете убедиться.
Нотариус предложила пройти на второй этаж: картины Решилина, а также коллекция полотен и старинных икон — все находилось там. Поднявшись, очутились в большой комнате. Как понял Латынис, это была святая святых художника — его мастерская. Здесь, в дальнем углу, трудились у мольбертов молодой парень и девушка в заляпанных красками халатах.
— Ученики покойного брата, — пояснила Ольга Несторовна. — Он этих двоих особенно привечал. Работать негде, вот они и попросились. Отказать неудобно. Да и Феодот Несторович такое не одобрил бы, потому что не по-божески это, — вздохнула она скорбно, осенив себя быстрым крестом.
«Смотри-ка, набожная», — отметил про себя Латынис.
Он с интересом осматривал обитель знаменитого художника и был поражён, что такая маленькая неказистая икона, висевшая в мастерской, оценивалась в полмиллиона золотых рублей… Да и работы самого Решилина, на его взгляд, не стоили тех денег, которые, по словам нотариуса, предлагали Феодоту Несторовичу.
«Наверное, надо быть знатоком и ценителем», — подумал майор. В том, что он не знаток и не ценитель, Ян Арнольдович убедился, посмотрев на холсты учеников Решилина, до того увлечённых работой, что, казалось, они не замечали никого вокруг: картины молодых художников, по мнению Латыниса, мало чем отличались от полотен учителя.
Спустились на первый этаж, осмотрели остальные комнаты, где вещи были менее ценные, чем картины и иконы, но все равно это было огромное богатство: редкий фарфор, книги, в том числе уникальная Библия издания шестнадцатого века, и другой антиквариат.
Латынис убедился, что в особняке «глухонемого» не было. Но оставалась ещё времянка во дворе, а если говорить точнее — вполне добротный домик. Ян Арнольдович не знал, под каким предлогом осмотреть его. Пока он ломал голову над этим, за окном промелькнула долговязая фигура в куртке с капюшоном, и хлопнула входная дверь. Через минуту в комнату, где находилась хозяйка с гостями, заглянула хмурая физиономия.
Если бы майор не знал, что Феодот Несторович бесповоротно мёртв, то принял бы его младшего брата за воскресшего художника — так похожи были они. Емельян Решилин даже бороду отрастил под брата.
Поздоровавшись с нотариусом и Яном Арнольдовичем, родственник живописца злорадно произнёс, обращаясь к сестре:
— Ничего у тебя не выйдет, как ни пыжься! Я только что был у юриста: делить наследство будешь не ты, а суд! И поровну! — Он театральным жестом показал на нотариуса. — Как тебе и объясняла Вета Владимировна.
Ольга Несторовна поджала губу, смерила брата презрительным взглядом, но ничего не сказала. А тот продолжал, апеллируя к обоим представителям закона:
— Представляете, моя дражайшая сестрица считает, что имеет право претендовать на большую часть!
— Нет, — мягко сказал Латынис, — наследство будет разделено между вами пополам. А ваш муж на него права не имеет, — повернулся он к хозяйке.
При слове «муж» Емельян Несторович так и взвился:
— Какой муж! Пригрела какого-то типа и выдаёт его за супруга!
— Никто не выдаёт… С чего это ты взбеленился? — пробормотала Решилина, которую явно смутил весь этот разговор.
— И рожа у этого Тимофея Карповича какая-то сомнительная! — не унимался Емельян Несторович.
— Э-эх, как тебе не стыдно! — напустилась на него сестра. — Обиженный богом человек, глухонемой, а ты…
— Ну да, его обидишь, держи карман шире! Он сам кого хочешь обидит! — зло произнёс Решилин-младший. — Не дай бог встретиться один на один в тёмном переулке! — Он снова обратился к нотариусу и Латынису: — Слышите, что она мне заявила: мол, будешь распоряжаться здесь, вернётся Тимофей Карпович, он тебя живо на место поставит!
— А где он? — спросил у Ольги Несторовны Латынис.
— Откуда я знаю? — пожала плечами хозяйка, ещё больше теряясь.
— Когда он уехал? — продолжал расспрашивать Ян Арнольдович, хотя такие вопросы вроде бы не должны были интересовать работника отдела юстиции, занимающегося нотариальными делами.
— Одновременно с Феодотом, царство ему небесное, — перекрестилась Ольга Несторовна и опять напустилась на брата: — Ты Феодоту в подмётки не годишься! Он в раю теперь, потому как жил по-праведному! Птаху малую не обидит! Вот и Тимофея Карповича приютил! — Это уже было обращено к представителям закона. — Тот и жил у нас, по хозяйству помогал… И никакой он мне не муж! — Она снова повернулась к брату и покачала головой: — Богохульник ты, Емельян, вот кто!
— А ты ханжа! — рявкнул в ответ Решилин-младший. — Перед людьми играешь в святошу, а сама готова задушить родного брата, лишь бы все наследство прибрать к своим рукам!
— Ты, Емельян, говори, — сурово посмотрела на него сестра, — да не заговаривайся!
Вета Владимировна хотела было вмешаться в ссору, но Латынис незаметно остановил её: в перепалке братец или сестрица могли сгоряча поведать такое, чего не выдали бы в спокойной обстановке.
— Нет, вы послушайте, как она решила делить между нами творческое наследие Феодота Несторовича, — апеллировал к нотариусу Решилин-младший. — Тебе, говорит, его старые картины, а мне, то есть ей, — новые! — Он резко повернулся к Ольге Несторовне. — А вот это не хочешь? — И показал сестре кукиш. — Уж лучше пусть все отойдёт государству!
— Тьфу, охальник! — сплюнула та.
— Погодите, что вы имеете в виду под старыми и новыми картинами? — ухватилась за слова Емельяна Несторовича Вета Владимировна.
— Новые — которые висят там! — показал на верх дачи Решилин-младший. — А старые во флигеле сложены, — кивнул он в окно, — на времянку.
— Как же так? — строго посмотрела на хозяйку нотариус. — Вы мне о картинах во флигеле ничего не говорили…
Ольга Несторовна покраснела и стала сбивчиво объяснять, что о существовании полотен Решилина во флигеле не знала, мол, лежали в запертой комнате, а она думала, что там какие-то старые вещи.
— Пойдёмте посмотрим! — решительно направилась к выходу Вета Владимировна.
Все вышли во двор, подошли к домику. Снег падал крупными мокрыми хлопьями, пятная одежду. Решилина достала связку ключей, открыла дверь. Во времянке было холодно и сыро, сразу было видно, что здесь никто не жил. И все же Ян Арнольдович заглянул в две небольшие комнатки, одна из которых была спальней с двумя кроватями, другая служила, видимо, для всех остальных нужд: кухней, столовой, гостиной.
А вот третья комната, довольно обширная, была чем-то вроде кладовки или сарая. В помещении было несколько старых вещей: сломанный пылесос, колченогое кресло, торшер, какой-то узел, а все остальное пространство занимало нечто, покрытое цельным куском пыльной материи.
— Вот видите, — оправдывалась Ольга Несторовна, показывая на рухлядь в углу. — Я думала, под тряпками тоже старьё.
И она приподняла материю. Под ней штабелем лежали картины.
Вета Владимировна взяла одну в руки. С холста глядело румяное лицо молодой женщины с ослепительной рекламной улыбкой. Из-под руки жизнерадостной доярки умно и счастливо смотрела на свет бурёнка.
А дальше пошли суровые и непреклонные, озарённые возвышенным трудовым подвигом комбайнёры, водители могучих самосвалов, рыбаки, шахтёры, академики…
Латынис и Вета Владимировна переглянулись.
— Странно, — проговорила нотариус. — Ведь Феодот Несторович все это якобы сжёг… Давно…
Сестра художника не могла ничего сказать ей в ответ.
Приступили к описи. Картин оказалось двести семнадцать.
— Это ещё не все, — вставил своё слово молчавший до сих пор Емельян Несторович. — На чердаке над гаражом имеется штук пятнадцать.
Когда Решилина запирала времянку, Латынис внимательно присмотрелся к ключам: ему показалось, что он уже видел где-то похожую связку — два от английского замка и один странный, похожий на шуруп, но без нарезки Ян Арнольдович попросил на минутку связку, заинтересовавшись якобы брелоком…
«Да, я определённо уже встречался где-то с такими ключами», — заключил он, возвращая связку владелице. Но вот где именно, майор не мог вспомнить.
Гараж состоял из двух отделений. В одном стоял, поблёскивая лаком, большой чёрный приземистый «ситроен», похожий на неведомое морское чудовище, в другом помещении находилось то, что держит обычно рачительный хозяин машины, — запасные части, автокосметика, инструмент. Отсюда шла лесенка на чердак, где хранились картины Решилина, его, так сказать, первого периода. Причём сюда он определил почему-то портреты вождей, многие имена которых уже даже не помнятся.
И эти картины внесли в дополнительную опись. Ольга Несторовна неожиданно вдруг отчего-то расстроилась, расплакалась, и Латынис отказался от своего намерения провести по фотографиям опознания неизвестных граждан, утонувших в том же месте, где и её брат. Принимая во внимание её состояние, он отложил это мероприятие на завтра.
По дороге назад Вета Владимировна явно была обескуражена находкой картин Решилина, от которых он сам якобы отрёкся. А оперуполномоченного уголовного розыска занимало другое: не давала покоя связка ключей, которые он видел в руках Ольги Несторовны.
Озарение пришло в Москве, когда он уже добрался до своей гостиницы. Ян Арнольдович тут же позвонил в Южноморск. Поначалу он рассказал Чикурову о посещении родственников художника и о том, что на даче никто, кажется, подпольно не живёт.
— Кажется или точно не живёт? — спросил руководитель следственно-оперативной группы.
— Емельян Несторович с радостью бы выдал этого глухонемого Тимофея Карповича, — сказал Латынис.
— Ещё что у вас?
— Помните, Игорь Андреевич, у неизвестного с огнестрельной раной на голове, которого водолазы нашли в море, была в кармане связка ключей…
— Да, вещдок хранится у меня в сейфе, — подтвердил Чикуров, и в голосе его послышалось насторожённость.
— Так вот, точно такая же связка имеется у сестры Феодота Несторовича Решилина, — сообщил майор. — Я хочу сказать, что это ключи от решилинской дачи.
На том конце провода воцарилось молчание. Латынис подумал, что их разъединили, и крикнул:
— Алло, алло! Игорь Андреевич!..
— Да слышу я, слышу, — откликнулся Чикуров. — Понимаете, Ян Арнольдович, перевариваю…
— И что?
— Лихо получается! Видите ли, удалось идентифицировать этого самого застреленного. Ответ пришёл из МВД СССР: отпечатки пальцев утопленника с пулевым ранением соответствуют отпечаткам пальчиков некоего Пузанкова, который отбывал наказание в колонии по статье 144 и освободился четырнадцать лет назад…
— Фю-ить! — присвистнул Латынис. — Действительно закручено!
— Но Пузанков не глухонемой… Короче, проведите как можно скорее опознание и допросите сестру и брата Решилиных.
— Теперь уже завтра…
Напоследок Чикуров проинструктировал майора, что ему следовало узнать у Ольги и Емельяна.
Назавтра Латынис произвёл опознание. В райотдел внутренних дел сначала вызвали Емельяна Решилина. Среди предъявленных ему фотографий он сразу указал на одну, сделанную с убитого под Южноморском незнакомца. Это действительно был Тимофей Карпович, проживавший до этого на даче художника. Однако сообщить подробности, кто он, как попал к Феодоту Несторовичу и чем на самом деле занимался, Емельян Решилин не мог. По его словам, он навещал знаменитого родственника очень редко. И вообще отношения между двумя братьями были далеко не идеальные.
После допроса Емельяна Решилина пригласили Ольгу Несторовну, доставленную в РОВД.
Увидев в числе пяти разных фотографию, сделанную с покойного Тимофея Карповича, Решилина окаменела.
— Узнаете? — спросил майор.
— Господи! — сестра художника медленно перекрестилась дрожащей рукой.
— И его, сердешного, бог прибрал? Пошто?..
Она вытерла кончиком чёрного платка набежавшую слезу и прерывающимся голосом произнесла:
— Он это, товарищ майор, Тимофей Карпович Пузанков…
Оформив опознание протоколом, Латынис приступил к допросу. Ждал, что Решилина будет откровенной, ан нет, Ольга Несторовна замкнулась наглухо, отвечала односложно, каждое слово приходилось буквально вытаскивать из неё, повторяя одни и те же вопросы по нескольку раз.
Сколько жил на даче у Решилина Пузанков, она якобы не знала. Феодот Несторович пригласил её приехать и взять заботы о его доме на себя шесть лет назад, когда он обзавёлся дачей на берегу водохранилища. А Пузанков уже жил там, помогал по хозяйству, исполнял обязанности сторожа, истопника, а также следил за автомобилем. Ольга Несторовна утверждала, что прошлое Пузанкова ей неизвестно. Когда Латынис сообщил ей, что Тимофей Карпович вовсе не глухонемой, та выразила крайнее удивление, так как прежде была абсолютно уверена, что «бог его обидел». Майор рассказал Решилиной и о том, что Пузанков грабитель. Но это не произвело на женщину никакого впечатления.
— Я ничего про такие дела не знаю и знать не хочу. Меня это не касается, — твёрдо заявила Решилина.
— Ещё один вопрос, Ольга Несторовна, — сказал оперуполномоченный уголовного розыска. — Утверждают, что вы и Пузанков находились в близких отношениях. Так ли это?
— А вы, товарищ майор, побольше Емельяна слушайте, — криво усмехнулась Решилина. — Он вам такого напоёт. Небось убедились вчера, какой это злобный человек! Аспид!
— Не только Емельян Несторович. Соседи тоже…
— Какие ещё соседи? — Решилина бросила на майора сердитый взгляд. — Не этот ли слептырь, генеральский папаша? Так он ведь даже на даче ни разу у нас не был. И потом, разве кто-нибудь застал нас в постели? — Ольга Несторовна истово перекрестилась. — Прости меня, господи, за такие слова!
Как говорится, крыть майору было нечем. Он так и не мог решить, правду говорила сестра художника или же прикидывалась, ловко прикрываясь религиозностью. Во всяком случае — орешком она оказалась крепким.
После допроса Решилиной Латынис беседовал с участковым инспектором. Разговор был ещё более неприятным, чем вчера: прошляпил матёрого уголовника, который жил преспокойненько на его участке столько лет!
Затем майор поехал в Москву. Снег прекратился, стоял лёгкий морозец. Столицу украшали к ноябрьским праздникам. Глядя на транспаранты, кумачовые флаги и разноцветные гирлянды, перекрывающие центральные улицы, Ян Арнольдович подумал, что ему вовсе не до фанфар: следствию по делу не видно конца и края.
У Чикурова и Кичатова настроение было тоже отнюдь не предпраздничное. Они сидели в южноморском горуправлении внутренних дел и обсуждали сообщение Латыниса.
Ещё раньше для удобства и наглядности следователи составили карту-схему, на которой были обозначены установленные и пока ещё не опознанные «действующие лица» трагедии в устье Чернушки, их связи, взаимоотношения, которые уточнялись по мере обнаружения новых сведений и фактов.
— Пузанков Тимофей Карпович, — заполнил круг, отведённый покойному с огнестрельной раной, Чикуров. — В нашу схему он вносит любопытные коррективы… Смотрите, он чем-то связан с Решилиным. Во всяком случае — жил у него на даче шесть лет!
— Это — по крайней мере! — многозначительно поднял вверх палец Кичатов. — Может, он находился при художнике значительно раньше, чем приехала на дачу Ольга Несторовна.
— Это вы хорошо сказали: находился при Решилине, — заметил Чикуров. — Интересно, что их связывало? Только ли то, что Феодоту Несторовичу нужен был в доме расторопный лакей и притом мастер на все руки? Знал ли Решилин, что Пузанков только притворяется глухонемым? И, самое главное, известно ли было хозяину дачи, что он дал кров преступнику?
— Да, Игорь Андреевич, — вздохнул подполковник. — Дать ответы на эти вопросы будет нелегко. Пузанков мёртв. Решилин тоже…
— А ответить надо. Почему стреляли в Пузанкова? Кто? Связано ли это с ограблением сберкассы?
В комнату заглянул Жур:
— Разрешите?
— Конечно! — в один голос обрадованно произнесли следователи и, когда он вошёл, набросились на капитана с вопросами: давно ли прилетел, что в Алма-Ате?
— Прямо из аэропорта, — сказал Жур. — А в Алма-Ате порядок! Погода, правда, неважная, но город мне понравился, очень красивый и своеобразный.
— Трешникова разыскали? — спросил Чикуров.
— Разыскал. Бедный малый чуть не заработал воспаление лёгких. Знаете, где он прятался? В домике на садовом участке своего деда. Холод зверский! Как Трёшников провёл там почти неделю — уму непостижимо! Другой бы окочурился…
— А с чего он прятался? — поинтересовался подполковник.
— Хоть и здоровый парень, а трусоват… Впрочем, было чего испугаться,
— вздохнул капитан. — Короче, он вам сам исповедуется. В коридоре сидит. Разрешите привести?
— Разумеется, — нетерпеливо сказал Чикуров.
Жур поднялся, направился к двери.
— Да, Игорь Андреевич, давить на него не надо, — посоветовал капитан.
— Он мне в самолёте всю свою жизнь поведал. По-моему, парень неплохой.
— Разберёмся, Виктор Павлович, — улыбнулся руководитель следственно-оперативной группы.
Входя в кабинет, Валентин Трёшников чуть пригнулся, чтобы не задеть притолоку двери. Лицо у него было прямодушное, хотя он явно чего-то боялся. Инструктор по физкультуре держал в руках носовой платок, которым поминутно вытирал покрасневший нос. Парень был простужен.
— Что же это вы, Валентин, прятались в холодном домике? — спросил Чикуров, списав с его паспорта данные в бланк протокола допроса. — Аж в горы забились…
— Что и говорить, товарищ следователь, дурак я дураком! — тяжело вздохнул Трёшников. — Надо было сразу прийти в милицию. А то столько приключений получил на свою голову — страшно подумать! Как расхлебаю все это, не представляю. И ещё поверите вы или нет… — Он с надеждой посмотрел на Чикурова.
— Если правду выложите, поверим, — сказал следователь.
— А мне нет смысла врать, честное слово!
В протоколе допроса показания Трешникова выглядели следующим образом:
«Я снимаю угол в частном доме по улице Пришвина, 19. В соседнем доме, Пришвина, 21, принадлежащем Э.К.Александропулос, проживал отдыхающей из Москвы Валерий Платонович (его фамилию не знаю) с молодой женщиной по фамилии О.Сторожук, которую представлял как свою супругу. Зная, что я имею спортивный разряд по подводному плаванию, Валерий Платонович зашёл ко мне вечером 22 октября с.г. и попросил помочь выловить в море его утонувшего знакомого, у которого якобы находились золотые изделия, которые, по словам Валерия Платоновича, принадлежали ему. Если бы нам удалось выловить утонувшего, Валерий Платонович обещал половину золотых изделий мне. Я спросил, почему он официально не обратится в соответствующие органы, на что Валерий Платонович заявил мне, что найденное золото отойдёт в пользу государства, так как доказать свои права на него он не сможет. Сначала я хотел отказаться, однако, поразмыслив, все же принял его предложение, так как мне очень нужны были деньги на предстоящую свадьбу и другие расходы, связанные с началом семейной жизни. Валерий Платонович взял с меня слово, что я никому ни о чем не скажу.
Утром 23 октября Валерий Платонович и я поехали на такси в устье реки Чернушки. Отпустив такси, мы пошли на берег, и Валерий Платонович объяснил мне, где следует искать его утонувшего знакомого. Я надел акваланг и полез в воду. Минут через 20 увидел под водой утопленника. На его теле был широкий пояс с отделениями наподобие патронташа. Я подумал, что в кармашках пояса и находятся золотые изделия. Когда я доставил утопленника на берег, Валерий Платонович заявил, что это другой человек и что золото находится в кожаной сумочке, которую его знакомый носил на руке. Валерий Платонович потребовал, чтобы я вновь занялся поисками. Я стал отказываться, потому что мне стало плохо. А тут ещё мы увидели лодку, направляющуюся к нам. В ней сидел какой-то мужчина Валерий Платонович испугался и побежал к шоссе. Я, сняв акваланг, последовал за ним. Мы остановили частника, ехавшего в город. В Южноморске Валерий Платонович ещё раз предупредил меня, чтобы я держал язык за зубами, не то буду иметь большие неприятности. Я понял, что попал в какую-то уголовную историю и решил на время исчезнуть из города…».
И дальше Трёшников сообщил следователям то, что они в общих чертах уже знали о скоропалительном вылете парня в Алма-Ату…
— Валерий Платонович называл при вас какие-нибудь фамилии, имена? — продолжал допрос Чикуров.
— Ни одного имени, ни одной фамилии, — категорически заявил Трёшников.
— А при каких обстоятельствах погиб его приятель, говорил?
— Вроде бы несчастный случай, ураган, — ответил допрашиваемый. — В городе говорили, что возле Верблюда пронёсся смерч. Ну я и поверил…
— Как вы расстались с Валерием Платоновичем после неудачной попытки найти золото? — задал вопрос Кичатов.
— Мы доехали на машине до центра. Валерий Платонович сказал: «Ну, разбежались! Не надо, чтобы нас видели вместе». Я сел на автобус и поехал домой, а куда поехал он на машине, не знаю.
— Виделись с ним после этого? — спросил Чикуров.
— Нет, — ответил Трёшников. — Я позвонил Нелле, моей невесте, она примчалась ко мне. А на следующий день я улетел в Алма-Ату…
— Вместо того, чтобы веселиться на собственной свадьбе, — не выдержав, сказал молчавший во время всего допроса капитан Жур, — и себе напортил, и нам задал работу!
Незадачливый жених только тяжело и протяжно вздохнул.
— Ознакомьтесь и распишитесь, — подал ему протокол Чикуров.
Трёшников читал медленно, часто прикладывая платок к хлюпающему носу, словно оттягивал время, а когда поставил подпись на всех листах, с опаской спросил:
— Ну и что мне теперь будет?
— А это пусть решает ваша невеста, — усмехнулся Игорь Андреевич. — Давайте пропуск. — Проставив в нем время окончания допроса и расписавшись, он сказал: — Возможно, вы нам ещё понадобитесь. Если нужно будет кое-что уточнить.
Ушёл Трёшников, все ещё не веря, кажется, в своё счастливое освобождение.
Как только за ним закрылась дверь, Жур подошёл к столу, взял протокол допроса.
— Тут упомянута некая Сторожук, — он отыскал нужное место, показал следователям. — Буквально за день до смерча произошла странная штука…
И капитан рассказал о непонятной истории с кражей у Оресты Митрофановны Сторожук пятидесяти тысяч рублей.
— Представляете, мы нашли воров, нашли те самые пятьдесят тысяч, воры признались во всем, опознали потерпевшую, а эта самая потерпевшая Сторожук по непонятным причинам отказалась и от своего заявления, и от своих денег. Не правда ли, странно?
Сообщение капитана до того заинтриговало Чикурова и Кичатова, что они попросили поднять документы той истории. И, ознакомившись с ними, следователи тоже нашли поведение Сторожук подозрительным. Кичатов и Жур срочно отправились на улицу Пришвина.
Элефтерия Константиновна Александропулос находилась во флигеле — белила стены. Следователь и оперуполномоченный уголовного розыска представились хозяйке, спросили, где её постояльцы — Валерий Платонович и Ореста Сторожук.
— Давно уже съехали, — ответила Александропулос. — Я вот решила устроить небольшой ремонт, а то прямо стыдно людей пускать.
— Как давно они уехали? — поинтересовался Кичатов.
— Недели две будет, — сказала хозяйка и, подумав, уточнила: — Точно, утречком двадцать третьего октября собрались и — до свидания…
— Куда уехали? Как — самолётом, поездом?
— В Москву, наверное… Своим ходом. У Валерия Платоновича ведь персональная машина, на ней они и приезжали.
— Как фамилия Валерия Платоновича? — спросил Кичатов.
Вопрос этот поставил Элефтерию Константиновну в крайнее затруднение. По её словам, она никогда не спрашивала у такого солидного постояльца ни паспорт, ни другие документы.
— Они что, жили у вас без временной прописки? — нахмурился Жур.
— Я как-то намекнула Валерию Платоновичу, но он сказал, что ни к чему такие формальности, да и неизвестно, сколько времени они тут будут жить. Вдруг вызовет начальство, и придётся срочно сниматься… Так уж получилось…
— Вы что, не знаете? На какой бы срок ни снималось у вас жильё, прописка обязательна, — строго выговаривал капитан. — А вы даже фамилию не спросили!
— Так ведь Валерий Платонович останавливается у меня третий год, — растерянно оправдывалась хозяйка. — Профессор… Работает в каком-то институте в Москве! Говорят, консультант Госагропрома!
— Порядок для всех общий, — сказал капитан. — А как Валерий Платонович представил женщину, которая была с ним?
— Женой. Иначе я бы не поселила их вместе, — фыркнула Александропулос.
— У меня не притон!
— Вы видели их свидетельство о браке? — усмехнулся Жур. — Или отметку в паспорте?
Виктор Павлович знал из документов в милиции, что Сторожук в настоящее время не была замужем.
— Не видела, — смутилась хозяйка. — Но профессор сказал…
— Сказать можно что угодно, — перебил её Кичатов. — Лучше расскажите, как они проводили время, кто бывал у них?
Александропулос сказала, что обычно старается не тревожить постояльцев: люди приехали отдыхать, если же все время торчать во флигеле, подумают, что она за ними подсматривает.
— Главное, все было чинно-мирно. Валерий Платонович человек солидный. Конечно, к нему приходили, но я не видела, кто именно. Иногда засиживались допоздна, но никакого шума-гама. Ещё профессор часто уезжал на своей машине с шофёром, говорил, что и тут дела.
— Может, вы заметили что-нибудь необычное в поведении постояльцев? — задал вопрос следователь.
— Необычное? — переспросила Элефтерия Константиновна и, немного подумав, улыбнулась. — На следующий день после приезда Валерий Платонович завесил ковром, — она показала на дверной проем между двумя комнатами, в котором отсутствовала дверь.
— Для чего? — поинтересовался Кичатов.
— Понимаете, ту, большую комнату, занимал Валерий Платонович, а эту, поменьше, — Орыся, — объяснила хозяйка. — Профессор плохо спал, а жена, говорит, храпит во сне. Вот и отгородился.
— А что в этом необычного? — пожал плечами подполковник.
— Я предложила навесить дверь, а Валерий Платонович сказал: пусть будет ковёр, у него, мол, дома тоже так… Между прочим, он вешал ковёр и в прошлые годы, когда приезжал. Чудак, правда?
Но эта причуда не особенно заинтересовала работников милиции. Им было важнее знать, где и как проводил время постоялец в день перед смерчем и потом, вплоть до своего отъезда.
Элефтерия Константиновна долго и мучительно вспоминала, что же было двадцать первого октября, и вдруг хлопнула себя по лбу.
— Вот склероз! Знаете, кто пришёл к профессору? Киноартист! — Она потёрла собравшийся морщинами лоб. — Фамилию забыла… Он играет в фильме «Выстрел на рассвете».
— Великанов? — подсказал Кичатов.
— Точно! — обрадованно закивала Александропулос. — Девчонки мои прибегают, кричат, посмотри, мама, кто пришёл к профессору! Ну я не удержалась, вышла во двор. Интересно все-таки живого киноартиста увидеть… На половину Валерия Платоновича, правда, не пошла, неудобно. Из-за забора глядела.
— Великанов приходил один или с кем-нибудь? — продолжал расспрашивать подполковник.
— С Эриком. Ну, прежним шофёром профессора. Этот Эрик приезжал с Валерием Платоновичем прошлой осенью. Великанов зашёл в дом, а профессор стал отчитывать Эрика.
— За что? — поинтересовался следователь.
— Я особенно и не вслушивалась. Помню только, что Валерий Платонович сказал сердито: «Опять накурился!» А Эрик смеётся, говорит: все, мол, в порядке, соображаю отлично. Профессор его предупредил: смотри, держись, травки навалом, контроль потерять над собой легче лёгкого.
— А дальше?
— Ну, я пошла к себе.
— В тот день Валерий Платонович ночевал дома?
— Не знаю. Я рано легла спать, а на следующее утро пошла на рынок… Поздно вечером профессор забежал ко мне, сказал, что завтра уезжает. Рассчитался. Вот и все.
Когда минут через сорок Кичатов вернулся в горуправление, они с Чикуровым обсудили результаты допроса Александропулос.
— Что же получается, — рассуждал Игорь Андреевич, — профессор съехал от неё двадцать третьего октября. Но остался в Южноморске, потому что через два дня вместе с Трешниковым искал утопленника с золотом… Выходит, просто переменил место жительства? Почему?
— Все может быть. Жур в настоящее время в аэропорту, выясняет: вдруг Валерий Платонович и Ореста Сторожук отбыли самолётом?
— А если поездом?
— Установить это будет куда сложнее, — ответил Кичатов. — Но не исключено, что они до сих пор здесь.
— Александропулос запомнила номер его «Волги»?
— Ничего она не помнит, — махнул рукой Дмитрий Александрович. — Наверное, действительно склероз…
Затем разговор зашёл о бывшем шофёре Эрике, появившемся у профессора вместе с Великановым.
— Итак, в деле появилось ещё одно лицо, — сказал Кичатов. — Мы предъявили Александропулос для опознания фотографии утопленников. Эрика среди них нет. Да, фамилию шофёра она тоже не знает.
Чикуров нарисовал на их рабочей схеме новый круг, вписав в него имя «Эрик», и поставил возле него знак вопроса.
— Пока этот шофёр для нас — табуля раза[5], — заметил он.
— Не совсем, — возразил подполковник. — Вспомните, за что ругал его Валерий Платонович?
— Вы имеете в виду слово «накурился»?
— Вот именно! Совершенно очевидно, что парень наркоман! И, скорее всего, его приход к профессору связан с наркотиками. Помните, профессор сказал: травки много? Речь, вероятно, шла о гашише.
— Думаю, вы правы, — согласился Чикуров. — Кстати, о дурмане. Когда вы поехали на улицу Пришвина, я связался с Барнаулом и получил любопытную информацию…
— Ну-ну? — загорелся подполковник. — Какую?
— Привалов, оказывается, был не только «облепиховым» королём, но и, так сказать, «гашишным». Выяснено, что он поставлял зелье в Москву, Ленинград и даже в Прибалтику…
— Сам возил?
— Иногда — сам, иногда к нему приезжали перекупщики, конечно, особо доверенные люди.
— А кто именно?
— Устанавливают… Знаете, о чем я подумал? А что, если и Великанов — один из них?
— Из чего вы исходите? — спросил Кичатов.
— Ну, во-первых, он оказался здесь, в Южноморске, в одной компании с Приваловым. Во-вторых, Великанов дважды за этот год побывал в Барнауле. Правда, по линии общества книголюбов, но это могло быть просто прикрытием… И третье: с чего это вдруг Великанов примчался из Таллинна в Южноморск? У него там ответственная роль, и перерыв между съёмками всего три-четыре дня…
— Думаете, он прилетел сюда к Привалову за очередной партией гашиша?
— А вы считаете это предположение неправдоподобным? — вопросом на вопрос ответил руководитель следственной группы.
— Нет, не считаю, — сказал Кичатов. — Тем более что Великанов прихватил из Москвы все деньги, доставшиеся ему в наследство.
— Вот-вот! — поднял палец Чикуров. — А в его сумке осталось всего пять тысяч! Не исключено, что он уже расплатился за товар. Вспомните, от его приезда до смерча прошло всего часов восемь… Куда можно за такое время ухнуть более сорока тысяч?
Зазвонил телефон. Это был Жур.
— Игорь Андреевич, Ореста Сторожук согласно документам Аэрофлота улетела в Трускавец двадцать третьего октября. А вот насчёт профессора — глухо. Если бы мы знали его фамилию!
— Что поделаешь, — вздохнул Чикуров. — Попробуйте установить номер его машины.
— Я беседовал с дочками Александропулос — увы, они тоже не помнят. По-моему, их больше интересовала не «Волга» профессора, а шофёр Вадим… Закрутил обеим сестрицам головы.
— Постойте, постойте! — ухватился за эти сведения Чикуров. — Он небось оставил хозяйкиным дочерям свои координаты?
— Малый себе на уме! Пофлиртовал с девицами — и был таков! Ни адреса, ни фамилии не сообщил, — ответил капитан.
— И с чего это они с профессором развели конспирацию? — в сердцах произнёс Чикуров.
— Да уж, видимо, неспроста… В общем, Игорь Андреевич, имеется мыслишка. Этот Валерий Платонович на машине, так?
— Ну?
— Значит, съехав от Александропулос, он мог обосноваться в одном из кемпингов. Хочу это проверить.
— Мысль дельная, — одобрил руководитель следственно-оперативной группы.
Закончив разговор, Чикуров передал его содержание Кичатову.
— Боюсь, что сей учёный муж давно уже навострил лыжи из Южноморска, — сказал подполковник. — А ведь он наверняка мог бы открыть нам, что произошло на Чернушке в ночь, когда там прошёл смерч. Нужно его искать!
— Думаю, дорожку к нему может указать Ореста Сторожук. Другого способа пока не вижу.
— Пошлём в Трускавец Виктора Павловича, — предложил подполковник. — Адрес Оресты Сторожук имеется.
— Да, Журу надо лететь туда немедленно, — кивнул Игорь Андреевич. — А вы, Дмитрий Александрович, отправляйтесь в Таллинн. Не исключено, что помимо киносъёмок Великанов занимался там делами, весьма далёкими от искусства.
— Ясненько, — ответил Кичатов. — А вас не удивляет поведение режиссёра, директора фильма? Ведь Великанов не какой-то там статист — главную роль исполняет! По-моему, должен был кто-нибудь приехать из съёмочной группы, в крайнем случае — звонить, узнавать, что с ним! А из Таллинна был всего один звонок, и больше ни слуху ни духу.
— Да, Дмитрий Александрович, вы правы, это несколько странно. Короче, езжайте в кассы Аэрофлота и берите билет.
В столицу Эстонии Кичатов прилетел одиннадцатого ноября, под вечер, устроился в гостинице «Ранна», расположенной почти у самого берега залива.
Подполковник сразу начал разыскивать по телефону кого-нибудь из съёмочной группы фильма «Сегодня ты, а завтра я». Оказалось, что в одном из старинных зданий в Старом городе шла как раз в это время съёмка. Дмитрий Александрович тут же поехал по указанному адресу, вспоминая по дороге роман Достоевского «Игрок». Читал он его давно, по настоянию жены Ларисы, которая буквально боготворила Достоевского и его книги, населённые странными мятущимися героями, с больной, по мнению Кичатова, психикой. Действие романа происходило, кажется, в Германии, в одном из курортных городов, где несколько русских аристократов предавались игре в рулетку. Главный персонаж, Алексей Петрович, был настолько одержим пагубной страстью, что она высосала из него все жизненные соки, превратила в ничтожного раба рулетки. Лариса говорила, что в Алексее Петровиче Достоевский отобразил кое-какие черты своего характера: писатель сам был азартным игроком и мог не задумываясь спустить в казино все до последней копейки.
Подполковник довольно быстро нашёл нужное ему здание. Возле подъезда стояла «Волга» с надписью «киносъёмочная», а также два специальных автомобиля, от которых тянулись в дом кабели.
Дмитрий Александрович зашёл внутрь и оказался в огромном зале, залитом слепящим светом юпитеров и софитов. Насколько он понял, снималась сцена в игорном доме, в воксале, как сказано у Достоевского. Вокруг царила удивительная атмосфера: бродили актёры и статисты в сюртуках, панталонах, в рубашках со стоячими воротниками и жабо, шуршали кринолины, трещали веера в руках старух с накладными волосами и в париках, и тут же сновали парни и девушки в джинсах и кроссовках. Мир прошлого века причудливо переплетался с веком нынешним.
Посреди чопорного, несколько мрачного старинного зала стоял длинный стол, покрытый зелёным сукном, вокруг которого сидело и толпилось десятка два «игроков». Во главе стола возвышался худощавый старик во фрачной паре — крупье. Перед ним была рулетка. Пожилая женщина в белом халате тонкой кисточкой наводила последние штрихи грима на лице крупье. Рядом на низкой тележке стояла на треноге кинокамера, возле которой суетился паренёк в крошечной кепочке и толстяк в ковбойке и замшевой безрукавке.
Кичатов обратил внимание на высокого мужчину в чёрном свитере под горло и с трубкой в зубах. Он что-то втолковывал стройному молодому человеку с бледным лицом и тенями под глазами, в тёмной визитке. По тому, с каким почтением подходили люди к мужчине с трубкой, подполковник догадался, что это и есть режиссёр Лежепеков.
Вдруг тот хлопнул в ладоши и громогласно провозгласил:
— Внимание! Всем по местам!
Бесцельное хождение в зале прекратилось, артисты, участники массовки, сгруппировались вокруг стола, толстяк в ковбойке приник к окуляру.
— Прошу тишину! — строго сказал постановщик, уловив, по-видимому, чей-то шёпот. — Готов? — спросил он у оператора. Тот сделал знак рукой: мол, порядок. И тогда прозвучало: — Мотор!
Выстрелила хлопушка, застрекотала кинокамера, крупье монотонным голосом произнёс:
— Делайте ваши ставки, господа!
Кичатов на какое-то время забыл, где он находится и зачем, так увлекла его съёмка. Что-то завораживающее было в этом действии, Дмитрий Александрович не мог оторвать взгляда от главного героя, Алексея Петровича, которого играл тот стройный молодой актёр.
Кичатов не видел его прежде в фильмах, но, судя по всему, это был очень одарённый актёр. Скупые жесты, мимика, но сколько страсти выражало его лицо! Это действительно был игрок, сжигаемый внутренним огнём! Подполковник милиции невольно поймал себя на мысли, что переживает вместе с Алексеем Петровичем, лихорадочно следя за жужжащим шариком, который должен, просто обязан остановиться напротив «зеро», потому что несчастный одержимый молодой человек поставил на него последние деньги. И когда «зеро» действительно принёс главному герою огромный выигрыш, Кичатов вздохнул с облегчением.
— Стоп! — скомандовал Лежепеков и, к удивлению Дмитрия Александровича, скомандовал: — Повторим!
Кичатову казалось, что лучше сыграть невозможно, однако постановщик сделал несколько замечаний артисту и отснял ещё один дубль.
Погасли юпитеры, софиты, Лежепеков начал репетировать с исполнителем главной роли следующую сцену. Следователь не решался пока отрывать режиссёра от дела.
Съёмка возобновилась, но что-то не ладилось на площадке. В перерыве между дублями Кичатов негромко сказал стоящему рядом немолодому мужчине в кожаном пиджаке:
— С Великановым режиссёру, наверное, было легче работать…
Замечание попало в цель: мужчина окинул Кичатова удивлённым взглядом и усмехнулся.
— С чего вы это взяли? Всеволода Юрьевича при одном только упоминании о Великанове бросает в дрожь!
— Что так? — наивно поинтересовался следователь.
— Не получалась у Саши роль! Не шла! Подумайте сами: некоторые кадры до двадцати дублей снимали! И немудрёно, что Борю Губина, — мужчина кивнул на актёра, играющего Алексея Петровича, — Лежепеков вызвал без всяких проб. Буквально в тот же день, как только узнал о болезни Великанова.
Разговорившись, подполковник узнал, что его собеседник является директором картины. Кичатов представился и высказал желание поговорить насчёт Великанова.
— Об этом вам лучше с Всеволодом Юрьевичем, — отфутболил подполковника директор.
Воспользовавшись паузой, он познакомил Кичатова с Лежепековым, а сам ретировался.
— Согласен поговорить с вами в любое время, но, ради бога, только не сейчас! — сказал Лежепеков. — Понимаете, завтра Губин улетает на премьеру в своём театре, а нам ещё — кровь из носу — нужно отснять пять сцен! Вторую смену уже гоним… До завтра терпит?
— Терпит, — кивнул Дмитрий Александрович.
Договорились встретиться в гостинице — Лежепеков тоже жил в «Ранне».
На следующий день в назначенный час он появился в номере Кичатова. Поздоровались.
— Ну как, выполнили вчера вашу программу? — вежливо поинтересовался следователь.
— Но чего мне это стоило! — вздохнул Лежепеков, набивая трубку. И неожиданно спросил: — У вас есть дети, Дмитрий Александрович?
— Двое, — ответил Кичатов.
— Если вздумают податься в кино, лягте костьми, но не пускайте!
— Вам не нравится ваша профессия?
— Честно сказать, другой для себя не представляю… Но боюсь, как бы не трахнул инфаркт, — признался режиссёр. — Представляете, все, ну буквально все сделано для того, чтобы подвести режиссёра к этому! Начиная со сценария. Каждый, кому не лень, лезет с замечаниями, поправками! Редакторы на студии, чиновники в Госкино! А что такое у нас снимать! Съёмочная группа — это сплошные анархисты! Каждый день я должен загонять их на съёмочную площадку чуть ли не пинками! Какая может быть речь о дисциплине, если осветителю или ассистенту плевать на меня? Будет он болеть за работу, получая жалкую зарплату, которую даже стыдно назвать зарплатой? А техника, на которой мы работаем? А плёнка? На прошлой неделе сто метров пошло кошке под хвост — при проявке оказался сплошной брак! Это значит снова вызывать актёров из других городов, снова репетировать, настраиваться и так далее! Ведь это не железки штамповать — искусство штука тонкая, неуловимая! — Лежепеков вдруг спохватился. — Извините, увлёкся. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит… Вы конечно же прилетели не для того, чтобы выслушивать мои вопли. — Режиссёр грустно улыбнулся.
— Приехал я, Всеволод Юрьевич, по поводу Великанова, — сказал следователь.
— Как он там? — встрепенулся режиссёр.
— Неважно, — хмуро произнёс Кичатов. — Правда, теперь ему немного стало лучше, но одно время был буквально между жизнью и смертью. Извините меня, Всеволод Юрьевич, но мне непонятно равнодушие к нему со стороны съёмочной группы.
— О чем вы? Какое равнодушие? Когда я узнал, был прост-то потрясён, честное слово! Спросите у кого угодно! — горячо уверял Лежепеков, заметив недоверие в глазах следователя.
— Но почему же никто не удосужился прилететь в Южноморск?
— Дмитрий Александрович, ну когда бы я мог? У меня каждый час, каждая минута на счёту! — продолжал оправдываться режиссёр. — Вы себе даже представить не можете, что это такое, когда щёлкает счётчик! Съёмочная группа — это молох, пожирающий деньги! Я каждый день должен выдавать отснятые метры! Хоть убейся, а план выполни! Потому что за мной не только мои здешние обормоты, но и коллектив студии. Не выдам положенные метры — несколько сот человек будут сидеть без премии. Да что там без премии, иной раз получку задерживают! Вот вам ещё одна приятная, в кавычках, сторона режиссёрской работы.
— Потому вы так быстро и заменили исполнителя главной роли? — спросил Кичатов.
Лежепеков ответил не сразу. Раскурив трубку, помолчал и наконец произнёс со вздохом:
— Ждать выздоровления Саши я не мог. Студия не пошла бы на консервацию.
— Я слышал, у вас с ним возникли трения во время съёмок, — осторожно закинул удочку следователь.
— Трения… — Лежепеков усмехнулся. — Это мягко сказано! Ежели честно, с Сашей я здорово промахнулся. Понимаете ли, в творчестве не должно быть никаких дружеских отношений, никаких компромиссов. Ни в коем случае! А я Велика-нова пожалел. Он уговорил меня взять его на роль Алексея Петровича. Верите, чувствовал, что не то, а отказать не решился. И даже умолял худсовет во время утверждения кинопроб. А с самых первых съёмочных дней мы стали грызться как кошка с собакой…
— Из-за чего, если не секрет?
— Да никакого секрета! Вы видели вчера Борю Губина? — спросил Лежепеков, и следователь кивнул. — По-моему, попадание в яблочко. Губину веришь. Он влез в шкуру Алексея Петровича так, будто бы с пелёнок играл в рулетку. Знаете, мне иной раз становится страшно, когда я вижу, как Борис входит в образ. Это маньяк, одержимый! Такие не задумываясь могут проиграть сиротские деньги и пустить себе пулю в лоб!
— Я не очень-то разбираюсь, но мне игра Губина понравилась, — признался Кичатов. — Выкладывается, по-моему, весь.
— Ещё как выкладывается! Говорит, за съёмочный день худеет килограмма на три.
— Даже так? — удивился следователь.
— А что, вон артист Лев Дуров признавался в газете, что за один спектакль теряет два с половиной килограмма!.. Словом, Губин — класс! Это новый Смоктуновский! — темпераментно продолжал режиссёр. — А Великанов по сравнению с ним? Как говорится, божий дар и яичница… Саша в общем-то человек талантливый, но тут — ни в зуб ногой. Вялый, как амёба. Ни искорки, ни отблеска страстей не видно. Говорю ему: друг милый, неужто тебе никогда не хотелось выиграть миллион? А он отвечает: зачем мне миллион, что с ним делать… Скажите, разве после этого он может играть Алексея Петровича?
— Не знаю, — улыбнулся следователь. — Может, по системе Станиславского…
— Здесь не помог бы и Станиславский! Роль не для Великанова. Я как-то не сдержался, высказал ему все. Картину, говорю, ты завалишь, а у меня, между прочим, семья, которая не может питаться святым духом. Саша смеётся, говорит, не волнуйся, старик, скоро я разбогатею, возьму тебя, твою жену и дочь на полный кошт. Будете у меня как сыр в масле кататься. Ну, послал я его подальше…
«Интересно, на какое богатство намекал Великанов? — подумал следователь. — На наследство или что-то другое?»
— В каком смысле — разбогатеет? — спросил он у режиссёра.
— А бог его знает! — отмахнулся Лежепеков. — Не поймёшь, когда Великанов хохмит, а когда говорит правду.
— Значит, вы считаете, что с Губиным фильм получится лучше? — перевёл на другое следователь.
— Убеждён! Конечно, чужому горю нельзя радоваться, но в данном случае вышло по пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь я уверен, что картина будет потрясающая! Фестивальная! Такую спокойно можно посылать в Канны! И на девяносто процентов — благодаря Борису…
— А где ещё снимался Губин? — поинтересовался Дмитрий Александрович. — Что-то я не могу вспомнить…
— В том-то и дело, что нигде. Борис — моё открытие, — с гордостью признался Лежепеков. — И где, вы думаете, я его откопал? В провинциальном театре, в глубинке!
— Дебют?
— Это будет сенсация! — воскликнул Всеволод Юрьевич и тут же погрустнел. — Великанова, правда, жалко. Он буквально грезил этой ролью несколько лет. Даже не знаю, как я встречусь с ним после этого. Обидится, наверное, в усмерть… Вот, кстати, одна из причин, почему я не полетел в Южноморск.
— Вы давно дружите? — поинтересовался Кичатов.
— Знакомы давно, а вот сблизились по-настоящему года два назад.
— Что за человек Саша?
— Человек он отличный. Душа нараспашку. Готов поделиться с друзьями последним рублём.
— Выпивает?
— В компании рюмку-другую пропустит, но чтобы запоем… — Режиссёр отрицательно покачал головой. — А во время съёмок для Саши вообще ничего не существует, ни гулянок, ни женщин. Режим, спорт!.. В этом смысле работать с Великановым — одно удовольствие. Безукоризненная дисциплина.
— А наркотиками, случаем, не баловался?
— Наркотиками? — испуганно переспросил Лежепеков.
— Свидетельств нет, — ответил подполковник, не желая бросать тень на актёра, пока не установлено на самом деле, что Великанов связан с наркотиками. — Но вы лично не замечали ничего необычного в его поведении?
— Нет, ничего такого не припоминаю.
— Тогда ознакомьтесь с протоколом и распишитесь.
После ухода режиссёра Кичатов позвонил в Южноморск. Чикурова на месте не было, и Дмитрий Александрович заказал Рдянск. Дали быстро. У жены был грустный голос.
— Ты бы хоть на один денёк появился дома. Мальчишки по тебе страшно соскучились, — жалобно выговаривала Лариса. — Что им сказать?
— Не знаю. Ведь у меня теперь другой порт приписки — Москва, — пытался отшутиться Кичатов, хотя сам истосковался по детям и жене. Тоска эта особенно чувствовалась в праздники. В эти дни Дмитрий Александрович всегда старался быть с семьёй…
Дмитрий Александрович расспросил жену о сыновьях, подбодрил её, но все равно простились они на грустной ноте.
Подполковник поехал в Министерство внутренних дел республики, где его свели с людьми, непосредственно занимающимися борьбой с наркоманией. Кичатову обещали тут же дать знать, если выяснится что-либо о связях местных любителей дурмана с участниками трагедии в Южноморске. Пока таких фактов не было.
Подполковник снова позвонил Чикурову. Застав руководителя следственно-оперативной группы на месте, он поделился с ним тем, что удалось узнать в Таллинне.
— Как видите, особых успехов нет, — подытожил разговор Кичатов.
— Физики говорят: отрицательный результат — тоже результат, — откликнулся Игорь Андреевич. — Кстати, это высказывание в полной мере относится и к нашей работе. Но у вас, мне кажется, дела все же веселее, чем у Жура.
— А что с ним такое? — поинтересовался Кичатов.
— Виктор Павлович не застал в Трускавце Оресту Сторожук. Она отбыла в неизвестном направлении. Правда, кое-какие кончики имеются, и хорошо бы вам, Дмитрий Александрович, подскочить туда. Тем более что вы жаловались на печень, так? — В голосе Чикурова слышались заботливые нотки, но, возможно, он просто хотел подсластить предложение.
— Не на печень, Игорь Андреевич, а на поджелудочную железу.
— Извините, перепутал. Но все равно вам будет полезно попить «Нафтусю».
— Надо так надо, — ответил подполковник. — Сегодня же вылечу.
Прикарпатье встретило Дмитрия Александровича редким задумчивым снегом. А когда Кичатов ехал на автобусе из львовского аэропорта в Трускавец, снег прекратился, проглянуло блеклое осеннее солнце.
Подполковник и капитан встретились в местном городском отделе внутренних дел. Жур был в отличном расположении духа. Кичатова поразило умение Виктора Павловича буквально вгрызаться в новую обстановку, устанавливать любые контакты (формальные и неформальные) с людьми разных уровней и рангов. Капитан находился в Трускавце менее двух суток, но уже успел стать, как понял Кичатов, своим человеком в уголовном розыске — так он знал оперативную обстановку и был в курсе всего, что могло каким-либо образом быть связанным с их делом, в частности, с Орестой Сторожук. Виктор Павлович выложил подполковнику чуть ли не всю подноготную этой женщины: о её нелёгком детстве и юности, о замужестве и странном разводе, в результате которого она стала владелицей особняка, зато потеряла сына, уехавшего вместе с отцом в Средневолжск.
Но самым интересным для следствия было сообщение капитана о связи Сторожук с неким Сергеем Касьяновичем Роговым, который имел ещё кличку Барон и славился своими кутежами в ресторанах Трускавца, Львова и других городов в округе. Но слава Барона была довольно мрачной: его побаивались не только обыватели, но и люди из уголовного мира. Фигурой он был довольно колоритной.
— Действительно цыганский барон? — спросил следователь.
— Никакой он не барон, и тем более не цыганский, — сказал Жур. — Это, так сказать, очередная его личина. Маскарад. На самом деле Роговой — рецидивист. Трижды отбывал срок в колонии.
Поведал Жур и о страсти Рогового к Орысе.
— До того ревновал, что упрятал её в медвежью шкуру.
И капитан рассказал, что Сторожук работала «медведем» у фотографа Романа Сегеди и чуть ли не до смерти напугала профессора Валерия Платоновича, который в результате стресса попал в больницу.
— Любопытная история! Но главное — важно узнать фамилию профессора, его координаты! — обрадовался Кичатов.
— Все уже известно, Дмитрий Александрович, — солидно сказал Жур. — Фамилия профессора — Скворцов-Шанявский, живёт в Москве. Но эти сведения получены не из больницы, а из уголовного дела, возбуждённого против Скворцова-Шанявского. Правда, дело это прекращено за отсутствием улик против него.
Последовал рассказ об убийстве фотографа Сегеди, в котором поначалу был заподозрен московский профессор.
Кичатов был ошеломлён потоком фактов и сведений, которые обрушил на него оперуполномоченный уголовного розыска.
— А я думал, у вас тут действительно ничего не светило, — удивлялся подполковник. — Неужели Игорю Александровичу этого мало?
— А он ещё ничего не знает, — пояснил капитан. — Сведения самые свеженькие. Вам, Дмитрий Александрович, первому сообщаю, как говорится, с пылу с жару.
— Ну, — протянул следователь, — тогда понятно. Смотрите-ка, Виктор Павлович, и тут наркотики!
— Да, Роман Сегеди перед тем, как его выкинули в окно, курил «травку». И в кармане пиджака у него нашли пачку сигарет с гашишем… Впрочем, подробности вы можете узнать у следователя Трускавецкой прокуратуры.
— А вы говорили с ним?
— Не успел ещё. Но раз уж вы здесь, то сами.
— Телефон есть?
— Да. — Жур подал подполковнику трубку и набрал номер. — Костенко Павел Иванович…
Костенко был готов встретиться с Кичатовым прямо сейчас, и подполковник милиции отправился в прокуратуру. А капитан должен был встретиться с Крицяк, которая была близко связана с Орестой Сторожук, а точнее — с «эксплуатацией» её особняка.
Следователь прокуратуры дал Кичатову для ознакомления материалы по делу об убийстве Сегеди. Из документов следовало, что фотограф был одним из доверенных лиц Барона. Более того, участвовал в махинациях, которые приносили преступной банде огромные барыши. Тут была и спекуляция в особо крупных размерах, и подделка драгоценностей. В частности, преступники подпольно изготовляли ювелирные изделия из сплавов цветных металлов, по удельному весу и цвету похожих на золото. Подделки сбывали доверчивым людям, извлекая из этого баснословные доходы.
— Из-за этого даже международный конфуз получился, — сказал Костенко.
— Опозорились перед заграницей!
— Каким образом? — заинтересовался подполковник.
— Понимаете, в расположенное здесь неподалёку село Криницы приезжала канадская туристка, украинка по происхождению. Между прочим, дальняя родственница этой самой Оресты Сторожук. Старушка уже совсем. Решила, так сказать, навестить землю предков. Здешние родичи, естественно, при расставании нагрузили её подарками. Книги, рушники, вышитые блузки, деревянные ложки и прочие сувениры. Ну и ещё надели на прощанье старушке на палец золотое кольцо с камешком — знай, мол, наших! Та вернулась в Канаду, не знаю, что именно произошло у неё, только понадобились доллары. Пошла в ломбард заложить кольцо, а ей сказали, что это фальшивка. Она отписала в Криницы: так, мол, и так, в магазине вас надули. Наши Сторожуки всполошились. Ещё бы, так опозориться перед заграничной родственницей! Да и, как говорится, за державу обидно! Что выяснилось? То самое кольцо двоюродная сестра Орыси Сторожук купила с рук. У Романа Сегеди… И когда угрозыск вышел на фотографа, тот неожиданно погиб. Выбросили из окна.
— Вы считаете, от него избавились? — спросил Кичатов.
— Все говорит за это, — кивнул Костенко.
— И кто?
— Роговой, естественно.
— Для чего ему это нужно было?
— Видите ли, Дмитрий Александрович, он так организовал свою банду, что его как главаря знал только Сегеди. В свою очередь, Сегеди был известен всего трём-четырём членам шайки. А уж те имели дело с мелюзгой, занимающейся сбытом фальшивых драгоценностей. Устранив фотографа, Роговой — Барон надеялся, что цепочка будет разорвана и мы не сможем выйти на него.
— Понятно. А кто непосредственно убрал Сегеди? Сам Роговой — Барон?
— Нет, обычно такие дела — припугнуть, проучить, устранить — Роговой поручал кому-нибудь из прихлебателей. К сожалению, мы в самом начале упустили драгоценное время! Увлеклись… Но слишком очевидный и лёгкий путь, увы, чаще всего заводит в тупик.
— Вы имеете в виду версию насчёт Скворцова-Шанявского?
— Да. На первых порах все как будто сходилось. Профессора застали в квартире Сегеди через считанные минуты после того, как хозяина выбросили из окна — раз! И мотив был весьма убедительный — ревность. Это два. Но Скворцов-Шанявский начисто отрицал свою вину. И действительно, стали разбираться, поняли, что нас ввело в заблуждение роковое совпадение. Так что перед Скворцовым-Шанявским пришлось извиняться.
Следователь Трускавецкой прокуратуры вздохнул.
— Ну а дальше? — нетерпеливо спросил Кичатов.
— Дальше открылись весьма любопытные факты. Оказывается, до прихода профессора у Сегеди находился ещё один человек. Женщина.
— Каким образом установили это? — продолжал расспрашивать подполковник.
— Когда в квартире Сегеди разыгралась трагедия, сосед фотографа по лестничной площадке вышел покурить: жена выгоняла, потому что в доме был грудной ребёнок. Дымил он обычно наверху, под самым люком на чердак. — Костенко взял лист бумаги и продолжал рассказ, иллюстрируя его рисованной схемой: — Вот смотрите, Дмитрий Александрович, это лестничная площадка девятого, то есть последнего, этажа, куда выходит дверь Сегеди. Вот сюда наверх ведёт лестница… Это место, где курил сосед… Так вот, он как раз кончил курить и стал спускаться вниз по лестнице, а навстречу ему женщина. Он ещё удивился, чего ей надо наверху? Чердак заперт на висячий замок, потому что там дорогое электронное оборудование для телевизионной антенны общего пользования… Сосед подумал: может, она тоже хочет покурить? К сожалению, эти сведения стали нам известны лишь через несколько дней.
— А кроме этого куряки ещё кто-нибудь видел женщину?
— Нет.
— Странно, — удивился Кичатов. — Как я понял из показаний свидетелей, почти все жители подъезда не спали до поздней ночи. И внизу, у входа, стояла возбуждённая толпа… Как же преступнице удалось прошмыгнуть незамеченной?
— А она покинула дом другим путём, — пояснил Костенко. — Сорвала замок, проникла на чердак и, по всей видимости, спустилась по пожарной лестнице.
— Ну а чем доказано, что эта гражданка была в квартире Сегеди?
— Как вы уже знаете из материала дела, в кармане пиджака Сегеди находилась пачка сигарет…
— С гашишем, — кивнул подполковник.
— Да, с «травкой», как её называют наркоманы, — сказал Костенко. — На пачке этой обнаружены отпечатки двух пальцев. На сорванном замке чердачного люка тоже были оставлены отпечатки. Правда, сильно смазанные, но один — большого пальца правой руки — сохранился более или менее отчётливо. Он совпал с отпечатком на пачке сигарет.
— Ясно… Но почему вы связываете эту женщину с Роговым?
— Есть основания, Дмитрий Александрович, — заверил Костенко. — Понимаете ли, имеются данные, что накануне убийства фотографа Роговой встретился во Львове с женщиной, которая по всем описаниям походила на ту, что видел сосед Сегеди. И по лицу, и по одежде.
— Выяснили, кто эта женщина?
— Увы, о ней сведениями не располагаем, — развёл руками следователь Трускавецкой прокуратуры. — Известна только кличка — Чёрная вдова.
— Чёрная вдова? — переспросил Кичатов. — Интересно, за что же она удостоилась её?
— Кто знает! — пожал плечами Костенко.
— А что вы можете сказать о Роговом?
— Хитёр, коварен, жесток, — выдал краткую характеристику Павел Иванович. — Словно тать, невидим и неслышим. То промелькнёт в Киеве, то оставит о себе слушок во Львове, то вдруг выяснится, что побывал в Ужгороде.
— Взглянуть бы на этого мафиози, — усмехнулся подполковник. — Фото есть?
Костенко открыл папку с делом, вынул из вклеенного туда конверта фотографию и протянул Кичатову.
Роговой был снят на улице среди толпы и, видимо, даже не подозревал, что его фотографируют. Жестокое волевое лицо, пронзительные глаза и пышные усы. На нем были галифе, сапоги и рубашка навыпуск, перепоясанная ремнём с металлическими накладками. Наряд нарочито вызывающий, однако он шёл Роговому, подчёркивая стройность крепкой фигуры.
— Передержали в проявителе, что ли, — заметил Кичатов. — Лицо как у негра.
— Отпечатали нормально, — сказал Павел Иванович. — Просто он такой смуглый.
— Да? — машинально произнёс Кичатов, внимательно вглядываясь в изображение Рогового — Барона.
«Смуглый, смуглый, — повторял он про себя. — И этот резкий излом бровей, усы…»
Кичатову показалось, что в лице Рогового проскальзывают знакомые черты. А может, он уже слышал описание этих примет? Но когда? В связи с чем?
— А вообще, — прервал его мысли Костенко, — кто его видел, говорят, что Барон выглядит вполне даже импозантно. Этакая благородная седина на висках…
Последний штрих — как короткое замыкание. Дмитрий Александрович вспомнил!
— Павел Иванович, — скрывая волнение, сказал Кичатов, — мне нужен снимок Рогового.
— Ради бога! Отпечатать — пара пустяков, — с охотой откликнулся Костенко. — А что, есть идея?
— Хочу кое-что проверить, — уклончиво ответил подполковник.
Следователь прокуратуры не стал любопытствовать дальше. Кичатов попросил и отпечатки пальцев Чёрной вдовы.
Насчёт этой гражданки у Дмитрия Александровича возникла мысль, которой он тоже до поры до времени не хотел делиться с Костенко: а вдруг не подтвердится?
Павел Иванович обещал фотографии через час, и Кичатов поспешил в горотдел внутренних дел, где его ждал капитан Жур. Они направились в гостиницу, и по дороге подполковник пересказал разговор с Костенко. Поделился он с капитаном и своими соображениями.
— Здорово вы додумались! — загорелся оперуполномоченный уголовного розыска. — Это же, это… Представляете, если подтвердится?
— А если нет? — охладил его пыл Кичатов. — С фанфарами подождём, лучше поделитесь, что вам удалось узнать у Крицяк.
— Понимаете, Дмитрий Александрович, как только Ореста Сторожук вернулась из Южноморска, она тут же разогнала всех курортников, даже не взяв плату за последние дни пребывания.
— Что так? — удивился следователь. — Испугалась наказания за нетрудовые доходы?
— Крицяк говорит, что Орыся была сама не своя. В один день собралась и укатила, оставив тёте Кате доверенность для ведения дел по продаже дома.
— Куда она уехала?
— Не сказала. Но сегодня звонила по междугородному телефону, спрашивала, нашла ли Крицяк покупателя. По этому звонку удалось установить, что Сторожук находится в Средневолжске.
— Вернулась к мужу и сыну?
— Бог её знает, — пожал плечами Жур. — Во всей этой истории настораживает поспешность, с которой Сторожук решила избавиться от дома и покинула Трускавец.
— А может, из-за того, что была не только любовницей, но и соучастницей Рогового? — высказал предположение Кичатов. — Вот и пытается скрыться.
— Все может быть, — раздумчиво произнёс Жур. — Перед отъездом Сторожук сняла все свои сбережения. И знаете сколько? Восемьдесят семь тысяч!
— Ничего себе! — присвистнул подполковник. — От трудов праведных таких денег иметь не будешь.
— Но это, кажется, не все, — продолжал капитан. — Крицяк намекнула, что у Орыси имеются ещё вклады, но в других городах.
— По-моему, Виктор Павлович, вам придётся отправиться в Средневолжск,
— сказал Кичатов.
— Да, надо выяснить, чем она там занимается, — согласился Жур. — И вообще не мешает поговорить.
— Ладно, окончательное решение по этому вопросу мы согласуем с Игорем Андреевичем… Больше у вас новостей нет?
Оперуполномоченный уголовного розыска только отрицательно покачал головой.
Они подошли к гостинице. Кичатов оформился, взял у дежурной по этажу ключ от номера и первым делом заказал по междугородному телефону Южноморск. Дали быстро. Дмитрий Александрович подробно рассказал Чикурову о своих подозрениях, возникших после встречи с Костенко.
— Постарайтесь как можно скорее переслать мне снимок Рогового и отпечатки пальцев той женщины, — попросил начальник следственно-оперативной группы.
— Хорошо! — ответил подполковник и перешёл к вопросу об Оресте Сторожук и стоит ли Журу лететь в Средневолжск.
— Стоит, и незамедлительно! — решил Игорь Андреевич. — Мне кажется, она знает немало.
Закончив разговор, Кичатов сказал Журу:
— Так что дорога ваша, Виктор Павлович, лежит к берегам Волги.
— Пойду рассчитаюсь за гостиницу, — поднялся Жур.
А через сорок минут Кичатов прощался с ним у автобуса, отправлявшегося во львовский аэропорт. Капитан увозил с собой полученные от Костенко фотографии. Он должен был передать их для Чикурова с экипажем рейсового самолёта, улетающего в Южноморск.
— Не волнуйтесь, сегодня же Игорь Андреевич будет держать их в руках,
— заверил Жур подполковника.
Но Кичатов все равно волновался. Но не потому, что сомневался в оперативности Виктора Павловича, а переживал, верны ли его догадки или нет.
На следующий день Дмитрий Александрович не выходил из своего номера — боялся проворонить звонок из Южноморска. Даже обедать не пошёл. И вот наконец около трех часов позвонил Чикуров.
— Поздравляю! — после взаимного приветствия несколько торжественно произнёс Чикуров. — Вы оказались правы. Отпечатки пальцев на пачке сигарет с гашишем из пиджака Сегеди и на замке от чердачного люка идентичны отпечаткам пальцев Пузанкова… Утопленника.
И хотя Кичатов ожидал такого сообщения, но все равно не сдержался и взволнованно переспросил:
— Это точно?
— Точно, точно! — засмеялся Игорь Андреевич. — Не подвела вас интуиция.
— Просто вспомнил Катеньку, сберкассу. Ну и связалось все в голове… А как насчёт Рогового? — с нетерпением спросил Кичатов.
— И тут попадание в десятку, — ответил Чикуров. — Как вы и предполагали, неизвестный, выловленный рыбаками под Южноморском и притворявшийся глухонемым, оказался Роговым! Медсёстры и Табачникова опознали его с первого взгляда. Сосед по палате — тоже.
— А Великанов опознал?
— К нему до сих пор врачи никого не пускают. Ему уже лучше, но окончательно в себя артист пока не пришёл.
— Как вам нравится поворот дела? — спросил Кичатов. — Интересно, кто убрал Пузанкова? И за что?
— Да, вопросы, вопросы… — вздохнул Чикуров. — Например, откуда у Рогового-Барона столько золота? Почему он бросил его в больнице, когда сбежал?
Они обсудили вновь открывшиеся обстоятельства, наметили планы на ближайшее время.
— У вас теперь задача номер один — допросить Рогового, — сказал в заключение Игорь Андреевич.
Простившись с ним, Кичатов уже через пятнадцать минут был у Костенко. Следователь вёл допрос свидетеля, но поняв по возбуждённому виду подполковника, что имеются важные вести, отпустил допрашиваемого.
— Ну, Павел Иванович, даже не знаю, с кого причитается, с вас или с меня, — сказал Кичатов и поведал о том, что вскрылось в Южноморске по поводу Чёрной вдовы.
Костенко был буквально ошарашен тем, что это оказалась не женщина, а переодетый мужчина. Он долго охал и сокрушался, как мог так опростоволоситься.
Дмитрий Александрович поделился второй новостью, что медперсонал южноморской больницы опознал Рогового-Барона.
— Теперь, Павел Иванович, нужно разбиться в лепёшку, но найти и задержать его! — закончил подполковник.
— Задержать? Не надо, — сказал Костенко. — Больше он никуда не убежит…
— В каком смысле? — не понял Кичатов.
— В прямом. Сергей Касьянович Роговой успокоился навечно, — торжественно произнёс следователь прокуратуры. — Инфаркт! Смерть! — он протянул Кичатову справку, которая удостоверяла, что останки некогда грозного главаря банды захоронены на Лычаковском кладбище в городе Львове.
— Захоронение состоялось второго ноября, — потряс бумажкой Кичатов. — А вы только что узнали?
— Так уж иной раз получается, — развёл руками Костенко. — Слава богу, что мы не успели объявить всесоюзный розыск! В «Крокодил» попали бы, это точно! — И вдруг сказал с улыбкой: — А ведь причитается с меня!
— Да? — машинально откликнулся Кичатов, мысли которого были заняты тем, какое осложнение для него и Чикурова принесла смерть Рогового.
— Такой груз сняли с моих плеч, даже не представляете! — продолжал Костенко. — Ведь дело об убийстве Сегеди у меня в производстве с мая. Целых шесть месяцев! Начальство уже плешь проело. Все сроки истекли. Да что вам объяснять, сами знаете!
Да, Кичатов отлично понимал, что такое повисший на тебе «глухарь».
— И сколько у вас ещё дел? — полюбопытствовал он.
— Аж целых пять! — растопырил пальцы Костенко. — Так что баба с возу — кобыле легче, — радовался он. — Теперь сам бог велит прекратить дело, так?
— Да, — согласился подполковник, понимая, почему так повеселел коллега. — Но бумага бумагой, а все-таки не мешало бы уточнить подробности, как умер Роговой-Барон, кто его похоронил.
— Конечно, конечно, — закивал Костенко, пряча справку в папку с делом.
— Может, съездим во Львов? — предложил Кичатов.
— Давайте съездим. И поставим точку. — Павел Иванович потряс в воздухе папкой.
Он выхлопотал у начальства машину, и они с Кичатовым отправились во Львов. Костенко не скрывал приподнятого настроения.
«Как все в жизни относительно, — думал Дмитрий Александрович. — Одно и то же событие для Костенко — радость, а для нас — дополнительные хлопоты, и возможно, немалые».
До Львова домчались за час и скоро были уже на кладбище.
Остановились возле массивного мраморного сооружения. На склепе было несколько табличек с указанием, кто здесь похоронен. Среди них выделялась новенькая мраморная плита со сверкающей золотом надписью: «Сергей Касьянович Роговой». Под ней — даты рождения и смерти.
«После побега из южноморской больницы в ночь на двадцать восьмое октября Роговой-Барон прожил всего четыре дня, — подумал Кичатов. — Какое же потрясение ждало его в Прикарпатье, если не вынесло сердце? А может, крепко перепил? Коньяк, говорят, хлестал литрами…»
Костенко провёл рукой по мрамору, посмотрел на Дмитрия Александровича и сказал:
— Все смертны… Нет больше грозного Барона…
По возвращении в Трускавец Кичатов позвонил в Южноморск и обсудил с Чикуровым последние новости. Было решено: Игорь Андреевич полетит в Москву, чтобы допросить Скворцова-Шанявского, а Дмитрий Александрович — в Южноморск, куда уже прибыл Латынис. Им предстояло вплотную заняться Блинцовым, у которого, по сведениям ОБХСС, рыльце оказалось в пушку.
Полет в столицу растянулся больше чем на сутки: в воздухе находились всего два часа, остальное же время Чикуров промаялся в южноморском аэропорту в ожидании лётной погоды.
И вот наконец Внуково. Ждать в очереди на автобус-экспресс не было уже никаких сил, и Чикуров просадил последнюю красненькую на такси. В машине он мечтал об одном: поскорее добраться до постели — было уже около одиннадцати часов ночи. Но осуществить свою мечту Игорь Андреевич не смог: у жены была гостья, Агнесса Петровна, бывшая её начальница, а ныне пенсионерка. Они сидели в комнате, которую занимали Игорь Андреевич с Надей, и пили кофе. В другой спала внучка Анжелика. А в третьей, гостиной, Кешка с женой и друзьями устроили что-то вроде дискотеки. Подобное веселье обычно затягивалось у них допоздна.
Игорю Андреевичу не оставалось ничего другого, как уповать на то, чтобы поскорее ушла Агнесса Петровна. Но разговорчивая старушка вовсе не спешила.
Игорь Андреевич присел за стол. Кофе ему не предлагали — врачи запретили из-за гипертонии.
Чикуров сидел за столом, клевал носом, но жена была увлечена разговором и даже не пыталась дать понять гостье, что ей пора закругляться.
— Да, — вдруг спохватилась Надя, — есть хочешь?
«Наконец-то вспомнила о муже», — подумал Чикуров и «толсто» намекнул:
— Не мешало бы закусить и на боковую…
— В холодильнике есть сосиски. Ты уж, Игорек, поухаживай за собой сам.
— И она скосила глаза на Агнессу Петровну, мол, неудобно бросать гостью.
С трудом подавив в себе желание сказать пару «ласковых» слов жене, Игорь Андреевич вышел на кухню. Поставил на плиту кастрюльку, заглянул в холодильник. Там лежали две сосиски. И больше ничего.
«С ума сойти можно! — негодовал Игорь Андреевич. — Чтобы в доме не было чего пожрать!»
Игорь Андреевич вдруг понял: любовь, та самая любовь, которая грела их отношения, осталась позади. А теперь её уже нет. Нет! Оба давно перегорели.
От этой внезапно открывшейся истины в голове прояснилось, а в сердце поселились холод и неуютность.
С утра Чикуров первым делом хотел доложиться начальнику следственной части, но его секретарша ответила, что Вербиков отправился на какое-то совещание и будет после обеда.
Потом позвонил из Средневолжска капитан Жур.
— Сторожук разыскали? — спросил следователь после взаимного приветствия.
— Само собой. Начал с её мужа. Швадак Василь, работает на здешнем автогиганте. По-моему, крепко ему насолила бывшая жена, он даже говорить о ней не хотел.
— Больше не женился?
— Что вы! Об этом даже слышать не желает! У Швадака пунктик насчёт женщин — разочаровался полностью. Только и знает: сын да работа, работа да сын. Между прочим, на мать я вышел через сынишку. Ореста тоскует по сыну, но Василь категорически запретил ей встречаться с ним. Вот она и ходит украдкой к детскому саду, чтобы хоть одним глазком посмотреть в щель забора на своего Диму. Там я и застал её. Узнала меня, удивилась. А глазки бегают. Хотела смыться, но не тут-то было. Беседовали у неё дома.
— А где она там обосновалась?
— У одного инженера-электронщика — Федора Гриднева. Бедняга без памяти влюблён в Орысю, хоть и младше неё на четыре года. Сторожук говорит, что они скоро поженятся.
— Понятно… Что дальше?
— Ну и намучился я с ней! — в сердцах проговорил оперуполномоченный уголовного розыска. — Ужом юлит, темнит! Спрашиваю, какие отношения со Скворцовым-Шанявским? Отвечает, что просто знакомы. Обещал, мол, сделать в Москве прописку и работу… За просто так, спрашиваю. Да, говорит, по дружбе… Представляете, за дурачка меня держала! Спрашиваю: чем профессор занимался в Южноморске? Отдыхал, говорит, и все. Куда ходил, с кем встречался — вроде не знала. Помимо нам уже известных, назвала только одного. Запишите, Игорь Андреевич… Жоголь…
— Минуточку! — Игорь Андреевич взял ручку.
— Жо-голь, — отчётливо повторил капитан. — Леонид Анисимович. Живёт в Москве, работает в торговле. Дружит со Скворцовым-Шанявским давно. Но, по словам Сторожук, улетел из Южноморска за несколько дней до смерча.
— А кого искал профессор в море? Ну, с аквалангистом Трешниковым?
— Это ей неизвестно. Она даже не могла сообщить фамилию шофёра Скворцова-Шанявского, Вадима.
— Но хоть что-нибудь вы добились от Сторожук?
— С трудом, но призналась-таки, что пятьдесят тысяч, которые, помните, она сняла с аккредитива в Южноморске, у неё действительно украли, — ответил капитан. — Но потом такую ахинею понесла — хоть стой, хоть падай. До белого каления довела меня, ей-богу!
— Чем же? — удивился Чикуров, зная, как трудно вывести из терпения Виктора Павловича.
— Вы только послушайте! — горячился капитан. — Спрашиваю, для какой-такой надобности сняла пятьдесят тысяч? Долг, говорит, нужно было отдать… Отдали? Да, отвечает… Но ведь у вас эти пятьдесят тысяч украли! А когда поймали воров и хотели вернуть деньги, вы от них открещивались как черт от ладана! Сторожук стала уверять, что сама достала нужную ей сумму… Где, спрашиваю, у кого? Она виляла, виляла, путалась, путалась и вдруг заявляет, что продала золотые зубные коронки с бриллиантами…
— Что за бред? — не понял следователь.
— Я сам от такой фантасмагории чуть на стену не полез! — нервно засмеялся капитан. — Но Ореста объяснила, что у неё во рту было два протеза с крупными бриллиантами! Симметрично, с двух сторон! Вот за них-то и получила она пятьдесят тысяч.
— Кому продала?
— Зубному врачу. Фамилию, она, естественно, у него не спрашивала. Дантист этот работает в поликлинике, но имеет зубоврачебное оборудование и у себя дома.
— Приметы врача выяснили?
— Конечно… Вот такие, Игорь Андреевич, пироги, — вздохнул капитан. — Сегодня хочу продолжить нашу беседу со Сторожук.
Чикуров уточнил, на что Журу следовало бы обратить особое внимание и какие вопросы интересовали следствие в первую голову. Жур пообещал «выжать» из Сторожук нужные сведения.
После разговора с Виктором Павловичем Чикуров поехал в Тушино, где проживал Скворцов-Шанявский. Свой принцип как можно больше узнать о человеке, прежде чем его допрашивать, Чикуров решил выдержать и на этот раз, а поэтому прямиком направился в отделение милиции.
Участковым инспектором, на чьём участке находился дом профессора, был молоденький лейтенант, по всей видимости, недавний выпускник высшей школы милиции, Зиятдинов Карим.
«Откуда у этого потомка Чингисхана такие рыжие волосы и голубые глаза?» — подивился Игорь Андреевич, знакомясь с ним.
Вообще-то следователь предпочитал иметь дело с опытными участковыми, со стажем. И участок знают хорошо, и с полуслова улавливают, что именно требуется следствию. Но на нет, как говорится, и суда нет.
Но когда Чикуров разговорился с Зиятдиновым, лейтенант поразил его обстоятельным и серьёзным отношением к своей службе. Что же касается людей, проживающих на вверенной ему территории, то голубоглазый татарин был весьма даже осведомлён о многих. Правда, его больше волновали пьяницы, дебоширы, тунеядцы, неблагополучные семьи и находящиеся на учёте в милиции малолетки.
— Погодите, погодите, — сказал Зиятдинов, когда зашёл разговор о Скворцове-Шанявском. — По-моему, он не является пайщиком ЖСК. — Он полистал свой блокнот в красивой пластиковой обложке. — Точно! Владельцем сорок третьей квартиры является Митрошкин Г.Д. Скворцов-Шанявский прописан там временно.
— А кто такой Митрошкин? — спросил следователь.
Выяснилось, что Митрошкин был старшим научным сотрудником какого-то академического института. Сам он живёт у жены, дочки академика, которой от отца досталась четырехкомнатная квартира.
— А у Митрошкина сколько комнат?
— Три, — ответил участковый и добавил: — Сорок восемь Квадратных метров.
«Мне бы такую!» — с завистью подумал Игорь Андреевич. Вспомнив свои тесные, словно бы рассчитанные на лилипутов, апартаменты с крошечной кухней и совмещёнными ванной и туалетом.
Зиятдинов как будто прочитал в его глазах эту тоску.
— Вот так и получается, одни ютятся по пять человек в комнате, а у других пустуют хоромы, — заметил он со вздохом. — Когда уже наведут порядок?
— Но это же кооператив, — развёл руками Чикуров.
— А в государственных, вы думаете, дела обстоят по-другому? — усмехнулся лейтенант.
Зиятдинов предложил зайти в дэз, обслуживающую ЖСК, в котором снимал квартиру Скворцов-Шанявский. Там порекомендовали Чикурову обратиться к пайщице того же кооператива, которую назвали тётей Фаней — она была самым осведомлённым человеком в этом доме. Одинокая, имеет только кошку, которая неотлучно находится рядом с хозяйкой. Но самое главное — тётя Фаня подрабатывает к пенсии вахтёром в своём ЖСК. Сутки дежурит, трое отдыхает. Но даже в свободное от дежурства время сидит возле вахтёрской будочки или на скамейке у подъезда. Словом — бессменный часовой, все видит и все знает.
Игорю Андреевичу всегда были не по душе такие скамеечные кумушки, но другого источника информации пока не имелось и пришлось согласиться на тётю Фаню.
Её пригласили в дэз. Она явилась со своей кошкой. Раскормленный беспородный мурлыка проспал у неё на руках весь их разговор.
— Валерий Платонович? Как же, как же, знаю! — буквально засветилась тётя Фаня при одном только упоминании о профессоре. — Интеллигентный, культурнейший человек. А воспитание! Всегда остановится, справится о здоровье. И учёный крупный! Персональный пенсионер всесоюзного значения, а все равно продолжает трудиться на благо нашего общества.
По словам вахтёрши, у Скворцова-Шанявского часто бывали люди. Наверное, тоже учёные. Одеты хорошо, подъезжали на своих «Волгах» и «Жигулях». Зарубежные гости тоже иной раз посещали: подкатывали на иностранных автомобилях. Очень чтили профессора, потому что многие являлись с подарками.
— Из чего вы это заключили? — спросил следователь.
— Так ведь совсем нетрудно догадаться, — пожала плечами тётя Фаня. — Приходят с коробками, сумками, свёртками, а уходят — без. Значит, оставляют у того, к кому идут.
— Логично, — улыбнулся Игорь Андреевич и спросил, что она может сказать о Сторожук.
— Вы имеете в виду Орысю-хохотушку? — уточнила вахтёрша. — Да, она жила у Валерия Платоновича, по-моему, с мая месяца. Что и говорить, красавица!
— Как представил её Скворцов-Шанявский?
— Ассистенткой, — ответила тётя Фаня и, бросив на следователя лукавый взгляд, иронично улыбнулась. — Ну, я сделала вид, что поверила. Но мы же не дети! Я уверена, Орыся была его гражданской женой. И ради бога! Валерий Платонович ещё вполне и вполне! И эта Орыся, прямо скажем, не восемнадцатилетняя девушка.
Дальше она рассказала, что профессор со своей «ассистенткой» в конце сентября уехали на юг на машине Скворцова-Шанявского, а вот вернулся Валерий Платонович один.
— Когда? — спросил следователь.
— Недели три назад, — подумав, ответила вахтёрша. — Может, чуть раньше…
«Значит, числа двадцать пятого — двадцать седьмого октября», — прикинул Чикуров и поинтересовался:
— А что он сказал насчёт Сторожук, где она?
— Сказал, что Орыся в спецкомандировке… Да, — вдруг что-то вспомнила тётя Фаня. — Перед самым приездом профессора его очень настойчиво спрашивал один мужчина.
— Какой мужчина? — насторожился Чикуров.
— Я его раньше не видела. Выше среднего роста, лет под пятьдесят. Лицо интеллигентное. Несколько раз приходил, спрашивал Валерия Платоновича. Видимо, очень уж ему нужен был профессор. В тот день, когда Валерий Платонович вернулся с курорта, этот человек ждал его на улице. На дворе холодина, и я пригласила мужчину в подъезд. Буквально через полчаса подъехал Валерий Платонович. Но знаете, — тётя Фаня зачем-то понизила голос, — по-моему, профессору была не очень приятна эта встреча.
— Да? — заинтересовался следователь. — А почему вы так считаете?
— Валерий Платонович как-то растерялся, засуетился и, кажется, даже побледнел. Они поднялись на лифте, а приблизительно через час тот человек ушёл. А профессора я увидела лишь через день. Почему-то в тёмных очках, и полоска пластыря на лбу. Он хотел прошмыгнуть мимо меня, но я спросила, что с ним такое? Валерий Платонович смутился, сказал, что поскользнулся на улице, упал. Я посочувствовала, но даю голову на отрез: он говорил неправду.
— Как это так?
— А вот так! Профессор не выходил из дому с того самого момента, как поднялся к себе с тем самым мужчиной!
— А вы не могли ошибиться?
— Я? Ошибиться? — Тётя Фаня посмотрела на следователя так, словно он подверг сомнению само её существование. — Я дежурила эти двое суток. За себя и за Лидию Егоровну. А мимо меня и муха не пролетит незамеченной!
После описанных событий, по мнению верного стража кооператива, у Валерия Платоновича что-то произошло. Машина больше за ним не приезжала, сам он ходил озабоченный. А последние дней пять Скворцов-Шанявский и вовсе не появлялся.
— Уехал, что ли?
— Если он уезжал из Москвы, то всегда предупреждал: отлучаюсь, мол, в командировку. Или там на курорт.
— А может, вообще с квартиры съехал?
— Ну уж в таком случае наверняка бы сказал. Съехать не попрощавшись — нет! Не такой Валерий Платонович человек, — решительно мотнула головой бдительная вахтёрша. — Да и корреспонденция к нему идёт и идёт. Письма, газеты, журналы. Почтальонша жаловалась, что почтовый ящик забит до отказа, не вынимали давно.
— А что, если Скворцов-Шанявский болен и поэтому не выходит из квартиры? — высказал ещё одно предположение следователь.
— Нету его дома, потому что второго дня им интересовался молодой человек.
— Какой молодой человек?
— Нерусский. Смуглый, чернявый. По-моему, из Средней Азии. Поднялся на лифте и очень скоро спустился. Все выпытывал, в Москве ли Валерий Платонович. Я сказала, что уже несколько дней, как его не видно. Молодой человек, по-моему, не поверил. И вообще был очень злой.
Поблагодарив вахтёршу, Чикуров отпустил её.
«Куда мог запропаститься профессор? — размышлял следователь. — Почему он врал тёте Фане, что упал на улице? И что это за настойчивые посетители? Для чего сказал неправду, что Ореста Сторожук в спецкомандировке? Казалось бы, солидный человек…»
Игорь Андреевич потянулся к телефону, чтобы позвонить в райсобес и справиться, действительно ли у Скворцова-Шанявского персональная пенсия союзного значения, но вспомнил, что в Тушино он прописан временно и, значит, наводить справки надо по месту его постоянного жительства.
«Ладно, сначала забегу в ЖСК», — решил Чикуров.
Они отправились вместе с Зиятдиновым. Дом, наверное, был построен по индивидуальному проекту. Очень солидный, из красного кирпича, огромные окна, лоджии. Стоянка забита автомобилями, среди которых много «Волг», а также «Лад» и «Москвичей» новейших моделей.
Поднялись на шестой этаж. Чистота. На просторной лестничной площадке — горшки с вьющимися растениями. Дверь в сорок третью квартиру была обита красной искусственной кожей. Из соседней квартиры доносилась громкая музыка
— вездесущий рок-н-ролл.
Следователь нажал кнопку звонка, но, прозвенел тот или нет, слышно не было. Подождав с минуту, Игорь Андреевич снова позвонил. Эффект тот же.
— Ох, эти «металлисты»! — недобро покосился на соседнюю дверь Зиятдинов.
— Может, звонок не работает?
Участковый инспектор прижался ухом к двери, нажал кнопку.
— Вроде работает, — сказал он неуверенно.
И на всякий случай попробовал достучаться кулаком.
Однако после первого же удара дверь подалась внутрь. Зиятдинов и Чикуров переглянулись.
— Смотри-ка, не заперто, — удивился лейтенант.
Он толкнул дверь сильнее. Игорь Андреевич заглянул в полумрак квартиры и невольно отшатнулся.
Запах! Густой, смрадный, он вытекал из тёплого жилища.
Превозмогая отвращение, Игорь Андреевич шагнул через порог. Зиятдинов, который тоже все понял, двинулся следом, зачем-то положив руку на кобуру пистолета.
Когда глаза обвыклись, следователь понял, что они находятся в просторном холле Чикуров открыл одну из дверей — пустая кухня. Другая дверь вела в большую комнату. В ней тоже никого не было. Холл переходил в коридорчик, заворачивающий коленом. В него смотрелись четыре двери. Комната. Ещё одна, поменьше. И в них никого. Затем туалет. Дальше была, по всей видимости, ванная. Внизу под дверью светилась полоска.
Игорь Андреевич приоткрыл дверь.
Почему-то прежде всего бросился в глаза ряд красивых флаконов, стоящих на стеклянной полке возле зеркала во всю стену и освещённых ярким светильником.
А в ванне лежал человек.
Видны были лишь часть груди, плечи, шея и голова. Все остальное скрывала темно-бурая жидкость.
Заходить в ванную комнату следователь не стал.
— Товарищ лейтенант, срочно организуйте понятых, — скомандовал он, пожалев, что не сделал это раньше, до входа в квартиру.
— Слушаюсь! — по-военному ответил Зиятдинов и поспешил из квартиры.
Игорь Андреевич включил свет в холле. На журнальном столике стоял телефонный аппарат. Следователь набрал номер райуправления внутренних дел…
И закрутилась привычная для Чикурова машина. Подъехали работники милиции, судмедэксперт. Но им пришлось ждать, потому что участковый инспектор все уговаривал соседей быть понятыми: людей пугал покойник. С трудом согласились наконец женщина-врач и пожилой пенсионер.
Начали с фотографирования и осмотра трупа. У Скворцова-Шанявского (его сразу узнали понятые) были перерезаны вены на левой руке, что, по предварительному заключению судмедэксперта, явилось причиной смерти. Было обнаружено и орудие предполагаемого самоубийства — лезвие от безопасной бритвы «Жиллет».
Помимо резаной раны на запястье, у покойного на теле были замечены кровоподтёки в области груди, а также ссадины и царапины на обеих руках. На вопрос Чикурова, когда наступила смерть, судмедэксперт ответил, что не меньше чем четыре-пять дней назад.
«Ровно столько, по словам тёти Фани, и не видели профессора», — подумал следователь.
Он разрешил увезти труп в морг и приступил к осмотру квартиры. Обстановка была исключительно импортная и, скорее всего, куплена хозяином, то есть Митрошиным.
Скворцов-Шанявский, видать, был аккуратист. Все прибрано, все на своих местах. Посуда на кухне перемыта, продукты — фрукты, овощи, орехи, соки и прочее, говорящее о вегетарианском питании, — в идеальном порядке сложены в холодильнике. Дорогие костюмы, туфли, шерстяные вещи и другая одежда висели в спальне в шкафу. А на вешалке в холле находились пальто, дублёнка и шапка-ушанка из темно-коричневой норки.
Если даже это было и убийство, чего пока нельзя было исключать, то, во всяком случае, не с целью ограбления.
Последним следователь осмотрел кабинет. На письменном столе бросились в глаза две бумажки. Одна — записка, адресованная покойному. «Валерий Платонович! Очень жаль, что не застал вас дома. Настоятельно прошу позвонить мне сразу, как только прочтёте эту записку». Дальше указывался номер телефона, по которому следовало звонить, подпись — «А.Иркабаев» и число — 13 ноября.
«Пять дней назад, — отметил про себя Чикуров. — А послание-то какое! Ни тебе здравствуй, ни тебе до свидания… Интересно, кто этот Иркабаев?»
Другая бумажка была прижата к столешнице друзой горного хрусталя. Чикуров взял её в руки.
«У меня два пути. Первый — смерть. Второй — тоже смерть и истязания. Я выбираю первый. Прости меня, господи!»
Дрожащие, пляшущие буквы, строки в конце сползают вниз.
Предсмертная записка.
Следователь показал её понятым, занёс это в протокол.
Помимо этих двух бумажек, на столе лежала стопка газетных вырезок. Чикуров пробежал их глазами. Вырезки были из газет, издающихся в разных городах: Новосибирск, Омск, Воркута, Архангельск, Тамбов… И тематика материалов, затронутая в них, касалась исключительно овощей, фруктов, находящихся (или отсутствующих) в продаже, об опыте хранения сельхозпродукции, о работе потребкооперации в этом направлении, и так далее, и тому подобное.
«Ну что ж, — подумал Игорь Андреевич, — это была профессия покойного. Поле его научной и практической деятельности».
Тут же лежал справочник служебных телефонов Госагропрома СССР и Госагропрома РСФСР.
Игорь Андреевич осмотрел книжные шкафы, забитые научными книгами. Но не нашёл ни одной по овощеводству и вообще относящейся к сельскому хозяйству. Литература касалась исключительно геологии. Книги принадлежали хозяину, учёному-геологу. Не обнаружил следователь и ни единой работы профессора — ни в рукописи, ни в напечатанном виде.
В одном из ящиков письменного стола Чикуров натолкнулся на клочок бумаги со странным списком. В левом ряду — непонятный набор слов: Философ, Свист, Король, Птаха, Каракурт, Борода, Дырка. Все слова — с заглавной буквы.
«Клички, что ли? — размышлял Игорь Андреевич. — А то бы зачем с большой буквы?»
Напротив каждой клички (если это действительно было так) стояла одно— или двухзначная цифра. Со знаком плюс или минус. И только справа от Философа цифра была трехзначная — 510. С жирным минусом.
Чикуров сличил список с предсмертной запиской. И не смог понять, написаны они одной рукой или разными.
«Срочно на экспертизу», — решил следователь.
В том же ящике, в коробке из-под набора фломастеров, лежали квитанции по оплате междугородных переговоров. Среди них затесались три квитанции денежных переводов.
Игорь Андреевич обратил внимание, что переводы посланы на один и тот же адрес, в Иркутскую область. Адресат — Листопадова И.К. Поразили Чикурова суммы — 27 тысяч, 19 тысяч и 6 тысяч. Когда Чикуров рассмотрел на штампах почтового отделения даты, то оказалось, что деньги отправлены после приезда Скворцова-Шанявского из Южноморска и в очень короткий срок. Первый перевод, 27 тысяч, — 29 октября, а вот второй, 19 тысяч, и третий, 6 тысяч, посланы… в один и тот же день — 3 ноября, утром и вечером.
Следователя удивило отсутствие чего-либо, свидетельствующего о личной жизни профессора. Ни фотографий, ни посланий от родственников или друзей.
Не нашёл Игорь Андреевич и документов Скворцова-Шанявского: диплома доктора наук, диплома профессора, служебного удостоверения, пенсионной книжки.
«А с кем он вёл переписку? Надо исследовать содержимое почтового ящика», — подумал следователь.
Не найдя больше ничего примечательного в письменном столе и книжных шкафах, Чикуров тщательно обшарил все углы кабинета. Под массивным креслом он обнаружил окурок сигареты с фильтром. Скворцов-Шанявский не курил, и, значит, окурок был брошен кем-то другим. Окурок был изъят. Затем вместе с понятыми спустились в вестибюль и вынули скопившуюся в почтовом ящике корреспонденцию: газеты «Сельская жизнь», «Советская торговля» и журналы «Закупка сельскохозяйственных продуктов», «Картофель и овощи», «Плодоовощное хозяйство», «Сельское хозяйство России» и «Сельское хозяйство Нечерноземья». Помимо этого — конверты с вырезками из центральных и местных газет все на ту же тематику — овощи, фрукты, торговля ими.
Среди отправлений, пришедших на имя профессора, было ещё три. Два почтовых перевода: из Краснодарского края на сумму четыре тысячи рублей и из Крыма на тысячу рублей. Третье послание — короткое письмо с Кавказа. «Валерий Платонович! Нужно определить гранаты в количестве 2 т., а может быть, и больше. Срочно телеграфируйте. Условия обычные».
Фамилия отправителя этой писульки была Немчинов.
Игорь Андреевич обратил внимание, что последний раз Скворцов-Шанявский наведывался в почтовый ящик 13 ноября. Все, что принесла почтальон после, то есть с 14 ноября, лежало в ящике.
Вот, видимо, и время смерти профессора, — предположил Чикуров. — С вечера 13-го, когда принесли последнюю почту, по 14 ноября… Тело, таким образом, пролежало в ванне четверо или пятеро суток».
Уже когда Чикуров заканчивал оформление протокола осмотра места происшествия, приехал хозяин квартиры, которого разыскал участковый инспектор.
Митрошин был испуган, взволнован, растерян. Следователь допросил его.
— Я, можно сказать, не знаю Скворцова-Шанявского! — уверял Митрошин, зябко передёргивая плечами в дублёнке.
В квартире было холодно, потому что из-за сильного трупного запаха пришлось открыть окна.
— С какого времени живёт у вас профессор? — спросил следователь.
— С конца января этого года. Понимаете, я вообще-то не сдаю квартиру, но за Валерия Платоновича очень просил один мой знакомый.
— Кто именно?
— Жоголь, — ответил Митрошин, щёлкая суставами пальцев от волнения. — Я и уступил… Но я не брал со Скворцова-Шанявского ни копейки! Он лишь платил квартплату, за свет и телефон.
— И все? — уточнил Чикуров.
— Неужели я похож на человека, кто извлекает нетрудовые доходы из своего жилья? — не скрывая обиды, ответил хозяин квартиры. — А пустил я Валерия Платоновича только потому, что его, как я уже говорил, усиленно сватал Жоголь.
Имя этого торгового работника следователь слышал за сегодняшний день уже второй раз, от Жура и вот теперь.
— Простите, а где работает Жоголь? — поинтересовался Чикуров.
— Леонид Анисимович? — У Митрошина вдруг забегали глаза. Стараясь не смотреть на следователя, он пробормотал: — В каком-то гастрономе. Точно не знаю. Короче, я его давно не видел.
— Адрес, телефон Жоголя?
Геолог вытащил из кармана записную книжку и продиктовал Чикурову домашний телефон Жоголя.
Игорь Андреевич продолжал допрос. По словам хозяина квартиры, он не был у себя уже месяца четыре. И вообще не беспокоил постояльца. Скворцов-Шанявский — человек солидный, можно было не беспокоиться за порядок в доме и своевременную плату по счетам.
— Так когда вы видели Скворцова-Шанявского в последний раз? — задал уточняющий вопрос следователь.
— Совсем недавно…
— Как? — удивился Чикуров. — Вы же только что говорили, что не навещали его здесь давно.
— А мы встретились в центре, — пояснил Митрошин. — Он неожиданно позвонил мне и сказал, что хочет встретиться. По делу. Договорились в обеденный перерыв в ресторане «Националь», что внизу… — Геолог замялся, немного помолчал, но все же сообщил: — Он сделал мне несколько странное предложение.
— Какое?
— Спросил, не куплю ли я у него машину. Его «Волгу». Она прошла тысяч пятнадцать, для «Волги» это совсем ничего. Я говорю: Валерий Платонович, милый, зачем мне «Волга», сами ведь знаете, что я привёз из Африки иномарку. У меня «фольксваген»… Два года под палящим солнцем Сахары! Хрячил на него!.. Тогда Скворцов-Шанявский говорит: мол, может быть, предложите кому-нибудь из знакомых? Я обещал поспрашивать. Позвонил ему на следующий день, а он сказал, что уже нашёл покупателя. Да, ещё он предложил купить у него японскую видеосистему «Джи-ви-си». Запрашивал недорого, всего шесть тысяч, хотя она тянет на все десять!
— Вы согласились?
— У меня есть. «Грюндиг». Привёз вместе с «фольксвагеном».
— Какого числа состоялась ваша встреча?
Митрошин наморщил лоб, пошевелил губами, посчитал что-то на пальцах:
— Двадцать восьмого октября.
Напоследок Чикуров прошёлся с хозяином по квартире. Догадка следователя оказалась верной: обстановка принадлежала Митрошину. И все было на месте.
— Только вот эта штукенция, — показал на непонятную для Игоря Андреевича аппаратуру в кабинете Митрошин. — Она не моя. Я купил бы её у Валерия Платоновича не глядя! За любую сумму!
— Что это? — спросил Чикуров, которого ещё при первом осмотре заинтересовал непонятный аппарат.
— Персональный компьютер! — с восхищением произнёс Митрошин. — Модификация последнего поколения ЭВМ! Между прочим, я тогда, в «Национале», заикнулся, не уступит ли он её? Но Валерий Платонович замахал руками что твоя мельница! Говорит: никогда в жизни, это же мой хлеб!
Следователь на всякий случай спросил, знакома ли Митрошину фамилия Иркабаев?
— Нет, не знакома, — не задумываясь ответил геолог. — Я вообще никого не знаю из окружения Скворцова-Шанявского…
После того как хозяин квартиры ознакомился с протоколом допроса и подписал его, Чикуров сказал, что, возможно, Митрошин ещё понадобится следователю.
— А если кто-нибудь будет интересоваться Скворцовым-Шанявским, будьте добры, позвоните мне, — попросил Игорь Андреевич и написал на бумажке свой служебный телефон.
— Конечно, конечно, — закивал геолог, пряча листок в записную книжку.
Он покинул свою квартиру вместе со следователем и работниками милиции, словно боясь оставаться там один.
Митрошин укатил на белом «фольксвагене». Работники РУВД предложили Чикурову подбросить его куда надо, но он решил после смрадного помещения пройтись по свежему воздуху.
Уже смеркалось. Окна домов засветились жидким жёлтым светом. Игорь Андреевич неторопливо шагал по тротуару, думая свою думу.
Чуть больше шестидесяти… Редко кто в таком возрасте кончает жизнь самоубийством. Если, конечно, это самоубийство…
Правда, есть предсмертная записка, но Чикурову уже встречалось в следственной практике, когда таким письмом пытались прикрыть убийство.
«Предположим, что профессор сам наложил на себя руки, — анализировал увиденное в квартире Митрошина Игорь Андреевич. — Что толкнуло его на столь отчаянный шаг?.. Любовная драма?.. Страх перед каким-то возмездием? Неизлечимая болезнь? Приступ депрессии?»
«У меня два пути, — вспомнил Чикуров последнее послание покойного. — Первый — смерть. Второй — тоже смерть и истязания. Я выбираю первый…»
Кому послание? Что имел в виду Скворцов-Шанявский под словом «истязания»? В переносном или же буквальном смысле? И кто мучил его?
Тут же мысль следователя перескочила на другое: кто будет хоронить профессора? Никто из его родных и близких Чикурову известен пока не был. Может, выяснить у Жоголя?
Игорь Андреевич уже подошёл к метро, зашёл в будку телефона-автомата, позвонил Жоголю. Ответа не последовало. Тогда Чикуров набрал другой номер — Иркабаева. Трубку взяла женщина.
— Общежитие… Вам кого?
— Будьте добры, позовите Иркабаева.
— Подождите…
Ждать пришлось минуты три, не меньше. Наконец молодой нетерпеливый голос произнёс:
— Анвар, ты, что ли?
— Нет, — сказал Игорь Андреевич и представился, кто он.
Услышав слово «следователь», Иркабаев заволновался, спросил, зачем он понадобился. Чикуров сказал, что хотел бы побеседовать о Скворцове-Шанявском.
— Мне тоже очень хотелось бы поговорить об этом… этом!.. — голос молодого человека задрожал от негодования, он так и не окончил фразу.
— Давайте увидимся, — предложил следователь. — Когда вы можете?
— Да хоть сейчас!
Встречаться в общежитии Игорь Андреевич не решился: могут пойти нежелательные для Иркабаева слухи, а кто он и что, Чикуров пока не имел представления.
Договорились, что тот приедет через час в Прокуратуру республики. Сам следователь успел добраться до своего кабинета, выписать пропуск, и вскоре к нему уже постучали.
Иркабаеву было двадцать шесть лет. Родом из Узбекистана. Учится в аспирантуре. Высокий, стройный, он походил на певца из популярного ансамбля «Ялла». Наверное, из-за усов и чёрных, чуть вьющихся волос.
Только Игорь Андреевич заполнил бланк протокола допроса свидетеля, и тут же Ахрор Мансурович (так звали молодого человека) пошёл в наступление.
— Ваш Скворцов-Шанявский — тёмная личность! — метал громы и молнии Иркабаев. — Такие кричат о перестройке, выдают себя за борцов с неправдой, а сами что ни на есть махровые преступники!
Чикуров с трудом прервал его возмущённую тираду.
— Давайте, Ахрор Мансурович, поспокойнее и по порядку, — попросил следователь. — Откуда вы знаете Валерия Платоновича, зачем были у него тринадцатого ноября и оставили записку с просьбой, чтобы он вам позвонил?
— Да я, честно говоря, его не знаю. Видел всего-то один раз мельком, когда провожал папу в Трускавец.
И он поведал следователю, как весной его отец, Мансур Ниязович, отправился лечить свои больные почки на этот знаменитый курорт в Прикарпатье, попал в одно купе со Скворцовым-Шанявским. По словам аспиранта, Иркабаев-старший подружился с профессором.
— Батя у меня божий одуванчик! — горячо продолжал Иркабаев-младший. — Так обжёгся в жизни, а все равно остался идеалистом! Верит в честность и бескорыстие. Нет, Игорь Андреевич, вы не подумайте, что говорю я так потому, что являюсь его сыном. Об этом говорит вся его жизнь.
И Ахрор Мансурович подробно рассказал историю отца, и рассказ этот был горек и печален.
— Конечно, теперь все обвинения с отца сняли. Вернули партбилет, восстановили научное звание. Более того, избрали председателем исполкома! Но кто вернёт ему здоровье? — гневно вопрошал сын. — Кто? Мать у меня совсем ещё не старая, но вы бы посмотрели на неё! Она вся седая! Слава богу, отец хоть жив. А ведь были такие, кто поплатился жизнью. Да-да! Убивали людей, если они становились поперёк дороги высокопоставленным преступникам.
Игорю Андреевичу все это было известно. Он сочувственно покачал головой и заметил:
— Но сейчас вроде удалось навести порядок.
— Вроде… — кисло усмехнулся Иркабаев-младший. — Конечно, таких оголтелых безобразий уже нет, но все равно и блат существует, и взятки, и приписки. У папы есть любимая пословица: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. А мы в основном говорим! Хотя нужно… — Он сжал кулаки и тряхнул ими в воздухе.
— Ну и что же дальше случилось у вашего отца со Скворцовым-Шанявским?
— А случилось вот что… Как-то профессор, гуляя по Трускавцу, обмолвился, что может помочь получить нашему району импортное оборудование для переработки помидоров в томат-пасту. Но при условии: услуга за услугу! Правда, тут же успокоил, что ничего незаконного делать не потребуется: просто нужно будет отправить дополнительно вагон даров узбекской земли труженикам той области в Сибири, которая любезно вышлет агрегат для производства томата-пасты… Отец пообещал и обещание своё выполнил. Сделать это было нетрудно, урожай у нас в этом году отменный!
— Погодите, — остановил Ахрора Мансуровича следователь. — Как оформлялась отправка того оборудования в ваш район и даров узбекской земли сибирякам?
— Все было строго официально, — заверил Чикурова Иркабаев-младший. — От нас послали письмо. За подписями. Расплатились за оборудование, как надо, через банк. И вагон с фруктами тоже ушёл с соответствующими бумагами. Накладные и так далее. Казалось бы, все довольны. Мои земляки потому, что идут в дело помидоры. Сибиряки полакомились чудесным виноградом и персиками… И тут появились два типа, завалились они к нам домой… Отец у меня демократ. Если кто пришёл, значит, нужно принять, выслушать и помочь, чем можно. Даже чай им предложил! А как же, восточное гостеприимство. Спрашивает, по какому делу? Один из тех с ходу говорит: давайте контачить без посредника. И выкладывает на стол пачку денег. Отец, естественно, ничего не понимает. Тогда другой пояснил, что «делать деньги» они должны без Скворцова-Шанявского. Показал на пачку купюр и говорит: здесь, дорогой товарищ Иркабаев, в пять раз больше, чем передал вам Валерий Платонович. За тот, первый, вагон… Словом, что выяснилось, Игорь Андреевич? Оказывается, фрукты, посланные в обмен на оборудование, попали не в магазины, а к дельцам! И те пустили дары нашей земли налево, на рынок! Втридорога! Отец схватился за телефонную трубку, набрал номер милиции. Но бедняга так переволновался, что у него случился сердечный приступ…
— Он и раньше жаловался на сердце? — Эти слова вылетели у следователя машинально: последние дни у него самого почти постоянно кололо в груди.
— Такое — впервые. И ничего удивительного. Отец, который, не жалея сил, борется со спекулянтами, перекупщиками и прочими паразитами, своими руками помог этим проходимцам! Короче говоря, пока он приходил в себя, тех двоих и след простыл. Хорошо, сестрёнка была дома, соседей подняла, а те уж позвонили в «Скорую». Отец до сих пор лежит пластом, не вставая. Инфаркт — это очень страшно, Игорь Андреевич! Я летал домой, вернулся двенадцатого ноября — и сразу к Скворцову-Шанявскому. Дома его не было, вот я и оставил записку. Он до сих пор не позвонил, подлец этакий!
— Ахрор Мансурович, — после некоторого размышления спросил Чикуров, — вы уверены, что Валерий Платонович действительно заодно с теми типами?
Этот вопрос Иркабаев-младший, видимо, себе не задавал. Он недоуменно посмотрел на следователя.
— Ну а как же? Ведь они сами сказали, что передали через Скворцова-Шанявского деньги отцу, — пожал плечами аспирант.
— И профессор вручил их вашему отцу?
— Господи, конечно, нет!
— А может, и Валерий Платонович был введён в заблуждение? Ведь он как-никак профессор, консультант Госагропрома!
— Ерунда! — выпалил Иркабаев-младший. — В Госагропроме его никто не знает! У моего друга отец работает там большим начальником, и я узнавал через него. И потом, зачем Скворцову-Шанявскому прятаться от меня?
— Не прячется он, — вздохнул следователь и на немой вопрос Иркабаева-младшего пояснил: — Валерий Платонович мёртв.
— Как? — даже подскочил на стуле аспирант.
— Скорее всего — покончил жизнь самоубийством, — сказал Игорь Андреевич.
Он не стал больше ничего объяснять, а попросил Ахрора Мансуровича изложить все рассказанное им письменно.
Перед уходом Иркабаев признался:
— Ночами не сплю, все об отце думаю. На волоске жизнь висит, а он ест себя поедом… Не знаю, что бы отдал — руку, ногу, — лишь бы папа поскорее выздоровел!
— Ну зачем же руку или ногу, — улыбнулся Чикуров. — У вас на Востоке отлично понимают: иной раз слово лучше всякого лекарства.
Иркабаев ушёл, и Чикуров с головой погрузился в работу. Оторвал от неё звонок шефа, который просил зайти к нему. Игорь Андреевич приготовился к целому докладу по южноморскому делу, но Вербиков с ходу протянул ему какую-то бумагу. Оказалось — телеграмма в ЦК КПСС, копия Генеральному прокурору СССР. «Срочно требую оградить мою жену Оресту Митрофановну Сторожук от капитана милиции Жура зпт зверски избившего её на допросе тчк инженер средневолжского НПО Электроприбор Гриднев».
В верхнем левом углу, словно зигзаг молнии, — грозная резолюция, требующая немедленно разобраться и доложить. Исполнение возлагалось на Вербикова.
Чикуров истуканом стоял с телеграммой в руках: то, что сообщалось в ней, никак не укладывалось в голове.
Олег Львович предложил сесть.
— Быть того не может! — вымолвил наконец следователь, опускаясь на стул.
— Увы, подтвердилось, — сказал Вербиков. — Я звонил в Средневолжск, у Сторожук перелом костей носа, сотрясение мозга…
— Мужик вроде в порядке. Выдержанный, интеллигентный, — все ещё не мог прийти в себя Игорь Андреевич. — Уж кто бы кто, но Жур!
— К сожалению, жизнь щедра на плохие сюрпризы. Хлопот здесь полон рот,
— кивнул начальник следственной части на заваленный бумагами стол. — А приходится все бросать и мчаться в Средневолжск.
— Когда летишь?
— Еду. Сегодня, ночным поездом, — ответил Вербиков. — Нет, ты мне скажи, Игорь, откуда берутся такие, как Жур? Мало полетело в милиции голов, что ли? Сколько их, бесславно завершивших свою карьеру? И не только капитанов — полковников и даже генералов! Но, выходит, что ещё надо чистить и чистить. Молю бога, чтобы газетчики не разнюхали! А то…
— И не говори! — вздохнул Чикуров. — Сенсацию раздуют — не приведи господь!
— Дорогой мой, а если бы изуродовали твою жену? Представляю, как бы ты к этому отнёсся, — усмехнулся Вербиков. — Просвети, как продвигается южноморское дело. Коротко, по-военному.
Чикуров постарался рассказать сжато. Вербикова очень заинтересовал сегодняшний эпизод со Скворцовым-Шанявским, и он спросил, что это за личность.
— Тёмная, — ответил следователь. — Представляешь, в паспорте у него липецкая прописка, улица, дом, квартира — все чин чинарем. Я связался с Липецком, оказывается, тот дом давно сломали. И ещё. Скворцов-Шанявский всем представлялся как профессор, персональный пенсионер. Звоню в Министерство социального обеспечения и в ВАК — все липа!
— Да-а, — протянул Вербиков, — интересненько. Особенно в свете того, что произошло с Иркабаевым. Ну а в смысле общей концепции к какому ты пришёл выводу?
— Честно говоря до окончательного ой как далеко, — признался следователь. — Уж больно разномастная компания. С одной стороны, известный художник, я имею в виду Решилина, а с другой — Роговой-Барон, главарь банды… Заместитель министра Варламов и убийца, грабитель Пузанков… Прямо Ноев ковчег!
— У Ноя было все честно, — улыбнулся Вербиков. — В ковчег он взял семь пар чистых и семь нечистых. И пришвартовался к горе Арарат, чтобы спастись от потопа… А для чего собралась у горы Верблюд эта компания?
— Заметь, сугубо мужская, — добавил Чикуров.
— Да. А у мужчин обычно какой повод собраться?
— Поводов-то масса, но в данном случае можно предположить: водка, деньги, карты. Но мы с Кичатовым склоняемся к мысли, что причиной были наркотики. Ведь гашиша у Привалова имелось — во! — Игорь Андреевич провёл ладонью выше головы.
— Неужто и Варламов? — с сомнением покачал головой Вербиков. — Ведь как-никак заместитель министра…
— А ты вспомни совсем недавние запойные времена! Пили на равных и министры и работяги. Разве не так?
— Не совсем на равных. Одни пили коньячок, другие — бормотуху, — улыбнулся Олег Львович.
— Разве что, — ехидно поддакнул следователь.
— И все же, согласись, пьянка — одно, а сесть на иглу или на винт, как говорят наркоманы, — другое.
Вдруг зазвонил один из телефонов. Вербиков снял трубку. Разговор длился долго. Как понял Игорь Андреевич — о ЧП в Средневолжске. Когда он закончился, Олег Львович с треском положил трубку и чертыхнулся.
— В чем дело? — поинтересовался Чикуров.
— Унюхали-таки!
— Газетчики?
— Ну да! И откуда? — Вербиков вышел из-за стола и нервно заходил по кабинету. — Между прочим, — он остановился возле следователя и показал на телефон, — твой старый знакомый, Мелковский…
— Мелковский?! Опять?!
— На этот раз он жаждет крови Жура! Требовал от меня подробностей. А откуда у меня подробности? Да ты сам слышал: пока не разберусь, ничего никому сообщать я не собираюсь. Им, журналистам, только дай палец.
— А что Мелковский?
— Буду, говорит, вести параллельное журналистское расследование. Докопаюсь, мол, до истины. Потом выступит в печати «невзирая на лица»…
— Хамелеон, да и только! — возмутился Чикуров. — Вспомни фельетон, где он метал гром и молнии на голову бедного Васи Огородникова. И за что? За мягкотелость и либерализм по отношению к матёрому взяточнику Цареградскому. Ратовал за решительность. А теперь, выходит, ратует за противоположное.
— Нашёл от кого требовать принципиальности, — криво усмехнулся начальник следственной части и снова зашагал по комнате. — Ну и принесла его нечистая по наши души! Уж он-то постарается насолить тебе за березкинское дело! И меня, естественно, не забудет. Ах, как это некстати!
— Да полно тебе, Олег… — пытался успокоить шефа Чикуров.
— Помни моё слово, этот борзописец сделает все, чтобы развалить следствие по южноморскому делу! Ты даже не представляешь, чем для меня будет появление критического материала в печати!
— Не понимаю, чего ты так испугался какого-то Мелковского?
— У меня уже два выговора! Понимаешь, два!
— Разберёшься с Журом, позвони, хорошо? — попросил Чикуров.
— Непременно, — пообещал шеф.
Попрощавшись с Вербиковым, Игорь Андреевич вернулся к себе, но работа не шла: мысли постоянно возвращались к ЧП в Средневолжске. Сама по себе история была отвратительной, да плюс ко всему ещё создавала массу трудностей для следствия. Теперь необходимо подыскивать нового оперативника, вводить в курс. А для этого нужно время. Время, которого и так не хватало.
На следующий день с утра Игорь Андреевич позвонил судебно-медицинскому эксперту. Тот как раз сидел над составлением заключения по результатам вскрытия трупа Скворцова-Шанявского.
Извинившись за своё нетерпение, следователь попросил поделиться выводами.
— Вывод однозначный, — ответил врач. — Самоубийство. На большом и указательных пальцах правой руки имеются лёгкие порезы, что вполне естественно, когда сам орудуешь бритвенным лезвием.
— На теле были ещё кровоподтёки, — напомнил Чикуров.
— Да, кровоподтёки, ссадины и зажившие ранки… Происхождение кровоподтёков и ссадин на обеих запястьях рук — это следы не то борьбы, не то сдавливания. Возможно, покойному связывали руки верёвкой или ещё чем-то мягким. А вот затянувшиеся струпьями ранки на груди — не что иное, как ожоги.
— Какого рода?
— Прижигали раскалённым круглым предметом, скорее всего — сигаретой.
— И как задолго до смерти?
— Думаю, дня за три-четыре, — ответил судмедэксперт и в завершение сказал: — Подошлите кого-нибудь за заключением часиков в пять.
— Хорошо, — пообещал следователь и подумал: кого это он может послать? Все приходится самому, на своих двоих.
Он снова прочитал предсмертную записку Скворцова-Шанявского.
«Выходит, „истязания“ — выражение не фигуральное, — решил Чикуров. — Кто-то издевался над Валерием Платоновичем. Причём с особой жестокостью. Но зачем? Чего хотели добиться от него? Сведений, действий? Что-то вымогали? А может, мстили?»
Следователь вынул из сейфа целлофановый пакет с окурком сигареты, найденным под креслом в квартире, которую снимал покойный. Человек, бросивший окурок, был, по-видимому, заядлым курякой: сигарета докурена почти до самого фильтра. Вполне возможно, что как раз ею и прижигали грудь Скворцову-Шанявскому. Сам Валерий Платонович не курил.
На листке перекидного календаря было записано: «Жоголь». Он, вероятно, мог сообщить что-нибудь о Скворцове-Шанявском. Вчера по этому номеру телефона никто не отвечал. Игорь Андреевич набрал его снова. Трубку взяла женщина.
— Будьте добры, позовите Леонида Анисимовича, — попросил Чикуров.
Негромкий, надтреснутый, как это бывает у пожилых и больных, голос поинтересовался:
— А кто его спрашивает?
— Следователь прокуратуры Чикуров, — представился Игорь Андреевич.
— Так ведь Леонид Анисимович у вас.
— Где у нас? — не понял Чикуров.
— В прокуратуре города, арестован.
— Кем? Давно?
Но в трубке раздались короткие гудки.
— Вот те на! — присвистнул Игорь Андреевич и после некоторого раздумья позвонил в прокуратуру города.
Там подтвердили, что бывший заместитель директора одного из крупнейших гастрономов столицы Л.А.Жоголь действительно находится под следствием, а дело в производстве у следователя по особо важным делам прокуратуры города Москвы Василия Лукича Огородникова.
Игорь Андреевич тут же набрал номер своего приятеля.
— Привет, товарищ важняк! — весело сказал он, услышав в трубке голос Василия Лукича.
— Здравствуй, Игорек! — Огородников обрадовался другу.
— Ты, кажется, ведёшь дело Жоголя?
— Ну?
— Поделись, за что его привлекли?
— За целый букет…
— На какой стадии дело?
— Через недельку понесу утверждать обвинительное заключение. Между прочим, я тебе рассказывал об этом деле.
— Когда?
— Здрасьте! Помнишь, мы столкнулись на Кузнецком?
— А, кажется, это из-за него ты и попал в фельетон?
— Совершенно верно. Ну а тебе-то для чего Жоголь?
Игорь Андреевич коротко объяснил и сказал, что хотел бы допросить бывшего замдиректора гастронома.
— Это можно. Как раз сегодня я провожу последнюю очную ставку, и Жоголя привезут сюда, в горпрокуратуру. Жду.
Чикуров отправился на Новокузнецкую улицу.
Подследственного должны были доставить через полчаса.
— Эх, перестройка, перестройка, — вздыхал Огородников. — Для одних — надежда! Другие же под видом перемен сводят счёты, топят ближнего, чтобы урвать должность потеплее да зарплату пожирнее. — Он похлопал по внушительной стопке томов уголовного дела. — Как в данном случае… Со временем негусто, так что я самую суть.
— Давай.
— Если ты помнишь, — начал Василий Лукич, — арестовали за взятки директора гастронома Цареградского. Взяли с поличным. Работники магазина все, как один, показали: брал, систематически. А один Цареградский отрицает начисто. Понятно, кому охота на нары? Но я засомневался: уж больно гладенько ложатся обвинения против директора. Да и вёл он себя, по словам подчинённых, не так…
— В каком смысле?
— Ну взять хотя бы предшественника Цареградского, находящегося в данное время в местах не столь отдалённых. Он тоже брал. Причём куда скромнее Цареградского, но, так сказать, отрабатывал взятки. Чтобы облегчить выполнение плана, доставал дефицитные продукты, прикрывал продавцов, если те попадались на обвесе или обсчёте. А Цареградский? Никакого дефицита не выбивал, а план все равно требовал. Когда же нечестного продавца ловили за руку, первым обрушивался с директорской карой: влеплял выговор, выгонял, а то и вовсе передавал материалы в ОБХСС… За что же тогда, спрашивается, он брал оброк?
— И большой? — полюбопытствовал Чикуров.
— По сто рублей с каждого завотделом в неделю, в общей сложности получалось две тысячи в месяц. И, понимаешь, передавались эти деньги как-то странно. Представь себе. Каждый понедельник в одиннадцать утра Цареградский уезжает в торг на совещание. В это же время секретарша директора уходит домой кормить грудного ребёнка. Тут-то в кабинет заходит старший товаровед Ляхов и кладёт в стол Цареградского собранные пятьсот рублей. Причём просьбу о том, чтобы Ляхов стал посредником в передаче взяток, Цареградский почему-то передал старшему товароведу не с глазу на глаз, а через Жоголя. Ну, я тут и насторожился.
— Почему?
— Видишь ли, Цареградский и Ляхов друзья ещё со студенческой скамьи, учились в одной группе. Более того, взял в гастроном Ляхова именно Цареградский. Вернее, выручил. Ляхов ведь болтался без дела, так как незадолго до этого его попёрли с торговой базы.
— За что?
— Пил. Хотя специалист он — каких поискать. Так что вполне естественно было бы Цареградскому самому попросить Ляхова быть посредником. Но Жоголь дал Ляхову строжайшие инструкции, мол, делай вид, что никаких денег по понедельникам ты директору не носишь. Товаровед так и поступал. Ну а раз Цареградский и словом ни разу не обмолвился, значит, все в порядке… Ляхов ещё думал, как ловко все устроил его друг: никто самого факта передачи денег ни разу не видел, потому что не из рук в руки. Короче, стал я копать. Как там в писании, ищущий да обрящет! Вот и мне удалось ухватиться за один кончик…
Зазвонил телефон, Огородников говорил с кем-то несколько минут, а положив трубку, спросил:
— На чем я остановился?
— Как ты ухватился за кончик, — улыбнулся Чикуров.
— Так вот, — продолжал Василий Лукич, — Ляхов утверждал, что двадцать восьмого июля, в девять часов вечера, как только закрылся гастроном, Цареградский позвал его в свой кабинет и потребовал, чтобы завотделами срочно собрали ему тысячу рублей: жену, мол, надо отправить на курорт… Главное, и Жоголь, подтвердил, что видел, как в девять вечера Ляхов вошёл в директорский кабинет. Но о чем шла беседа, Жоголь, естественно, был не в курсе… По словам Ляхова, последнее требование Цареградского переполнило чашу терпения, ведь буквально накануне ему были переданы очередные пятьсот рублей, теперь вот подавай ещё кусок! Короче, возмущённый Ляхов пошёл в милицию и написал заявление. Тридцать первого июля старший товаровед вручил Цареградскому помеченные доблестной милицией тысячу рублей. Директор, не считая, сунул их в бумажник, и тут появились работники ОБХСС с понятыми. Капкан захлопнулся… Но Цареградский уверял, что не мог говорить с Ляховым двадцать восьмого июля у себя в кабинете в девять вечера, так как находился именно в это время в Ленинской библиотеке на вечере поэзии Гумилёва. И подтвердить это могут племянник директора Буримович с женой…
— Родственники, — покачал головой Чикуров. — Могли ведь сговориться.
— Теоретически могли. Но понимаешь, Игорек, таких родственников на нечестное дело не подобьёшь, — заверил Огородников. — Представляешь, бросили в Средневолжске благоустроенную квартиру, перспективную работу и махнули на север Тюмени, в Ямбург…
— Небось за длинным рублём?
— Какое там! Сам Буримович социолог, зарплата чуть-чуть больше, чем на Большой земле, как говорится. А жена его, Анастасия, и вовсе без зарплаты, на общественных началах библиотеку тащит! Словом, фигурально выражаясь, — мечтают, чтобы в их Ямбурге цвели сады! И не просто мечтают, а делом доказывают… Ребята что надо! — Огородников показал большой палец. — И я им верю. А кроме того, показания Цареградского подтвердил и наш известный критик Сильверстов. Читал небось его статьи?
— Читал.
— Дело в том, что Сильверстов вёл тот самый вечер и хорошо запомнил Цареградского, который вызвал бурную полемику, задав вопрос, как теперь расценивается якобы контрреволюционная деятельность Гумилёва… Таким образом, я окончательно убедился, что Ляхов врёт. Но вот зачем? Какой резон ему топить друга и, можно сказать, благодетеля? Может, его направляла чья-то рука? Назначил я очную ставку Цареградского и Ляхова. Её-то Ляхов кое-как выдержал, хотя юлил и изворачивался, как змей, глаза прятал, но на следующий день, видимо, совесть его доконала, и он выложил все начистоту. Понимаешь, двадцать девятого июля, запомни дату, Ляхов напился в дупель и загремел в медвытрезвитель, да ещё плюс ко всему потерял партбилет. На следующий день его вызвал Жоголь, достал несколько объяснительных записок, написанных Ляховым по поводу своих прошлых прогулов и выпивок на рабочем месте, и спрашивает: где потерял партбилет? Ляхов только потеет да мнётся. Жоголь пригрозил ему, что он вылетит из партии и с работы с волчьим билетом. Ни в один магазин его не возьмут даже грузчиком. Бедняга товаровед бухнулся в ножки Жоголю, взмолился, чтобы не губил: жена только что родила второго ребёнка, а он, мол, единственный кормилец. Сделаю, говорит, все, что прикажете, только не увольняйте. Ну, Жоголь ещё покуражился для большего устрашения и говорит: если ты настоящий коммунист, то должен помочь разоблачить матёрого взяточника. Пойди, мол, в ОБХСС и заяви на Цареградского. А взамен замдиректора обещал все уладить и с вытрезвителем, и с партбилетом. Ляхову ничего не оставалось делать, как только согласиться. Дальше ты знаешь.
— Выходит, насчёт разговора в кабинете Цареградского двадцать восьмого июля — идея Жоголя? — уточнил Игорь Андреевич.
— Да. Ляхов был лишь жалкой марионеткой в руках Жоголя.
— Постой, но ведь ту тысячу рублей Цареградский все-таки взял!
— О, Жоголь мудрый провокатор! Когда Ляхова выгнали с базы, он одолжил у Цареградского девятьсот рублей. На полгода. Ляхов как-то упомянул об этом случае при Жоголе, а тот намотал себе на ус. А когда пришло время, вспомнил и воспользовался.
— Ясно, — кивнул Чикуров. — Цареградский подумал, что Ляхов возвращает ему должок. Ну а каким образом Жоголь мог бы уладить дело с партбилетом Ляхова?
— Очень просто, — засмеялся Василий Лукич. — Партбилет лежал в сейфе у Жоголя.
— Как это?
— Видишь ли, напоил Ляхова некто Еремеев. Он же выкрал партбилет, бросил беднягу товароведа в сквере и заложил ближайшему постовому. А Еремеев — шестёрка Жоголя, что-то вроде телохранителя. Усёк? Все было продумано Жоголем до мелочей.
— А что за личность этот Еремеев?
— Двадцатипятилетний оболтус. Учился в институте физкультуры, не закончил, выгнали. Из спорта его тоже турнули. Помнишь, когда боролись с подпольными группами каратэ? Еремеев возглавлял одну такую. Было возбуждено уголовное дело, но кто-то его выручил. Думаю, Жоголь… И вообще, Еремеев самый настоящий паразит!
— Паразит, насколько я понимаю, сидит у кого-нибудь на шее и сосёт чужую кровь, — заметил Игорь Андреевич.
— Ещё как сосёт! Пьёт кровушку из своего тестя, довольно крупного учёного. Фамилия Киселёв… Недавно газеты писали о клубе «Аукцион», который создал и возглавляет Киселёв. Там помогают молодёжи проталкивать изобретения. Читал?
— Да, да, что-то припоминаю, — кивнул Игорь Андреевич.
— Этот Киселёв и его жена буквально души не чают в единственном внуке, и Еремеев пользуется этим обстоятельством. Хотят дед с бабкой видеть внука, пусть гонят четвертной!
— Ну и подонок, — покрутил головой Чикуров.
— А если они оставляют у себя внука на сутки — полсотни! Ободрал стариков как липку. Машину Киселёва прибрал к своим рукам, дачу под Звенигородом. Между прочим, эта скотина ещё стихи пишет. Только что вышел его первый сборник.
— Ну и как стихи?
— Я не понял. Сплошная заумь! Рифма не рифма, никаких знаков препинания. Спросил у Сильверстова, тот обозвал Еремеева воинствующим графоманом.
— Уж, наверное, понимает толк — критик!
— Даже не знаю, какому Сильверстову верить, — развёл руками Огородников. — Теперешнему или тому, до перестройки?
— А что?
— Самозабвенно ругает сейчас то, что раньше хвалил. И наоборот, — усмехнулся Василий Лукич.
— Ладно, вернёмся к делу, — сказал Чикуров. — Суть я уловил, но есть кое-какие вопросы. Куда, например, девались деньги, которые клал в стол Цареградского Ляхов?
— Представь себе: их забирал Жоголь. И делал это каждый раз, как только Ляхов покидал кабинет директора. Ловко?
— Ясненько… Теперь о самом Жоголе. Насколько я понимаю, вся эта провокация против Цареградского была задумана, чтобы освободилось место директора и Жоголь занял его, так?
— И занял бы, это точно! После ареста Цареградского Жоголя сразу же сделали и.о. Мне говорили в управлении торговли, что уже был готов проект приказа о назначении Жоголя директором. Я помешал.
— И за что едва не поплатился своим местом? — улыбнулся Чикуров.
— Ох, не говори! Как только вышел фельетон, меня хотели… — Василий Лукич сделал жест, словно обеими руками сворачивал что-то. — Спасибо шефу, отстоял. Знаешь, я почти уверен, что фельетон тоже организовал Жоголь.
— Неужто он был такой всесильный?
— Могучий! И двуликий. Как тот древний бог Янус. Для сослуживцев и начальства — честный работящий мужик. У него и кличка-то знаешь какая была? Белый Ворон! Сдаётся, сам Жоголь и пустил её. В смысле: отличается от остальных торгашей тем, что не ворует продукты и не берет с подчинённых мзду.
— И что, он действительно не воровал и не брал? — В голосе Чикурова слышалось явное недоверие.
— Представь себе, на работе был чист! Более того, радел за мир во всем мире, сострадал сиротам…
— В каком смысле? — вскинул брови Чикуров.
— Каждый месяц из его зарплаты бухгалтерия перечисляла деньги в Фонд мира. Сумма небольшая, но важен сам факт. А когда в стране создали фонд помощи детям-сиротам, Жоголь на следующий же день перевёл на его счёт свою квартальную премию.
— А сам что, сухой корочкой питался? В рубище ходил? — съязвил Чикуров.
— Почему же, любил телятину с рынка, костюмы покупал в «Берёзке». Каждые три года приобретал новую «Волгу», а прежнюю сбывал кавказским товарищам… Спросишь, на какие же шиши «Волгу»? Все тот же дефицит, мой милый. Вот рычаг, с помощью которого Жоголь обделывал свои дела!
— Спекулировал, что ли? — никак не мог до конца понять Чикуров.
— Ни боже мой. Сам подумай, зачем рисковать по мелочи, химичить, отпускать товар налево? Куда проще отвезти нужному человеку к свадьбе сына или к юбилею икру, балык, крабы, сервилат и при случае попросить оказать услугу. Какую? Ну, допустим, предоставить «тёте» квартиру вне очереди, устроить «двоюродного брата» на тёпленькое местечко или «племянницу» в вуз, продать близкому другу «Волгу»… Разве откажешь любезнейшему Леониду Анисимовичу? Конечно, нет. Праздников и торжеств много, а что за стол без икорочки или балычка? Не престижно! И знаешь, чем подкупал людей Жоголь? Бескорыстием! Показным, разумеется. За продукты брал по магазинной цене, сдачу давал копейка в копейку… Просьбы Жоголя, если их можно выполнить, все эти министерские чиновники, ректоры институтов, директора гостиниц и так далее тоже удовлетворяли бескорыстно. А вот сам душка Леонид Анисимович выжимал из этого максимум пользы!
— Например? — полюбопытствовал Игорь Андреевич.
— Был у Жоголя приятель, некто Севрухин, проректор медицинского института. Заядлый турист. Каждое лето собиралась группа таких, как он, энтузиастов и отправлялась то на Памир, то в Саяны, то по Карелии… Севрухина интересовали не столько деликатесы, сколько мясная тушёнка, бульонные кубики и другая провизия, необходимая в походах. А где ты видел, чтобы все это свободно лежало в магазинах? Жоголь снабжал Севрухина, за что проректор помогал набрать проходной балл одному-двум абитуриентам, за кого хлопотал добрейший Леонид Анисимович. Если протеже поступал в медицинский или международный институт, Жоголь имел за это от десяти до тридцати тысяч.
— За одного человека?!
— У него расплата поштучная, а не оптовая. Когда я сказал Севрухину, сколько Жоголь получает дивидендов с одной баночки тушёнки, что проректор берет в турпоездку, тот чуть в обморок не упал! Ему и в голову не могло прийти, что Жоголь берет с этих абитуриентов взятки.
— Значит, он прикарманивал деньги? — уточнил Игорь Андреевич.
— Все до копейки! А тех, с кого брал, уверял, что себе ничего не оставляет, а отдаёт тому, кто устроил поступление.
— Ловкач, ничего не скажешь! — восхищённо покрутил головой Чикуров.
Он спросил у Огородникова, не встречались ли в жогольском деле такие лица, как Скворцов-Шанявский, Решилин, Варламов и другие, замешанные в южноморской истории. Василий Лукич ответил, что ни о ком из них ни разу даже речь не заходила.
— Ну а как в семье у Жоголя? — задал последний вопрос Чикуров.
— По-моему, полный раздрызг. Из разговора с женой я понял, что Жоголь имел молодую любовницу, из-за которой якобы и сбился с панталыку… Однако я уверен, Жоголь не из тех, кого можно сбить с пути истинного. Он сам кого хочешь совратит.
— Дети есть?
— Да, сын Михаил, двадцати лет. Учится в Суриковском институте. Вернее, учился…
— Почему в прошедшем времени?
— Сбежал из дому. Ещё летом. Тоже тёмная история. Парень связался не то с хиппи, не то с панками, а может, и с кришнаитами. Теперь этих, как говорят, неформальных групп развелось черт знает сколько. Кстати, хочу выбрать вечер и сходить на Новый Арбат, посмотреть, как они выглядят. Интересно… Так вот, за несколько дней до исчезновения Михаила Жоголя у него в доме появились дружки, немытые, в рваной одежде, обвешанные цепями и другой дребеденью… Мать считает, что сын ушёл с такими вот. Месяца два от него не было ни слуху ни духу. Опасались, что сына уже нет в живых. Но он дал о себе знать, хотя просил не предпринимать никаких мер к розыску. Мамаша так переживала, что угодила в больницу с нервным потрясением. Вышла оттуда неделю назад…
«С ней я, видимо, и разговаривал», — вспомнил дрожащий голос в трубке Чикуров.
— Между прочим, та самая любовница папаши одновременно крутила любовь и с сыном, с Михаилом, — добавил Василий Лукич.
В кабинет заглянул начальник конвоя и доложил, что привёз подследственного.
— Ну, Игорь, ты допрашивай первый, а потом уж я займусь, — сказал Огородников.
Но он присутствовал на допросе, хотя и помалкивал все время.
Тот факт, что допрос вёл другой следователь и по новым данным, насторожил Жоголя. Но сориентировался он очень быстро. Казалось бы, при такой бесцветной, анемичной внешности и характер должен быть вялый, аморфный, ан нет, Чикуров скоро понял, что Жоголь — орешек крепкий. Ни единого лишнего слова! Каждое предложение, каждый ответ тщательно продуманы и взвешены.
На вопрос, давно ли он знает Скворцова-Шанявского и как с ним познакомился, подследственный сказал:
— Знакомство у нас было шапочное. Кто свёл, даже не припомню уже. Дату тоже. Где-то в конце прошлого года.
— Ну а как же вы малознакомого человека порекомендовали Митрошину? — спросил Чикуров. — Я имею в виду сдачу квартиры.
— А что в этом особенного? — пожал плечами Жоголь. — Валерий Платонович профессор, человек в возрасте. Опасаться было нечего. Более того: Митрошин был страшно рад: солидный постоялец, да и не торговался.
— Сколько Скворцов-Шанявский платил за квартиру? — поинтересовался Чикуров.
— Двести рублей в месяц.
«Ничего себе! — подумал Игорь Андреевич. — А Митрошин уверял, что не брал со Скворцова-Шанявского ничего».
Дальше Жоголь показал, что дружбы со Скворцовым-Шанявским не поддерживал и те несколько их встреч в Москве у общих знакомых произошли случайно.
— А в Южноморске вы общались?
— Очень мало. Я жил там неподалёку от него и заходил к Валерию Платоновичу, чтобы воспользоваться телефоном.
— По вечерам бывали у него?
— Да, как-то забрёл к нему на огонёк. Но время провёл довольно скучно. Даже бутылочку сухого вина не распили: у Скворцова-Шанявского что-то с жёлчным пузырём, блюдёт себя. А вскоре я улетел в Москву.
— Когда именно?
— Девятнадцатого октября.
«За два дня до смерча» — отметил про себя Чикуров.
Чикуров перешёл к другим участникам южноморского дела. По словам Жоголя, он хорошо знал только Решилина, с которым давно был в дружеских отношениях. О Пузанкове, жившем на даче художника, Жоголь ничего определённого сказать не мог, не знал, откуда и как появился «глухонемой». Вспомнил Жоголь и Эрнста Бухарцева, которого видел в Южноморске в доме Скворцова-Шанявского.
— Раньше Бухарцев был шофёром у Валерия Платоновича, — добавил бывший замдиректора магазина. — Потом они расстались, почему — не знаю.
Киноартиста Великанова Жоголь знал только по фильмам, а в жизни — увы. Что же касается Привалова, Варламова и Рогового, то он о них даже и не слыхивал.
— А фамилия Листопадовой вам что-нибудь говорит? — поинтересовался Чикуров о человеке, которому Скворцов-Шанявский по приезде из Южноморска отослал крупные денежные переводы.
— Листопадова, Листопадова… Кто она?
— Знакомая Скворцова-Шанявского. Живёт, кажется, в Сибири.
— Нет, такую не знаю, — мотнул головой Жоголь.
Когда разговор зашёл о том, есть ли у Скворцова-Шанявского родственники, допрашиваемый сказал, что знает только Орысю, которую профессор представил как супругу. А о самой Сторожук Жоголь имел самые общие сведения: с Валерием Платоновичем она познакомилась в Трускавце, а потом перебралась к нему в Москву. Чем занимается, какую имеет специальность, Жоголь понятия не имел.
Следователь спросил, не употреблял ли кто-нибудь из названных и знакомых ему людей наркотики.
— При мне — нет! — категорически заявил подследственный.
— Может быть, слышали от кого-нибудь?
— И не слышал, — твёрдо произнёс Жоголь. — Извините, а почему вы расспрашиваете об этих товарищах?
— Значит, есть необходимость, — уклонился от ответа Чикуров.
Игорь Андреевич прервал допрос, чтобы провести опознание утопленника, имевшего на теле и в одежде непонятную аппаратуру. На снимке художник «оживил» неизвестного, «одел» в костюм. Понятыми были охранники из конвоя. Из нескольких предъявленных фотографий Жоголь сразу же выбрал ту, где был запечатлён погибший под Южноморском.
— Этого человека я знаю…
— Кто он? — задал вопрос следователь.
— Звать Глеб, а фамилия, если не ошибаюсь, Ярцев, — ответил Жоголь. — Познакомились мы с ним этим летом. На даче Решилина.
— Откуда он? Чем занимался? — продолжал допрос Чикуров.
— Ярцев, насколько я помню, не москвич. Из Средневолжска. Представился как историк. — Жоголь помолчал, будто припоминая что-то. — Да, точно, он учился в аспирантуре Сред-неволжского университета.
— В Южноморске вы с ним встречались?
— Пару раз, совершенно случайно. На пляже, в ресторане…
Больше никакими сведениями о Ярцеве Жоголь не располагал.
Игорь Андреевич завершил допрос.
— Ну и осторожен! — сказал он, когда обменивался с Огородниковым впечатлениями. — Что твоя лиса!
— Намучился я с ним изрядно, — признался Василий Лукич. — Сегодня вот наблюдал за Жоголем и лишний раз убедился, что знает он куда больше, чем говорит.
— У меня тоже такое же ощущение, — согласно кивнул Чикуров. — Но в любом случае я доволен: наконец-то установили личность последнего из погибших. — Игорь Андреевич собрал фотографии и протокол допроса. — Ладно, Вася, не буду тебя больше задерживать, скажи только, ты ничего не почерпнул при допросе для себя?
— Вроде нет, но, возможно, что-то и всплывёт. Надо бы и мне ознакомиться с твоим делом.
— Ради бога! — откликнулся Чикуров. — Но сегодня вряд ли получится. У меня важная встреча с интересным человеком.
— Сегодня я и сам загружен выше маковки.
— Созвонимся, — сказал Игорь Андреевич, подавая приятелю руку.
Говоря о важной встрече с интересным человеком, Чикуров имел в виду Серафима Донатовича Зерцалова, одного из крупнейших в стране знатоков ювелирного искусства, которого порекомендовал Вербиков в качестве эксперта.
— Грандиозный старик! — сказал начальник следственной части. — Ходячая энциклопедия!
— Известный учёный?
— Званий никаких, но авторитет больше, чем у иного академика!
Вчера вечером Игорь Андреевич позвонил Зерцалову. Услышав, что он от Вербикова и нужна консультация, Серафим Донатович пригласил следователя к себе домой. Чикуров тут же отправился в посёлок Сокол, расположенный недалеко от метро такого же названия. Зерцалов жил в двухэтажном особняке. Это был невысокий, сухонький старичок с совершенно белым седым чубчиком, в очках с сильными линзами.
Разговаривали в кабинете, заставленном шкафами с книгами. Чикуров передал Зерцалову коробочку с гарнитуром, обнаруженным в разрозненном виде в сумке Рогового и дипломате Варламова. Серафим Донатович достал большое увеличительное стекло в черепаховой оправе, и весь окружающий мир перестал для него существовать. Старичок причмокивал, что-то бормотал, рассматривая изделия под лучами яркой лампы. Глаза его сверкали восторгом, он походил на ребёнка, получившего наконец желанную игрушку.
— Дорогая штука? — не выдержав, спросил Игорь Андреевич.
— Что, что? — с трудом вернулся к действительности Зерцалов. — При чем здесь цена?! Ну подумаешь, школу можно построить, а то и две! Дело не в этом! Не верится, что я наконец вижу эту красоту воочию!
— Вы что-нибудь знаете об этом гарнитуре? — встрепенулся Чикуров.
— Вот что, уважаемый Игорь Андреевич, я отвечу на все ваши вопросы, но только завтра! — взволнованно произнёс старичок. — Боюсь ошибиться… А вдруг это не он?! Вы можете оставить гарнитур у меня?
— Разумеется.
Чикуров даже не взял с Зерцалова расписку: побоялся обидеть старика. Риск, конечно: заберись к Зерцалову воры, Игорю Андреевичу не хватило бы жизни, чтобы расплатиться за гарнитур…
И вот на следующий день следователь снова позвонил в знакомый особняк. Открыла молодая женщина и, спросив, кто он, сказала:
— Дедушка вас ждёт.
В кабинете Зерцалов буквально кинулся навстречу следователю.
— Ну, Игорь Андреевич, вам здорово повезло! — теребя его руку в своих тёплых сухих ладошках, торжественно произнёс Зерцалов. — Да и мне тоже. Это действительно «Кларисса»!
— Вы имеете в виду гарнитур? — уточнил следователь, усаживаясь в кресло возле низкого столика.
— Его, конечно же его! — закивал Серафим Донатович. — Так он именуется в источниках и справочниках.
Зерцалов вынул из коробочки серьги и перстень:
— Сначала обратите внимание на камни. Прекрасные изумруды! Но дело даже не в них, а в резьбе… Искусство резьбы по камню называется глиптикой и уходит корнями вглубь веков, ещё к египтянам и этрускам. Может, вы слыхали о знаменитой камее Гонзага?
— Да. Она вырезана на ониксе, изображает египетского царя Птолемея и его жену Арсиною.
— Прекрасно! — заулыбался старичок. — Вы, я вижу, подкованы.
— Читал кое-что. Кстати, и вашу книгу «Миниатюры на камне». Оторваться не мог, так интересно, — не удержался Игорь Андреевич от подхалимажа.
— Спасибо, спасибо. Хотя… — хозяин хмыкнул, — написано весьма скучно. Но вернёмся к гарнитуру. «Кларисса» изготовлена в шестнадцатом веке, в Германии. Есть указания на то, что камни обрабатывал знаменитый ювелир Лука Килиан. Это был заказ французского двора, отсюда и лилия. И пошёл гарнитур гулять по свету! Не буду утомлять вас подробностями. Как всегда, в подобных историях намешано немало домыслов и легенд. В Россию «Кларисса» попала следующим образом: находясь за границей, Пётр Первый приобрёл украшения для своей племянницы, будущей императрицы Анны Иоанновны. Если вы знаете, Анна Иоанновна, усевшись на престол, услаждала себя разнообразными потехами. Пожалуй, последняя в её жизни была — свадьба старика шута князя Голицына и любимой приживалки императрицы — калмычки. По случаю этого события был выстроен знаменитый Ледяной дом. На той самой потешной свадьбе Анна подарила калмычке «Клариссу». Потом гарнитур перешёл к жене всесильного князя Потёмкина, героя турецких войн… Менялись владельцы гарнитура, одна из следующих его хозяек — крепостная актриса графа Шереметева, любовница одного из представителей династии Демидовых. И вот наконец век нынешний. Тысяча девятьсот восемнадцатый год… Матрос Евсюков дарит «Клариссу» своей невесте Людмиле Сенаторовой, тапёру синематографа «Одеон». Но до свадьбы дело не доходит: Евсюков погиб при подавлении кронштадтского мятежа. Сенаторова стала учительницей и уехала в Саратовскую губернию. В тридцать втором году, когда разразился голод, она обменяла гарнитур знаете на что?
— Нет, — ответил Чикуров.
— На полбуханки хлеба, полфунта сахара и кулёк пшена! И это спасло жизнь ей и её мужу Петру Галактионову, инженеру.
— А кто стал владельцем гарнитура?
— Повариха Зинаида Киструсова… Затем Галактионов с женой переехали в Москву. За своё изобретение инженер получил орден и большую денежную премию. Он хотел выкупить «Клариссу», но, увы, Киструсова отбыла в неизвестном направлении. Данных о ней никаких. Лишь то, что родилась в Рязанской губернии… Пётр Галактионов подумал: авось гарнитур всплывёт где-нибудь? Значит, надо обратиться к специалистам. Так он разыскал меня. Я провентилировал по своим каналам, но о «Клариссе» никто ничего не слышал. Тогда я решил действовать по-другому и стал искать повариху. — Зерцалов улыбнулся. — На некоторое время превратился в вашего брата, сыщика.
— Я следователь, — поправил ювелира Игорь Андреевич. — Это несколько другое…
— Разве? — удивился Серафим Донатович. — Ну да ладно… Короче, у меня возникла мысль плясать, как говорится, от фамилии. Ведь многие из них обозначают, из какого места человек родом. Сам я с Рязанщины, из Клепиковского района, а у нас там есть большое село Киструс. Чем черт не шутит, вдруг та повариха — моя землячка? У меня как раз был отпуск, ну и махнул я в родные места. Заехал в Киструс. И действительно, повариха Зинаида оказалась тамошней. Побеседовал я с её матерью. Точно, говорит, работала дочка поварихой в Саратовской губернии. Где, спрашиваю, сейчас обретается? На курорте. А когда вернётся? Не вернётся, отвечает мамаша, постоянно там проживает. Послали Зинаиду в Симферополь на отдых как передовую работницу, а она познакомилась там с местным портным, вышла замуж и осталась… Адресок, говорю, можно? А почему бы и нет? Только она теперь не Киструсова, а Сапожникова, по мужу, стало быть… Начал я расспрашивать, нет ли у Зинаиды серёжек и кольца с изумрудами. Есть, отвечает. Выменяла на продукты. И точь-в-точь описала «Клариссу». Я даже домой не показался, решил по горячим следам двинуть в Крым. Но дальше Москвы не уехал…
— Почему?
— Война, Игорь Андреевич! Вышел на вокзале, вокруг репродуктора толпа… — Старичок махнул рукой. — Короче, пришлось отложить поиски на четыре года. После демобилизации в конце сорок пятого я написал в Симферополь Сапожниковым. Мне ответили, что такие по данному адресу не проживают. И вообще, где они и что, неизвестно…
— А почему так назван гарнитур? — полюбопытствовал Чикуров.
— Очевидно, по имени первой владелицы, — ответил Зерцалов. — А теперь разрешите мне задать несколько вопросов.
— Слушаю, — кивнул Игорь Андреевич.
— Каким образом к вам попала «Кларисса»?
— К сожалению, пока я не могу этого рассказать, но обещаю, что мы ещё вернёмся к «Клариссе», — заверил следователь.
— Я почему интересуюсь? Видите ли, в гарнитуре был ещё один предмет, — сказал Серафим Донатович.
— Да? — насторожился следователь.
Ювелир нашёл в папке цветной снимок с портрета молодой красивой женщины в старинном наряде. В ушах у неё были знакомые серьги, на пальце — кольцо.
— Смотрите, — Зерцалов ткнул пальцем в сверкающее в волосах женщины украшение. — В гарнитуре имелась и диадема. Сколько любви, сколько таланта вложил в своё произведение мастер!
— По-моему, не только любви и таланта, — улыбнулся Чикуров. — Драгоценных камней тоже не пожалел.
— Да, чудесные бриллианты! — откликнулся ювелир. — Семь штук! А какой изумруд в центре! Так где же диадема?
Следователь развёл руками. И, в свою очередь, спросил:
— А той поварихе досталась вся «Кларисса»?
— Вся, — ответил Зерцалов. — Во всяком случае, так сказал Галактионов. Да и мать Зинаиды подтвердила.
— Что ж, сведение очень важное, — заметил Чйкуров.
В прокуратуру Игорь Андреевич ехал на метро. Его не покидала мысль об отсутствующей диадеме из гарнитура. Каким образом могла попасть «Кларисса» в руки Рогового и Варламова? Почему гарнитур оказался разрозненным?
Явно между бывшим главарём банды и заместителем министра имелась какая-то связь. Но какая? Возможно, разгадка этому лежит через «Клариссу». Где она, в каких краях? В Южноморске? В Симферополе?
«Придётся подключить Латыниса», — решил следователь.
Южноморск опустел на глазах — наступило межсезонье. То и дело шли дожди. Они словно смыли отдыхающих. Резко сократилось и количество машин.
Каждый день майор Латынис приходил к девяти утра в горуправление внутренних дел и до десяти не отлучался из кабинета, отведённого следственно-оперативной группе Чикурова. Это был час «связи».
Игорь Андреевич позвонил в 9.15 и прежде всего поинтересовался, что новенького.
— Все ещё пашу с Тёр-Осиповым и его ребятами из ОБХСС, — ответил Ян Арнольдович. — Заполняем белые пятна в трудовой биографии заслуженного строителя и образцового управляющего трестом Блинцова.
— Что вам с Самвелом Оганесовичем удалось открыть?
— Жулик этот Блинцов! И действовал так нагло, что приходится только удивляться, почему ему удавалось выходить сухим из воды?
— Небось Варламов прикрывал.
— В этом нет никакого сомнения! Представляете, Игорь Андреевич, Блинцов хозяйничал в тресте, как в своей вотчине. Сплошные приписки. Вся импортная сантехника и отделочные материалы шли налево, главным образом на Кавказ. Со стройматериалами — чудовищный перерасход, который спокойно списывали. На строительство широко привлекались бичи. Платили им меньше, чем своим штатным рабочим, а разница шла в карман прорабам. Можете себе представить, каково было качество работ! Сплошные недоделки и брак. Крыши текут, двери и окна перекошены, обои отставали буквально на следующий день после подписания акта о приёмке… Словом, вопиющее безобразие!
— Почему не хотели замечать этого в министерстве, понятно, — сказал Чикуров. — Но куда глядело местное начальство?
— А что заметишь с балкона фешенебельного особняка, построенного для тебя тем же Блинцовым из дефицитных материалов, которые должны были пойти на строительство лечебного центра? — усмехнулся Латынис. — Или из квартиры, отделанной роскошными западногерманскими панелями, финскими обоями, предназначенными для детского санатория?
— Ясно, Ян Арнольдович. Блинцов заткнул рот «отцам» города.
— Так заткнул, что никто и пикнуть не смел, когда Блинцов на самых лучших участках строил виллы нужным людям по указке Варламова. Посмотрели бы вы, какое уютное гнёздышко отгрохал управляющий трестом матери любовницы замминистра! А по существу, как я понял, Варламов строил это гнёздышко для себя с Ростоцкой, чтобы, выйдя на пенсию, наслаждаться солнцем и морем! Самое смешное, об этом знали все, от начальников СМУ до простого рабочего.
— Гм…
— Вспомните, Игорь Андреевич, как ещё несколько лет назад вели себя так называемые «деловые» люди! В открытую, можно сказать, хапали, и их не то что осуждали, за честь считали состоять в знакомых. Было ведь?
— Было, — вздохнул Чикуров.
— Вот и Блинцов почти в открытую собирал дань с начальников СМУ для Варламова.
— А теперь?
— Собирает, но уже втихаря. Перед прилётом замминистра в октябре Блинцов в очередной раз «пустил шапку по кругу». Набралось пятнадцать тысяч. Один из начальников СМУ сказал, что деньги при нем Блинцов положил в «дипломат».
— Который обнаружили в гостинице?
— Скорее всего, тот. — Ответил Ян Арнольдович. — Как вы помните, в дипломате было пятьдесят тысяч. И судя по отпечаткам пальцев на купюрах, остальные тридцать пять тысяч Блинцов добавил свои.
— Не со сберкнижки же он их снял?
— Нет, конечно. На книжке у него слезы, около трехсот рублей… Прячет, наверное, где-нибудь. Или у кого-нибудь…
— Когда думаете брать Блинцова под стражу?
— Тёр-Осипов считает, что рано.
— Бог ты мой, да против него столько улик, что хватило бы на десятерых!
— Хотим подождать результатов ревизии. Вы же сами знаете, работают из контрольно-ревизионного управления Минфина республики.
— А что Блинцов?
— Нервничает! Лихорадочно ищет, как бы подъехать к проверяющим! Это раньше было просто — рестораны, девочки, сувениры, а то и прямо конверт с хрустящими купюрами.
— Ну да! Вы уверены, что теперь все ревизоры стали честными? — с иронией заметил Чикуров.
— Разумеется, нет. Но, согласитесь, риск значительно возрос. С той и другой стороны.
— Не ударился бы Блинцов в бега.
— Не волнуйтесь. Тёр-Осипов позаботился, чтобы за ним тщательно присматривали, — заверил следователя Латынис.
— Дай-то бог… Теперь о том кольце, что было в «дипломате»… Нащупывается, как оно попало туда, для кого предназначалось?
— С этим совершенно глухо.
— Жаль.
— А что?
Чикуров вкратце рассказал историю «Клариссы».
— Чего только не бывает на свете! — воскликнул майор, выслушав следователя.
— Папочка с материалами о гарнитуре будет у вас через час, — Игорь Андреевич назвал фамилию лётчика и номер рейса, с которым отправлены документы. — Так что встречайте. И вылетайте в Симферополь, постарайтесь найти след Сапожниковых. Нам нужно узнать, как гарнитур попал в руки преступников.
В конце разговора Чикуров было заикнулся о Журе, но Латынис перебил его.
— Знаем, Игорь Андреевич, все знаем. Начальник горуправления рвёт и мечет, а начальник угро ходит словно в воду опущенный. Ведь Жур — его ученик. И рекомендацию в партию ему давал Саблин. Как же такое могло случиться?
— Ладно, об этом в другой раз, — ушёл от обсуждения больного вопроса следователь. — Желаю вам удачи на Южном берегу Крыма.
— Благодарю…
Попрощавшись, Латынис тут же отправился в аэропорт. До прилёта московского лайнера он успел забронировать билет на Симферополь, на 18.30. Получив у командира корабля папку, майор возвратился в горуправление.
История «Клариссы» оказалась действительно очень интересной. Ян Арнольдович до того увлёкся, что забыл обо всем на свете. Аккуратности и дотошности Зерцалова, собравшего старинные документы, рисунки, фотографии и письма, мог позавидовать любой следователь.
Оторвал майора от чтения междугородный звонок. Он подумал, что опять Чикуров, но незнакомый голос спросил:
— Это кто?
— Майор Латынис.
— Здравствуйте, Ян Арнольдович, вы-то мне как раз и нужны. Вербиков…
— Здравия желаю, товарищ Вербиков! — Латынис несколько растерялся, что лично ему звонит столь высокое начальство: как-никак государственный советник юстиции III класса, или генерал-майор, если перевести на милицейский чин.
— У меня к вам просьба, — продолжил Олег Львович. — Помните ту историю с ограблением Сторожук?
— Когда у неё в автобусе стащили пятьдесят тысяч? — уточнил майор.
— Совершенно верно. Сторожук тогда показала: чтобы возместить потерю этих денег, она обратилась к зубному врачу. Так?
— Да, она продала дантисту два бриллианта в золотых зубных коронках.
— Именно от этих показаний Сторожук и отказывается. Говорит, что никаких бриллиантов во рту у неё никогда не было, и поэтому продать их она не могла.
— Так ведь никто её за язык тогда не тянул, сама призналась?
— Она утверждает, что тянул… По её словам, применялись недозволенные методы. Короче, вам необходимо отыскать того дантиста и выяснить, продала ему Сторожук бриллианты или нет. Не буду говорить, Ян Арнольдович, как это важно.
— Ещё бы! Я отлично понимаю!
— Надеюсь на вас и жду звонка, — сказал Вербиков и продиктовал номера телефонов, по которым Латынис мог его отыскать.
Ян Арнольдович заверил, что тут же займётся этим делом. Попрощавшись и положив трубку, он стал соображать, как одновременно выполнить два срочных задания.
Латынис позвонил в Москву, в Прокуратуру республики, но Игоря Андреевича на месте не было. В его квартире тоже никто не брал трубку.
«Ну что ж, нужно выполнять приказ старшего по званию», — вспомнил военный устав майор, набирая номер аэропорта, чтобы отказаться от билета на Симферополь. Но раздумал: до вечера ещё далеко, снять броню он всегда успеет.
Латынис пошёл к начальнику уголовного розыска Саблину. Тот как раз закончил оперативное совещание. Ян Арнольдович подождал, пока его участники покинут кабинет.
— Кирилл Александрович, — обратился он к начальнику угрозыска, — мне нужны документы по делу ограбления Сторожук.
Услышав эту фамилию, Саблин помрачнел, скривился, словно от зубной боли. Но Латынис знал: злополучный зуб, из-за которого так страдал Кирилл Александрович, давно уже вырван.
Саблин распорядился по телефону, чтобы ему принесли дело, а когда оно было доставлено, поинтересовался:
— Зачем поднимаете?
Латынис рассказал о звонке Вербикова и задании.
— Сторожук врёт! — ударил кулаком по столу Саблин. — Клянусь честью офицера, Жур её и пальцем не тронул! Ведь допрос происходил при мне!
— Скажите об этом Вербикову, — посоветовал Ян Арнольдович.
— Скажу, конечно! Не подумали бы только, что выгораживаю своего. Я знаю Жура, может, как никто другой, и уверен: не мог он так поступить! Ну да ладно, разберутся… — Саблин стал просматривать папочку с делом.
— Где же мне откопать того дантиста? — задумчиво произнёс Латынис. — Может быть, Сторожук его выдумала?
Саблин вдруг остановил своё внимание на одном документе. Лицо его стало озабоченным.
— Погоди, погоди… — Он посмотрел на Латыниса, потом снова в папку. — Сдаётся, не выдумывала она. Слушай её показания: «Работает в поликлинике и принимает больных на дому. Живёт на улице Плеханова в пятиэтажном доме на четвёртом этаже». И дальше самое главное: «Одна туфля на толстой подошве»… Точно, это он!
— Кто? — не понял Латынис.
— Дончиков! — удовлетворённо произнёс Саблин. — Юлий Филиппович. — И начальник угрозыска пальцем приподнял край губы, показал дырку вместо одного из зубов. — Я даже не почувствовал, как он вырвал! А левая нога у него действительно короче, поэтому одна подошва потолще… Удалял он мне дома. Понимаешь, так прихватило ночью, хоть на стенку лезь! Жена вспомнила, что видела табличку на улице Плеханова.
— Вам Дончиков вырвал зуб, а Блинцову, насколько я помню, вставил, — заметил Ян Арнольдович.
— А что в этом удивительного? У него лечится полгорода. Кудесник!
В том, что у Дончикова обширная клиентура, Латынис убедился, обратившись в горфинотдел. Там сказали, что дантист в ладах с законом, имеет патент, исправно платит денежки, документация в полном порядке.
Затем майор нашёл участкового инспектора, на чьём участке проживал врач. Старшему лейтенанту Лукину было уже за пятьдесят, жильцов знал, по его выражению, как облупленных.
— Дончиков живёт один, — рассказывал участковый. — С женой развёлся давно, но помогает ей, посылает ежемесячно двести рублей.
— Откуда вам это известно? — полюбопытствовал Ян Арнольдович.
— К Дончикову ходит домработница, от неё и сведения.
— Понятно. Что ещё?
— Мужчина он трезвый, — продолжал лейтенант. — А вот до женского пола охоч! К молоденьким тянется и ничего для них не жалеет. Подарки делает дорогие. Пешком не ходит, только на такси. В общем, живёт шикарно…
«Хорошо бы иметь санкцию прокурора на обыск, — размышлял Ян Арнольдович. — Сейчас её не так-то легко получить… Или пока лучше понаблюдать за Дончиковым, проследить связи! Но для этого нужно время, и немалое. А его нет… Придётся провести разведку боем».
Узнав, что Дончиков принимает сегодня дома (в поликлинике он работал через день), и прихватив участкового инспектора, Ян Арнольдович попросил Лукина занять наблюдательный пост во дворе дома, где жил дантист, и не спускать глаз с его окон. Если майор подойдёт к окну и вытрет носовым платком лоб, значит, участковому инспектору нужно будет срочно зайти к Дончикову с понятыми.
Лукин лишних вопросов не задавал, понимал что к чему.
Латынис поднялся на четвёртый этаж, нажал кнопку звонка над медной табличкой с витиеватой надписью: «Дончиков Ю.Ф., зубной врач». Из квартиры донёсся мелодичный звон, и дверь вскоре отворилась.
— Здравствуйте, милости прошу! — гостеприимным жестом пригласил войти мужчина лет пятидесяти, в белоснежном халате и медицинской шапочке на голове.
Майор был в штатском, и дантист конечно же принял его за клиента.
— Здравствуйте, — ответил Латынис, входя в просторный холл.
— Снимайте плащ, — любезно предложил хозяин. — Вот вешалка… Я займусь вами буквально минуты через три.
Дончиков показал Яну Арнольдовичу на кресло, и когда тот уселся, нажал на клавишу видеоприставки. На экране цветного телевизора возникли кадры весёлого мультика.
— Отдыхайте пока! — Дантист, одарив Латыниса ослепительной улыбкой, исчез за дверью.
Майор огляделся. На стенах прихожей-холла картины, эстампы, на полу — пушистый ковёр. На столике — красочные иллюстрированные журналы. Иностранные…
«Что значит, частник! — подумал Ян Арнольдович, глядя на приключения Микки-Мауса, разворачивающиеся на экране. — А в поликлинике? Войдёшь в кабинет, и не то что улыбки, простого „здравствуйте“ не дождёшься!»
Дончиков не обманул: через три минуты он появился в холле с мужчиной. Видимо, тому удалили зуб, в уголке рта виднелась ватка.
— Всего вам доброго! — Дантист помог клиенту одеться. — Завтра обязательно сообщите, как себя чувствуете. Хотя, я уверен, все будет в порядке.
Мужчина промычал что-то в ответ, пожал руку Дончикову и вышел.
Зубной врач, выключив телевизор, пригласил Латыниса в комнату. Небольшая, она была оборудована под зубоврачебный кабинет. Дончиков, чуть припадая на левую ногу, обутую в ботинок на утолщённой подошве, подошёл к умывальнику и стал мыть руки.
Ян Арнольдович обратил внимание на идеальную чистоту, на удобное (опять же импортное!) кресло для больных. Да и на остальном оборудовании — бестеневой лампе, столике с инструментами и шкафчиках на стенах — на всем стоял фирменный знак какой-то зарубежной компании.
— Садитесь в кресло, — сказал Дончиков, подставив руки под автоматическую сушилку. — Писанина — потом… — Видя, что посетитель мнётся, он улыбнулся. — Ну что вы оробели? Уверяю вас, никакой боли не будет. На что жалуетесь?
«Надо брать быка за рога!» — решился Ян Арнольдович.
— Зубы у меня в порядке, Юлий Филиппович, — спокойно произнёс он. — Я по другому делу.
— Какому? — все ещё улыбаясь, но уже с некоторым беспокойством спросил дантист.
— Майор Латынис, из уголовного розыска. — Ян Арнольдович показал хозяину квартиры служебное удостоверение.
Тот читал его внимательно и долго. Его волнение не ускользнуло от Яна Арнольдовича.
— Чем обязан? — произнёс с расстановкой Дончиков.
— Здесь у вас слишком стерильно, — в свою очередь улыбнулся майор. — Можно сказать, служебный кабинет. Лучше давайте побеседуем в другой комнате.
Латыниса устраивал разговор и здесь, но ему хотелось посмотреть, как живёт дантист. Да и окно кабинета выходило не во двор, а на улицу.
— Пожалуйста, — без особой радости сказал недоумевающий хозяин.
Вторая комната была значительно больше кабинета. Майор вспомнил слова участкового о том, что Дончиков живёт шикарно. Так оно и было на самом деле. Мебель — сплошной антиквариат. Кругом — канделябры, бронза, дуб, хрусталь, позолота. Одну из стен украшал камин. Как понял Латынис, это была имитация. Внутри «тлели» электрические дрова. Единственная вещь, олицетворяющая наше время, — японский телевизор с огромным экраном.
«Второй», — отметил про себя майор.
— Я слушаю, — скучным голосом произнёс Дончиков, когда они уселись на старинный диван, обитый шёлковым штофом.
— Юлий Филиппович, нам известно, что девятнадцатого октября у вас была одна молодая женщина, Ореста Сторожук…
— Не было у меня такой клиентки! — поспешно ответил зубной врач.
И снова Латынис заметил волнение и растерянность на лице Дончикова.
— Почему вы так категоричны? — поинтересовался майор.
— На всех больных у меня имеются истории болезни. — Дантист усмехнулся. — Я чту закон… А среди знакомых такой у меня, увы, нет.
— А я утверждаю, что Сторожук у вас была! Вспомните, пожалуйста, — продолжал Латынис.
— Вы можете убедиться сами, есть у меня такая больная или нет! — Хозяин вскочил, выбежал из комнаты и вернулся с кипой историй болезней.
Латынис просмотрел их. Карточки на Сторожук действительно не было.
— Вот видите! — торжествующе произнёс дантист.
— Она продала вам два бриллианта, которые находились у неё вот здесь,
— Латынис ткнул пальцем в свои щеки. — В коронках…
— В коронках?! — нервно засмеялся Дончиков. — Глупости! Впервые слышу, чтобы бриллианты носили во рту! Она что, жена графа Монте-Кристо?
— Кстати, я тоже впервые столкнулся с таким способом хранения драгоценностей или украшения рта. Но есть показания Сторожук, — глядя прямо в глаза врачу, сказал майор. — Она даже назвала сумму, которую вы ей дали: пятьдесят тысяч.
Дончикова словно пружиной подбросило.
— Какая наглость! Какая ложь! — заходил он по комнате, потрясая в воздухе руками. — Знать не знаю вашей этой… как её?.. И вообще!.. К вашему сведению, у меня лечились такие люди!
И он стал перечислять фамилии, среди которых промелькнул второй секретарь горкома партии и первый зампредгорисполкома.
— Между прочим, вот здесь, в этой квартире, я облегчил страдания вашему начальнику, Саблину, — брызгая слюной, выкрикнул дантист.
— Знаю, — спокойно ответил Латынис, подумав, что время идти ва-банк. Видимо, именно потому, что у Дончикова совесть нечиста, он и беснуется. Надо рискнуть — срочно провести обыск. Именно сегодня, сейчас! Ибо стоит только шагнуть за порог, и Дончиков спрячет концы в воду. В экстренных случаях закон разрешает и без санкции прокурора. Конечно, риск нешуточный. Если ничего не удастся найти, неприятностей не оберёшься. Но, как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает.
— Ну что ж, Юлий Филиппович, как я вижу, правду вы говорить не собираетесь? — спросил майор.
— Нечего меня шантажировать! — взвизгнул врач.
И опять стал говорить, какие у него, в случае чего, найдутся защитники.
Ян Арнольдович поднялся с дивана, подошёл к окну и вытер лоб платком. Лукин, зябший под расходившимся дождём, кивнул и быстро зашагал к подъезду.
Через несколько минут проиграл нежную мелодию дверной звонок.
— Видите, ко мне клиент, а вы!.. — заносчиво произнёс Дончиков.
— Это не клиент, а понятые, — сказал Латынис, идя за хозяином в прихожую.
— Как… Какие понятые? — Лицо дантиста сделалось белее его халата.
— Обыск, Юлий Филиппович, — пояснил Ян Арнольдович.
— Вы не имеете права, — прохрипел Дончиков.
— Имею, — твёрдо заверил оперуполномоченный.
Латынис был убеждён, что он на правильном пути, и поэтому позволил себе этот шаг. Уверенность майора подействовала на хозяина. Во всяком случае, он вдруг сник и перестал угрожать.
Лукин пришёл с двумя соседями, которые скорбно молчали во время всего обыска, подавленные то ли роскошью и богатством обстановки, то ли непривычной для себя миссией.
Ян Арнольдович начал с кабинета, но ничего примечательного там обнаружить не удалось. В кухне поиски тоже не увенчались успехом. Когда майор перешёл в большую комнату, Дончиков несколько ожил, засуетился.
«Уже горячее», — подумал Ян Арнольдович.
Его по какой-то необъяснимой причине все время тянуло к камину. Он и начал с него. Заглянул внутрь фальшивого очага, потрогал мраморную плиту, передвинул старинные часы. Мельком глянул на Дончикова. Тот не успел вовремя отвести испуганный взгляд, понял, что выдал себя, бестолково затоптался на одном месте.
Латынис стал простукивать изразцы, украшавшие стену над камином. Ему показалось, что одна из плиток звучит по-другому, чем соседние. Он постучал сильнее, прислушался.
Точно!
Ян Арнольдович попросил Лукина принести нож из кухни, подцепил изразец. Плитка отошла от стены. А за ней…
— Товарищи, подойдите сюда, — еле скрывая торжество, обратился к понятым Латынис.
Он пожалел, что не прихватил с собой фотоаппарат.
Ян Арнольдович извлёк из тайника несколько разнокалиберных коробочек.
В одной были золотые диски для зубных коронок. В другой — ювелирные изделия из драгоценных металлов с камнями и среди них два зубных протеза с крупными бриллиантами. Взяв их в руки, Латынис молча подошёл к Дончикову. Лицо дантиста резко покраснело.
«Ну и нервы! — Ян Арнольдович пожалел о своей выходке. — Того гляди удар хватит…»
В третьей коробке лежала пачка долларов. А когда Латынис открыл четвёртую коробку, то сам побледнел.
На мягкой бархатной подушечке лежала завораживающая красавица диадема. Та самая! В самом центре её, обрамлённый семью бриллиантами, излучал мягкий зелёный свет большой изумруд — гемма с лилией.
Да, это был недостающий предмет из гарнитура «Кларисса»!
В голове Латыниса завертелась карусель из вопросов. Но время допроса Дончикова ещё не пришло. Нужно было закончить обыск, составить протокол. Ян Арнольдович черкнул на листке блокнота несколько слов и протянул Лукину. Участковый инспектор понимающе кивнул и пошёл звонить из телефона-автомата, чтобы прислали «воронок».
Закончив осмотр комнаты, Латынис сел за протокол. Время от времени ему приходилось обращаться к Дончикову: как называется тот или иной камень, бусы или ожерелье, кольцо или перстень. Зубной врач отвечал машинально, он находился словно в дурном сне.
Появился Лукин, кивнул: мол, все в порядке.
Майор отпустил понятых и приступил к допросу Дончикова. Начал Ян Арнольдович с вопроса о том, откуда у дантиста доллары? Это был рассчитанный ход: уж что-что, а заокеанскую валюту приобрести законным путём никак невозможно. Выходит, как говорится, дело пахнет керосином.
Зубной врач поднял к потолку полные скорбного отчаяния глаза и, чуть не плача, произнёс:
— Будь проклят тот день, когда я польстился на эти чёртовы доллары!
— Разве вы не знали, что любые операции с валютой запрещены? — «добивал» Дончикова Латынис.
— Бес попутал! — прижал руки к груди дантист. — Честное слово! Понимаете, предложили, ну, я и того… Не устоял.
— Кто предложил?
— Один гражданин у гостиницы «Интурист». Я его не знаю. — Дончиков опустил глаза долу.
— Не рассказывайте сказки, Юлий Филиппович, — строго произнёс майор. — В вашем положении лучше выложить все начистоту.
Однако Дончиков продолжал выкручиваться, юлить, пока наконец окончательно не запутался. И только тогда начал давать правдивые показания. Валюта, оказывается, шла дантисту от проституток, так называемых путан, которые имели дело с иностранцами. А непосредственно продавала валюту Дончикову некая Тимофеева, бандерша местных жриц любви.
— Елизавета Николаевна, что ли? — уточнил Латынис, вспомнив «оскорблённую» мамашу Светланы, которая выкрала документы у Варламова после приятного вечерка в гостиничном номере.
— Откуда вы знаете? — удивился Дончиков.
— На то мы и сыщики, — многозначительно ответил Латынис. — Как вы думаете, откуда у Елизаветы Николаевны доллары?
— Зачем спрашивать, вы ведь лучше меня знаете, — ухмыльнулся Дончиков и добавил: — К ней стекалась валюта чуть ли не от всех южноморских девочек, а вы её почему-то не трогаете.
— Не трогали, так будет точнее, — заметил Ян Арнольдович.
Когда покончили с долларами, Латынис показал на зубные коронки с бриллиантами:
— Тоже бес попутал, когда вы покупали их у Сторожук?
Дончиков не стал юлить и признался, что действительно девятнадцатого октября к нему приходила Сторожук, у которой он снял протезы с бриллиантами.
— Сколько вы заплатили за них? — спросил майор.
— Пятьдесят тысяч.
«Теперь Оресте не отвертеться», — с удовлетворением подумал Латынис и задал очередной вопрос:
— Откуда вы знаете Сторожук?
— Я видел её всего один раз, — ответил дантист и, уловив во взгляде Латыниса недоверие, поспешно добавил: — Честное слово! Её привёл наш общий знакомый.
— Кто именно?
— Эрнст Бухарцев.
«Бывший шофёр Скворцова-Шанявского! Это уже интересно!» — отметил про себя Латынис, а вслух спросил:
— У кого вы приобрели вот эту диадему?
— Не помню, — пробормотал Дончиков.
— Между прочим, эту диадему носила когда-то императрица Анна Иоанновна. В школе небось про такую императрицу учили? — Майор повертел в руках украшение. — Музейная штука.
— А Эрнст сказал… — машинально вылетело у зубного врача, но он тут же замолчал.
— Значит, Бухарцев?
Дончиков обречённо закивал головой.
— А ещё он продал вам кольцо с таким же изумрудом, — сказал по наитию Ян Арнольдович.
— И кольцо, — словно эхо, повторил дантист.
— Его вы перепродали Блинцову, так?
— Уверяю вас, с Блинцова я не взял даже лишней копейки! — поспешно сказал Дончиков. — За сколько купил, за столько и продал. Я вообще не хотел расставаться с перстнем, но уж очень просил Валентин Эдуардович, буквально умолял. Сказал, что шеф приезжает, надо сделать необычный подарок для его пассии.
— Шеф — это заместитель министра Варламов?
— Фамилию Блинцов не называл.
— Что вы ещё приобрели у Бухарцева? — спросил Латынис.
Дончиков отложил в сторонку несколько колец, кулон на золотой цепочке, бусы из бирюзы и золотой браслет с рубинами.
— Откуда это все у Бухарцева, вы поинтересовались?
— А как же, — обиженно произнёс дантист. — Вдруг ворованное?
— Ну и что он вам сказал?
— Нашёл.
— Нашёл? — усмехнулся майор.
— Так ведь Бухарцев кладоискатель! Потомственный! Его отец был рудознатцем, все своё умение передал сыну.
Было видно, что Дончиков искренне верит в это.
На вопрос, как он познакомился с Бухарцевым, дантист ответил, что Эрнст пришёл к нему запломбировать зуб. Разговорились. Бухарцев предложил Дончикову золотое кольцо. Потом ещё. И пошло. Что же касается Скворцова-Шанявского, о таком зубной врач слышал впервые. Как и о других участниках трагедии в устье Чернушки.
Наконец допрос был окончен, протокол подписан.
— Вам придётся поехать со мной, — сказал Латынис.
У Дончикова на лбу выступил пот.
— Я… Я арестован? — спросил он заикаясь.
— Пока задержаны. А дальше будут решать следователь и прокурор.
Они спустились вниз, где их уже поджидала милицейская машина. Поехали в горуправление внутренних дел.
Ян Арнольдович позвонил Чикурову в Москву, Вербикову в Средневолжск и помчался в аэропорт. На самолёт он едва успел.
А на следующий день, в Симферополе, Латынис начал с поисков Сапожниковых. В их доме жили люди, которые и слыхом не слыхивали о таких. Оперуполномоченный обошёл и объехал с десяток адресов, прежде чем встретился с некоей Ксенией Федоровной Ичаджик. Это была пожилая женщина лет шестидесяти. Когда майор завёл разговор о семье портного, жившего на улице её детства, Ксения Федоровна всплеснула руками:
— Григорий Соломонович? Дядя Гриша? Бог ты мой, конечно, помню! И жену его Зинаиду, и детей их, пацанов-двойняшек.
Говорят, к старости у человека все отчётливее становятся воспоминания детства. И действительно, Ичаджик рассказывала о тех далёких временах с такими подробностями, словно это было вчера.
— Дядя Гриша был такой добрый, такой добрый, просто не передать словами! А меня особенно жалел. Видимо, потому, что я осталась без отца и матери, растила меня тётя. Однажды она попросила дядю Гришу перешить её пальто на меня. Ну а он уж постарался. Два дня не отходил от машинки. Надел на меня обнову и говорит: носи, кицеле, на здоровье! Кицеле, по их, по-еврейски, котёночек. Вечером к нам его жена заглянула, не помню уж зачем, и тётя расплатилась за шитьё. А на следующий день дядя Гриша примчался к нам и давай стыдить мою тётю. Неужели, говорит, у меня повернётся рука взять деньги с сироты! Вернул все до копейки и ещё за жену извинился: мол, Зинаида не сообразила, за что дали. Хотя, скажу я вам, она наверняка поняла, что к чему.
Затем Ксения Федоровна почему-то перескочила на то, как Сапожниковы играли свадьбу.
— Помните, что было на невесте? — спросил Ян Арнольдович, снова поражаясь, какие мельчайшие детали сохранились в её памяти.
— А как же! — не без гордости ответила пожилая женщина. — Белое платье до пола, все в кружевах, туфли-лодочки на высоких каблуках и фата.
— Украшения какие-нибудь на ней были?
— Были, были, — закивала Ксения Федоровна. — Правда, я тогда не понимала в них толк, девчонка ведь. Но тётя моя удивлялась: откуда у Зинаиды такие драгоценности? За одно только кольцо можно было купить корову!
«Какой там корову, — усмехнулся про себя майор. — Стадо!»
— У тёти Зины был целый гарнитур. Помимо кольца серёжки и в волосах чтд-то наподобие маленькой короны.
«Да, скорее всего, это „Кларисса“, — подумал Ян Арнольдович и поинтересовался, как складывалась дальше жизнь Сапожниковых.
— Ох, даже вспоминать страшно! — скорбно покачала головой Ксения Федоровна. — Им бы жить да жить, но судьба распорядилась иначе.
— Так что случилось? — мягко настаивал майор.
— Война, что же ещё? Знаете, как она пришла к нам в Симферополь? Спали мы себе мирно ночью, и вдруг как бабахнет! А это, оказывается, на соседней улице дом снарядом разметало. Ещё вчера в газете писали, что немцам не видать Крыма, как своих ушей. И нате вам! Утром они уже были в городе. Многие даже эвакуироваться не успели. А прошло этак с месяц, немцы стали евреев увозить. Целыми семьями. Подъезжала машина, из неё выскакивали фрицы с автоматами и полицаи. Живо, говорят, собирайтесь, из вещей берите самое ценное. Люди, естественно, спрашивали, куда и зачем? Немцы объясняют: повезём сначала на сборный пункт до Карсу-базара, а оттуда — в Бессарабию. Ну, поначалу и верили. А потом, когда одна из машин вернулась слишком уж быстро, да ещё увидели в ней детские игрушки, люди заволновались, началась паника. Тогда немцы запихивали в машины уже силком. Дошло и до Сапожниковых. Приехали за дядей Гришей, но тётя Зина тоже быстренько собралась и детей за ручки повела. Полицай толкует ей: ты, мол, русская, оставайся с пацанами дома, мы забираем только евреев. А тётя Зина говорит: Григорий — мой муж, стало быть, я с ним. Так по своей воле и уехала с дядей Гришей. Вскоре мы узнали, что всех расстреливали на феодосийском шоссе, километрах в десяти от города. Убитых сбрасывали в огромный ров, который против немецких танков сами же симферопольцы и вырыли. А вражеские танки ворвались в город с другой стороны.
Ксения Федоровна замолчала, видимо вновь переживая весь ужас тех дней. Ян Арнольдович тоже молчал под впечатлением услышанного.
— Сколько уж лет прошло, а несчастья их не кончились, — с болью в голосе продолжила Ичаджик. — Мало того, что померли мученической смертью, не дают праху спокойно лежать в земле!
— Кто не даёт? — не понял Латынис.
— Подонки, вот кто! Мразь, отребье человеческое! — негодовала женщина.
— По ночам копаются во рву, ищут драгоценности. Представляете, не стыдятся выковыривать из челюстей черепов золотые коронки!
— Как? Как вы сказали? — чуть не подскочил Латынис, вспомнив вдруг, что в сумке Рогового и в тайнике у Дончикова было несколько золотых коронок, на которых ещё сохранились остатки почвы.
— В костях, говорю, копаются, черепа разбивают в поисках золотых вещей, — пояснила Ксения Федоровна. — И ведь среди этих мародёров немало молодых! Ну скажите, как можно: продавать покойницкое золото, а потом на эти деньги идти с девушкой в ресторан? Где совесть, где стыд? Главное, их ловят, судят, но все равно это безобразие продолжается.
— Почему? — удивился Ян Арнольдович.
— Мало сволочей, что ли? Тут же находятся другие, снова копают.
— Вот вы сказали, прошло столько лет, забыли, мол, о расстрелянных.
— Да, считай около пятидесяти годков, — кивнула Ичаджик.
— И что это вдруг начали мародёрствовать?
— Может, и в ум бы никому не пришло, да, говорят, вернулся в наши края один из полицаев. Когда расстреливали, он в оцеплении стоял, видел все. После войны его осудили. Он отсидел своё, затем находился в ссылке в Сибири. Потом, наверное, решил приехать на родину помирать. И видно, вспомнил былое. Ну и проболтался о том, где захоронены убитые и что при них были ценности. С того и началось.
Когда Ян Арнольдович распрощался с Ичаджик, в голове его роилась масса вопросов. Он не сомневался, что «Кларисса» появилась на свет божий именно из противотанкового рва под Симферополем. Но вот кто извлёк оттуда гарнитур? Бухарцев? А может, Роговой? Или кто-то из членов его банды? Правда, не исключается и такой вариант: «Клариссу» перекупили у мародёров. Опять же, кто: бывший шофёр Скворцова-Шанявского или Барон?
Все это предстояло ещё выяснить.
До Иркутска Чикуров летел на большом современном лайнере, охваченный немудрёным аэрофлотовским сервисом: обед, способный насытить разве что малого ребёнка, да прохладительные напитки. Последних, правда, подавали вдоволь.
В областном центре следователь пересел на двухмоторный поршневой самолёт и больше двух часов болтался в воздухе уже и вовсе без сервиса. Когда он добрался до райпрокуратуры в надежде, что местные товарищи помогут ему уехать сегодня же в посёлок Нижний Аянкут (рейсовый автобус ходил туда раз в сутки, утром), то на своей шкуре убедился, что Сибирь есть Сибирь: нерпичья шапочка, в которой Чикуров щеголял в Москве, от здешних морозов не спасала. Помпрокурора района сжалился над ним и одолжил мохнатую ушанку из волчьего меха. Коллега же и пристроил Игоря Андреевича на вездеход геологов.
В Нижний Аянкут следователь отправился потому, что там жила Изольда Владимировна Листопадова, та самая Листопадова, которой Скворцов-Шанявский отсылал по почте деньги. И немалые. 29 октября — 27 тысяч, 3 ноября — два раза, утром и вечером, — 19 тысяч и 6 тысяч рублей.
Сопоставляя факты, Игорь Андреевич пришёл к выводу: это была выручка за проданные покойным «Волгу» и видеомагнитофон.
Кем же приходилась эта женщина Скворцову-Шанявскому, если он пожертвовал ради неё машиной и японской видиосистемой? Любовница? Бывшая жена? А может, она была связана с ним преступными делами?
Необходимость выяснить это (и как можно быстрее!) появилась, когда Чикуров получил результаты комплексной экспертизы окурка из квартиры, где жил липовый профессор. Именно этим предметом прижигали грудь покойному, о чем свидетельствовали микрочастицы кожи, оставшиеся на окурке. А вдруг истязательница — Листопадова? Из ревности или по другой какой причине. Например, вымогала деньги? Правда, возникли сомнения, могла ли женщина связать такого крепыша, как Скворцов-Шанявский, да ещё издеваться над ним? Ну а если она сначала одурманила жертву? Или воспользовалась тем, что лжепрофессору стало плохо: в последнее время, как установил следователь, у него пошаливало сердце.
Была и ещё одна версия: у Листопадовой имелся помощник.
Чикуров снова допросил вахтёршу, тётю Фаину, и её сменщицу, а также соседей, но они стояли на своём. Помимо Иркабаева и неизвестного, который встретился со Скворцовым-Шанявским в день его возвращения из Южноморска, никто из мужчин к покойному не приходил. Женщины, впрочем, тоже. Хотя никакой гарантии не было, что посетителя (или посетительницу?) просто не заметили.
На всякий случай Игорь Андреевич составил по описанию обеих вахтёрш подробный словесный портрет незнакомца, который поднимался со Скворцовым-Шанявским в его квартиру.
Конечно, лучше было бы послать в Сибирь кого-нибудь из оперов, это скорее по их части, но Латынис находился в Крыму, а Жур и вовсе выбыл из игры. Вот и пришлось Игорю Андреевичу самому махнуть за тысячи вёрст.
Нижний Аянкут, как рассказали по пути геологи, небольшой посёлок, центр совхоза имени Сергея Лазо. Чикурова подкинули к самой дирекции, расположенной в двухэтажном здании, в котором светились два окна. Он выбрался из вездехода, огляделся. Кругом тишина, высокое небо со звёздами, а над избами — прямые столбы дыма, словно застывшие на морозе, от которого у следователя тут же одеревенели открытые части лица.
Игорю Андреевичу повезло: хотя был уже девятый час, директор совхоза ещё не ушёл, о чем следователь узнал от совхозного словоохотливого сторожа. Когда Чикуров представился по всей форме местному начальству, директор совхоза Юрий Васильевич Востряков заметно побледнел и растерянно произнёс:
— Так быстро? Вчера только решили, а сегодня уже следователь? Неужели это дело действительно настолько важное, что потребовалось вмешательство Прокуратуры республики… Ничего не понимаю.
— Я тоже, — развёл руками Чикуров. — Вы о чем?
— Как о чем? О вчерашнем решении районного комитета народного контроля передать материалы на меня и на моего заместителя Саяпина в органы прокуратуры и, таким образом, отлучить нас от перестройки… Ведь вы прибыли к нам не на экскурсию?
— Нет.
— Значит, по наши души?
— А вот по чьи души — я ещё не знаю, хотя кое-какие намётки есть. Что же касается решения народного контроля, то я действительно о нем ничего не знаю… и отлучить вас от перестройки в мои планы не входило.
— Странно, а я был убеждён, что бой с бюрократами проигран. А если так, то мы ещё с ними потягаемся. Посмотрим кто кого! — оживился директор и, видимо, снова почувствовал себя хозяином кабинета, извинился перед гостем и предложил ему сесть, а сам достал из кармана платок и вытер на лбу испарину.
И чтобы окончательно разрядить обстановку, Юрий Васильевич взял с подоконника чайник, налил две чашки, одну из которых предложил следователю, вторую поставил перед собой. Отхлебнув глоток напитка, к которому он был неравнодушен, директор решил посвятить гостя в те страсти, которые разгорелись в районе вчера, после двухнедельной нервотрёпки ревизоров.
— Игорь Андреевич, вы можете себе представить нищего миллионера?
Следователь пожал плечами.
— Звучит парадоксально. Так вот, таким миллионером является наш совхоз… Да, да, это так. На счёту в банке миллионы дохода, а живём без дорог, без квартир, без техники… Побывайте в школе — стыдно, в больнице — позор. А ведь учатся дети наших рабочих, лечатся наши люди. Если же они начинают уезжать в город — мы почему-то удивляемся. Когда я приехал сюда и увидел все это, за голову схватился, хотел бежать. И наверное, сбежал бы, если бы не Саяпин. Вы его не знаете?
— Откуда?
— Я вас познакомлю. Интереснейший человек. Был кучером, стал кандидатом наук. Правда, уже в возрасте, но его энергии могут позавидовать двадцатилетние. И идей в голове — на десять докторских хватило бы. В институте Саяпину отдел предлагали, а он сюда. Говорит, в институтских и управленческих кабинетах кислорода маловато, вот он и соблазнился сибирскими просторами. Забросал меня предложениями. Одно грандиознее другого. Если телемосты нужны, чтобы связать между собой континенты, то простые деревянные мосты через реки и речушки нужны для связи между сёлами, районами. А дороги? Как же можно без них! Вот и пригласили мы кооператив дорожников. У них свой асфальт, машины. Вкалывают как звери. А раз хорошо работают, должны и хорошо получать. Так? Так.
А вы знаете, какой хай поднял Кошкин, когда узнал, что председатель того самого дорожного кооператива зарабатывает в месяц полторы тысячи рублей — в пять раз больше, чем он, председатель районного комитета народного контроля? А я возьми и брякни: мол, президент США в год получает двести тысяч долларов, а есть главы фирм, которым платят по миллиону. И ничего, президент терпит. Придётся и товарищу Кошкину смириться.
— Ну и как, смирился? — усмехнулся Чикуров.
— Он не из тех, кого можно убедить. На следующий день прислал к нам бригаду ревизоров. Вот тут-то я и понял, чего стоит наша самостоятельность. Вы были в нашем детском саду?
— Нет.
— А в школе?
— Тоже. Я ведь здесь впервые.
— Жаль. Но завтра я вам их покажу специально. Можете себе представить: совхоз-миллионер, на счёту уйма денег, а ходим и голым задом светим. Вот и решили капитально отремонтировать детский сад. Нужны ванны, раковины, другие сантехнические изделия. Все это есть в магазине, а купить их по безналичному расчёту нам не разрешают инструкции.
Захотели оборудовать кабинет биологии в школе, в котором, как понимаете, заинтересован и совхоз. Опять нужны наличные. И опять упёрлось в инструкции. Нужен аппарат для физиотерапевтического кабинета в участковой больнице — снова тупик. Вот тут осенило Григория Петровича: открыть в Новосибирске, Томске и Барнауле наши фирменные магазины. Убить таким образом сразу двух зайцев: сможем подороже продать — и наличные деньги появятся. Открыли. Кое-что удалось приобрести для совхоза, школы, больницы. И тут как тут Кошкин со своими ревизорами. Конечно, умный, понимающий ревизор, обнаружив такое отступление от застойной инструкции, постарается «не заметить» его или, в крайнем случае, для формы пожурит «нарушителя», и все. А вот Кошкин встал на дыбы. Я ему про перестройку, про хозяйственную самостоятельность, про риск руководителя… А он знаете, что мне заявил?
— Интересно?
— Говорит: мы здесь живём по местному времени, а не по московскому.
— Как это понимать?
— Очень просто. Кошкин решил не только свою власть употребить. Кстати сказать, мне и Саяпину сделали начеты по два оклада, хотя я всего-то тут без году неделю работаю, а Григорий Петрович и того меньше. Но Кошкину начета показалось маловато. Вот он и призвал прокуратуру на помощь. Потому я и решил, что вы по мою душу приехали.
— Нет-нет, — поторопился Чикуров отмежеваться от тех администраторов, которым так не хотелось расставаться с престижными, привычными и удобными для них методами руководства. Чикурову хотелось посочувствовать сидевшему перед ним человеку и даже пообещать своё содействие, но он решил воздержаться: ведь он выслушал только одну сторону, а она может быть пристрастна, необъективна, а, во-вторых, ни Вострякова, ни тем более Саяпина он не знал, а поддаваться первым эмоциям — не в его привычке.
На просьбу Чикурова помочь с жильём директор совхоза сказал:
— Гостиницы у нас, увы, пока нет. Могу предложить свои холостяцкие апартаменты.
Чикуров заколебался: страсть как не любил останавливаться на квартире у родственников или друзей, а тем паче у незнакомых да ещё конфликтующих.
— Но предупреждаю, — продолжал Востряков, — обстановки никакой. Не успел обзавестись, да и дома я лишь ночую. Согласны?
— Идёт, — кивнул следователь, понимая, что выбирать не приходится.
Юрий Васильевич засобирался домой.
— Прихватим ещё одного моего постояльца, — сказал он.
Постояльцем оказался Григорий Петрович Саяпин.
Жил Востряков совсем рядом, в обыкновенной деревянной избе, разделённой на три комнаты. В той, что отвели Чикурову, действительно были лишь раскладушка и стул. А на стене висело старое ружьишко. Как выяснилось, саяпинское.
— Как бы мне связаться с участковым инспектором? — спросил следователь у хозяина.
Тот выглянул в окно.
— Темно у лейтенанта, — сообщил он. — Вообще его уже второй день не видно, наверное, уехал по своим делам.
— А звать как? — поинтересовался Чикуров.
— Яков Гордеевич Черемных. Кстати, такой же холостяк, как и я. Квартирует в пристройке к зданию дирекции. А вот Григорий Петрович, — директор взглянул на Саяпина и тепло улыбнулся, — страдает за идею. Ведь в отличие от нас у него есть и жена, и дети, и внуки даже, а он махнул сюда.
— Ничего, построим жильё, рассосётся очередь, и я привезу сюда все семейство. Уверен — не пожалеют.
— А сам? Не жалеешь? Особенно после вчерашней встречи с Кошкиным? — спросил Востряков весьма серьёзно.
— Дорогой Юрий Васильевич! Если мы будем пасовать перед каждым бюрократом, то ни тебе, ни мне не следовало бы заваривать всю эту кашу. Будут ситуации и посложней, чем нынешняя. Обязательно будут. И не только у нас… Но если мы отступим, другие отступят… Тогда что? Опять рутина? Опять застой? Нет, я готов воевать за перестройку до последнего патрона.
Юрий Васильевич растопил печь — за день дом изрядно выхолодило. Зашумел, загудел огонь в топке, потянуло теплом.
— Разносолов, увы, предложить не могу, — сказал хозяин, собирая на стол. — Как говорится, чем богаты…
— Спасибо, не беспокойтесь, — стал отказываться Чикуров, который всегда стеснялся есть у чужих да и старался не быть в долгу у кого-либо.
Однако Востряков настоял на своём и усадил московского гостя за ужин. Все было нарезано крупно, по-мужски.
Сказать по-честному, Игорь Андреевич изрядно проголодался, так как после аэрофлотовского обеда маковой росинки во рту не держал.
— Для мамы я все ещё беспомощный ребёнок, — сказал хозяин, вскрывая консервы. — Боится, что похудею, и шлёт посылки.
— Рыба — это здорово! — провозгласил Саяпин. — Недаром японцы лопают её больше всех народов мира. Но и зато сердечными заболеваниями страдают меньше всех. И живут дольше всех.
— А я сомневаюсь, что это у японцев за счёт консервов. Свежая рыба — другое дело. А у нас рядом Байкал, до Тихого океана рукой подать, а свежая рыба — проблема, — не то констатируя, не то извиняясь перед гостем сказал Востряков.
Сели за стол. Игорь Андреевич рассматривал большую фотографию на стене. Там был сам Востряков с двумя женщинами под руку. Одна пожилая, другая молодая, одетая в модные джинсы-варенки. Снимались, вероятно, за городом, на даче.
Юрий Васильевич, перехватив его взгляд, пояснил:
— Моя мама.
Он конечно же имел в виду пожилую.
— А другая? — из вежливости спросил Игорь Андреевич.
Ему показалось, что на лице хозяина промелькнула грусть.
— Соседка, — ответил он. — По садовому кооперативу. В Подмосковье.
Слово за слово, выяснилось, что Юрий Васильевич в Нижнем Аянкуте всего четвёртый месяц, а в столице был ни много ни мало помощником министра. Попал он сюда так: сняли прежнего директора, а нового решили избирать. Узнав об этом, Востряков, не говоря никому ни слова, собрал документы, пространно изложил на бумаге, какие он предлагает меры по коренному улучшению работы совхоза, и послал на конкурс.
— В райкоме, честно говоря, моя кандидатура особой радости не вызвала: имелись свои планы пристроить зампредседателя райисполкома, — рассказывал Юрий Васильевич. — И чего он только не возглавлял в районе! Везде после себя оставлял полный развал. Вот и решили сплавить его подальше, в Нижний Аянкут. Но партком совхоза настоял на выборах по всем правилам. Демократично. Вызвали меня на собрание. Прошёл, можно сказать, единогласно.
— Далековато однако же забрались, — заметил Игорь Андреевич.
— Я считаю, Юрий Васильевич поступил совершенно правильно! — вмешался Саяпин. — И чисто по-человечески, и с точки зрения гражданственности, не боюсь сказать это слово! Ведь что такое помощник? — патетически вопрошал он. — Не человек, а тень! Мысли, идеи — все принадлежало шефу! Все!
— Но сначала они были моими, — возразил Востряков.
— Да, но только до тех пор, пока ты их не записал, а машинистка не напечатала. После этого они становились мыслями и идеями министра. — Саяпин поднял вверх палец и с усмешкой добавил: — Руководящими идеями! Вздумай ты привести их где-нибудь, то обязан был бы взять в кавычки или сделать сноску. Так? А теперь ты есть ты!
— Не все это ценят, — со вздохом произнёс хозяин и, как показалось Чикурову, бросил взгляд на фотографию.
— Ценят, уверяю тебя! Послушай, что в посёлке говорят: новый директор наводит порядок!
— Ладно, ладно, — смутился Востряков. — Ещё рано судить.
Допили чай. Григорий Петрович, сославшись на то, что ему надо просмотреть кое-какие бумаги, прихваченные с работы, ушёл в свою комнату.
Юрий Васильевич, немного помявшись, обратился к московскому гостю:
— Игорь Андреевич, я понимаю, если следователь, да ещё по особо важным делам, из самой Москвы пожаловал, значит, здесь случилось что-то очень серьёзное. Чем-нибудь могу вам помочь?
— Уже помогли. — Игорь Андреевич с улыбкой показал вокруг себя.
— Да ну, — отмахнулся хозяин. — Стыдно, ей-богу! Ни присесть по-человечески, ни прилечь… Ничего, завтра что-нибудь придумаем.
— Прошу вас, никаких хлопот! — запротестовал Чикуров.
Юрий Васильевич стал прибирать со стола, а следователь колебался, стоит заводить разговор о Листопадовой или нет? Ведь сам Востряков в Нижнем Аянкуте совсем недавно.
И все же решился.
— Изольда Владимировна у нас старшая медсестра в участковой больнице,
— ответил Востряков. — Дочка у неё маленькая, годика два, не больше.
— Замужем?
— Живёт одна. А вот разведёнка или мать-одиночка… — Юрий Васильевич развёл руками.
— Приезжая? Местная?
— Не знаю, — виновато сказал хозяин. — Вообще приятная женщина, мечтательная такая.
«Негусто», — констатировал про себя следователь.
Разошлись по своим комнатам. Заснул Игорь Андреевич, когда Саяпин и хозяин видели десятый сон, оглашая избу несинхронным храпом.
«Мороз и солнце, день чудесный!» — сама по себе напросилась пушкинская строка, когда Игорь Андреевич открыл глаза.
Он встал, подошёл к окну и зажмурился: на искрящийся снег было больно глядеть.
По пустой улице ехал трактор с прицепом, доверху загруженный прессованным сеном.
Хозяин давно уже был на работе, а Саяпин сидел на кухне, обложенный бумагами, и что-то считал на микрокалькуляторе.
— Не выношу учреждений, — признался Григорий Петрович. — Дома, в тихой обстановке могу горы своротить! Готов просидеть за работой двадцать пять часов! Но стоит только переступить порог нашей конторы, тотчас горло пересыхает, а в глаза словно перцу сыпанули… Думал, у меня одного так, а оказывается, нет. Тут недавно читал: английские чиновники заметили так называемую аллергию к канцелярии.
Он силком усадил Игоря Андреевича завтракать, пожарив глазунью на сале.
— А где здесь можно столоваться? — поинтересовался Чикуров.
— В кафе «Байкал» кормят очень даже прилично. Заслуга Юрия Васильевича, взялся за соцкультбыт всерьёз.
Вспомнив вчерашний разговор перед сном, Игорь Андреевич засмотрелся на фотографию.
Перехватив взгляд Чикурова, Саяпин спросил:
— Нравится?
— Симпатичная, ничего не скажешь.
— Представляете, а в детстве не на что было смотреть.
— А вы её знали?
— Ещё бы. У её отца я когда-то работал, Вербицкий, не слышали такую фамилию? Много лет работал председателем Средневолжского облисполкома, а потом взяли его в Москву, был начальником главка, членом коллегии…
«Вербицкий, Вербицкий… — повторял про себя Игорь Андреевич. — Где я слышал эту фамилию? Кажется, совсем недавно».
— Между прочим, у её отца на даче этим летом мы и познакомились с Востряковым, — продолжал Саяпин. — Потом в Москве встретились. Можно сказать, я причастен к его выбору перебраться в Сибирь. Ну а в конечном счёте, он меня сюда сагитировал. А если точнее, то он прислал мне письмо с просьбой порекомендовать ему экономиста. А я взял да и приехал сам. Так вот Юрий Васильевич говорит, что Виктория, — Саяпин показал на фотографию, — теперь в Италии. Выскочила замуж за обувного фирмача! — Саяпин усмехнулся.
— Подумать только, нет, вы не поверите, девчонкой была такая правильная пионерка. И вот на тебе: отец и мать здесь, а она уехала за границу. Даже не укладывается в голове — как можно? А впрочем, может быть, и хорошо, что уехала.
— Это почему же? — заинтересовался Чикуров.
Григорий Петрович заметно смутился, видимо решая про себя, как поступить, а потом сказал приглушённым голосом:
— Надеюсь, вы умеете хранить тайны? — И, не дождавшись заверения, продолжал: — Так вот, Юрий Васильевич был без ума от Вики. Одним словом, влюблён, и не один год. А она, как потом выяснилось, была «влюблена» в своего сокурсника и его папу. В сына — за молодость и талант, а в папу — скорее всего за толстую мошну.
«Стой! — как искра пробежала в голове следователя. — Так это же любовница Жоголя!», но на всякий случай он спросил:
— Вы имеете в виду Жоголя — заместителя директора гастронома?
Саяпин был поражён осведомлённостью Чикурова:
— Фамилии не помню, но хорошо знаю, что он — торгаш, — подтвердил Григорий Петрович и восхищённо покрутил головой. — Смотри-ка, все-то вам, следователям, известно!
«Если бы все», — вздохнул про себя Чикуров.
Он поблагодарил Григория Петровича и отправился по делам. Постучал в дверь пристройки к зданию дирекции, где жил участковый инспектор Черемных. Но там никого не было.
Игорь Андреевич решил начать с отделения связи. Там выяснилось, что кроме денег, присланных Скворцовым-Шанявским, на имя Листопадовой поступало немало переводов из других городов. В том числе — из Южноморска, что насторожило следователя. Все отправители были мужчины.
Чикуров попросил работников почты составить справку: кто посылал Листопадовой деньги, откуда, когда и какую сумму. После чего отправился в больницу. Оказалось, что Изольда Владимировна на бюллетене по уходу за больной дочкой. Следователь зашёл к главврачу Куприянову.
— Только что ремонт закончили, — с гордостью поведал тот. — И все благодаря Вострякову. Кровати завезли новые. И вот… — он любовно провёл по сверкающей лаком столешнице.
Игорь Андреевич попросил рассказать о Листопадовой.
— Исполнительная, аккуратная, — коротко отвечал Куприянов, словно диктовал производственную характеристику. — В коллективе её уважают… Правда, частенько бюллетенит, но, что поделаешь, дочь у неё слабая здоровьем.
— Давно она в посёлке?
— Года четыре… Если вас интересуют точные анкетные данные, можете ознакомиться с её личным делом.
— Немного попозже, — кивнул Чикуров. — Ну а в личном плане? Круг её знакомых? Образ жизни?
— Уй, ну и вопросики! — Главврач достал платок, вытер лоб. — Ещё ляпнешь что-нибудь не так.
— Говорите то, что есть, — посоветовал Игорь Андреевич.
— Знаете, товарищ следователь, поговорите лучше с моим заместителем, Новиковой. Женщина. Они знают друг о дружке больше. Ей-богу!
Чикуров недоумевал, почему так ведёт себя главврач. Осторожничает? Боится испортить отношения с медсестрой? Или он из отчаянных перестраховщиков?
Игорь Андреевич все же хотел продолжить разговор, но тут распахнулась дверь и в комнату ввалился здоровенный детина в милицейском полушубке с погонами лейтенанта, в валенках и шапке-ушанке. Он держал на руках скрючившегося паренька в обтрёпанном пальтишке и кирзовых сапогах. На голове у того по самые глаза была натянута лыжная шапочка.
— Что такое? — вскочил Куприянов.
— Спасайте малого! — громыхнул басом лейтенант. — В тайге нашёл! Совсем замёрз!
— Зачем же ко мне? — замахал руками главврач. — Срочно в операционную!
Милиционер поспешил из кабинета, главврач за ним.
Некоторое время Игорь Андреевич сидел в комнате один. Наконец вернулся лейтенант.
— Здравия желаю, товарищ следователь! — откозырял он. — Извините… Сами видели…
— Ничего, Яков Гордеевич, — поднялся Чикуров, протянул руку Черемных и назвал себя. — Что это за парень?
— Можете назвать бич, — ответил лейтенант. — А можете — БОМЖ. Еду, понимаете, по тайге, вижу — лежит… Уже белый весь. Нанюхался или наглотался.
— Чего? — не сразу понял следователь.
— Вот, — Черемных начал доставать из карманов разнокалиберные пузырьки, упаковки и пакетики с лекарствами. — В карманах пальто у него нашёл. Из этого готовят адское зелье и кайфуют.
— Наркоманы?
— Ну да! В нашей аптеке им уже ничего не дают, так бичи посылают гонцов в район, а то и в область. Этот точно гонец.
Главврач был занят в операционной, да Чикуров и сам понял, что ничего существенного от него не добьёшься.
— Честно говоря, вы мне очень нужны, Яков Гордеевич, — сказал он лейтенанту. — У вас кабинет в здании дирекции?
— Так точно!
— Там и потолкуем.
У подъезда больницы стоял «Буран». На снегоходе они домчались буквально за пару минут.
В кабинете участковый продолжал переживать за паренька.
— Если бы я не заметил — все, каюк ему! Нынче мороз за сорок градусов.
— А где они там обитают, в тайге? — поинтересовался Игорь Андреевич.
— Зимовья оккупируют. Охотники жалуются. Исстари у нас тут заведено: добытчики, ну, что зверя промышляют, покидая избушку, в обязательном порядке оставляют там соль, спички, запас еды, дрова. Чтобы любой путник или кто окажется в беде смог обогреться, поесть. А эти бродяги все подчистую подбирают да ещё свинячат. Грязь после них и разор! В прошлую зиму даже два зимовья спалили. Может, и не специально, по этому делу, — Черемных щёлкнул себя по воротнику. — Но от этого не легче.
— А на что живут? Откуда у них? — Чикуров потёр большой палец об указательный, имея в виду деньги.
— Да что ни подвернётся! Кедровую шишку бьют, подряжаются строить в колхозах, совхозах и у частников, разгружают вагоны… Особенно охотятся за винно-водочными. Даже драки устраивают между собой, кому достанется разгрузка. Расплачиваются ведь с ними, как правило, натурой. А уж те, кто совсем опустился, пробавляются на помойках и свалках. Собирают тряпьё разное, бутылки, банки.
— Сдают и все деньги просаживают на выпивку?
— Если успеют.
— Не понимаю, — решил уточнить Чикуров.
— Если честно, товарищ следователь, то я и сам тут до конца не разобрался. Вот в том районе, где я раньше жил, было проще — бичи как бичи. Они, что найдут, что украдут или заработают — все на водку да на наркотики. А вот те, что здесь, какие-то идейные, если так можно выразиться. Помните, есть такая книжка, про республику ШКИД? Наши бичи хотят тоже если не республику, то, по крайней мере, свой город построить. И даже название уже придумали.
— Какое же?
— Киникия. Некоторые уже сейчас себя киникийцами называют. Будут жить по справедливости. Без милиции и прокуратуры.
— Прямо как при коммунизме.
— Точно. Только когда я заговорил как-то с их начальником по кличке Гуру, так он, знаете, что заявил: «В ваш коммунизм я не верю. Это все сказки. А вот Киникию мы скоро построим». Спрашиваю: на какие шиши будете строить? А он: мол, секрет фирмы. Но я узнал, что, оказывается, все их бичи обязаны все заработанное, украденное, полученное от родственников сдавать в общак, то есть в общую кассу, а уж из неё на свои нужды. Но идея идеей, а алкаши и наркоманы, если к ним попадает копейка-другая, стараются истратить их до того… Готовы колоть, глотать, нюхать все подряд, лишь бы обалдеть.
— Но ведь на лекарства, содержащие спирт, а тем более наркотические средства, нужны рецепты. С круглой печатью, на особых бланках.
— Достают как-то. Или ухитряются делать из самых обыкновенных лекарств, что продают свободно, так называемую «мульку», ну и одурманивают себя. По-ихнему называется «ширнуться», «заловить приход». Вы бы видели, какие у них шприцы да иглы! Сплошная антисанитария! — Черемных брезгливо передёрнул плечами. — Вот сейчас много пишут о СПИДе. Иной раз думаю: не дай бог эта зараза попадёт в их среду! Повальная эпидемия будет! Одни подхватят через шприц, другие — через мужеложство. Таких среди бичей очень даже много.
— А часто случается воровство? Я имею в виду, с их стороны? — спросил следователь.
— Я бы не сказал. За время, что я тут служу, только раз куртку кожаную спёрли: хозяева проветривать повесили. Ещё из погреба унесли бутыль с наливкой. Куртку я разыскал, вернул, а наливочку — увы. А все равно ходишь по посёлку, и кое-кто провожает косым взглядом.
— Почему?
— Эх, Игорь Андреевич, вы даже не знаете, как у людей подорвана вера в милицию! Мой предшественник поработал для этого на славу! — Черемных горько усмехнулся. — Он теперь в колонии, а я до сих пор пожинаю плоды.
— За что осудили?
— За многое. Браконьеров покрывал. А частенько и сам стрелял в тайге, когда не положено и кого не положено. Самогон при нем чуть ли не в каждой избе гнали. Он первый наведывался дегустировать. Ворюги, что под его крылышком хапали совхозное добро, жили припеваючи, потому как делились с ним. Словом, как сейчас говорят, сращивание с преступным элементом. Он же, в свою очередь, чтобы погасить поступающие в район сигналы, возил туда подарки. То шапку из незаконно отстрелянных соболей, то пол-изюбра. Как сняли тогдашнего районного начальника, так и он сразу погорел.
— Вы сами здесь давно?
— Чуть больше года. После армии предложили мне поступить в школу милиции. Закончил — направили в Нижний Аянкут. Служу и продолжаю учёбу заочно, теперь уже в высшей школе милиции.
Чикуров перешёл наконец к тому, что привело его в посёлок, и попросил Черемных рассказать о Листопадовой.
— Живёт тихо, — немного подумав, ответил лейтенант. — Ничего такого за ней не замечено.
— Вы знаете, что ей присылают большие деньги?
— Так это она за девочку получает. Алименты.
— У одной девочки столько отцов! — усмехнулся следователь и рассказал участковому о том, что узнал в отделении связи.
— Да нет, папаша у Изольдовой дочки один, — сказал растерявшийся Черемных. — Видите ли, он капитан дальнего плавания. Бывает на другом конце земли — в Антарктиде, в Австралии и других заморских краях. Уходит в море на полгода и даже больше. А деньги на содержание дочери посылает через знакомых.
— Странно. А почему не сам?
— О, тут целая история! У того капитана есть семья, но когда он встретил Листопадову, то влюбился без ума. Хотел бросить жену, детей, но Изольда не приняла такую жертву. Поэтому и уехала подальше, к нам, в Нижний Аянкут, а капитана просила забыть о ней и дочке. Однако он как-то разузнал её адрес и посылает алименты через других.
— Это вам сама Листопадова рассказала? — спросил следователь.
— Да об этом весь посёлок знает!
— И что, Изольда Владимировна хранит верность отцу своего ребёнка? — Чикуров не скрывал иронии.
— Захаживает к ней из тайги мужичок.
— А кто такой? — оживился Игорь Андреевич.
— Он «бугор» в таёжной «копне»[6] — будущей Киникии. Бичи зовут его чудной кличкой, как я вам уже говорил, — Гуру.
— Гуру… А вы знаете, что означает это слово?
— Нет, — смутился участковый.
— В Индии так называют духовного наставника, учителя, — пояснил следователь и попросил описать внешность знакомого Листопадовой. Черемных сделал это довольно подробно.
— Вроде не похож, — задумчиво сказал Игорь Андреевич.
— На кого?
Чикуров рассказал о мужчине, посетившем в Москве Скворцова-Шанявского и, в свою очередь, ознакомил участкового инспектора с его словесным портретом.
— Иногда ещё к Изольде захаживает бич по кличке Чекист. Он как бы вестовой этого Гуру, — сказал лейтенант и описал его приметы.
— Гуру курит? — спросил Чикуров.
— Да, сигареты. И Листопадова курит. Чекист — тоже.
— Вам задание, Яков Гордеевич. Сверхсрочное и очень важное.
— Слушаю.
— Нужно во что бы то ни стало достать хоть по одному их окурку. Я имею в виду Гуру, Листопадову и Чекиста.
— Понятно. Сделаем, — сказал лейтенант солидно. — Сегодня я вам ещё буду нужен?
— Да вроде нет, — ответил Чикуров. — И постарайтесь выяснить, может, кто-нибудь из них был в октябре — ноябре в Москве? Ну и, конечно, узнайте настоящие имена Гуру и Чекиста.
— Постараюсь.
Следующий день был воскресенье. Игорь Андреевич снова проснулся поздно. В эту ночь он блаженствовал на новеньком диване-кровати, пахнувшем ещё магазином. Он даже не смог поблагодарить хозяина за такую заботу: тот вернулся поздно, Чикуров не слышал когда.
На дворе было пасмурно, шёл снег. Игорь Андреевич прислушался — Востряков и Саяпин негромко беседовали на кухне.
«Жаль, что они дома, — вздохнул Чикуров. — Не удастся прошмыгнуть незамеченным».
Так и получилось.
Из разговора Вострякова и Саяпина Игорь Андреевич понял, что директор совхоза был вчера на совещании в РАПО. Это совещание и обсуждали за завтраком.
— Ей-богу, такое ощущение, что время в районе застыло лет этак двадцать назад! — кипятился хозяин. — Методы все те же — держать в страхе! Действовать только по указке! Сделаешь шаг вправо — выговор, шаг влево — скамья подсудимых! Откуда же будет инициатива, к которой так призывают в Москве? Как можно требовать от руководителей производства смелых, самостоятельных решений, когда все запуганы? Сначала надо сломать этот психологический барьер. Пусть вздохнут свободно, почувствуют вкус к правде.
— Вот-вот! — поддержал его главный экономист. — Страх и правда — несовместимы!
— Понимаете, Григорий Петрович, — продолжал возмущённо Востряков, — ведь никто не встал и не сказал ничего по поводу планов на следующий год. Ну хоть бы поспорили, выставили свои соображения. А то опять: выполним, перевыполним… — Востряков махнул рукой. — Ведь в связи с переходом на полный хозрасчёт и самоокупаемость столько вопросов стоит перед каждым хозяйством, а ясности-то нет! На что ориентироваться? На словах — свобода хозяйствования, самостоятельность, а на самом деле — все те же волевые решения! Короче, пока что полный разброд.
Послышался стук в дверь, и хозяин поспешил в прихожую.
По низкому и раскатистому голосу Игорь Андреевич узнал Черемных.
Лейтенант появился на кухне уже без полушубка и валенок. Поздоровался, пожелал приятного аппетита.
— Может, чайку? — предложил ему Востряков.
— Спасибо, уже чаёвничал, — отказался лейтенант и выразительно посмотрел на следователя: мол, есть разговор.
Пошли в комнату, что занимал Чикуров.
— Порядок, Игорь Андреевич, — сказал Черемных, доставая из кармана три спичечных коробка, в каждом из которых лежало по окурку. — Вот этот Листопадовой. — Он ткнул пальцем в букву «Л» на коробке. — Это — Гуру, а это — Чекиста.
На двух других коробках стояли буквы «Г» и «Ч».
— Отлично, Яков Гордеевич! — довольно произнёс Чикуров.
— А вот насчёт фамилий и поездки в Москву — увы, — развёл руками Черемных. — В открытую расспрашивать не решился, чтобы не вызывать подозрения у бичей, а обиняком не получилось.
— Жаль, конечно, но за одно только это, — Игорь Андреевич кивнул на спичечные коробки, — огромная благодарность!
— Ещё про кличку Чекист выяснил. Этот бич сидел. Был «ломщик чеков». На нормальном языке это значит, что у магазинов «Берёзка» надувал простофиль. Он так умел сложить пачку чеков или денег, что их казалось вдвое, а то и втрое больше. — Черемных шумно вздохнул и вдруг сообщил: — Знаете, Игорь Андреевич, малого-то, что я в тайге подобрал, оперировали: так обморозился, что пришлось обе ступни отрезать. Представляете, теперь на всю жизнь…
— Неужели? — покачал головой Чикуров. — А что, по-другому никак нельзя было?
— Наш хирург Куприянов говорит, что парень вообще чудом в живых остался. Жаль, совсем ещё желторотый. Ведь где-то, наверное, отец с матерью живут, а он — нате вам — инвалид безногий.
— Откуда этот парень?
— Не говорит.
Игорь Андреевич спохватился.
— Не опоздать бы на автобус в район! — Он посмотрел на часы и засобирался в дорогу.
Планы у него были такие: полететь в Иркутск и провести в бюро судебных экспертиз исследование окурков, добытых лейтенантом. Игорь Андреевич прихватил из Москвы заключение экспертизы относительно окурка, которым прижигали грудь Скворцову-Шанявскому. Взял он на всякий случай и сам тот окурок.
Впрочем, сначала надо было добраться до областного центра.
Следователь попросил Черемных держать в поле зрения Листопадову, а также её лесных приятелей, и отбыл в райцентр. Дальше все происходило по «закону подлости»: на самолёт в Иркутск он опоздал, потом ещё три дня загорал в ожидании лётной погоды. На бюро судебных экспертиз тоже пришлось потратить два дня: увы, и там бывают очереди на исследования, причём всем требуется срочно.
И вот наконец по прошествии почти недели Игорь Андреевич держал в руках долгожданный документ. Вывод экспертизы был категорический: слюна на окурке сигареты из квартиры Скворцова-Шанявского принадлежала бичу по кличке Гуру.
Чикуров бросился звонить в Нижний Аянкут: не дай бог, тот почувствовал что-то и сбежал! Но Черемных успокоил следователя: лица, за которыми его попросили понаблюдать, на месте.
В посёлок Чикуров прибыл под вечер — и сразу к зданию дирекции совхоза. В обеих комнатах, что были отданы участковому инспектору, горел свет. Но самого лейтенанта не было, дежурили дружинники. Игорь Андреевич спросил, где Черемных.
— Проводит операцию, — доверительно сообщил следователю один из добровольных помощников участкового. — По задержанию… В больнице…
— Кого? — встревожился Чикуров, боясь, как бы самодеятельность молодого лейтенанта не сорвала его планы.
— Яков Гордеевич не сказал.
Пока следователь раздумывал, как быть, появился Черемных в сопровождении нескольких дружинников. Две молодые женщины ввели Изольду Листопадову. Лицо у медсёстры было заплаканное.
Лейтенант поздоровался с Чикуровым и отрапортовал:
— Вот, Игорь Андреевич, задержали с поличным!
Он показал следователю хозяйственную сумку, что держал в руках.
Они уединились в другой комнате, оставив Листопадову под опекой членов ДНД.
— Эх, Яков Гордеевич, Яков Гордеевич! — не сдержался Чикуров. — Для нас сейчас важнее всего взять Гуру! Теперь же, узнав про Листопадову, он может улизнуть. И будем мы искать его по всей тайге.
— Неужто вы думаете, что я такой лопух? — обиделся лейтенант. — Да у меня везде посты наблюдения! А Изольду надо было разоблачить во что бы то ни стало именно сегодня! Случай самый подходящий, когда бы ещё такой подвернулся? Разрешите по порядку, Игорь Андреевич?
— Да, да, говорите, — раздражённо откликнулся Чикуров.
— Сначала о Гуру. Имя я узнал: Астахов Павел Кузьмич. Все бичи у него
— словно крепостные! Выполняют беспрекословно его любое приказание. Он им так заморочил голову, что они верят в его сверхъестественную силу. Помните, по телевизору показывали Кулагину из Ленинграда… Она якобы своим биополем способна двигать вещи на расстоянии. Так вот Астахов это делает якобы запросто. У всех на глазах. И ещё: может своим взглядом вызвать ожог у другого.
— И вы верите в это?
— Не знаю, но они уверяют, что это факт. Короче, эти самые киникийцы, как он их называет, боятся его как огня и подчиняются. Все, что они добудут, отдают ему. А кто укроет хоть копейку или ослушается, он расправляется беспощадно… Представляете, одному бичу за припрятанную бутылку водки Астахов воткнул в щеку вилку!
— И это в обществе справедливости?
— Но к физической расправе он прибегает редко, а чаще внушением, скорее всего гипнозом.
— Ну да! — не поверил следователь.
— Точно! Бичи сами рассказывали. Вообще, Астахов им здорово мозги запудрил! Чуть ли не за нового Иисуса Христа себя выдаёт.
— А что за народ в этой самой Киникии? — поинтересовался Чикуров.
— Разный… В основном те, у кого срыв в жизни произошёл. В семье, на работе… Среди бичей встречаются ведь и агрономы, и инженеры, и экономисты, и даже поэты. Словом, чаще работники интеллектуального труда. Ну конечно же и бывшие зэки. А есть и такие, которые того… — Черемных повертел у виска пальцем. — Вообще я считаю, что не все из бичей потеряны для общества. Честное слово, ежели к ним с душой, ну, помочь как-то, многие вернулись бы к своим семьям, к нормальной жизни. Я даже специально обращался по поводу них в райотдел, но там мне сказали, что не наши это люди.
— В каком смысле — не наши? — не понял следователь.
— А в том, что не жители нашего района. Понимаете, прописки у них нет!
— Понимаю, — кивнул Игорь Андреевич.
— Заколдованный круг получается, — продолжал взволнованно участковый инспектор. — Этими бедолагами не хотят заниматься в смысле трудоустройства и жилья, потому что у них нет прописки, а прописывать их нельзя, так как они нигде не работают и не имеют жилья… Но это же люди! Такие, как вы, я, только в большой беде! Им помочь надо, верно?
— Верно, Яков Гордеевич, верно, — согласился с ним Чикуров. — Но как разорвать этот круг, вот в чем вопрос!
— Хочу в райком специально поехать, — решительно произнёс Черемных.
«Мне тоже нужно обязательно зайти в обком и поговорить об этом с завотделом адморганов. А лучше — к первому секретарю», — подумал Чикуров. И сказал:
— Хорошо… Но вернёмся к Астахову. Откуда он сам, кто по профессии?
— Увы, — развёл руками лейтенант, — эти сведения раздобыть пока не удалось. Зато кое-что прояснилось насчёт их отношений с Изольдой. Астахов-то и является отцом её дочки!
— Вот как? Это интересно! — зажёгся следователь. — А как же капитан дальнего плавания? Байка?
— Выходит, что так. — Черемных смущённо почесал затылок. — Она всем лапшу на уши вешала. Я тоже купился.
— Почему же и за что ей шлют деньги? — размышлял вслух Игорь Андреевич.
— И куда она их девает? — добавил Черемных. — Я заходил к ней. Очень даже скромно живёт. В чулок, что ли, прячет? Или тоже отдаёт Астахову на будущую Киникию?
— А как она сошлась с Астаховым? Где?
— Сама она из нашего областного центра. Там и приметил её Астахов. Когда Изольда забеременела, он обещал жениться на ней. Она верила. А потом поняла, что ему женитьба — что козе баян. Но было уже поздно. — Черемных сделал жест, обозначающий большой живот. — Сами знаете, в маленьком городе не утаишься. Пошли разговоры. Ну, Изольда и перебралась к нам, в Нижний Аянкут. Устроилась на работу, родила. Ей выделили жильё, избушку. Не ахти, правда, но все же свой угол.
— Но почему именно сюда, как вы считаете?
— Не знаю, Игорь Андреевич. Но думаю, что из-за Астахова. Его, так сказать, база рядом, в тайге.
— Сколько ему лет?
— За сорок уже. Какой-никакой, а мужик. Вот она и держится за него. У нас ведь мужа найти ой как непросто! Женщин куда больше.
— За моё отсутствие Астахов навещал её?
— Один раз. Ещё у неё был Чекист… Ну, гонец от Астахова.
— Зачем они приходили?
— Я тоже думал об этом. Окончательно мне помог разговор у Куприянова, главврача. Я ведь бываю в больнице чуть ли не каждый день: верите, сердце болит за того парнишку, который без ног остался… Зашёл я к нему раз, другой. А он все какой-то смурной. Я вначале думал, после операции от наркоза никак не отойдёт. А потом решил спросить врача — в чем, мол, дело? А Куприянов сам понять не может, почему же парнишка все время под кайфом? Родственников и друзей у него тут нет. Никто не приходит. Значит, не могут передать. А сам он больной лежачий… Значит, сосед по палате? Не похоже… И вдруг одна медсестра говорит: может, это Листопадова? Она его чуть ли не по два раза в день навещает, хотя сама на больничном. Куприянов спрашивает: а откуда у Изольды наркотики? Ведь такие средства в больнице на строжайшем учёте! И даются под строжайшим контролем. Тогда медсестра рассказала такой случай. Лежала у них тяжелобольная, в общем-то, была обречена. Ей, конечно, вкалывали морфий, чтобы снять дикие боли… И что эта несчастная женщина заметила: как только укол делает Листопадова, боль не проходит, а если же другая медсестра — морфий действует. Так было и с некоторыми другими больными.
Услышав об этом, Куприянов заподозрил: Изольда вводила им что-то другое, а морфий и прочие наркотические препараты того, присваивала.
Черемных шлёпнул себя ладонью по лбу:
— У меня сразу сработало тут: Листопадова воровала наркотики для бичей! Как и другие компоненты для «мульки». Она же снабжала кайфом и малого без ног. Вот поэтому я и решил прихватить её сегодня с поличным.
— Но почему именно сегодня?
— А Листопадова до сих пор сидела на бюллетене по уходу за дочкой и первый день как вышла на работу. Я подумал: наверное, у бичей кончились все запасы, вот она и…
Черемных открыл сумку и вывалил на стол содержимое — пачки таблеток, перетянутые резинкой, коробки с порошками, нераспечатанные упаковки с ампулами, шприцы и иглы к ним. Тут же были и рецепты с круглой печатью.
Игорь Андреевич рассматривал добычу участкового инспектора и жалел, что проявил несдержанность в начале разговора: лейтенант действовал находчиво.
— Но это ещё не все, — сказал тот и протянул следователю незапечатанный почтовый конверт. — Обнаружили у Листопадовой…
Следователь прочитал фамилию адресата. И не поверил своим глазам.
«Жоголь, Жоголь, — повторял он про себя. — Неужели подследственный Огородникова? Жоголь Леонид Анисимович! Да, скорее всего, он — бывший замдиректора гастронома… Вот так сюрприз!»
— От кого? — вертел в руках конверт Чикуров. — Кто написал?
— Да тот самый парнишка, которому отняли ступни.
Несколько сложенных вчетверо листков были заполнены с обеих сторон пляшущими строчками.
«Даже не знаю, как тебя назвать. Но только не отцом. Правильнее было бы — сыноубийцей», — прочитал Чикуров и посмотрел на участкового инспектора.
Взгляд Черемных словно подталкивал его: читайте, читайте, дальше ещё не то будет!
«А ведь я помню, как в детстве плакал навзрыд, когда мама рассказывала об автомобильной аварии, в которой ты повредил руку. И говорил: вот вырасту, стану врачом, вылечу папе руку, и он опять будет играть на пианино… Ты даже не представляешь, как я любил и жалел тебя! Да-да! Когда ты возвращался с работы, меня охватывало праздничное настроение…
Я считал естественным, что все у меня и всегда было самое лучшее. Сначала игрушки, потом джинсы, кроссовки, дублёнки, магнитофоны, видео. Непременно импорт, фирма! А наши с тобой поездки в Чегет? Я даже не задумывался, что только за одно моё горнолыжное снаряжение какому-нибудь работяге нужно вкалывать целый год!
Сейчас, окончательно прозрев, я понял: ты обкрадывал самым бессовестным образом этих работяг! А тогда?.. Какой я был наивный человек, верил, что все блага покупаются тобой на честные доходы. Считал, что те, кто называют тебя «торгашом» и «деловым», просто завидуют. Однажды я даже подрался с одноклассником из-за этого. О, как правильно и «гуманно» ты поступил, переведя меня в спецшколу, где я стал общаться с подобными себе. Мы принимали ещё не заработанные нами привилегии как должное… Правда, несмотря на все твои старания, душа моя ещё не «переварилась» в житейских бурях и сохранила отдельные человеческие качества например способность сострадать. Помню, как, поступив в институт по блату, я долго не находил себе места, когда познакомился с девчонкой, которую упорно заваливали каждый год. Как она плакала, как страдала! Но никого, абсолютно никого это не трогало! Кстати, если хочешь знать, на заседании клуба «Аукцион» мою работу раздолбали совершенно справедливо. Это я тебе говорю! Можно за взятку или по знакомству получить диплом художника, что меня и ожидало, а вот талант — никогда и ни за какие деньги!
И ещё я, к сожалению, умею любить. Я был просто в восторге от Вики. Да и ты не переставал подливать масла в огонь: мол, все в ней прекрасно — внешность ум, талант. Женись, говорил, не пожалеешь.
Какая подлость! Какое предательство! В это же время ты предавался похоти с Викой на городской квартире Решилина!
Как я заблуждался насчёт этого «гения» русской живописи! Да, что-что, а мозги запудрить Феодот Несторович умеет! Помню, как все мы в институте слушали его раскрыв рот. Что, мол, взявши в руки кисть, художник должен отрешиться от всего дурного и скверного! «Светлое ремесло» требует гармонии внутреннего мира и спокойной сосредоточенности на высоких материях! Он мнил себя продолжателем Андрея Рублёва. Какое кощунство! Ведь Решилин не имеет права даже имя его произносить! Ты бы знал, чем занимался этот ханжа лет двадцать назад! Связывался с уголовниками, которые крали в церквах старинные иконы, скупал их, реставрировал и загонял за бешеные деньги. Это не сплетня и не плод моего воображения. Месяц назад я познакомился с одним таким добытчиком. Он орудовал в паре с якобы глухонемым «родственником» Решилина, Тимофеем Карповичем.
Между прочим, единственное «творческое наследие» — это его спекулятивные поделки, спрятанные в сарае на его даче. Да, да! Последующие решилинские работы были выполнены «неграми», такими, как Гера Несмеянов и Сима Вишневская, что живут у Феодота Несторовича на его вилле.
Вот она, двойная нравственность! И после всего этого ваше поколение хватается за голову: откуда тупик в обществе и государстве, откуда кризис?!
Помнишь, ты ругал моих друзей, которые заявились к нам среди ночи, в рваной одежде, в цепях. Пусть они непричёсанные и неумытые, зато у них чистые души и мысли! А ты хоть и одеваешь каждый день ослепительно белую рубашку, зато совесть у тебя чёрным-черна!
Я тоже испорчен. Кем? Тобой! Да, тобой! Твоим воспитанием! И наделал много грехов. И как ни старался очиститься от скверны, но, видимо, просто так отделаться невозможно. За все нужно расплачиваться! И вот судьба покарала меня. Пишу на больничной койке. Неделю назад мне ампутировали обе ступни…
Прочтя это, ты, возможно, тут же бросишься искать меня, «спасать». Предупреждаю: не делай этого ни в коем случае! Бесполезно! Запомни: сына ты лишился навсегда. Мне омерзительны твои законы, твои правила игры. Мы тут живём по-другому. И любим возвышенно, обходясь без таких продажных тварей, как Вербицкая.
Однако ты насовсем от меня пока что не избавился. Придётся платить за свою подлость. Будешь присылать мне тысячу ампул морфия в месяц. Можно и промедол, но тысячу, и ни одной ампулой меньше! Спросишь, где брать? Подскажу: у Сигизмунда Христофоровича! Да, у того самого, которому ты помог освободить его сына от службы в Афганистане. Пусть теперь он поможет твоему сыну.
Если не выполнишь моё условие, пеняй на себя! Разоблачу и тебя, и всех твоих деловых дружков! Разобьюсь в лепёшку, но выведу вас на чистую воду! А тёмных делишек за тобой — вагон и малая тележка!..
Посылки присылай на имя Изольды Владимировны Листопадовой…»
Адресом медсёстры в Нижнем Аянкуте и заканчивалось послание Жоголя-младшего. Без всяких «до свидания» и «прощай».
— Ну и попал парень в переплёт, — сочувственно сказал Чикуров, складывая письмо, и тут же обратился к участковому. — Да, знаете, надо найти соучастника ограбления церквей, о котором упоминает Михаил.
— Михаил? А откуда вы знаете имя? — удивился Черемных.
Игорь Андреевич коротко рассказал, что отец парня под следствием.
— А сын, выходит, и не знает…
— Как видите. И пока он в больнице, не следует ему говорить об этом. Все-таки отец. Лишняя травма…
Игорь Андреевич вдруг подумал, что нужно срочно позвонить в Москву своему коллеге из городской прокуратуры Огородникову, ведь тот хотел уже передавать дело Жоголя в суд. Нужно срочно информировать Василия Лукича о тех фактах, что сообщал сын Жоголя. Они наверняка заинтересуют следствие, в особенности Сигизмунд Христофорович.
— У вас есть ещё что сообщить? — спросил Чикуров.
— Есть. В октябре Астахов ездил в Южноморск.
— В октябре? — встрепенулся Чикуров. — Это точно?
— Сведения от членов его «копны»… Говорят, Астахов вообще каждый год нежится осенью на Чёрном море. И заодно любит там «карту заломать», как выражаются картёжники… Вот, пожалуй, и все.
— Что же, приступим к допросу Листопадовой, — предложил Игорь Андреевич.
Однако Изольда Владимировна на вопросы отвечать отказывалась, плакала.
Оставив её на попечение дружинников, Чикуров и Черемных вышли в другую комнату посоветоваться.
— Не получается допрос, — вздохнул Чикуров. — Придётся отложить до утра. Где у вас находятся задержанные?
— Здесь, — показал вокруг себя участковый. — Диванчик, на окнах, как видите, решётки. Правда, не ахти какие, но я ведь сам за стенкой. Так что…
Последнее обстоятельство убедило Чикурова, и Листопадову было решено задержать.
Игорь Андреевич отправился ночевать к директору совхоза. Черемных, определив Листопадову в изолятор и заперев дверь на засов и на ключ, пошёл к себе в пристройку. Она находилась с торца здания совхозной конторы и имела отдельный вход.
Раздевшись до трусов — армейская привычка, — Яков Гордеевич лёг в постель и мгновенно заснул.
Сколько он спал, сказать трудно. Проснулся лейтенант от звона разбитого стекла.
В окошко лился лунный свет.
«Приснился мне звон или был наяву?» — заползла в душу тревога.
И вдруг снаружи послышался скрип снега.
Лейтенанта словно пружиной подбросило. Он вскочил с кровати, зажёг свет и метнулся к окну. Но от яркой лампочки в комнате не было ничего видно на улице. Черемных щёлкнул выключателем и приник к стеклу.
От здания дирекции совхоза в сторону леса торопливо удалялись три фигуры. В одной из них он узнал Листопадову.
Не раздумывая больше, Черемных сунул ноги в валенки, нахлобучил шапку, выхватил из кобуры пистолет, накинул на плечи тулуп и выбежал наружу. Мороз тут же схватил его в свои цепкие объятия, перехватил дыхание. Вокруг было светло от полной луны и искрящегося снега.
Оконная рама изолятора, вырванная, как говорится, с мясом и обнаружившая зияющую тёмную дыру, лежала на земле.
— Стой! — крикнул Черемных, устремляясь за троицей. — Стрелять буду!
Тулуп свалился с плеч, но Яков Гордеевич и не думал останавливаться, решив: черт с ним, легче будет догонять.
Беглецы не только не обратили никакого внимания на окрик участкового, но даже как будто прибавили ходу. Двое мужчин мчались впереди, Листопадова
— чуть сзади.
«Уйдут! — билось в голове. — До тайги метров сто, не больше… А там растворятся, затеряются — не сыщешь!»
Лейтенант сделал на бегу предупредительный выстрел в воздух. И тут же со стороны беглецов раздался ответный.
Черемных снова пальнул вверх. Ему ответили незамедлительно.
После этого выстрела мужчины продолжали бежать, а Листопадова вдруг как-то странно заковыляла, будто споткнулась обо что-то. И вдруг рухнула в снег.
Яков Гордеевич подбежал к ней. Женщина лежала на боку, лицо её заливала кровь.
Сзади под быстрыми шагами заскрипел снег, и раздался голос Чикурова:
— Что случилось, Яков Гордеевич?!
— Хотели освободить Листопадову!.. Вон они! — показал на убегающих Черемных. — Уйдут!..
На плечи лейтенанта опустилось чьё-то пальто.
— В дом! Срочно! — приказал следователь. — И Листопадову туда же!..
Вместе с Игорем Андреевичем побежали догонять беглецов директор совхоза Востряков и Саяпин, который держал в руках своё допотопное, дедовских времён ружьишко.
Лейтенант поднял на руки недвижное тело.
Уже там, в своей пристройке, при электрическом свете он увидел: чуть выше переносицы Листопадовой зияла дырочка.
Черемных набрал номер райотдела внутренних дел и подробно доложил дежурному о происшествии. Только он положил трубку, как в комнату ввалились Чикуров, Востряков и Саяпин. Они привели с собой рослого мужчину. Тот со стоном опустился на стул, держась за бедро. Сквозь его пальцы сочилась кровь.
— Врача! — сказал Игорь Андреевич.
Черемных позвонил в больницу, но там долго не брали трубку. На вопросительный взгляд следователя участковый сказал:
— Это Астахов… А третий?
Чикуров отрицательно мотнул головой, и лейтенант понял: сбежал. Тут ответил дежурный врач, и Черемных сказал ему, что нужна срочная медицинская помощь.
За Астаховым приехала машина.
Труп Листопадовой увезли в райцентр на вскрытие. Астахов был помещён в поселковую больницу, где находился под опекой работников милиции. Рана его была неопасной: пуля из саяпинской берданки пробила мягкую ткань, не задев кость. Когда врач дал добро на допрос, Чикуров решил провести его прямо в больничной палате.
Астахов не походил на бродягу. Самое главное, на что обратил внимание Чикуров, — руки у него были ухоженные. Разве что не наманикюренные. Одежда
— опрятная. И это при его житьё-бытьё в тайге, где бичи ютятся черт-те где, даже в землянках и медвежьих берлогах. Ещё Игорь Андреевич отметил, что у Астахова был цепкий, пронзительный взгляд, словно тот пробовал на следователе свои гипнотические возможности.
— Павел Кузьмич, — начал следователь, — кем вам приходится Листопадова.
— Жена и мать моего ребёнка, — последовал ответ.
— Зачем вы освободили её из комнаты милиции?
— Побудь она в ваших застенках день-другой, вы заставили бы её признаться в чем угодно! — Астахов криво усмехнулся.
— Откуда у вас такие о нас представления?
— Если уж в газетах пишут об этом открыто… Впрочем, мне самому пришлось испытать такое, что даже и корреспонденты не могут себе представить в самом кошмарном сне! Когда мозги пытаются свернуть набекрень…
Следователь решил не выяснять, что имел в виду задержанный: это был явно отвлекающий манёвр.
— Ну, допустим, что вы любящий муж и отец, хотя по документам вы не имеете никакого отношения ни к Листопадовой, ни к её дочке, тогда почему вы её убили?
— Чушь! — неожиданно спокойно ответил Астахов. — Убил её участковый.
— Листопадова убита выстрелом в лоб. — Кто бежал впереди неё? Вы! Участковый сзади.
— Ну и что? — пожал плечами Астахов. — Она все время оглядывалась… И потом, у меня пистолета нет. — Он показал вывернутые ладони.
— Тогда, значит, стрелял ваш напарник. Это был Чекист?
— Да, — ответил задержанный.
— Ладно, кем и из какого оружия убита Листопадова, скажут своё слово эксперты. К вашему напарнику мы ещё вернёмся. А сейчас меня вот что интересует: Листопадова похищала в больнице наркотики для вас?
— Лично я их не употребляю, — отрезал Астахов.
— Не для вас так, может, для вашей компании в лесу?
— Я понимаю, вы хотите представить меня бродягой, у которого нет ни цели, ни идеи… Плюс к этому — наркоманом и убийцей, — хмуро произнёс Астахов. — Это не так. Абсолютно! Прежде чем стать тем, кого вы видите перед собой, я прошёл огромный путь. Через заблуждения, страдания, очищение… И если вам нужна моя исповедь… — Он замолчал, выжидающе глядя на следователя.
— Я готов выслушать, — кивнул Игорь Андреевич.
— С рождения до определённого времени я жил, как и все вы, — начал Астахов после некоторой паузы. — Исполнял заповеди и чтил законы вашего общества, был принципиальным. То есть абсолютно беспринципным! Посудите сами. Дома я один — Чук и Гек одновременно. На улице другой — Жиган, помните фильм «Путёвка в жизнь»? В школе я третий — Павлик Морозов… В институте ещё больше преуспел, развивая и утончая вышеприведённую формулу поведения. Активист, степендиат. При распределении получил право выбора. Пошёл в НИИ. Там не был обойдён, раз в квартал имел свою тридцатку, в виде премии, к большим праздникам — благодарность. Наверное, уже привесили ярлык
— какая дрянь выпестовалась? — неожиданно спросил Астахов.
— Просто слушаю, — пожал плечами следователь.
— Самое страшное, я был как все, — продолжил Астахов, — из новой породы, выведенной вашим обществом. Декламировал горьковское «безумству храбрых поем мы песню», а на самом деле готов был вместе со всеми затоптать любого храбреца, отважившегося сказать хоть слово правды! С такими у нас в институте не церемонились.
— Чем вы занимались в НИИ?
— Многими научными проблемами. В том числе проблемами внеземных цивилизаций. Дураком я не был, уверяю вас, зря штаны не просиживал. Публиковался в научных изданиях и популярных. Наверное, я бы мог жить так годы и годы, и, как сказал кто-то из сатириков, ещё как жить! Но… — Астахов многозначительно поднял палец. — В один прекрасный день меня посетила шальная мысль. Она вылилась в интереснейшую теорию, над которой я просидел два года. Мне бы молчать, оформить кандидатскую, а меня распирало!
— похлопал он себя по груди. — Ну, и пошёл я к замдиректора по науке. Он выслушал, похвалил. Изложите, говорит, на бумаге, и подробней, выйдем с вашей идеей куда надо. А пока о ней никому ни слова. Я вылетел из его кабинета буквально на крыльях. Взял отпуск за свой счёт, накатал вот такой кирпич и преподнёс ему, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой. Проходит месяц, другой, полгода, и вдруг — бац, книжка выходит в издательстве… За подписью того деятеля… Он защищает докторскую, становится директором. И уже не нашего, а головного НИИ! Меня это потрясло! Говорят: пока жареный петух не клюнул… Так и со мной! Стучался во все инстанции, обивал пороги, требуя справедливости. Правдолюбом стал — не дай бог! Разоблачал всех и вся! — Астахов печально усмехнулся. — Представляете, в те времена, когда вашей так называемой гласностью и не пахло. Короче, упекли в психушку. Меня, совершенно здорового человека, объявили шизофреником.
«Вот, наверное, что он имел в виду в начале допроса, когда говорил, что ему пытались свернуть мозги набекрень», — подумал Игорь Андреевич.
А задержанный продолжал:
— Отношения между разумными существами могут строиться только на универсальных принципах. Их-то впервые и поняли киники.
— Киникия — это, так сказать, дань тем древним грекам, чью философию вы проповедуете?
— Да. И не только её, но и дзен-буддизм.
— Но ведь это эклектика, — заметил Чикуров.
— Почему же? Сами подумайте: если есть, допустим, одни лишь бобы или овсянку, то этого недостаточно и даже вредно телу. Так и духу нашему необходимы разные верования.
— Раз уж вы заговорили о теле и духе, — сказал Игорь Андреевич, — употребление наркотиков убивает и то, и другое. А вы систематически травите ими своих киникийцев.
— Позвольте, позвольте! — запротестовал новоявленный проповедник. — Это не моя вина! Это беда! Она пришла к нам из вашей жизни!
— Ладно, вот вы говорите о равенстве, презрении к роскоши и так далее… Как же вы объясните ваши поездки на курорт? Я имею в виду — в Южноморск?.. Противоречие, Павел Кузьмич.
— Монтень как-то сказал: «Иногда я противоречу себе, но истине никогда не противоречу!» — Астахов снисходительно улыбнулся и неожиданно добавил: — В Южноморск я езжу не отдыхать, а работать. Да, да, во благо нашей Киникии.
— Разве игра в карты — работа? — съязвил следователь.
— Смотря как на это смотреть, — серьёзно произнёс Астахов. — К примеру, перекинуться в поезде в «девятку» или с женой сыграть в «дурачка»
— забава… А фокусы-покусы? Для кого-то тоже развлечение, а для профессионала, как, например, Акопяна, народного артиста СССР, — труд! И очень даже нелёгкий!.. Так и у меня в Южноморске. Не думайте, что мне приятно: ведь приходится иметь дело с нелучшими представителями рода человеческого!
— Что вы имеете в виду?
— Так ведь у кого приходится облегчать мошну? У тех, кто набил её преступным путём! Но для того, чтобы могла существовать наша коммуна, приходится идти на жертвы.
— А почему вы выбрали именно Южноморск? — спросил следователь.
— Южноморск — это размах! Взяточники и расхитители крупного масштаба! Да вы об этом не хуже меня знаете! Не какие-нибудь тушканчики, щипачи или шакалы[7]! Там встречаются такие катраны[8], где играют только на капусту[9].
— Вы лично во что играете?
— Как правило, в стос, секу, терц, деберц[10].
— А в буру, очко?
— Господь с вами, Игорь Андреевич! — впервые назвал следователя по имени-отчеству Астахов. — Бура и очко — сявские игры, для всякой мелюзги, из той, что ошивается возле гостиниц, в парках и кафе. Самое большее, на что они способны, это облапошить лоха[11], прибывшего с Севера или Дальнего Востока… Знаете, как это делается? Заманивают какого-нибудь буровика из Тюмени или морячка в такси, следующее из аэропорта в город. Один из шулеров, которого шофёр берет по дороге, тоже представляется курортником, как правило моряком. Да ещё для пущего доверия надевает фуражку с крабом. По пути машина якобы ломается. «Моряк», чтобы скоротать время, предлагает сыграть в «тридцать одно» или «японское танго». Правила — проще пареной репы!.. Поначалу лоху дают выиграть. Он входит в азарт. Вот тут его и подлавливают!.. Но что для меня какая-нибудь тыща или полторы? Мне подавай лобовика[12].
— Так ведь у лобовиков тоже мухлюют, — заметил Игорь Андреевич.
— Ещё ка-ак! — протянул Астахов. — Зеркальце в перстне, например, чтобы при сдаче видеть карту противника… Или сажают его спиной к зеркалу на стене. Называется «посадить фраера под фонарь».
— Слышал об этих приёмах, — сказал Чикуров. Ему интересно было узнать что-нибудь новенькое, авось пригодится в дальнейшей работе, поэтому он спросил: — А какие ещё есть?
— О, масса! — охотно рассказывал Астахов. — Один из способов — подсматривать карты из другой комнаты.
— Каким образом?
— На стену вешается ковёр, обычно цветной, пёстрый, а в нем — небольшая дырочка. В стене, конечно, тоже. Через неё «ассистент» подсматривает карты и при помощи определённых знаков сообщает играющему напарнику.
Следователь вдруг вспомнил странную причуду Скворцова-Шанявского, о которой сообщила хозяйка флигеля Александропулос, где квартировал покойный: он тоже вешал ковёр на пустой дверной проем!
«Если не для шулерства, тогда для чего же ещё?» — подумал Чикуров.
Астахов тем временем продолжал:
— Насчёт подсматривания иной раз такую изобретательность проявляют, что только диву даёшься! При помощи системы зеркал, из-под пола, с дерева за окном…
— Я слышал, что карты метят, — сказал Игорь Андреевич.
— Совершенно верно! Но главное не пометить, а как добиться того, чтобы во время игры на столе была именно тобой помеченная колода… К чему только не прибегают! Внедряют, так сказать, свои колоды в ближайших магазинах, предлагают купить у якобы незнакомых лиц, а на самом деле это подставные люди, и так далее, и тому подобное… В прошлом году в Сухуми состоялся, как говорится, матч века. Это была «коррида»!
Игорь Андреевич знал этот термин: в «корриде» встречались игроки с самыми высокими ставками.
— Представляете, с одной стороны, Копчёный — король стоса и деберца! Гремел по всему Черноморскому побережью! Да что побережье — его знали в Москве, Ленинграде и других городах, где самые фешенебельные катраны!.. А с другой — некто Маэстро! До этого мало кто о нем слышал… Так вот, «коррида» шла месяц! И Копчёный проиграл… Как вы думаете, сколько?
— Гадать не хочу.
— Четырнадцать миллионов!
— Да ну?! — все-таки поразился Чикуров.
— Факт. Копчёный проиграл все деньги, которые выиграл за всю свою жизнь!
— Как же это удалось Маэстро? — полюбопытствовал Чикуров.
— Выяснилось, что он готовился к этой «корриде» целый год. Представляете, меченные им колоды были не только в Сухуми и близлежащих городах, но по всему берегу Чёрного моря — от Батуми до Крыма! Везде! В киосках, в магазинах, на базарах, у цыган и так далее!
— Ну а вы сами часто выигрываете?
— Я, Игорь Андреевич, ас! Проигрыш для меня — вещь чрезвычайная. Огромный опыт, интуиция, математические способности. Знаете такую — теорию игр? Её разработали ещё в начале века математики Борель и Нейман. Так вот, согласно этой теории я всегда выбираю самый оптимальный вариант игры.
— Но есть ещё и теория вероятностей, — сказал Чикуров. — А по ней человеку не может везти в ста процентах случаев. Выигрыши и проигрыши, как правило, происходят равномерно. Так что постоянно обыгрывать партнёров без «кованых», «коробочки», «живчика», «насыпной галантины» и прочего просто нельзя, — щегольнул он знанием шулерских приёмов.
— А если я с таким же успехом играю в биллиард? — хмыкнул Астахов. — Спросите — почему? Секрет фирмы!
— Гипноз? Кстати, вы и его применяете, чтобы держать в узде ваших собратьев в Киникии?
Астахов ничего не ответил.
— Ну, хорошо, вернёмся к Южноморску… Ваш самый большой выигрыш?
— Около миллиона.
— У кого?
— У Варламова. Вам известен такой?
— Да, — сказал Чикуров, и продолжал: — У Решилина вы тоже выиграли?
— Выиграл, — подтвердил Астахов.
Назвал он и другие свои жертвы: «облепихового короля» Привалова, киноартиста Великанова, а также аспиранта из Средневолжска Глеба Ярцева.
— Ярцев — шулер, — сказал Астахов. — Но вот каким способом он мухлюет, я так и не разобрался. Но в том, что брал не интеллектом, я уверен.
— Ну а теперь, Павел Кузьмич, поговорим о Скворцове-Шанявском, — решил не сбавлять темп следователь, — сколько вы выиграли у него?
— Пятьсот десять тысяч.
— А для чего посетили его после Южноморска в Москве?
— Так он знаете кто? Фуфлыжник! — возмущённо произнёс Астахов.
— Что, не мог отдать долг?
— Да просто не хотел!
— И вы решили выбить у него этим? — Чикуров показал окурок в целлофановом пакете.
— Пардон, а что мне оставалось делать? Скворцов-Шанявский отнюдь не голубых кровей, поверьте, — сдался Астахов и ткнул пальцем в небольшой шрам на своём подбородке. — Его работа! Хорошо, что у меня отменная реакция, не то раскроил бы он мне череп пресс-папье! Если хотите, я оборонялся.
— Ну а кто свёл вас со всеми ними?
— Одна весьма привлекательная особа. Фамилию не знаю, а звать Викторией. Хотя, вернее, сводила не она именно, а её хахаль, торгаш…
«Неужели и тут не обошлось без Вербицкой и Жоголя?» — подумал Игорь Андреевич и спросил:
— Его фамилия Жоголь?
— Кажется, так… Хотя точно утверждать не могу.
В палату заглянул главврач и поманил следователя. Игорь Андреевич вышел. Куприянов сообщил, что Чикурова срочно просили позвонить в Средневолжск товарищу Вербикову.
Игорь Андреевич прервал допрос и отправился в дирекцию совхоза. Из кабинета Вострякова он связался с шефом.
Олег Львович выслушал его и сказал:
— Пусть убийством Листопадовой занимаются местные товарищи. Ты нужен здесь, в Средневолжске. Если можешь, вылетай прямо сегодня.
— Хорошо, — ответил Чикуров.
Около полудня подполковник Кичатов сошёл с московского поезда в Средневолжске и тут же направился в гостиницу, где ему был забронирован номер. Поездка в город на великой русской реке явилась для Дмитрия Александровича неожиданностью. Позвонив и попросив приехать, начальник следственной части Прокуратуры республики Вербиков в подробности не вдавался, лишь сказал, что соберётся вся следственно-оперативная группа, занимающаяся южноморским делом. Кичатов, что называется, крутился как белка в колесе вплоть до отъезда и успел-таки выполнить все поручения Чикурова.
Оформив документы и получив у дежурной ключ, Дмитрий Александрович пошёл в номер. Только он поставил чемодан в шкаф, как зазвонил телефон. Подполковник снял трубку, думая, что это кто-то из своих, но ему представился спецкор одной из центральных газет. Мелковский, так была его фамилия, просил о немедленной встрече.
— Зачем? — поинтересовался Кичатов, удивляясь, откуда тому известно о его прибытии.
— Хочу задать несколько вопросов по делу небезызвестного вам Жура, — безапелляционно заявил журналист.
О Мелковском Дмитрий Александрович был наслышан от Чикурова, но все равно несколько растерялся, так как с центральной прессой до сих пор дела не имел. И хотя тон журналиста покоробил, уклонился от встречи Дмитрий Александрович довольно вежливо.
Следом раздался другой звонок, уже от Чикурова. Поздоровались тепло, словно не виделись бог знает сколько времени. Игорь Андреевич попросил зайти к нему в номер.
Там навстречу Кичатову поднялся со стула Латынис, который тоже только что прилетел из Южноморска. Находился в номере и капитан Жур. Похудевший и осунувшийся, Виктор Павлович посмотрел на подполковника выжидающе: подаст тот руку или нет? Кичатов пожал ему руку.
Предложив Дмитрию Александровичу сесть, Чикуров обратился к капитану, с которым, видимо, беседовал до прихода Кичатова:
— Ну а потом?
— Я решил допросить Сторожук обстоятельней. Специально пошёл к ней домой. — Капитан покачал головой, вздохнул. — Представляете, сам пошёл, а не вызвал повесткой в отделение! Заботился о её репутации, дурак!
Кичатов понял, что речь идёт о злополучном дне, когда была избита Ореста Сторожук.
— Разговаривал с ней нормально. Ещё к совести её взывал, к человечности! Не только действием, словом не обидел! — Жур замолчал и ссутулился, словно ощутив на плечах тяжёлую ношу.
— А дальше? — спросил Чикуров.
— Побеседовал с ней минут сорок, понял, что толку не будет, и ушёл. А на следующий день — бац! — телеграмма в Москву… Вот так я превратился в изверга. Нарушителя соцзаконности. Самое страшное, Игорь Андреевич, что нашлись свидетели!
— Кто такие?
— Соседи. Двое из того же дома, а третья, старуха — через дорогу. Она на полном серьёзе утверждает, что видела через окно, как я будто бы избивал Сторожук!
— Ладно, думаю, Олег Львович разберётся, — сказал Чикуров и сообщил Кичатову с Латынисом: — А вызвал нас Вербиков для того, собственно, чтобы подбить кое-какие итоги и наметить планы.
— Совет в Филях? — улыбнулся Кичатов.
— Что-то наподобие, — кивнул в ответ Чикуров.
Он сделал небольшую паузу. Жур истолковал это по-своему и попросил отлучиться: мол, ждёт очень важного звонка. Игорь Андреевич разрешил, подумав при этом: «Слава богу, сам догадался».
По существу, Виктор Павлович не имел права присутствовать на совещании, так как был отстранён до окончания служебного расследования, но попросить его удалиться у Чикурова не повернулся бы язык.
— Не желал бы я быть в его шкуре, — заметил Латынис, когда Жур вышел.
— Да, попал мужик в переплёт, — согласился Кичатов.
И рассказал о звонке Мелковского. Выяснилось, что журналист успел сегодня позвонить и Чикурову.
— Ну и пройдоха! Откуда у него информация о нашем приезде? — недоумевал Латынис.
— Будто вы не знаете Мелковского! — поморщился Игорь Андреевич. — Без мыла всюду пролезет! — Он перешёл к делу: — Так вот, сейчас Олег Львович допрашивает Сторожук, так что попросил начинать без него. Давайте, Ян Арнольдович, выкладывайте.
— Ну что, — сказал майор. — В Крыму не удалось найти ниточку ни к Бухарцеву, ни к Роговому и его людям… Но если что появится, тут же дадут знать.
— Вы думаете, кто-нибудь может появиться в Симферополе?
— Не исключено, Игорь Андреевич. Как там ни борются с мародёрством, а оно продолжается. Не в том, так в другом месте. Там ведь не одна братская могила.
— Ну а в Южноморске?
— У ОБХСС вполне достаточно материалов для ареста Блинцова, — сказал Латынис. — Но… — он усмехнулся, — легче было добыть улики, чем получить санкцию на арест.
— Что так? — вскинул брови Игорь Андреевич.
— Блинцов — депутат горсовета, — пояснил майор. — Чтобы арестовать его, нужно разрешение отцов города. А они не торопятся его дать.
— А этот дантист? Дончиков?
— Я говорил со следователем. Помимо эпизодов скупки драгоценностей у Бухарцева, зубных протезов с бриллиантами у Сторожук и продажи Блинцову перстня в его деле для нас ничего интересного больше нет. Самое серьёзное обвинение против Дончикова — валютные операции. Оказывается, его квартира была чем-то вроде обменного пункта: несли доллары, фунты стерлингов, франки, лиры, гульдены, иены, марки… Словом, полный интернационал! Дончиков менял их на рубли. Клиенты до сих пор ещё приходят, ну и засвечиваются.
— За квартирой установлено наблюдение?
— Да, Игорь Андреевич.
— А у вас что? — обратился Игорь Андреевич к Кичатову.
— Скворцов-Шанявский, оказывается, действительно консультант… Только не в Госагропроме. Помните, сколько ему по почте приходит газетных вырезок? Насчёт овощей, фруктов?
— Ну? — нетерпеливо произнёс Чикуров.
— Так вот, все эти сведения у Скворцова-Шанявского заложены в память персонального компьютера «Хитачи».
— Расшифровали-таки! — обрадовался Игорь Андреевич.
— Конечно! Пришлось, правда, попотеть одному доктору наук и двум кандидатам… А знаете, для чего это было нужно Скворцову-Шанявскому? — Кичатов оглядел собеседников и пояснил: — Делал огромные деньги на владении информацией! Звонит, к примеру, Скворцову-Шанявскому какой-нибудь перекупщик из тёплых краёв и говорит: есть машина гранатов. Или там черешня, груши, помидоры — в зависимости от региона страны и времени года. Куда, спрашивает, везти, чтобы толкнуть с наибольшей выгодой? Скворцов-Шанявский вводит запрос в свой «Хитачи», и на дисплее мгновенно возникает ответ: город такой-то! Вот и все дела.
— На каких условиях он делился этими сведениями?
— Сама консультация стоила недорого, всего пятьдесят рублей. Но если делец решался воспользоваться ею, то должен был потом отдать Скворцову-Шанявскому пять процентов с прибыли. Он имел уникальные сведения! Урожайность овощей и фруктов по всем республикам, областям и районам. Закупка продукции как у колхозов и совхозов, так и у населения. Наличие складов для хранения. Имеющийся в наличии транспорт для дальних перевозок продукции… Ну и самое главное — спрос!
— И все это он черпал из газетных вырезок? — удивился Латынис.
— Не только. Скворцов-Шанявский имел знакомых в Госагропроме в Союзплодимпорте и так далее.
— Откуда у вас такие сведения? — полюбопытствовал Чикуров.
— Помните, вы обнаружили на столе Скворцова-Шанявского телеграмму с Кавказа? От Немчинова, насчёт партии гранатов?
— Помню. Ну и что?
— Немчинов — матёрый спекулянт! Перекупщик! Один из постоянных клиентов покойного. Он был арестован и дал показания… Аналогичные сведения удалось получить и следователю, который занимался спекулянтами, приезжавшими в Узбекистан к Иркабаеву. Но, Игорь Андреевич, одно мне не ясно. Насколько я понял, эта осень у Скворцова-Шанявского была особенно удачной, он получил от клиентов огромные барыши. А где деньги?
— Их нет. В карты проиграл, — ответил Чикуров. — Одному только Астахову Скворцов-Шанявский продул пятьсот десять тысяч, — ответил Игорь Андреевич.
И он рассказал собеседникам, что ему удалось установить в Нижнем Аянкуте. Обсудить добытые Чикуровым сведения не успели — появились Вербиков с Журом.
Олег Львович поздоровался с находящимися в комнате и как-то просто, по-будничному сказал:
— Не виноват Виктор Павлович. Элементарный навет.
Но за этой будничностью не смог скрыть удовлетворения и даже торжества, что он сумел-таки докопаться до истины.
Коллеги молча, но крепко, от души, пожимали руку капитану. Жур был взволнован, хотел что-то сказать, но из него вырывались лишь какие-то неопределённые междометия, отчего он вконец смутился.
— Ничего, капитан! — подбодрил его Чикуров. — Не понимаю, как вы вообще выдержали такое!
Потом Вербикова забросали вопросами: кто же избил Оресту Сторожук, за что, почему соседи подтвердили чудовищный поклёп на капитана.
— Одного соседа припугнули как следует, — ответил Олег Львович. — Второй посочувствовал Сторожук и сказал то, что она просила. А той старухе просто померещилось. Между прочим, сомнения мои начались именно с неё. Старуха видела избиение из окна своей квартиры, а это приблизительно метров сорок. Когда я попросил её подписать протокол допроса, то прямо-таки обалдел: она никак не могла нашарить на столе ручку! Повёл я старуху к окулисту, и оказалось, что на один глаз она вообще ничего не видит, а вторым — на полметра! Ну а потом выяснилось, что показания и тех двоих тоже не стоят выеденного яйца!
— Так кто же все-таки избил Сторожук? — нетерпеливо повторил вопрос Чикуров.
— Роговой.
— Что? — вскочил Игорь Андреевич.
— Не может быть… — растерянно сказал Кичатов. — Ведь Барон… Я сам видел во Львове, на Лычаковском кладбище… Надпись на склепе…
— Выходит, воскрес наш Барон! — Олег Львович не скрывал сарказма. — Через шестнадцать дней после того, как преставился.
Услышанное произвело эффект разорвавшейся бомбы. Присутствовавшие ошеломлённо смотрели друг на друга.
— Как это произошло? — обрёл наконец дар речи Игорь Андреевич.
— Роговой появился у Сторожук буквально вслед за Журом. Вполне возможно, что наблюдал за ними. Ну, и отделал бабёнку.
— За что? — продолжал допытываться Чикуров.
— За то, что жила со Скворцовым-Шанявским — это раз, — стал перечислять Вербиков. — За продажу Дончикову зубных протезов с бриллиантами
— два. Это ведь его подарок, Барона. Ну и ещё за то, что теперь с этим инженером связалась, с Гридневым. А когда Роговой чуть поостыл, то сообразил, что можно заодно и милиции напакостить. Вот и заставил Оресту свалить побои на Жура. Только он за порог — является Гриднев. Увидел Оресту в синяках и шишках, пришёл в ужас. Она сказала, что избил её капитан. Инженер сгоряча махнул телеграмму в Москву. Винить его нельзя, он был введён в заблуждение.
— Ну, а Роговой, где он? — Кичатову не давало покоя, что Барон обвёл вокруг пальца и Костенко и его. Надо было во Львове проверить и ещё раз перепроверить, зная, какая бестия этот матёрый преступник.
— Сторожук клянётся-божится, что Роговой больше не появлялся, — ответил Олег Львович.
— Цену её клятвам мы уже знаем, — хмуро сказал Игорь Андреевич.
— Мне кажется, что на сей раз она не врёт. Вообще, по-моему, Гриднев влияет на неё положительно: в ней стало просыпаться что-то человеческое.
— Человеческое! — зло сказал Жур. — Если уж сына променяла на деньги и шмотки!
— Как раз на любви к сыну она сегодня и раскололась, — возразил Олег Львович. — Представляете, Виктор Павлович, Ореста даже хотела встретиться с вами, попросить прощения.
— Да меня от одного её вида тошнит! — признался капитан. — Не нужны мне её извинения. Лишь бы этот Мелковский не тиснул статью. Вы бы слышали, как он говорил со мной. Пообещал, что после его выступления в газете от меня только мокрое место останется!
Затем начальник следственной части Прокуратуры республики попросил Чикурова рассказать о ходе расследования. Новостей было много, обсуждение затянулось надолго. Вербикова особенно заинтересовала личность Астахова.
— Может, он и теперь психически нездоров? — высказал предположение Вербиков.
— Проведём в Москве обследование, — сказал Чикуров. — В Институте Сербского. Но в любом случае — человек он незаурядный. Представляете, около ста людей подчиняются ему беспрекословно! Стоит Астахову лишь глянуть на человека, как он совершенно попадает под власть его какой-то непонятной силы. Никогда с подобным не сталкивался! Олег Львович, какие задачи ставите перед группой?
— Ставить задачи — твоё дело, — улыбнулся Вербиков. — А мне нужно связаться с нашим начальством.
После его ухода Чикуров распределил силы группы следующим образом: сам он ехал в Москву, Жур оставался в Средневолжске, Латынису предстояло вылететь в Крым, а Кичатов должен был разобраться в истории с «воскрешением» Рогового-Барона.
Дмитрий Александрович вылетел во Львов на следующий день, позвонив предварительно Костенко, чтобы тот взял санкцию прокурора и подготовил эксгумацию трупа, захороненного под именем Рогового.
Костенко страшно переживал свой промах, да ещё начальство изрядно пропесочило.
Эксгумацию проводили ночью. Для опознания пригласили метрдотеля из ресторана «Старый дуб», где Роговой-Барон был завсегдатаем. Гроб привезли в морг, вскрыли. В нем лежал мужчина лет сорока, в галифе, рубахе с газырями, подпоясанный наборным поясом, и хромовых сапогах. Запах стоял нестерпимый.
— Барон! — сказал метрдотель, глядя на пергаментное лицо с пышными усами, на густую вьющуюся шевелюру с нитями седых волос. — Точно он!
Костенко растерянно посмотрел на Кичатова. Подполковник и сам был обескуражен.
И вдруг раздался насмешливый голос одного из понятых, служителя морга:
— А ус-то, глядите, ус!
Кичатов всмотрелся пристальнее. Усы явно отставали от кожи. Санитар молча протянул руку и в мгновение ока отклеил усы.
— Причёску тоже проверить? — спокойно спросил он.
Костенко энергично закивал.
Санитар взялся за шевелюру, и она легко отделилась от головы, на которой курчавились редкие рыжие волосы.
Да, это был парик!
Судмедэксперт начал снимать рубашку с трупа, и присутствующие поразились ещё больше: покойный оказался… женщиной.
— Ну и ну! — вырвалось у второго понятого. — Сорок лет работаю в морге, всякого навидался, но такого!
Затем тщательно осмотрели гроб. Под атласной подушечкой были обнаружены два целлофановых пакета. В одном лежало несколько сберегательных книжек на предъявителя. В другом — семьдесят колец из жёлтого металла. На каждом из них стояла очень высокая проба — 750.
Потом уже, обмениваясь соображениями с Костенко, Кичатов сказал:
— Хороший запасец сделал себе Роговой на чёрный день!
— Ещё бы! На сто три тысячи денежных вкладов и полкило золота!
— Я думаю, Барон решил отлежаться «на дне» и при удобном случае наведаться в склеп, чтобы забрать заначку, — высказал предположение подполковник.
Эту версию поддержал и следователь трускавецкой прокуратуры. Он был весьма озабочен: предстояло вернуться к делу об убийстве подручного Рогового, фотографа Сегеди.
Перед отъездом Чикурова в Москву они с Журом просидели в номере следователя до утра. Пока Жур был отстранён от дел, вскрылось немало важных фактов, о чем и сообщил капитану Игорь Андреевич. У оперуполномоченного уголовного розыска тоже имелось что сообщить следователю. До истории со Сторожук он успел добыть кое-какие сведения в Средневолжске, из которых особенно заинтересовала Чикурова кража в квартире Глеба Ярцева, совершенная незадолго до прошлого Нового года. Были похищены драгоценности его жены, доставшиеся ей от бабушки. Дело было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
— Постарайтесь выяснить, нет ли связи между этой кражей и событиями в Южноморске, — подытоживая разговор, дал ЦУ Чикуров. — Прощупайте окружение Ярцева. Ну и, конечно, ищите Барона. Мне кажется, он где-то тут, кружит вокруг Сторожук…
Чикуров уехал утренним поездом, а капитан решил отправиться в горуправление милиции к следователю Станиславу Петровичу Воеводину и спросил, может ли Станислав Петрович выкроить время для разговора.
— Пожалуйста, — ответил следователь. — Приходите.
Что у Станислава Петровича действительно было время, капитан понял, когда тот налил из графина воды в электрочайник и сунул вилку в розетку.
— Угощу вас фирменным бальзамом — вмиг снимет простуду! — пообещал следователь.
Жур и впрямь уже несколько дней был простужен и говорил с французским прононсом.
— Что за бальзам? — поинтересовался Виктор Павлович.
— Мята, зверобой, — стал перечислять Воеводин, — чебрец и корень валерианы… На себе пробовал не раз.
Пока готовился обещанный напиток, Виктор Павлович полистал дело, чтобы вспомнить кое-какие подробности.
— А чем оно тебя привлекло? — спросил Станислав Петрович, протягивая наконец чашку чая Журу.
Виктор Павлович рассказал о южноморском деле, и они снова вернулись к краже.
— Сколько версий отработали, не счесть, — делился с капитаном Воеводин. — Были даже подозрения на отца Елены Ярцевой. Понимаешь, он директор универмага, материально ответственное лицо. Вдруг недостача или ещё что-то. — Следователь кивнул на папку с делом. — Ты, наверное, обратил внимание, что у вора были ключи, да и в квартире он ориентировался свободно…
Воеводин вдруг отставил чашку и долго смотрел на капитана напряжённым, немигающим взглядом.
— Ты… Ты чего? — несколько растерялся Жур.
— Идея, Виктор! — воскликнул следователь. — А что, если это дело рук самого Глеба?!
— Здрасьте, — нахмурился Виктор Павлович. — Разве раньше у тебя такой версии не было?
— Не было. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля, — засмеялся Станислав Петрович. — А если серьёзно… Понимаешь, кто был тогда для меня Ярцев? Аспирант университета, сын начальника облсельхозтехники.
— Бывшего, — поправил капитан.
— Это не суть важно, — отмахнулся Воеводин. — Важно другое: в семье нашего генерала, то есть начальника областного управления, Глеба считали чуть ли не сыном! Подумай сам, мог ли я хоть на секунду предположить? Тем более Копылов вовсю давил. Докладывал ему буквально через день… А теперь что мы знаем? Ярцев картёжник. И вообще — тёмная личность. Если он задумал развестись, то почему бы заодно и не прихватить с собой Леночкины бриллианты, а?
— Интересно было бы посмотреть на Копылова, когда он узнает про своего «сынка»…
— Увы, генерала перевели в другую республику. Министром. Ещё в апреле.
— А ты и обрадовался, — улыбнулся Жур. — Давить стало некому, вот и приостановил?
— Почему обрадовался, — несколько обиженно ответил следователь. — Просто исчерпали все возможности. Сам знаешь, как приходится нашему брату: у меня в то время было в производстве семь дел. Семь! И все, помимо ярцевского, арестантские. Да плюс к этому одно дело на контроле в редакции, другое у прокурора, а третье… — Он махнул рукой. — Буквально разрывался на части! Приходишь затемно, уходишь затемно… Знай строчи показания. Веришь ли, рука отнималась.
— Верю, — кивнул Виктор Павлович, уже пожалев, что подпустил шпильку.
Жур перелистал папку с делом и нашёл место, которое ему надо было прояснить.
— Станислав Петрович, насколько я понял, у Елены Ярцевой похитили гарнитур, доставшийся от бабки?
— Да. В него входили серьги, кулон, браслет и перстень. Вот перстень-то как раз и остался, потому что в тот вечер Елена надела его.
— Но откуда у Ярцевой опять взялся кулон? Вот её показания, — он протянул следователю открытую папку.
— Поясню, — сказал Воеводин, пробежав глазами текст. — Этот Скворцов-Шанявский весьма охоч до молодых бабёнок. У Елены Ярцевой с ним были отнюдь не платонические отношения. Она ведь жила у него в Москве почти месяц. И как бы в знак признательности Скворцов-Шанявский подарил ей точную копию украденного колье из гарнитура. По словам Ярцевой, его сделал знакомый ювелир Скворцова-Шанявского.
— А для чего нужна Ярцевой копия? — удивился капитан.
— Елена пуще всего боялась, как бы о пропаже не узнали родители, — пояснил Воеводин. — Представь себе, они и впрямь не заметили, что это копия, когда дочь приехала к ним в кулоне и с перстнем.
— Действительно копия? — спросил Жур. — Проверяли?
— Так ведь Елена сказала, что копия, — ответил Воеводин, и капитан почувствовал в его голосе неуверенность. Более того, Станислав Петрович крепко задумался.
— А как насчёт Скворцова-Шанявского и его шофёра Бухарцева? — решил уточнить капитан. — Их алиби установили? Ведь оба тогда находились в Средневолжске.
Этот вопрос поверг следователя в полную растерянность. Оказалось, что алиби фруктово-овощного воротилы проверяли. Скворцов-Шанявский в тот вечер сидел в ресторане с одним из руководителей местного агропрома. А вот водителя его машины — нет.
Было видно, что Воеводину весьма неловко: его, следователя, уличили в грубейших ошибках. И кто — оперуполномоченный угрозыска! Ведь принято считать, что в расследовании всему голова — следователь. А опер, так сказать, глаза, уши, ноги… Выходило, что руки-ноги учат голову.
— Надо проверить подлинность колье, надо, — сказал Воеводин. — Перстень вор не унёс, так что есть прекрасная возможность сравнить сплав золота, бриллианты и так далее. Пошлю на экспертизу.
— Значит, опять придётся возобновлять следствие?
— Сегодня же пойду к шефу, — решительно сказал Воеводин и, как бы найдя подходящее оправдание, добавил: — Здорово, что ты зашёл ко мне. Видишь, твоё дело пролило свет на моё.
— И наоборот, — поддержал следователя Виктор Павлович.
С бывшей женой Ярцева Еленой капитан Жур встретился у неё дома на Большой Бурлацкой. Это была полная миловидная молодая женщина, не выпускающая изо рта сигарету.
— Ну и травите вы себя, — не удержался от замечания Виктор Павлович. — Отчаянно!
— Да я недавно пристрастилась, — не очень охотно смяла сигарету в пепельнице Ярцева. — С апреля…
«После разрыва с Глебом», — отметил про себя Жур, а вслух посоветовал:
— Бросайте, пока не засосало окончательно. Дальше будет все тяжелее и тяжелее. Поверьте бывшему заядлому курильщику. Представляете, дошёл до того, что даже ночью просыпался несколько раз, чтобы посмолить. Загибался уже от кашля! А бросил — словно заново родился, ей-богу!
— И как же вам удалось? — заинтересовалась Елена.
— Сказать по правде, это заслуга жены, — несколько смущённо ответил Жур и добавил: — Самому тоже, конечно, пришлось волю проявить.
— А y меня воли — увы! — развела руками Ярцева. — И заставить некому. Вот если бы эту заразу не продавали совсем…
— Или ввели бы смертную казнь за курение, как когда-то в Англии, — улыбнулся Жур. — Или обрезали носы, как у нас в России при царе Алексее Романове.
— Вот-вот, — засмеялась Елена и прикрыла рукой свой аккуратный симпатичный носик, словно испугавшись за него. — Бросила бы тут же!
Переходя к делу, оперуполномоченный уголовного розыска попросил молодую женщину рассказать о бывшем муже. Елена разволновалась, занервничала и снова схватилась за сигарету.
— Вы не можете себе представить, сколько я пережила, — жадно затянувшись дымом, начала Елена. — Он обманывал меня на каждом шагу. А я верила как дура!
Капитан понимал, чего стоило Елене это признание.
— В каком смысле — обманывал? — осторожно спросил он.
— Целыми днями пропадал где-то. Да что там днями, частенько приходил в три-четыре часа утра, а то и позже. Как ни спросишь, где был, — собирал материал для диссертации.
— Ночью? — не без иронии заметил Жур. — Тут бы и ребёнок засомневался.
— Самое удивительное, — вздохнула Елена, — что такое место было. Есть у нас один знакомый, Воловик. Библиотека у него редчайшая! К нему приезжают учёные даже из Москвы, чтобы познакомиться с уникальными старинными книгами. Воловик страдает бессонницей, заявись к нему среди ночи — только рад будет. Вот Ярцев и прикрывался этим. Ну а однажды вышла накладка. Ярцев, как всегда, пришёл перед самым рассветом, сказал, что просидел над книгами у Воловика. А вечером позвонил сам старик. Я была дома одна, взяла трубку. Воловик обиженно спросил, почему Ярцев не заходит к нему, ведь обещанный материал уже поджидает его бог знает сколько времени. Я стала оправдываться, несла какую-то чушь, а у самой все внутри клокотало. Можете представить себе моё состояние?
— Могу, — кивнул Жур, хотя в положении обманутого супруга быть ему не приходилось.
— Положила я трубку и разревелась как белуга! — продолжала откровенничать Ярцева. — Поняла окончательно, что Ярцев все время обманывал меня самым наглым образом. Ну а вывод напрашивался один: он завёл себе женщину! Но, господи, как же я ошибалась!
— Да что вы? — удивился столь неожиданному повороту капитан.
— В том-то и дело! Оказывается, Ярцев дни и ночи проводил за картами!
— Елена смотрела на Жура округлившимися глазами. — И не в какого-нибудь «дурачка»! Там выигрывались и проигрывались большие деньги!
— Где — там? — поинтересовался капитан.
— Да в отцовской квартире на улице Свободы! Прямо казино подпольное устроил Ярцев!
«Так ведь это же в том самом доме, где жил генерал Копылов! — вспомнил разговор с Воеводиным Виктор Павлович. — Ну и ловкач этот Ярцев. Организовать притон картёжников этажом ниже начальника облуправления милиции. Ни у кого даже не возникнет подозрения!»
— Кто именно принимал участие в игре? — спросил Жур.
— Вот этого сказать не могу. — Уловив, видимо, недоверие в глазах капитана, она прижала руки к груди. — Честное слово!
Виктора Павловича и впрямь поражали наивность и неосведомлённость молодой женщины.
«Наверное, так любила муженька, что слепо верила каждому его слову», — подумал Жур.
— Что Ярцев обожает карты, я знала, — продолжала Елена. — Более того, даже помогала ему… — Она смутилась, запнулась.
— В чем?
— Ну, выигрывать.
— И каким же образом?
— У нас здесь, — показала вокруг себя хозяйка, — собирались иногда друзья Ярцева, расписывали пульку. Преферанс то есть… Так, по маленькой. Ну а Ярцев страсть как не любил проигрывать! Понимаете, у него было страшное самомнение! Прямо-таки гипертрофированное преувеличение своей личности! Везде, всегда и во всем он должен был быть только первым! Вы не представляете, что творилось на следующий день в доме, если накануне он проигрывал! Сущий ад! И всю злость вымещал на мне… Вот и пришлось согласиться на обман.
— Ну а как же вы обманывали? — спросил Виктор Павлович. Это очень даже заинтересовало его.
— Довольно просто. Во время игры я подавала чай, кофе, бутерброды… Одним словом, все время вертелась в комнате и заглядывала партнёрам Ярцева в карты. Потом выходила на кухню и сообщала ему через миниатюрный передатчик.
— Какой? — встрепенулся Жур.
Елена встала, порылась в «стенке» и положила перед капитаном небольшое передающее устройство с микрофоном и антенной, наподобие тех, что имеют милиционеры, и очки в тяжёлой оправе.
— Это передатчик, а это, — показала она на очки, — приёмник. Никто и не подумает: очки и очки. Изготовил Ярцеву эту штуку один наш знакомый.
— Кто именно?
Молодая женщина замялась, и капитан повторил вопрос.
— Вы не подумайте, Федя не знал, для чего все это нужно.
— Какой Федя?
— Гриднев, — призналась наконец Елена. — У него поистине золотые руки…
— Федор Гриднев?! Тот самый? — вырвалось у капитана, который не смог справиться с волнением. — Что женился на Сторожук?
— Да, — кивнула Елена. — Федя — инженер-электронщик. Знаете, что он подарил Орысе при первом знакомстве? Миниатюрный цветной телевизор собственного изготовления. Вот такой! — Елена показала Журу пачку сигарет.
— И много удавалось вам выигрывать при помощи устройства, сделанного Гридневым? — спросил капитан.
— Да ерунду, — отмахнулась Ярцева. — Десять, от силы пятнадцать рублей.
— Все равно обман, — заметил Жур.
— Некрасиво, конечно, — согласилась Ярцева. — Но на что только не пойдёшь ради спокойствия в доме!
Она неслушающимися пальцами достала из пачки очередную сигарету, лицо её стало злым, а взгляд колючим.
— Как-то я узнаю, что у нас в Средневолжске есть человек, который привозит из Москвы и продаёт видеоаппаратуру и кассеты с порнографическими фильмами. И у себя дома он тоже крутит порно, разумеется за деньги. А самое страшное, развращает этими фильмами девчонок, соблазняет, делает проститутками и подсовывает старикам. Да, да, совсем молоденьких, по пятнадцать-шестнадцать лет! Говорили, у него даже такса была — от ста до ста пятидесяти рублей. И что же вдруг выясняется? Тот грязный человек — мой бывший муж! Все твердят: о покойном нельзя говорить плохо. Ерунда! Правда есть правда!
Елена наговорила про Глеба ещё столько страстей, что Виктор Павлович несколько усомнился в правдивости её слов. А вдруг оговорила его от обиды? Когда он попытался выяснить взаимоотношения Ярцевой со Скворцовым-Шанявским, а также с кем он общался в Средневолжске и в Москве, откровенность Елены сразу же куда-то улетучилась, она лишь твердила: «ничего не знаю», «не слышала», «не в курсе».
В конце допроса Жур показал Ярцевой снимок аппаратуры, обнаруженной на теле покойного Глеба. Елена сказала, что не видела у мужа ничего подобного.
На этом они и расстались.
Весь остаток дня Журу не давали покоя показания Ярцевой в отношении Гриднева.
«Что, если этот инженер-электронщик был сообщником Глеба Ярцева по облапошиванию лохов?» — размышлял капитан.
У него появилась идея, которую нужно было срочно проверить.
На следующее утро Жур позвонил на работу Гридневу, но там сообщили, что на сегодня он взял отгул.
«Ну что же, это даже лучше, — подумал Виктор Павлович. — Поговорим дома».
Правда, ему очень не хотелось встречаться с Орестой Сторожук, но Жур вспомнил, что обычно часам к одиннадцати она идёт к детскому садику в надежде пообщаться с сынишкой. Он решил навестить Гриднева именно в этот промежуток времени. А пока можно было допросить мать Глеба.
Капитан позвонил ей, и Калерия Изотовна согласилась встретиться. Жила она у старшего сына Родиона в отдалённом микрорайоне. Виктор Павлович немного опоздал. Когда он приехал, Калерия Изотовна вывозила из квартиры детскую коляску с грудным ребёнком. Она хотела отменить гуляние, но капитан сказал, что они могут побеседовать и на свежем воздухе. Он помог спустить коляску на лифте и вынести во двор.
— Внук? — поинтересовался Жур.
— Внучка, — с нежностью ответила бабушка.
На Калерии Изотовне была старомодная беличья шуба и такая же шапка, повязанная сверху чёрным платком.
«Траур соблюдает, — отметил про себя Виктор Павлович. — По младшему сыну. А я со своими вопросами… Может, лучше было бы встретиться с Родионом? Все-таки мужик».
Но отступать было уже поздно.
Вопреки опасениям капитана Калерия Изотовна говорила о Глебе довольно спокойно и даже сохранила способность оценивать его критически.
— Может, я прошляпила что-то в воспитании? С отцом Глеба мне жилось ой как несладко! Когда крепилась, а когда и силушек не хватало. Ходила как в воду опущенная, ревела прямо при детях. А то и срывала на них свои обиды. Глеб рос особенно впечатлительным. Не могло все это не отложиться. Вот он и ожесточился, видимо. Отсюда неверие в добро, цинизм. Взять хотя бы то, как Глеб поступил с мачехой, — продолжала Калерия Изотовна. — Даже я, человек, который, кажется, должен был бы ненавидеть Злату, и то жалела её до слез. Ведь, по существу, последние годы она была для Глеба матерью. Вы знаете, что он ушёл жить к ним?
— Знаю, — подтвердил капитан.
— Глеб у неё всегда был чистенький, наглаженный, ухоженный, прямо весь сиял! И что же? Когда Злата осталась, как говорится, у разбитого корыта, Глеб отплатил ей чёрной неблагодарностью. Видите ли, в посёлке Злата с Семёном Матвеевичем заняли дом, предназначенный для яслей. Кому это понравится? Люди осуждали их. Можете представить, каково ей было остаться одной среди них! Злата умоляла Глеба помочь ей как-нибудь перебраться в город, но он даже пальцем не пошевелил. Да ещё востребовал с неё какой-то карточный долг за отца, — сокрушалась Калерия Изотовна.
Они неспешно прогуливались по тихому двору, ребёночек не беспокоил — мирно спал в своей колыбельке.
— От всех этих переживаний у бедной Златы на нервной почве отнялись ноги, — продолжала Ярцева-старшая. — Уж я гнала в Ольховку Глеба, гнала! Поезжай, говорю, помоги! Куда там! Ни разу не съездил! Спасибо, Родион иногда выбирает время, навещает её. Душевный! Не в пример Глебу.
Виктор Павлович спросил, какие взаимоотношения были у братьев.
— В детстве — водой не разольёшь, а потом стали отдаляться друг от друга. Перед смертью же Глеба и вовсе разошлись окончательно. Я виновата…
— Калерия Изотовна тяжело вздохнула и замолчала.
— Чем же? — поинтересовался Жур.
— Вы квартиру нашу не видели, — показала она на свои окна. — Одно название, что трехкомнатная. Комнатки — клетушки! Всего тридцать два квадратных метра. И это на семь человек! Ну а когда Глеб остался один, я предложила ему поменяться квартирами. Он отказал. Родион узнал, разозлился, говорит: пусть подавится своими хоромами! Строго-настрого предупредил меня, чтобы больше не унижалась. Сказал: считай, что у тебя нет сына, а у меня — брата! Да, так и сказал. А когда узнал, что Глеб утонул, ни слова не говоря снял со сберкнижки деньги, что копил на машину, и полетел в Южноморск, за телом нашего младшего. И похоронили честь по чести. Правда, кое-кто ехидничал: какие, мол, это расходы по сравнению с тем, что достанется нам после Глеба. А вы знаете, что заявил мне Родион? Из тех денег нам не нужно ни копейки! Грязные они, мама! А я уж знаю: если старший сын сказал, то ни за что не отступится от своих слов.
— Калерия Изотовна, — спросил капитан, — чем объяснил Глеб свой отказ поменяться квартирами?
— Якобы решил перебраться в Москву и уже обмен нашёл.
Виктор Павлович осторожно прощупал, ведала ли Калерия Изотовна, какими неблаговидными делами занимался её младший сын? Она кое о чем догадывалась, но толком ничего не знала. Как и людей, с кем был связан Глеб.
Проснулся младенец, и Ярцева поспешила домой менять пелёнки. Виктор Павлович помог доставить коляску к дверям квартиры и попрощался: была самая пора ехать к Гридневу.
Когда Виктор Павлович подходил к знакомому одноэтажному дому барачного типа, в душе всколыхнулась горечь перенесённой недавно незаслуженной обиды.
Несмотря на то что был день, в окне Гриднева горел зеленоватый неоновый свет. Открыл капитану сам инженер. Большеротый, коренастый, в старых потёртых брюках и майке, он вопросительно уставился на пришедшего.
— Жур, — представился Виктор Павлович.
Хозяин смутился, предложил зайти, заметался по комнате в поисках рубашки, которую поначалу надел наизнанку.
«Слава богу, Орыси и впрямь нет», — подумал в это время капитан, оглядывая комнату.
Теперь она напоминала мастерскую. Стол, в прежние посещения Жура покрытый скатертью, был превращён в верстак. На нем лежали всевозможные инструменты, какие-то детали, провода, были привинчены тиски и небольшой станочек. Над столом горела лампа дневного света.
— Садитесь… Прошу, пожалуйста… — все ещё суетился Гриднев.
Он старался не смотреть в глаза Журу.
Виктор Павлович устроился на предложенном стуле, а хозяин — на табуретке.
— А где Ореста Митрофановна? — поинтересовался оперуполномоченный уголовного розыска.
— К сожалению, будет не раньше чем часа через два, — поспешно ответил инженер. — И если вы к ней…
— Нет-нет, — перебил капитан, радуясь, что избежит-таки встречи со Сторожук. — Я к вам.
— Да, да, понимаю! — нервно заёрзал на табурете хозяин. — Я перед вами страшно виноват! Но, честное слово, Виктор Павлович, я… я…
Гриднев хотел ещё что-то сказать, но, видимо, от сильного волнения не нашёл подходящих слов.
— Ладно, что уж, — отмахнулся капитан, которому неприятно было возвращение к прошлой истории.
Но Гриднева, вероятно, мучили угрызения совести, и он, заикаясь и волнуясь, поведал Журу о том, как познакомился с Орысей на прошедший Новый год у Ярцевых и влюбился в неё без памяти. Он забрасывал её письмами в Трускавец, в которых умолял Оресту выйти за него замуж, но она ни разу даже не удосужилась ответить. Потом он узнал, что предмет его страсти перебрался из Прикарпатья в Москву. След затерялся. Гриднев уже отчаялся когда-нибудь увидеть Орысю, но вдруг однажды, в начале ноября, встретил в Средневолжске возле детского садика, куда ходит сынишка Сторожук Дима. Ореста, конечно, сразу узнала инженера. Разговорились. Оказывается, она только что с поезда, остановиться негде, Гриднев тут же предложил ей свою комнату, которую дали ему на предприятии буквально неделю назад. И, о чудо, Орыся приняла его предложение! Однако ещё большим чудом, в которое Федор не может до конца поверить до сих пор, было её согласие стать его женой.
— Вы, как мужчина, должны понять! — с горячностью оправдывался инженер. — Я совершенно не отдавал себе отчёта, когда увидел избитую Орысю… Попадись мне в тот момент, кто её так, задушил бы собственными руками! — Он показал кисти с растопыренными сильными пальцами.
— Вы думаете, Роговой отвязался от Оресты окончательно? — спросил Жур, переводя разговор в нужное русло. — Она не говорила, не появлялся ли он в эти дни?
— Пусть только появится! — грозно произнёс электронщик. — А ей наказал, чтобы сразу же сообщила мне! И вообще, предупредил Орысю, чтобы не ходила одна по улицам и никого не пускала в дом. Сегодня уговорила отпустить её в детсад, по Димке соскучилась. — Он вздохнул. — Не мог отказать…
Гриднев посетовал на то, что бывший муж Сторожук не хочет отдать ей сына. Инженер пытался побеседовать с отцом Димки, но тот даже слушать не пожелал об этом.
— Я бы обеспечил семью, — заверил Гриднев. — И ещё как! Заказов — не успеваю справляться! — Он кивнул на заваленный верстак.
— Каких заказов? — спросил капитан.
— Я ведь помимо основной работы вступил в кооператив, — пояснил инженер. — «Комфорт» называется, может, слышали?
— Нет.
— В «Вечернем Средневолжске» все время даём объявление.
— И чем занимается ваш «Комфорт»?
— Само название говорит — чем, — ответил Гриднев. — Например, делаем автоответчики, или, как ещё говорят, электронные секретари. Обыкновенный магнитофон с соответствующим устройством. В ваше отсутствие отвечает на телефонные звонки и записывает, что хотят вам сообщить.
— Знаю, — кивнул Виктор Павлович. — Видел такую штуку у одного знакомого.
— Ну, ещё электроплиты и стиральные машины с заданной программой, замки на входных дверях, открывающиеся только на голос хозяина, дистанционное управление к телевизорам… Словом, внедряем в быт последние достижения электроники.
— Но ведь все это выпускает промышленность, — заметил Жур.
— Увы, пока только в единичных экземплярах, для выставок, — усмехнулся Гриднев. — А в каком магазине вы увидите на прилавке вот это? — Он взял со своего импровизированного верстака какой-то незаконченный прибор и показал Виктору Павловичу. — Что напоминает?
— Обыкновенная телефонная трубка, — ответил капитан.
— Да, телефонная трубка, но не обыкновенная! Действует в радиусе двух километров от аппарата. Так что можете гулять с ней в кармане, возиться в саду, пойти в магазин — телефонный звонок не провороните.
Гриднев по-прежнему избегал взгляда капитана.
«Все ещё чувствует себя виноватым? — думал Жур. — Или же считает, как японцы, что смотреть в глаза собеседнику невежливо?»
— Удобно, не правда ли? — Инженер положил прибор на место.
— Ещё бы, — согласился капитан.
— Если желаете заиметь, можете сделать заказ в «Комфорте», — улыбнулся электронщик.
— А Глеб Ярцев заказывал вам различные устройства тоже через кооператив? — неожиданно спросил Жур.
— Нет, — спокойно ответил Гриднев. — «Комфорт» действует всего полтора месяца. — И поинтересовался, в свою очередь: — Какие именно устройства вы имеете в виду?
— Хотя бы радиопередатчик и приёмник к нему в виде очков. Помните?
— Разумеется.
— А для чего это предназначалось, вам известно? — продолжал расспрашивать капитан, удивляясь невозмутимости инженера.
— Конечно, Глеб был заядлый картёжник, но очень не любил проигрывать…
И Гриднев поведал Виктору Павловичу историю, которую капитан уже слышал от Елены Ярцевой.
— Честно говоря, — продолжал Гриднев, — я не мог понять Глеба. Вроде бы интеллигентный человек, будущий учёный — и так увлекаться картами!.. Я так и сказал ему. А Глеб привёл слова Пушкина: мол, страсть к игре есть самая сильная из страстей! Короче, я посоветовал Глебу лечиться. Он засмеялся, говорит, от этого не лечат. Тогда я показал ему заметку в журнале о том, что в Америке такую клинику открыли, и в первый же год в неё поступило двести пациентов. Из тех, кто не может жить без рулетки, карт и прочих азартных игр. Причём сто восемьдесят человек избавились от этого полностью!
— Ну а для чего вы сами потакали его увлечению? — спросил Жур. — Сделали даже шулерское приспособление…
— Так уж и шулерское, — смутился инженер. — Просто думаю: пусть потешит самолюбие.
— Не только самолюбие, — усмехнулся капитан. — Но и свой карман.
— Как? — испуганно посмотрел на Жура Гриднев.
Виктор Павлович дал ему ознакомиться с показаниями Елены.
— Ну, Глеб! Ну, лицемер! — возмутился электронщик. — Так надуть меня! Да и Ленка хороша! А я верил! Даже в мыслях не было!
— Но ведь вы делали для Глеба и другие приспособления, — заметил Жур.
— Да. Например, смастерил ему вот такую штуку, — Гриднев показал на незаконченную телефонную трубку. — И дома у них немало моих приспособлений. Бар, который открывается от голоса, защитная сигнализация, если будут лезть воры. Это по просьбе Елены, после того как у неё увели бабкин гарнитур. Вы знаете об этой истории?
— Знаю, — кивнул Жур. — Ещё что вы для Ярцева сделали?
— Планы были грандиозные! — Гриднев вскочил, поставил табурет к «стенке», достал с самого верха искусно выполненный макет какого-то здания и водрузил на стол. — Вместе с Глебом сочинили…
— Что это?
— Загородная вилла, — ответил инженер. — Глеб мечтал отгрохать где-нибудь на берегу подмосковного водохранилища… Дом из двадцать первого века! Сплошная электроника!..
— Он что, разбирался в ней?
— Ни в зуб ногой! — замотал головой Гриднев. — Толкал идеи. Ну а воплощение было за мной.
«Пора!» — решил оперуполномоченный уголовного розыска и предъявил инженеру фотографию устройства, что было на теле покойного аспиранта.
Его уже исследовали в Институте судебных экспертиз, однако для чего оно было сделано каким-то кустарём, эксперты ответить не смогли. Чикуров делал запрос даже в КГБ, откуда ответили, что на шпионское оборудование сия аппаратура не похожа.
— Знакомо? — спросил капитан.
— Моя работа! — не без гордости ответил Гриднев.
— По заказу Ярцева?
— Последнее, что просил Глеб сделать, — со вздохом ответил инженер.
— Объясните, пожалуйста, что представляет собой эта аппаратура? — попросил Жур. — Для чего применялась?
Гриднев придвинул к себе снимок.
— Собственно говоря, это не что иное, как ультрафиолетовый излучатель.
— Подробнее, пожалуйста, — сказал Жур.
— Хорошо… Вот видите пояс с кармашками? Это блок питания. Состоит из двухсот двадцати элементов типа триста шестнадцать УРАН. Элементы соединены последовательно и дают анодное напряжение в триста вольт. Пояс надевался прямо на тело. От блока питания идёт соединительный кабель. Он кончается разъёмом, — водил по снимку пальцем Гриднев. — Посредством вилки соединяется с этой коробочкой, внутри которой смонтирован однополупериодный выпрямитель. Я толково объясняю?
— Вполне. Продолжайте.
— От выпрямителя идёт ещё один многожильный провод, но уже к выключателю. Выключатель помещался в левом кармане брюк. От него под рубашкой проходил третий, последний кабель. Он соединялся с самым главным устройством, смонтированным на латунной пластинке, которая была зашита внутри манжеты правого рукава. Устройство это — ламповый высокочастотный генератор, на конце которого находится ВЧ-контур. А внутри контура помещена ультрафиолетовая безэлектродная лампа в светонепроницаемом футляре из чёрной бумаги. На выходе футляра находился светофильтр… Вот и все!
— Принцип действия? — спросил капитан, который не хотел пока лезть во все тонкости.
— Если включить прибор и направить ультрафиолетовое излучение из той лампочки на определённое вещество, то оно будет люминесцировать под светофильтром зелёным светом, — ответил инженер. — Например, вы можете пометить этим веществом какой-нибудь предмет. При обычном свете метка не видна! Но стоит направить излучение этой лампы в рукаве рубашки — и вы увидите метку, а окружающие нет.
— Насколько я понял, устройство должно быть спрятано под одеждой, так?
— уточнил Виктор Павлович.
— Разумеется, — усмехнулся Гриднев. — В этом вся и хитрость!
— Ну а для чего оно понадобилось Глебу Ярцеву?
— Фокусы всякие показывать! Понимаете, у нас был на гастролях Юрий Горный. Он умеет отгадывать мысли, находить спрятанные кем-нибудь из публики предметы и так далее, — рассказывал электронщик. — Глеб побывал на его выступлении, прибежал ко мне и предложил идею этого устройства. В общих чертах, конечно. Для карточных фокусов. Изюминка состояла в том, чтобы работать одному, без напарника. Я просидел ночь, и наутро схема была уже готова. Бери детали, паяльник и монтируй! Работы дня на три-четыре, не больше. Но Глеб сказал, что надо успеть до его отъезда в Южноморск, то есть послезавтра… Ладно, говорю, постараюсь, но только для надёжности нужен драгметалл на контакты. Их здесь очень много: и тут, и тут, и здесь… — тыкал пальцем в снимок Гриднев.
— Какой именно драгметалл? — поинтересовался Жур.
— Серебро, — ответил инженер. — А золото — ещё лучше! Глеб, не долго думая, достал из кармана золотой браслет. Хватит, спрашивает, на контакты? Я говорю: с маковкой! Ну а оставшееся золотишко и камешек, говорит он, оставь себе. Ну, как бы плата за работу… Я, естественно, запротестовал: зачем мне лишнее? Не хапуга ведь какой-нибудь! Глеб смеётся: потом, говорит, сочтёмся! Сколько раз, мол, ты старался для меня бесплатно. И верно, было такое. Короче, выложился я полностью. За двое суток дай бог если на пару часов прикорнул. В Южноморск Глеб улетел с этой штуковиной… Расставались на месяц, а вышло — навсегда.
Гриднев тяжело вздохнул.
«Неужели он на самом деле такой наивный человек? — думал Виктор Павлович, глядя на загрустившего инженера. — Или морочит мне мозги?»
Жур был почти уверен, что при помощи этого устройства Ярцев выкачал, наверное, немало денег у партнёров по стосу и деберцу.
— Ну а браслет остался у меня на память, — печально произнёс Гриднев.
— А контакты как же? — полюбопытствовал капитан.
— У меня не поднялась рука на эту красоту! — Гриднев снова вскочил, открыл один из ящиков «стенки» и стал копаться в нем. — Работа — загляденье! По-моему, старинная. А на контакты я пустил парочку золотых дисков, которые мама берегла для зубных коронок. Вы бы знали, как обрадовалась Орыся, когда я подарил ей этот браслет! — Инженер счастливо улыбнулся. — Вот и думаю, а не был ли это окончательный, решающий момент, что она согласилась выйти за меня? — пошутил он.
Гриднев тщательно обследовал весь трельяж, тумбочку под телевизором, но браслета так нигде и не обнаружил.
— А может, на Орысе? — высказал предположение Жур.
— Да нет, — отмахнулся инженер. — Перед кем форсить? И вообще она его ещё никуда не надевала. Только пару раз нацепила дома для себя. Уж больно ей камень нравится. Александрит называется. Видели такой?
— Александрит? — повторил Виктор Павлович. — Вроде не приходилось…
Он вдруг подумал, что где-то слышал или читал об этом камне. Причём совсем недавно.
— При разном освещении меняет цвет, — пояснил Гриднев. При электричестве — один, на солнце — другой, в сумерках — третий. И что ещё здорово в этом браслете — чёрная эмаль. Сочетание получилось просто великолепное.
При слове «эмаль» капитан вдруг вспомнил: на браслете из похищенного у Елены Ярцевой гарнитура тоже была эмаль чёрного цвета. И александрит!
— А вы не смогли бы подробнее описать браслет? — попросил он инженера.
— Ну такой, не очень широкий… — начал было Гриднев, но тут же предложил: — А может, я нарисую? Привычней как-то.
— Ещё лучше, — кивнул Виктор Павлович.
Инженер отыскал среди деталей на верстаке блокнот, авторучку и быстрыми уверенными движениями сделал набросок украшения. Причём в нескольких ракурсах. Словно чертёж, готовый для исполнения. И сопроводил толковыми лаконичными надписями, где камень, где застёжка, где эмаль.
«Удивительно смахивает на тот, Леночки Ярцевой!» — отметил про себя Жур.
Теперь уже было не до личных обид, ему очень захотелось встретиться со Сторожук и глянуть на браслет.
— Я прихвачу с вашего разрешения? — показал на рисунок в блокноте капитан.
— Ради бога! — Гриднев вырвал листок и протянул капитану. — А что это он вас так заинтересовал?
— Проверить надо… — неопределённо ответил Виктор Павлович, пряча чертёж.
Мимо окна промелькнула знакомая женская фигура. Заметил Оресту и Гриднев.
— Странно, — сказал он. — Что-то рановато возвратилась.
А в коридоре уже слышались её шаги. Потом дверь стремительно распахнулась.
— Представляешь, Димка заболел! — расстроенно выпалила с порога Сторожук и осеклась, увидев капитана.
— А у нас вот Виктор Павлович, — смущённо сказал Гриднев.
— Здравствуйте, — выдавила из себя Ореста.
— Здравствуйте, — ответил капитан.
Молодая женщина топталась на месте, не зная, как вести себя дальше. Выручил Гриднев. Он подскочил к ней, помог снять шубу, расспрашивая, что с сынишкой.
— ОРЗ, — ответила Сторожук. — Отец звонил в садик, что Дима слёг с высокой температурой.
Поохав и посочувствовав, Федор спросил:
— А куда ты положила браслет?
— Какой? — в свою очередь задала вопрос Ореста, и Жур уловил в её голосе испуг.
— Господи, как будто у тебя их десять, — проворчал Гриднев. — Который я тебе подарил, с александритом.
— Ну да, с александритом, — словно эхо повторила Сторожук. — Не помню где…
И она принялась искать браслет там же, где и хозяин квартиры. Успех был одинаков. Сторожук даже зачем-то обшарила сумку, с которой ходила в детский сад.
«Тут что-то не то», — решил оперуполномоченный уголовного розыска, наблюдая за её лихорадочными усилиями. В действиях женщины легко улавливалось смятение и неестественность.
— Простите, Федор, — обратился Жур к Гридневу, — мне нужно кое-что спросить у Оресты Митрофановны… Наедине.
— Да, да, пожалуйста! — сказал инженер, поспешно надевая пальто и шапку. — Я пока за хлебом сбегаю.
Схватив хозяйственную сумку, Гриднев вышел. Оставшись со Сторожук, Виктор Павлович некоторое время внимательно смотрел ей в глаза. Ореста не выдержала, отвела взгляд.
— Всего один вопрос, — строго сказал Жур. — Где браслет?
— У Сергея, — не поднимая головы, тихо ответила она и добавила: — У Барона.
— Когда отдали и зачем?
— В тот день, когда избил меня. Он заставил отдать все драгоценности, которые дарил ещё в Трускавце. Они лежали в шкатулке. Вместе с браслетом… Он взял и его…
Капитан оформил её показания протоколом. Вернулся Гриднев. Жур попросил инженера подъехать вместе с ним в горуправление внутренних дел.
— Для чего? — испугался электронщик.
— Не волнуйтесь, — успокоил его Виктор Павлович. — Проведём опознание, и вы свободны.
Действительно, Гриднева долго не задержали. По фотографии в деле он сразу же узнал браслет, который достался ему от Ярцева, а теперь перешёл в руки Рогового-Барона.
— Ну, Виктор, ты молоток! — похвалил капитана Воеводин, когда Гриднев ушёл. — А версия-то моя подтверждается! Ясно как божий день, что Глеб имел отношение к краже драгоценностей у жены.
— Во всяком случае, знал, кто это сделал, — более сдержанно высказался Жур.
— У меня, между прочим, тоже кое-что имеется! — продолжал ликовать Воеводин. — Ознакомься.
Он дал Журу заключение судебной экспертизы, в которой говорилось, что золото, из которого сделан кулон, подаренный Ярцевой Скворцовым-Шанявским, идентично золоту перстня, оставшегося у Елены от похищенного гарнитура. Бриллианты тоже идентичны.
— Выходит, и моя версия подтвердилась, — улыбнулся Виктор Павлович. — Скворцов-Шанявский преподнёс Леночке не копию, а оригинал!
Вскрывшиеся факты были настолько важными, что Жур решил немедленно довести их до сведения Чикурова и позвонил в Москву.
Поистине это оказался день сюрпризов. Выслушав Виктора Павловича и поблагодарив за интересную информацию, Игорь Андреевич, в свою очередь, сообщил, что задержан Эрнст Бухарцев.
— В Крыму? — спросил капитан.
— Представьте себе, нет. Хотя Латынис был уверен, что бывший шофёр Скворцова-Шанявского вынырнет где-то под Симферополем… Бухарцев залетел в сети в Южноморске.
— Каким образом его взяли?
— Подробности узнаете в Москве, — пообещал Чикуров.
Чикурова разбудили шумная возня и трепыхание крыл, доносившиеся из открытой форточки. Он открыл глаза и обрадовался: в кормушке за окном жировали свиристели.
Птичью столовку повесил сам Игорь Андреевич и следил, чтобы она никогда не пустовала, насыпая туда хлебные крошки, пшено, рис и даже кусочки сала — излюбленное лакомство синиц. Наложил он и тугих замёрзших гроздей рябины — основного корма свиристелей, вертлявых, бойких птиц с трогательными хохолками, которых особенно любил. В эту зиму они ещё не появлялись в Москве. И вот пожаловали.
Покончив с завтраком и помыв посуду, Игорь Андреевич поехал на работу. В прокуратуре его уже дожидался Кичатов.
— Когда из Львова? — спросил Чикуров, обмениваясь с подполковником крепким рукопожатием.
— Поезд пришёл в пять утра, прокантовался на вокзале, — ответил Дмитрий Александрович и без лишних слов приступил к главному: — Как вам нравится сюрприз Рогового? Это же надо, под своим именем похоронить женщину!
— Откуда труп? Где достал справку о своей смерти? Кто помогал Роговому? Ведь нужно было сделать соответствующий грим, организовать захоронение? — забросал вопросами коллегу Игорь Андреевич.
— Всем этим занимаются местные товарищи, — ответил Кичатов. — Чтобы распутать клубок, придётся им попотеть.
— Ну и шляпа этот трускавецкий Костенко! — покачал головой Игорь Андреевич.
— Сейчас старается вовсю, чтобы замолить свои грехи, — улыбнулся Кичатов. — И кое-что ему удалось распутать. К примеру, окончательно прояснилась картина, почему и как был убит Сегеди. Помните? Фотограф, у которого Ореста Сторожук работала «медведем»?
— Да, да. Ну и…?
— Так вот, Сегеди был доверенным лицом Рогового-Барона и занимал довольно важное место в преступной шайке. Ведь вам известно, чем они занимались: производили фальшивые золотые кольца и сбывали их доверчивым покупателям. Металл, из которого были сделаны кольца, по удельному весу и по виду походил на золото. Они даже ухитрились ставить пробу. Между прочим, обручальные кольца, что нашли в гробу на Лычаковском кладбище, такие же, фальшивые.
— Странно, — удивился Чикуров. — Спрятать на чёрный день сберкнижки — понятно, но копеечные украшения!
— Мне это тоже не совсем ясно, — согласился с коллегой Дмитрий Александрович. — Собственно, из-за колец так трагически и кончил фотограф. Помните, я вам рассказывал историю с канадской родственницей Оресты Сторожук? Ей здешняя родня подарила кольцо, а оно оказалось фальшивым.
— Разумеется, помню.
— Купили-то его у Сегеди! И когда милиция вышла на фотографа, Роговой его убрал. Чтобы тот не раскололся, — рассказывал дальше Кичатов. — Как и предполагал Костенко, убил Сегеди действительно Пузанков, который пришёл к нему в женском обличье.
— А почему этот Пузанков имел кличку Чёрная вдова? — поинтересовался Игорь Андреевич.
— Пока не установили. Но зато стало известно, что фотограф Сегеди никогда не баловался «травкой», а сигареты с гашишем подложил ему в карман Пузанков. Чтобы сбить с толку следствие: мол, накурился наркотика и выбросился из окна сам.
— Идея Барона?
— А чья же! — хмыкнул подполковник. — Роговой исчез даже из тех мест, чтобы на него не пало ни тени подозрения. В день убийства Сегеди он кутил с Орестой Сторожук в Ужгороде.
— Опять Сторожук! — вырвалось у Игоря Андреевича.
— Да, опять. Роговой, говорят, был в неё влюблён до безумия, ревновал как Отелло! Грозил убить, если она сойдётся с другим… Когда Барон почувствовал, что милиция вот-вот прищемит ему хвост, он приказал Оресте смыться из Трускавца куда-нибудь подальше. Боялся, видимо, что через Сторожук могут выйти на него.
— Смотри-ка, все предусмотрел, — заметил Игорь Андреевич.
— Да нет, далеко не все, — возразил Кичатов. — Хотя бы то, что Ореста попадёт в сети старого ловеласа Скворцова-Шанявского.
— Они были знакомы? — спросил Чикуров. — Я имею в виду Барона и этого овощного дельца?
— До происшествия в Южноморске вроде и знать не знали друг друга, — сказал Кичатов. — А вот потом — неизвестно. Как и то, где может в настоящее время находиться Роговой.
За обсуждением этого вопроса и застал следователей майор Латынис. Ян Арнольдович приехал в Прокуратуру республики прямо из аэропорта Внуково. И первым делом поинтересовался, доставлен ли в Москву Бухарцев.
— Ещё вчера, — ответил Чикуров.
— Как же так? — подколол Латыниса Кичатов. — Ждали Бухарцева в одном месте, а он…
— Я уже докладывал Игорю Андреевичу по телефону, — сказал оперуполномоченный уголовного розыска.
— А теперь просветите, пожалуйста, его, — кивнул на коллегу Чикуров. — Я не успел ввести в курс дела.
— Знаете, Дмитрий Александрович, почему я предполагал, что Бухарцев объявится в Крыму? — начал объяснять майор. — Мародёрство под Симферополем не кончилось…
— Даже после опубликования в газетах? После судебных процессов? — удивился подполковник.
— Как это ни прискорбно, но факт, — вздохнул Латынис. — Мародёров судят, общественность возмущается, а кощунство продолжается! Представляете, ров с расстрелянными людьми взяли даже в бетон, как бы в саркофаг, но кое-кто ухитряется докапываться до останков! Роют по ночам, с фонариками, выламывают золотые коронки из праха! Самое страшное, среди мародёров немало молодых людей.
— Уму непостижимо! — возмутился Кичатов. — До какого же предела мы дошли, если стало возможно такое.
— Да, — мрачно согласился с ним Чикуров. — Дальше некуда.
И каждый молчал, думая о своём.
— Вот я и решил, — нарушил тишину Ян Арнольдович, — если Бухарцев сам добыл гарнитур Киструсовой — Сапожниковой из захоронения, то, возможно, он появится под Симферополем снова. Первая часть моего предположения подтвердилась, а вот вторая… — Он виновато улыбнулся. — Сижу я в Крыму, жду, как говорится, у моря погоды, и вдруг коллеги из Южноморска сообщают, что Бухарцева задержали возле дома Дончикова. И знаете с чем? С золотишком, добытым из могил.
— Опять из могил? — вскинул брови Кичатов.
— Опять, — подтвердил майор. — Правда, на этот раз Бухарцев грабил останки убитых фашистами мирных жителей в Белоруссии и Прибалтике. Там ведь тоже немало страшных рвов. Задержал Бухарцева наружник, дежуривший у дома Дончикова, опознал его по приметам, указанным в ориентировках, разосланных из тех республик, где говорилось о нескольких случаях мародёрства и давалось описание внешности мародёра… Нужно заметить, Бухарцева описали довольно точно…
— Значит, поехать ещё раз в Крым за добычей он побоялся? — уточнил Кичатов.
— Видимо, так, — кивнул Латынис. — Опасался, что нарвётся на засаду у захоронения под Симферополем, а попался там, где и не предполагал.
— Хорошо, — сказал Чикуров. — Теперь, Ян Арнольдович, пожалуйста, о Блинцове.
— Взят под стражу.
— Наконец-то, — вырвалось у Кичатова. — Давно пора!
— Блинцов, как я понял, до последнего не верил, что арестуют, — продолжил майор. — Когда его брали, знаете, что он заявил начальнику ОБХСС? Мол, будь это два года назад, то загремел бы за решётку сам начальник, а не он, Блинцов.
— Откуда такая самоуверенность? — усмехнулся Игорь Андреевич.
— В горисполкоме его прикрывали как только могли.
— Кто конкретно?
— Зампредседателя, — сказал оперуполномоченный уголовного розыска. — Спросите почему — отвечу. Оказывается, в своё время Блинцов построил ему особняк. Бесплатно, считай, — тот отделался лишь банкетом в честь Блинцова. Управляющий трестом, естественно, внакладе не остался: дочь его в нарушение всех законов получила квартиру. Представляете, студентка, одна, не замужем, а отхватила трехкомнатную! И это при том, что в Южноморске на получение жилья стоят в очереди по двадцать лет!
— Ну а что зампредседателя? — поинтересовался Кичатов.
— Сняли с работы, против него возбуждено уголовное дело… Нужно сказать, в отношении него и Блинцова проявил принципиальность городской прокурор.
— Измайлов крепкий мужик, — согласился подполковник. — Такого на кривой не объедешь… — И спросил, что известно Блинцову о трагедии в устье Чернушки и её участниках.
По словам Латыниса, управляющий стройтрестом знал лишь Варламова, а что произошло возле горы Верблюд в роковую ночь, ему якобы неведомо.
Латынис отправился устраиваться в гостиницу, а следователи засели за работу — нужно было основательно подготовиться к допросу Бухарцева.
Бывший шофёр Скворцова-Шанявского был высок, ладен, с вполне нормальным, даже симпатичным лицом. Джинсы-варенки, чёрный свитер под горло. И не подумаешь, что мародёр.
«Как он мог, такой молодой, здоровый, копаться по ночам в могилах, обирая покойников?» — думал Чикуров, глядя на Бухарцева.
Игорю Андреевичу никак не удавалось отделаться от чувства брезгливости, хотя он на это не имел права. Впрочем, Кичатов испытывал то же самое.
Перекрёстный допрос они провели в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы, и начал Чикуров с того, как и когда Бухарцев познакомился со Скворцовым-Шанявским.
По словам допрашиваемого, свёл его с «профессором» Алик Еремеев. С ним Бухарцев учился в институте физкультуры и имел в чем-то схожую судьбу. Оба не закончили вуз, оба погорели. Еремеев на подпольном кружке каратэ, а Эрнст на том, что участвовал в преступной группе, которая восстанавливала автомобили иностранных марок и спекулировала ими на Кавказе. Учитывая личность парня и чистосердечное раскаяние, суд приговорил его к условному наказанию. Карьера Бухарцева как боксёра (а он был уже мастером спорта и кандидатом в сборную республики) бесславно рухнула. Его дисквалифицировали и отлучили от большого спорта раз и навсегда. Правда, Бухарцев отлично водил автомобиль, но перспектива всю жизнь крутить баранку автобуса или самосвала, а в лучшем случае — персональной «Волги» его не устраивала. Он был уже испорчен лёгкими доходами от автомобильного бизнеса.
Узнав, что приятель болтается без дела и без гроша в кармане, Еремеев предложил пойти шофёром к Скворцову-Шанявскому.
— На зарплату нынче живут одни дураки, — сказал Эрнст.
— Не волнуйся, помимо основной ставки тебе и навар будет, — пообещал Еремеев. — И хороший!
— Левачить? — усмехнулся Бухарцев. — Да если я хоть раз попадусь, тут же упекут в колонию! Не забывай, на мне висит условный срок!
— Да не бойся ты! — успокоил его Еремеев. — Левачить не придётся. Просто по совместительству будешь у Валерия Платоновича как бы телохранителем.
Бывшая надежда республиканского бокса согласился. И, честно говоря, не знал, что же было главным, а что «по совместительству». Возить Скворцова-Шанявского или оберегать его драгоценную жизнь?
Платил «профессор» из своего кармана…
— Вы знали, чем он на самом деле занимается? — спросил Чикуров.
— Сначала нет, — ответил Бухарцев. — Да и зачем было интересоваться? Работа непыльная, башли — иной директор столько не получает! Правда, ездить приходилось много. То на Юг, то на Север, то в Прибалтику. Но останавливались всегда в лучших гостиницах, харчились в самых дорогих кабаках. Престижность нужно было соблюдать… Помотался я с ним полгодика, понасмотрелся, с кем встречается, понаслушался, о чем говорит с людьми, вот тогда и смекнул что к чему.
И Бухарцев рассказал о том, что уже было известно следствию, — о фруктово-овощном бизнесе Скворцова-Шанявского. Сам же Эрнст, по его утверждению, к этому делу никакого отношения не имел.
— Для чего вы возили своего шефа в декабре прошлого года в Средневолжск? — задал вопрос Кичатов.
— Там у Валерия Платоновича был знакомый, — ответил Бухарцев. — Заправлял в областном агропроме. Он поставлял моему патрону ценную информацию, ну и по возможности помогал чем мог.
— За деньги или просто так, по дружбе? — поинтересовался Дмитрий Александрович.
— За просто так теперь и прыщ не вскочит! — усмехнулся Бухарцев и, как бы упреждая уточняющие вопросы, сказал: — А вот как они там договаривались с Валерием Платоновичем, о чем, ей-богу не знаю! Без меня было…
— А где вы проводили время, когда Скворцов-Шанявский занимался своими делишками? — словно бы невзначай поинтересовался Чикуров.
— Да где придётся. Или в номере ждёшь, когда позовёт, или же, если шеф предупредит, что не понадоблюсь до такого-то времени, — махнёшь в кино…
— Ну а двадцать пятого декабря? — спросил Кичатов. — Вечером, когда Скворцов-Шанявский ужинал в ресторане «Россия» с тем агропромовским начальником?
— Двадцать пятого, двадцать пятого… — Эрнст наморщил лоб.
— Могу уточнить, — добавил Чикуров. — От шести тридцати до начала десятого вечера.
— Так когда это было! Год, считай! — Бухарцев отвёл глаза и пробормотал: — Не помню.
— Вспомните, пожалуйста, получше, — попросил Игорь Андреевич.
— Да, да, — более категорично, чем руководитель следственно-оперативной группы, потребовал Кичатов. — Как вы очутились в квартире Глеба Ярцева на Большой Бурлацкой улице, где похитили драгоценности его жены?
— Я? — растерялся Бухарцев.
— Вы, вы, — подтвердил подполковник. — Больше некому. У Скворцова-Шанявского — алиби, у Глеба — тоже…
Чикуров несколько удивился напору Дмитрия Александровича: они договаривались по-другому. Но возможно, Кичатов лучше почувствовал обстановку и состояние Бухарцева, вот и гонит лошадей?
— Кто вам дал ключ от квартиры? — наседал Кичатов.
И вдруг совершенно неожиданно для Игоря Андреевича (впрочем, для Кичатова тоже) допрашиваемый признался:
— Ключ мне дал сам Ярцев. — И видимо, боясь, что ему не поверят, затараторил: — Честное слово! Утром дал! Специально приехал за мной в гостиницу. Подвёз на своей «Ладе» к их дому, показал подъезд, этаж…
— Постойте, — жестом остановил его Чикуров. — Вы что же, хотите сказать, что Ярцев попросил вас обворовать себя?
— Господи, почему же обворовать! — покрываясь от волнения красными пятнами, воскликнул Бухарцев. — Какой это грабёж, если хозяин лично просит зайти к нему в хату ровно в семь пятнадцать вечера, взять из трельяжа кое-какие золотые цацки и отдать их в его собственные руки?
— Но ведь цацки, как вы выразились, принадлежали не Глебу, а Елене, — заметил Дмитрий Александрович.
— Муж и жена — одна сатана! — отпарировал Эрнст. — Если они расписаны, конечно. А Ярцев мне даже штамп в паспорте показал.
— Поднялись вы, значит, к ним в квартиру, — продолжал допрос Чикуров,
— взяли из футляра гарнитур…
— Точно, — кивнул Бухарцев. — На футляре ещё буковки золотые «Л.Г.»… Только не все было на месте, колечко отсутствовало. Оказывается, Ленка нацепила. Это мне потом Ярцев объяснил… А я взял серёжки, кулон и браслет.
— Тут зазвонил телефон, — подсказал Кичатов.
— И это правильно, — подтвердил Бухарцев. — Баба какая-то Ленку спрашивала. Ну, я сказал, что они на концерте Антонова. Вот и все… Я поехал в гостиницу.
— Как вы добирались к Ярцевым?
— Один хмырь подкинул, частник. Обратно, в гостиницу, — таким же макаром.
— Так сказать, соблюдали конспирацию, — бросил Чикуров.
— А как же! — не поняв сразу подвоха, откликнулся Бухарцев, но тут же спохватился: — При чем здесь конспирация? Меня так Глеб научил!
— Послушайте, Бухарцев, неужели вы такой наивный человек? — покачал головой Игорь Андреевич. — Ведь это было обыкновенное воровство!
— Какой я вор? — перебил подследственный. — Сами подумайте, взял бы вор трубку, если бы кто-то позвонил во время кражи?
— Ещё похлеще поступают, — сказал Кичатов. — Вы похититель, в этом сомнений нет. Чем бы это ни оправдывали.
Бухарцев в сердцах хлопнул себя по коленям:
— Вот дурак! Набитый дурак! Не хотел же, патрон уговорил!
Он сплюнул и выругался.
— А зачем это им надо было? — спросил Чикуров.
— Валерий Платонович раздел Глеба как последнего лоха!
— В карты, что ли? — уточнил Игорь Андреевич.
— Ну да! В стос играли на квартире у отца Ярцева.
— Сколько же Ярцев проиграл? — спросил Чикуров.
— Насколько я помню, около тридцати тысяч. Вот он и придумал такую комбинацию — расплатиться драгоценностями жены.
— Расплатился?
— С лихвой! Оказывается, я тогда даже лишнее прихватил, — усмехнулся бывший телохранитель «профессора». — Когда шеф показал драгоценности ювелиру, тот оценил их в сорок с чем-то тысяч. Ну, Валерий Платонович и вернул Ярцеву браслет. Как бы сдачу…
«Вот, значит, откуда у Глеба один из предметов гарнитура, очутившийся потом у Гриднева», — подумал Чикуров.
Вероятно, это же пришло в голову и Кичатову, потому что он посмотрел на коллегу многозначительным взглядом.
— А вы сами что имели от этой сделки? — спросил Игорь Андреевич.
— Подумаешь, посидели вечер в кабаке! — зло ответил Бухарцев. — И все!
Игорь Андреевич внимательно посмотрел ему в глаза, потом на руки. Бухарцев вроде говорил правду.
Среди предъявленных для опознания фотографий различных драгоценностей Эрнст безошибочно указал на кулон, браслет и серьги, которые он взял в тот декабрьский вечер в квартире Ярцевых.
— Когда вы расстались со Скворцовым-Шанявским? — продолжил допрос Чикуров. — Я имею в виду, перестали быть его шефом и телохранителем?
— В июне.
— Почему?
— Почему, — повторил с усмешкой подследственный. — Недаром говорят: седина в голову, а бес в ребро. Валерий Платонович весной лечился в Трускавце, ну а когда вернулся, привёз с собой Сторожук. Воспылал, видите ли, любовью… Что ему стукнуло в голову, не знаю, но вдруг приревновал меня к ней страшно. Главное, без всякого повода! И уволил, что называется, без выходного пособия. Да я и сам поскорее отвалил от него: могли так отделать, что на всю жизнь остался бы инвалидом, а то и вовсе отправить на тот свет.
— Как же так? — удивился Кичатов. — Вы боксёр, мастер спорта…
— На ринге уложу кого угодно. И в честной драке. Но ведь среди таких тузов, как Скворцов-Шанявский, честного человека встретишь не чаще, чем жирафа в Арктике.
— Туз — в смысле делец? — уточнил Игорь Андреевич.
— Нет, — мотнул головой Эрнст, — в смысле карточный шулер… За вечер он может спустить или выиграть столько, сколько вам не заработать за пять жизней! И когда нужно расправиться с кем-нибудь, мой бывший патрон запросто найдёт лихих мальчиков… Одурманят тебя из газового пистолета, бросят под электричку — и поминай как звали!
Игорь Андреевич вспомнил допрос Астахова — тот тоже говорил о нравах, царящих среди картёжников. Впрочем, Чикуров и сам немало слышал от своих коллег, расследовавших подобные дела, и знал, что допрашиваемый не врёт. Ещё он подумал: если Бухарцев упоминает «профессора» в настоящем времени, то, выходит, не знает, что Скворцов-Шанявский погиб.
— После того как ушли от Скворцова-Шанявского, куда же вы подались? — задал вопрос Кичатов.
— Пошёл сначала к геологам, — ответил Эрнст. — Думал, оценят мой талант, озолотят. Я ведь могу находить воду, металлы разные. В старое время нас называли рудознатцами… А меня надули.
И Бухарцев поведал следователям историю о том, как он помог найти богатое рудное месторождение, а все лавры его открывателей присвоило себе начальство геологической партии.
— Потом переметнулся к археологам, но и они оказались жлобами, — со вздохом продолжал Бухарцев. — Ведь эти кроты копают наугад. Будет находка или нет — бабушка надвое сказала. А я навёл их на древнее захоронение. При помощи, естественно, моего дара. Сенсация была! Из Москвы прилетел член-корреспондент, все тряс от восторга бородой, старый козёл. «Находка века, находка века!» — передразнил он кого-то и замолчал.
— И что дальше? — поторопил его Чикуров.
— Выперли меня, — хмуро произнёс допрашиваемый. — Тот самый членкор…
— Тоже не захотел делить славу?
— Да нет, пришили мне, будто я спёр нефритового божка.
— Кого-кого? — переспросил Кичатов.
— Ну, вот такую фигурку, — Эрнст показал размер пальцами, — не больше спичечного коробка, из нефрита. Это камень такой поделочный.
— Действительно не брали? — внимательно посмотрел ему в глаза Игорь Андреевич.
Подследственный не выдержал этого взгляда, потупился и негромко ответил:
— А на кой он мне?
«Ой, опять воротит физиономию, — подумал Игорь Андреевич. — Никак врёт?»
— Откуда у вас такие способности — чувствовать в земле металлы и воду?
— задал очередной вопрос Кичатов. — Это что, врождённое?
— Да как вам сказать, — встрепенулся Бухарцев оттого, что следователи не настаивают отвечать на щекотливый вопрос. — И от природы малость, и от бати. Он приучал меня к этому сызмальства. А потом, приспособления разные существуют… Эх, жаль, отобрали у меня при аресте мою рамку, я бы продемонстрировал.
— А что представляет из себя рамка? — поинтересовался Чикуров.
С описью изъятых у Бухарцева вещей следователи были знакомы.
— Ну, такая, наподобие авторучки, — пояснил допрашиваемый.
Действительно, в описи такой предмет упоминался.
— Как она действует? — спросил Игорь Андреевич.
— Понимаете, головная часть рамки на шарнире, и, если в земле находится, к примеру, золото, она сама указывает, что тут находится металл.
— Кто её вам сделал?
— Да никто. Сам. Штука простая, никаких премудростей, — ответил Бухарцев и начал было рассказывать принцип действия, но Игорь Андреевич попросил сделать это письменно, что Бухарцев охотно и выполнил.
На вопрос Кичатова, куда он отправился после археологов, Бухарцев ответил:
— Клады искал. — Заметив недоумение на лицах следователей, он пояснил:
— Это ведь мечта моей жизни — найти сундук с драгоценностями! Но согласен был и на консервную банку с золотыми монетами. Честное слово!.. Самая моя любимая книга — «Остров сокровищ». А сколько у меня разных вырезок о затонувших галионах с полными трюмами золота и драгоценных камней, о богатейших находках захоронений могущественных царей и полководцев! В детстве мечтал: вот откопаю такой клад, и знаете что сделаю? Натрескаюсь от пуза!.. Да, да, — с грустью произнёс Бухарцев. — Сколько себя помню, всегда был голодным. Жили мы не в самой Москве, в Хотькове — это по Ярославской дороге. Батя был неплохой мужик, но пил. От этого и отдал концы — замёрз зимой. И остались мы с матерью одни. На её зарплату не разъешься — учительница. Да к тому же каждый год ей нужно было ездить в Трускавец, лечиться. А не поедешь — загнёшься, почки. Приходилось от своих крох откладывать на лечение. А я рано вымахал. Худющий был как жердь. — Бухарцев тяжело вздохнул. — Словом, пришлось хлебануть… Первый раз я по-настоящему чувствовал себя сытым на сборах, когда готовились к всесоюзным соревнованиям среди юниоров. Ну а потом наступили годы, когда я забыл о голоде. И мечта найти клад постепенно забылась. Но тут вдруг подвернулась книга, которая снова все всколыхнула во мне. Об этой книге мне ещё отец рассказывал. Уникальное, можно сказать, издание. Называется «Запорожская рукопись, указывающая, в каких именно местах и какие сокрыты клады гайдамаками и местными жителями»…
— Из той же оперы, что и «Остров сокровищ»? — не смог сдержать улыбки Кичатов.
— Да нет, — серьёзно ответил Бухарцев. — Автор — солидный мужик, член Русского географического и археологического обществ. Учёный. Фамилия — Сементовский. Книга напечатана в типографии, правда очень маленьким тиражом.
— И где же вы её достали? — спросил Чикуров.
— Выменял у одного человека, любителя всяких старинных штучек…
«Не на того ли нефритового божка из раскопок?» — подумал Игорь Андреевич, но уточнять не стал.
— В ней указывается более трехсот мест, где спрятаны клады, — рассказывал дальше подследственный. — Все на Украине, разумеется. Указаны ориентиры, где искать золотые червонцы. Но видимо, многие исчезли, другие изменились, прошло ведь более ста лет после выхода книги… Короче, мне фортуна не улыбнулась. Как любит говорить мой бывший патрон: фортуна — шлюха, сегодня спит с одним, завтра — с другим.
— Значит, вы ничего не нашли и решили действовать более верным способом? — сказал Кичатов. — То есть отправиться под Симферополь, на место расстрела немцами мирных жителей?
Лицо Бухарцева искривила болезненная гримаса: видимо, об этих «подвигах» говорить ему не очень хотелось. Но теперь уже не скроешь.
— Да, — еле выдавил он из себя.
— Откуда вы узнали о месте захоронения и что там можно поживиться? — спросил подполковник.
— Из газеты.
— Какой?
Бухарцев пробормотал что-то невнятное.
— Громче, пожалуйста! — сказал Чикуров.
— Точно уже не помню… Ну, и поехал я в Крым.
Следователи попросили его рассказать подробно, много ли и что именно он «добыл» из захоронения под Симферополем. Бухарцев набросал список драгоценностей, который занял несколько листов дела, добавив при этом, что, возможно, кое-что он и забыл, но постарается вспомнить позже.
— На это можно кормить досыта целый полк в течение десяти лет, — заметил Игорь Андреевич, пробегая глазами печальную опись. — Не так ли, Бухарцев?
— Да, на этот раз не голод мной руководил! — чуть ли не простонал допрашиваемый. — Другая мечта! Утереть нос Скворцову-Шанявскому! Вы не можете себе представить, сколько унижений и оскорблений вытерпел я от этой гниды! Ей-богу, в старое время баре не позволяли себе вести так со слугами. Вот уж истинно про него: из грязи да в князи… Бывало, что совсем не думал обо мне, ел ли я хоть раз за сутки, спал ли. И попрекал каждой подачкой… Как мне хотелось сесть с ним на равных за карточный стол, этак небрежно швырнуть нераспечатанную пачку сотенных!
— А что, до этого вы не играли со Скворцовым-Шанявским? — спросил Дмитрий Александрович.
— Откуда?! — вытаращился на подполковника Эрнст. — С моими-то копейками против его сотен тысяч? Я вообще никогда не садился играть в карты на интерес. Но вот когда у меня была целая сумка золотишка и камешков, тут уж позвольте-подвиньтесь! Я и махнул в Южноморск. Туда ещё каждую осень съезжались лобовики… Слышали о таких?
— Да, — кивнул Игорь Андреевич. — Боссы среди картёжников.
— Вот-вот! Ну и, конечно, Валерий Платонович! Как же без него обойдётся «коррида», — усмехнулся допрашиваемый. — Надеюсь, и это словечко вам знакомо?
— Естественно, — подтвердил Чикуров.
— Первый удар по моему бывшему шефу был нанесён, когда я снял особняк куда шикарнее его! — продолжал Бухарцев, не скрывая злорадства. — Я пригласил его. Увидел он, как я живу, и чуть жёлчь не разлилась от злости! Как, его бывший холуй обошёл его? Это было для шефа как хороший нокдаун! Но я не даю ему опомниться и предлагаю перекинуться в стос. Ставку заламываю — как настоящий лобовик. Он занервничал, но отказываться было неудобно: как бы я не подумал, что он боится сесть со мной.
— А вы проиграть не боялись? — поинтересовался Кичатов. — Сами же говорили, что Скворцов-Шанявский шулер.
— Это он у себя дома шулер, когда Орыся подглядывала карты партнёров через щёлку в ковре и, зайдя потом в комнату, особыми знаками передавала Валерию Платоновичу.
Следователи переглянулись: о том, что Сторожук помогала Скворцову-Шанявскому обманывать соперников, они слышали впервые.
А Бухарцев тем временем продолжал:
— Ну а тогда мы играли на моей территории. Правда, опыта у меня, считай, никакого. И я проиграл десять тысяч. Шеф похлопал по плечу: прощаю, говорит, долг. Тогда я решил окончательно послать его в нокаут. Знаете как? Вынимаю пачку за пачкой! С банковскими наклейками! И швыряю ему небрежно…
— У подследственного вырвалось торжествующее ржанье. — Кранты! Рефери отсчитал десять раз, и моего патрона унесли с ринга…
— Погодите, — перебил его Чикуров. — Каким образом вы, так сказать, превратили золото и драгоценности в купюры?
— Это было нетрудно, — доверительно улыбнулся допрашиваемый. — Труднее наоборот. Бумажки и есть бумажки! Они могут обесцениваться, а вот драгметалл и камешки со временем только дорожают и для них нет государственных границ!
— Кому же вы продавали, как вы говорите, драгметалл и камешки? — спросил подполковник.
— Да в общем-то в своём кругу. Решилину, например, — ответил Бухарцев.
— Ну и надувал же он меня, этот гений советской живописи! И торговался как базарная баба! — Он сплюнул. — Аж противно! А не хотелось терять своего достоинства: бери, подавись! Вот с Дончаковым было все легче. Тоже прижимистый, но с Решилиным не сравнить.
Продал, оказывается, Бухарцев кое-что из награбленного у покойных тому же Скворцову-Шанявскому, «облепиховому королю» Привалову и кому-то из местных. Как поняли следователи, в карты Эрнсту катастрофически не везло. Да и не могло повезти: разве мог он противостоять шулерам с их изощрёнными методами и приспособлениями? Редкие выигрыши случались у него только тогда, когда он играл со случайными партнёрами на городских пляжах, в парке. На таких катранах ставки были мелкие (по сравнению, конечно, с лобовиками), но зато Эрнст приобретал нужные навыки перед решающим сражением, «корридой». Для неё он держал неприкосновенный запас золотишка, драгоценностей и бумажных купюр.
— И когда состоялось сражение? — спросил Кичатов.
— Вначале предполагалось первого-второго ноября. Но тут Орыся вляпалась в историю: у неё вытащили деньги в автобусе. И она побежала в милицию… Да вы, наверное, знаете об этом?
— Знаем, — кивнул подполковник.
— Скворцов-Шанявский перепугался, что начнут копать: откуда, мол такие барыши? Не дай бог, выйдут на него. Вот и решили поскорее провести «корриду» и разбежаться кто куда… Собрались вечером двадцать первого октября за городом. Место отличное! Хотите — море вам, хотите — речка. Чернушка называется. Вокруг кипарисы, лавры и прочая экзотика. Палатку поставили. Словом, все чин-чинарем…
Здесь допрос пришлось прервать, так как подошло время обеда и Бухарцева увели в камеру.
Встретились с ним следователи вновь через полтора часа. Что им удалось выяснить, лучше всего видно из протокола допроса:
«Чикуров: Что за люди принимали участие в „корриде“?
Бухарцев: Из тех, с кем я был знаком раньше, — Скворцов-Шанявский, Привалов, Ярцев, Варламов и Решилин. Феодот Несторович прибыл с какой-то женщиной, которая все время держалась в сторонке. Мы и раньше слышали, что Феодот Несторович в Южноморске не один, и все гадали: с кем? С любовницей, служанкой?.. А тут увидели её воочию. Я ещё шепнул Ярцеву: ну и краля, ни рожи ни кожи… Должен был принять участие также Жоголь, но он срочно улетел в Москву: мол, у него сердце забарахлило. Но зато Леонид Анисимович порекомендовал нам лоха, которому с ходу дали кличку Философ. Уж больно заумные речи вёл.
Кичатов: А как его настоящее имя?
Бухарцев: Павел Кузьмич. А фамилия — Астахов. Ну и последний — Саша Великанов. Тот самый знаменитый киноартист. Я даже глазам своим не поверил, когда он появился. Думал, будет задаваться, но он оказался простецким парнем, своим в доску.
Чикуров: Кто ввёл Великанова в вашу компанию и когда?
Бухарцев: Еремеев, телохранитель Жоголя. Случилось это ещё в июле, под Москвой, на даче тестя Еремеева.
Кичатов: Кто ещё участвовал в «корриде»?
Бухарцев: Больше никто. Сразу же после приезда Великанова сели за карты. И очень скоро выяснилось, какую подлянку подкинул нам Жоголь. Уверял, что Философ — лопух. Сам Леонид Анисимович раздел его на двадцать четыре тысячи, а у того, мол, ещё полный чемоданчик сотенных… Причём Жоголю даже не понадобилась помощь Вербицкой.
Чикуров: Что вы имеете в виду?
Бухарцев: Жоголь работал в паре с Викторией: заманивали лоха и обдирали как липку. Действовали так же, как и Скворцов-Шанявский с Орысей Сторожук.
Кичатов: В чем же выразилась, как вы сказали, подлянка?
Бухарцев: Каждый из нас надеялся поживиться за счёт этого Астахова, но он сам разделался с нами, как с котятами… Первым вылетел из игры Великанов. Затем Привалов.
Чикуров: Играли в долг?
Бухарцев: На наличные… Я спустил сто девяносто пять тысяч за три часа. Пришлось загнать Решилину за сто двадцать тысяч оставшиеся драгоценности. Отдал прямо с сумочкой… Через полчаса я был совершенно пустой и выбыл окончательно… Варламов проиграл девятьсот семьдесят тысяч, схватился за сердце и пошёл приходить в себя на воздух, в «жигуленок» Привалова… Короче, напоследок остались Астахов и Ярцев. В банке — за три миллиона. Страсти накалялись до предела. Проигравшие следили за борьбой, затаив дыхание, не замечая ни воя ветра снаружи, ни раскатов грома. Главное
— кто кого? Кому достанется куш? И вдруг с жутким гулом сорвало и унесло куда-то палатку! И началось!.. Адский свист, грохот и везде вода — сверху, снизу, сбоку. Не видно ни машины, ни дачи-прицепа… Речка превратилась в бешеный поток, который нёс целые деревья, вырванные с корнем… Меня сбило с ног, поволокло. Я уцепился за какой-то куст.
Чикуров: В котором часу это произошло?
Бухарцев: Точно не помню, но уже рассвело… Тут слышу крик Решилина: «Тимофей, помоги, спаси!» Я удивился: Тимофея среди нас не было. Вдруг вижу Феодота Несторовича. Он из последних сил старался удержаться за ветку дерева. На руке у него висела моя сумочка с драгоценностями. А рядом, на бугорке, стоит та самая женщина, с кем он приехал. Только это была вовсе не женщина, а мужик. Да, самый настоящий мужик. С него парик слетел.
Кичатов: Вы не ошиблись?
Бухарцев: Нет, этого мужчину ранее я видел у Решилина на даче. Он — глухонемой, говорили, что это телохранитель Феодота Несторовича. Только я не понял, зачем нужен был этот маскарад.
Чикуров: Как фамилия, имя, отчество этого глухонемого телохранителя?
Бухарцев: Я знаю только его кличку — Каракурт.
Кичатов: Может быть, все-таки Чёрная вдова?
Бухарцев: Да, его и Чёрной вдовой звали. Скворцов-Шанявский мне сказал, что это опаснейший тип, с ним нельзя связываться ни в коем случае. Я имел случай убедиться в этом на Чернушке. Вместо того чтобы помочь Решилину выбраться из воды, Каракурт выхватил у Феодота Несторовича сумочку с моими драгоценностями и пнул его ногой прямо в лицо. Решилина тут же унесло потоком в море…
Чикуров: А куда делся Пузанков-Каракурт?
Бухарцев: Не знаю. Я сам боролся за жизнь. Чудо, что не утонул. Выбрался из воды, буквально дополз до шоссе, где меня подобрала попутная машина. В тот же день я уехал из Южноморска.
Кичатов: Кого-нибудь встречали из тех, кто участвовал в «корриде»?
Бухарцев: Нет. И вообще мне неизвестно, кто погиб, а кто остался жив. Только читал о смерти Решилина, писали в газетах. Не заезжая в Москву, я уехал в Белоруссию. Дальше вы знаете.
Кичатов: Кто из ваших напарников по картам занимался наркобизнесом? Точнее, торговал гашишем?
Бухарцев: Привалов.
Чикуров: А остальные?
Бухарцев: По-моему, они даже не знали, что у Степана Архиповича есть гашиш.
Кичатов: Вы не помогали Привалову сбывать наркотики?
Бухарцев: Нет.
Чикуров: А что же вы делали в Загорске в конце ноября? Были рядом с матерью и даже не навестили.
Бухарцев: Не поверите, я специально ездил в Загорск, чтобы поставить богу свечку за своё спасение во время смерча.
Кичатов: Как же совместить ваше благочестие и осквернение могил? Ведь это считается одним из самых страшных смертных грехов?»
На этот вопрос подследственный ничего не ответил.
Допрос на сегодня был окончен. Чикуров и Кичатов вышли из Бутырки на улицу.
— Ну что, Дима, — после долгого молчания невесело произнёс Игорь Андреевич (они с подполковником уже стали на «ты»), — здорово мы с тобой, друг ситный, обмишурились по поводу наркотиков, а?
— Это же была только версия, — попытался успокоить его Кичатов. — Причём отработанная добросовестно. — Затем, немного о чем-то подумав, он сказал:
— Жаль, что не удастся допросить Пузанкова. Фигура странная и зловещая. Представляешь, то он глухонемой мужик, то говорящая баба, то нежный муж, а то безжалостный грабитель сберкассы и убийца.
— Потому и кличка у него такая — Каракурт… Кстати, а знаешь, что это значит? — спросил Чикуров.
— Надо бы выяснить.
— Не надо, я уже выяснил.
— Интересно.
— Каракурт и Чёрная вдова — это одно и то же. Паучишка величиной всего с горошину, а валит замертво лошадь и даже верблюда… Очень опасный паучок…
— Но при чем тут чёрная вдова? — не успокаивался Кичатов.
— А при том, что каракуртиха чуть ли не сразу после брачной ночи, когда самец оплодотворит свою возлюбленную, считает его миссию в жизни завершённой и дальнейшее существование бессмысленным, а потому она «собственноручно» отравляет своего незадачливого супруга. Для чего? Для того, чтобы, законсервировав его в паутине, затем полакомиться своим безвременно погибшим возлюбленным… Видимо, тот, кто дал кличку Пузанкову, хорошо знал его сущность.
Расстались на троллейбусной остановке. Кичатову нужно было ехать допрашивать Великанова: утром позвонила Юля Табачникова, та самая врач из Южноморска, которая буквально выходила киноартиста и вчера привезла его наконец домой, в Москву. А Игорь Андреевич отправился к себе в прокуратуру.
— Не прощаемся, — крикнул он коллеге, уже садившемуся в троллейбус. — Жду после Великанова.
Тот согласно кивнул.
Когда Чикуров добрался до проходной прокуратуры, к нему шагнул мужчина в овчинном полушубке и обрадованно проговорил:
— Здравствуйте, Игорь Андреевич!
— Приветствую вас, Яков Гордеевич, — ответил следователь, узнав участкового инспектора из Нижнего Аянкута и пожимая ему руку. — Какими судьбами?
— Да вот, приехал… Поговорить, посоветоваться… — В голосе лейтенанта слышались неуверенные, просительные нотки. — Если, конечно, у вас найдётся время…
— О чем речь — конечно, найдётся!
Через несколько минут они уже входили в его кабинет.
Черемных снял полушубок, оставшись в штатском костюме. Чикуров вспомнил почему-то ночь убийства Листопадовой, когда от свирепого сибирского мороза трескались могучие сосны, и участкового инспектора в трусах и валенках…
— Что следствие? Арестован ли Чекист, то есть Шинкарев, подручный Астахова? — спросил Чикуров.
— Следствие продолжается… А Чекиста взяли на другой день после вашего отъезда. Он не стал запираться и рассказал, что произошло, когда я преследовал их в ту ночь. Пистолет-то был у него, у Шинкарева. Видя, что я нагоняю и им не уйти, Астахов приказал стрелять в меня. Когда Чекист промахнулся, Астахов крикнул: пали в Изольду. Тот выстрелил и попал в беднягу… Пистолет мы обнаружили в снегу. Провели экспертизу. Все верно — Листопадова убита из него. На рукоятке — отпечатки пальцев Шинкарева.
— За что же её?
— Астахов боялся, что Листопадова расколется и заложит его в милиции со всеми потрохами. Выдаст, где схоронена его мошна. А ведь у Астахова было припрятано не меньше, чем у Корейко! Вот, можете полюбоваться…
Черемных достал из кармана пачку цветных фотографий и разложил перед следователем на столе. Пачки крупных купюр, сберегательные книжки, груды перстней, серёг, брошей, кулонов, золотых дисков для зубных коронок, монет царской чеканки…
— Где обнаружили? — спросил Чикуров, разглядывая фотографии.
— У Листопадовой во дворе. Под полом в баньке.
— Это что, казна невидимого града Киникии? — усмехнулся Игорь Андреевич.
— Да. Несчастные бичи, как пчелы, несли отовсюду взяток, рисковали, верили, что Астахов создаст им райскую жизнь. И знаете, что выяснилось? Этот «святой» хотел смыться со всем добром. Даже паспорт поддельный приготовил. Если бы не убийство Листопадовой и арест — его бы и след простыл! Астахов и Чекисту советовал сматывать удочки — милиция на хвост села.
— В каком смысле?
— В райцентре погорели двое астаховских ханыг, — объяснил лейтенант. — На мошенничестве. — Он выбрал одну из фотографий и пододвинул к следователю. — Колечки выглядят совсем как золотые, верно? Даже проба есть… А на самом деле фальшивые!
— Господи, у вас в Сибири тоже дурят честной народ подобными штучками?
— покачал головой следователь.
— А где ещё? — спросил лейтенант.
Чикуров рассказал участковому о Роговом.
— Значит, кличка у него Барон? — вдруг заволновался Черемных.
— Да. Вам она что-нибудь говорит?
— Конечно! По словам Чекиста, фальшивые кольца привёз в Киникию какой-то Барон!
Волнение лейтенанта передалось и Чикурову — неужто отыскался след Рогового?
Чикуров стал расспрашивать о подробностях и все больше убеждался, что речь действительно шла о бывшем лидере прикарпатских уголовников. Совпало описание внешности, манеры Рогового, которые сообщил в своих показаниях Шинкарев. Точку над «и» поставил один из снимков, привезённых Яковом Гордеевичем. Среди изображённых на нем драгоценностей Чикуров узнал браслет Елены Ярцевой. Тот самый, который попал к Оресте Сторожук, а затем — к Роговому.
— Совершенно точно, — сказал Черемных. — Чекист показал, что браслет Астахову продал Барон. Шинкарев ещё вспомнил, что Астахов подшучивал над Бароном: не фальшивый ли, мол, браслет, как кольца? Тот страшно злился…
— А где же теперь Роговой? — спросил следователь.
— Как только запахло жареным, он словно сквозь землю провалился!
— Опять скрылся… Жаль. Ну, в общем-то вы отлично поработали! Спасибо! В Москву небось за наградой пожаловали?
Лейтенант смутился.
— Ну что вы смущаетесь? Считаю, что вам по праву положено.
Только ушёл лейтенант, появился Кичатов.
Они обсудили сведения, привезённые участковым по делу, а затем перешли к Великанову.
— Ну, старина, ты бы артиста не узнал! Худющий, бледный, — рассказывал Дмитрий Александрович. — Постоянно мучают головные боли… Обстоятельного разговора, как ты понимаешь, не получилось. Лишь самое главное.
«…Когда сорвало палатку и хлынула вода, — читал протокол допроса Игорь Андреевич, — я инстинктивно ухватился за надутую автомобильную камеру, которая служила сиденьем. Нас завертело, понесло, но мне каким-то чудом удалось выбраться на сушу. В изнеможении я опустился на камеру и вдруг рядом в море увидел мужчину в юбке, который отчаянно пытался на четвереньках выбраться на берег. У него на запястье болталась кожаная сумочка, та самая, которую до этого я видел у Эрнста Бухарцева. В этой сумочке Бухарцев носил своё золото, а когда проигрался в карты, то эту сумочку он передал Решилину. Увидев её теперь в руках другого, я ещё подумал: „Почему?“ Вцепившись в какой-то кустарник, тот мужчина выкарабкался на берег, но не успел подняться на ноги, как шагах в трех-пяти от него появился другой незнакомый мне мужчина с чёрными пышными усами, чёрной кудрявой головой. В его руке был пистолет, направленный на того, что только что вылез на берег. Раздался выстрел. Мужчина в юбке упал. Я крикнул: „Что вы делаете? Это же преступление!“ Стрелявший, не обращая внимания на мои слова, подбежал к упавшему, выхватил у него сумочку и направился бегом ко мне… Я продолжал стоять на месте, скорее всего, от страха и бессилия перед вооружённым человеком. Когда он был совсем рядом, нас неожиданно накрыла большая волна. Мужчина с пистолетом упал, но тут же поднялся и направил на меня пистолет. Почти в упор. Но выстрела не последовало. Я неоднократно задумывался: „Почему он не выстрелил в меня?“ И всегда приходил к одному выводу: „Оттого, что пистолет побывал в воде…“ Я хотел бежать, но в это время усач ударил меня рукояткой пистолета по голове. В глазах только пучки ярких искр, а потом круги, круги… Потеряв равновесие, я упал в воду. Но, видимо, было мелко, и отнесло меня недалеко. Осталась в памяти картина, как ударивший меня забросил в воду пистолет, схватил спасшую меня надутую камеру и лёжа на ней стал быстро удаляться в сторону моря… Сколько я пролежал на берегу без сознания, не знаю… Очнулся я в больнице. И первое, что увидел: на соседней койке сидит тот самый усач, что ударил меня. От охватившего меня ужаса я снова провалился в бездну. Окончательно я пришёл в себя лишь через несколько дней.
Вопрос. Скажите, за что же вас ударили пистолетом по голове?
Ответ. Видимо, с целью избавиться от свидетеля совершенного преступления.
Вопрос. Какова была цель вашего приезда в Южноморск?
Ответ. Поиграть в карты, а ещё точнее — проиграть в карты.
Вопрос. Ваш ответ не совсем ясен. Почему вы хотели проиграть?
Ответ. Я люблю творчество Федора Михайловича Достоевского и всю жизнь мечтал сыграть в фильме по его роману «Игрок». А когда такой случай представился, я почувствовал, что режиссёр недоволен моей игрой. Не хватало страсти, не было глубины переживания. Да это и объяснимо. Дело в том, что у меня никогда не было богатства, не было накоплений, я никогда их не терял, а следовательно, и не переживал боль утраты. И вот, когда я после смерти тёти получил наследство, тут и возникла у меня мысль сыграть в карты, чтобы проиграть и испытать чувства горечи и проигрыша. Как вы знаете, я действительно в одну ночь проиграл все, что имел…»
Закончив чтение протокола допроса, Чикуров отложил его в сторону.
— Не знаю, как ты, Дмитрий Александрович, а я впервые встречаю человека, который хотел проиграть, а не выиграть.
— Да, Саша Великанов человек оригинальный. Я его спрашиваю: «И вы не жалеете этих денег? А он мне в ответ: „О проигранных деньгах — нисколько, а вот о потерянной роли в кино — да, до сих пор успокоиться не могу“.
— А не играет ли Александр Филиппович Великанов, когда утверждает, что его не волнует проигрыш?
— Я верю ему. У него на сей счёт целая теория.
— Интересно, какая, если не секрет?
— Нехитрая, но убедительная, и суть её сводится к следующему. Врачи утверждают, что подкожный жир вреден. И не случайно в природе нет жирных зверей. А вот среди людей почти у каждого второго лишний вес, что и ведёт ко всяким физическим заболеваниям.
Великанов считает, что богатства, накопления — своего рода подкожный жир, и, если его много, он тоже наносит человеку вред. Человек, чтобы быть социально здоровым, должен бороться, бороться в поте лица за каждый день своего существования. И тогда он будет в форме. В противном случае зажиревшее общество или его отдельные, не в меру растолстевшие субъекты начинают страдать социальными болезнями. В качестве примера он сослался на МХАТ, где актёры по три года не выходили на сцену, а им платят. Какая же тут форма? А вот когда актёр борется за каждый выход на сцену, наконец, за каждый заработанный рубль, вот тогда только и может произрасти талант. Настоящий талант, а не тот, у кого на рубль амбиции да на грош амуниции…
— Скажи, Игорь Андреевич, разве он не прав?
— Что-то в этом есть. Но с некоторыми положениями этой философии я готов поспорить с автором. Вот когда выздоровеет он окончательно, а мы закончим это дело, встретимся, поговорим.
— Я думаю, что Великанов выздоровеет раньше.
— Почему? — усмехнулся Чикуров.
— Если бы ты видел, как за ним ухаживает Юля, у тебя не возникло бы такого вопроса. Не отходит от него, старается предвосхитить его даже самое маленькое желание.
— Если я не ошибаюсь, эта самая Юля — поклонница его таланта.
— Была поклонницей, а теперь, пожалуй, больше чем жена. Она его ангел-хранитель.
— Ты уверен, что это так? А вдруг её больше волнует прописка в Москве?
— Игорь, не смей… Даже думать о ней так грешно. Извини, но ты напоминаешь мне того самого московского бюрократа, который склонен видеть в каждом иногороднем женихе или невесте заведомого подлеца.
— Нет, Дима, к бюрократам я себя не отношу. А вот то, что профессия следователя на мне сказывается, — это факт неоспоримый. Понимаешь, я завидую артистам. И знаешь почему? Потому, что у них перед глазами чаще всего празднично настроенная, хорошо одетая, аплодирующая от избытка радостных чувств публика. Вот, наверное, многим из артистов и кажется, что вся жизнь — сплошной праздник, кругом улыбки и аплодисменты. А кто перед глазами следователя? Чаще всего это убийцы, хапуги, взяточники, хулиганы…
— И их жертвы, — добавил Кичатов.
— Те и другие — люди глубоко несчастные. Вот и кажется нам, что вокруг темно, мрачно. Разве не так? Потому, наверное, я и отнёсся к твоим словам о Юле… А ведь таких, как она, как Великанов, наверное, в жизни много? — сказал Чикуров и посмотрел на часы. — Разговорились, а ведь, чего доброго, Вербиков уже домой ушёл. — И начал набирать его номер.
Начальник следственной части оказался на месте. Чикуров попросил принять их. Но Вербиков заявил, что спешит к руководству и попросил коротко проинформировать его по телефону. Выслушав короткое резюме Чикурова, он остался доволен полученной информацией и решил похвалить следователей, что позволял себе нечасто.
— Отлично, молодцы, — сказал он. — Кажется, картина прояснилась. Виден финал. Поздравляю. С удовольствием доложу Прокурору республики, внесу предложение о поощрении… Ну а подробнее поговорим завтра. Хорошо? — И, не дождавшись ответа, повесил трубку.
Рабочий день уже давно закончился.
— Может, перекусим вместе? — предложил Игорь Андреевич.
Подполковник охотно согласился, хотя и удивился, почему Чикуров вечером ест не дома.
Следователи вышли на улицу. Москва выглядела торжественно и нарядно. В свете неоновых огней хороводились медленные пушистые снежинки, а в каждой витрине сияли игрушками, золотым дождём и мишурой ёлочки — город готовился к Новому году, празднику, который олицетворял для Игоря Андреевича дом, семью и все связанные с этим радости, оставшиеся от детских воспоминаний.
Но ощущение надвигающегося Нового года теперь отозвалось в душе тоской: какой уж праздник, когда в семье раздрызг. Вернее, по существу, нет её, семьи. Одна видимость.
— Знаешь, Дима, — поддавшись настроению, сказал Чикуров, — я вот думаю, не бросить ли к чёртовой матери следственную работу?
— Тю-ю! — ошарашенно протянул Кичатов, даже остановившись от неожиданности. — С чего это вдруг? Дело, считай, раскрутили, радоваться надо, а ты…
— Ужаснее всего, что я и радости-то особой не ощущаю. Мизантропом становлюсь, что ли?
— Уж не в артисты ли думаешь податься? — с иронией спросил Дмитрий Александрович, вспомнив их недавний разговор в кабинете Чикурова.
— В артисты уже поздно, да и дарования бог не дал. А вот в садовники — с удовольствием бы! Свежий воздух, цветочки, — мечтательно произнёс Игорь Андреевич.
— Чтобы они зацвели, нужно прежде в навозе покопаться, — усмехнулся Кичатов.
— Все равно лучше, чем постоянно иметь дело с подонками… Печалит меня вот что. Ну, допустим, в результате моей работы посадят ещё пять, десять, пятнадцать подонков. А сколько их выскочит ещё? Мартышкин труд получается.
С каких-то пор в нашем обществе стали чуть ли не нормой мздоимство, воровство, унижение безвластных и угодничество перед власть имущими. Мы перестали уважать ум, честность, порядочность, а преклоняемся перед чинами, кабинетами, машинами, перед теми, кто умеет ловчить, пользоваться особыми, недоступными другим благами… Кто такой Варламов? Взяточник, делец, расхититель! Многие прекрасно знали это, но тем не менее уважали. Так же, как Решилина. Почитали как великого, покупали его творения за доллары, а он на самом деле мелкий мошенник! А Жоголь? Рядился под бескорыстного и страстного поборника перестройки. Все они, Дима, ряженые, под-разными личинами скрывающие свою сущность — задавить, задушить ближнего, предварительно выпив из него последние соки… Одним словом — каракурты… Чёрные вдовы!
— Но согласись, старина, — возразил Кичатов, — кое-что мы уже начинаем сознавать. Учимся чёрное называть чёрным, белое — белым… И это здорово!
— Меня пугают словесные извержения. Шумим, шумим, а дело? Боюсь, что бюрократы и чиновники, против которых и ведётся эта атака, постепенно привыкнут к шумовым эффектам. Как в той басне: «А Васька слушает да ест!» Ой, не потонули бы благие намерения в болоте равнодушия и апатии!
— Не должны! Все хотят перемен.
— Все ли? — с сомнением покачал головой Игорь Андреевич.
— Придётся прозревать, Игорек! Дальше слептырями быть просто невозможно. Дошли, как говорится, до ручки.
— Будем надеяться, — задумчиво произнёс Чикуров.
Перед ними открылась площадь Дзержинского. Вокруг памятника кружил поток автомобилей, здание «Детского мира» полыхало светом своих огромных окон, праздничной иллюминацией. Плотная толпа покупателей вливалась и выливалась из стеклянных дверей, множество зевак глазело на красочные витрины. Кичатов невольно задержался у одной из них.
— Хочешь сделать новогодние подарки своим пацанам? — полюбопытствовал Чикуров.
— Уже послал. Но младший просит ещё велосипед, — ответил Дмитрий Александрович. — Я обещал к весне и вот присматриваю. — Он покачал головой:
— Ну и цены! Повышают, повышают, но почему? Качество-то не улучшается!
— Жур мне тоже жаловался. За плюшевого медведя для дочки отвалил полсотни, представляешь? А на себя пожалел семнадцать, не купил очень понравившийся ему голландский бритвенный прибор «Шик» с двойными лезвиями.
— Что ты! Жур готов всю жизнь в одних штанах ходить, лишь бы дети были довольны! — Дмитрий Александрович остановился. — Ну, куда пойдём? Может, в «Славянский базар»?
— Ресторан, старина, не по нашему карману. Давай лучше вон там, — Чикуров показал на закусочную, расположенную через площадь у раковины метро.
— Принимается, — кивнул подполковник.
Отстояв очередь и взяв сосиски, они устроились за одним из мраморных столиков.
— Что, надоели домашние обеды? — с улыбкой спросил Кичатов, принимаясь за еду.
— Дома ждёт то же самое, — показал сосиску на вилке Чикуров. — Ну, ещё магазинные пельмени или пакетный суп… Надя ненавидит кухню!
— А мою Ларису за уши от плиты не оттащишь. И все старается что-нибудь повкуснее, пооригинальнее.
— Смотрю на тебя и завидую — влюблён в свою Ларису, как Ромео! И она в тебя тоже?
Дмитрий Александрович смущённо хмыкнул:
— Да уж грех жаловаться — повезло.
— Поделись секретом, как это вам удаётся? Женаты, чай, лет уже двадцать?
— Ей-богу, Игорь, как-то все само собой. Хотя все бывает. Иной раз так поругаемся, что она мне чемодан собирает. А наутро я у неё и «заинька», и «лапонька», и «солнышко».
— Слышь, Дима, — что-то вдруг вспомнив, сказал Чикуров, — все хочу спросить… За что тебя уволили тогда? — Заметив кислую мину на лице коллеги, он поспешил оговориться: — Нет, если тебе неприятно, можешь не рассказывать.
— Конечно, неприятно, но скрывать от тебя не буду… Да и вины за мной нет. Глупейшая история, в которой я до сих пор разобраться не могу. И вышла она из-за Ларисы. Понимаешь, выбросили у нас в одном магазине индийские сорочки. Чистый хлопок! Моя жёнушка, узнав об этом, побежала туда, заняла очередь. Как же её Дима будет ходить в синтетике! Два часа отстояла. Через тридцать минут магазин закрывается, а очередь ещё огромная. Продавщица стала выгонять всех на улицу. Но кто уйдёт, когда столько времени потрачено. Тогда директриса и продавщица смылись через служебный вход, заперли снаружи магазин на ключ, и бедные покупатели просидели в нем до утра! Ты себе представить не можешь, чего мне стоила эта ночь. Чуть с ума не сошёл!
— Просто невероятно! — негодовал Игорь Андреевич. — Самодуры!
— Ты слушай дальше! Утречком директриса привела какую-то комиссию, и всех, кто остался в магазине, переписали. Люди возмущались, конечно, и больше других — Лариса. Грозилась мужу пожаловаться, то есть мне, начальнику следственного отдела УВД области. Мол, я так не оставлю, покажу где раки зимуют! — Кичатов усмехнулся, помолчал, затем продолжил: — А показали мне самому! Уволить и так далее.
— Но за что? — недоумевал Чикуров.
— Генерал в объяснения со мной не вступал, — пожал плечами Дмитрий Александрович. — Ты ведь знаешь, что творилось у нас при прежнем министре — выгоняли пачками.
Покончив с сосисками и компотом, вышли из жаркой закусочной на свежий воздух и теперь уже простились, договорившись встретиться завтра в прокуратуре. Чикуров отправился домой. И только зашёл в коридор, скинул пальто, Кешка сообщил:
— Тебе уже раза три с работы звонили.
— Кто именно?
— Вербиков.
Игорь Андреевич тут же набрал телефон шефа, теряясь в догадках, что могло случиться за полтора часа?
— Слава богу, что объявился, — сказал Вербиков. — Я буквально через пятнадцать минут после нашего разговора позвонил тебе, а вас с Кичатовым уже не было…
— Зачем понадобился? — спросил Игорь Андреевич.
В голосе начальника следственной части чувствовалась усталость и какая-то безнадёжность.
— Понимаешь, Игорь, мы с тобой думали, что с южноморским делом все ясно. А вот кое-кто так не считает. Завтра выйдет статья Мелковского…
— Откуда ты знаешь? — вырвалось у Чикурова.
— Сообщили. По моим каналам. Достанется Журу, да и нас, будь уверен, не обойдут.
— Как же так, Олег? Ты ведь говорил, что материал снят! Даже не набирали.
— Да, зам главного редактора заверил меня в этом лично. Мол, не беспокойтесь, все в порядке.
— Что же будет?
— Будет? Уже есть, — негромко произнёс Вербиков. — Достал-таки Мелковский Виктора Павловича… Жур тоже откуда-то узнал, что статья будет опубликована… Капитана положили сегодня в больницу с инфарктом…
— Господи! — выдохнул Игорь Андреевич. — Куда именно? — У него резко заломило в затылке — признак подскочившего давления.
— В Боткинскую.
— Корпус, палата? — Игорь Андреевич свободной рукой сорвал с вешалки пальто.
— Не знаю…
— Ладно, выясню на месте.
— Нельзя к нему, в реанимации.
Чикуров, бросив «до свидания», мигом оделся и выскочил за дверь. Скорее всего, ехать было бесполезно, но он не мог оставаться дома, сидеть сложа руки.
В автобусе Игорь Андреевич не замечал ничего и никого вокруг. Перед глазами стоял Жур — в Южноморске, в Средневолжске… Всегда выдержанный, корректный, собранный.
«Мужику всего тридцать! — с отчаянием подумал Чикуров, вспомнив их последнюю встречу, когда Виктор Павлович похвастался чудным мишкой, купленным дочери. — И стал очередной жертвой лжи! Сперва оклеветала Ореста Сторожук. Клевету подхватил этот подонок Мелковский! В довершение сказал неправду заместитель главного редактора газеты… Впрочем, обвинение нужно начинать с меня! Это я в своё время пошёл на компромисс, не довёл дело до конца, тем самым дав возможность Мелковскому ускользнуть от правосудия. По существу, солгал другим!..»
На ум почему-то пришли слова Павла Нилина, писателя, чья повесть «Жестокость» сыграла не последнюю роль в выборе им профессии следователя: «Все наши дела пошли бы блистательно, если бы мы прекратили лгать, даже не то чтобы совсем прекратили ложь, но хотя бы её сократили». Когда Чикуров прочитал это в первый раз, то принял всем сердцем. Теперь же ему хотелось подправить Нилина: не сокращать нужно ложь, а избавиться от неё совсем! Навсегда! Нельзя даже, по выражению Льва Толстого, «лгать отрицательно — умалчивая».
Потому что прожить по совести без правды нельзя. Правда — мера человека.
Но настанет ли такое время, когда мы будем этой мерой оценивать всех и каждого?
Москва, январь 1985 г. — октябрь 1987 г.
1
Пас, без двух — карточные термины.
2
Клиренс — расстояние между землёй и днищем автомобиля.
3
БОМЖ — лицо без определённого места жительства.
4
Так проходит мировая слава (лат.).
5
Чистая доска (лат.).
6
«Копна» — сборище бродяг, объединённых в группу, которую возглавляет «бугор» (жарг.).
7
Мелкие воры, карманники (жарг.).
8
Катран — место, где собираются картёжники (жарг ).
9
Капуста — валюта (жарг.).
10
Названия азартных карточных игр.
11
Лох — жертва карточных шулеров (жарг.).
12
Лобовик — играющий по-крупному.