Книга: Гонконг
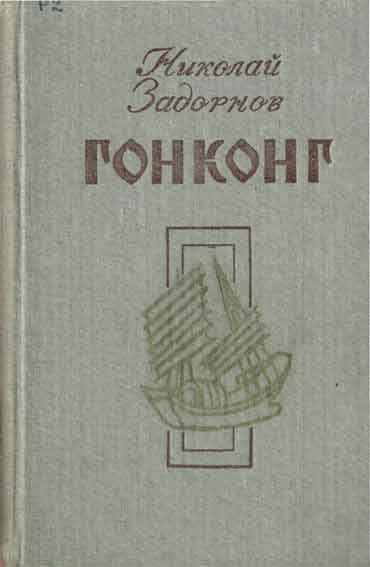
ГОНКОНГ
Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся Одиссея и Энеида – и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши Аргонавты...
НАД ОМРАЧЕННЫМ ПЕТРОГРАДОМ
...Постыдное чувство овладело петербургскою публикою, когда англо-французский флот... явился перед Кронштадтом. Был ли взят Кронштадт?.. Нам чуть ли уже не казалось, что он взят... Англичане по делу о стоянии их флота у Толбухина маяка совершенно уподобились нам... Мы позеленели от подвигов их флота... они закричали: «Англия обесчещена и должна показать, что она не так бессильна!» ...Непир – трус! – закричали они. – Если он не взял Кронштадта и не бомбардировал Петербурга, мы должны загладить этот стыд наш другим делом.
...Поезд подходил к Николаевскому вокзалу, паровоз уже вошел под своды и дал гулкий гудок, а по окнам вагона все еще лило. Дождь! Дождь и ветер, как всегда в Европе и в ее «окне». Словно этот дождь и не прекращался с тех пор, как вышли на фрегате из Кронштадта.
– Отец! – радостно воскликнул лейтенант Александр Колокольцов, видя высокую фигуру в цилиндре.
Встреча русского посла, прибывшего из Японии, официальная. Сквозь зеркальные стекла вагона видно, что на перроне полно форменных шинелей. Генералы и адмиралы. Высшие чиновники министерства иностранных дел. Тут же в фуражках с голубыми и красными околышами жандармские офицеры, полиция, носильщики, не менее важные, чем жандармы.
Под крутым и гулким сводом в последний раз, как через гигантский рупор, кратко свистнул паровоз, и, громче ударили струи пара.
«Круг замкнулся! Вот когда, наконец, закончились мои путешествия! – подумал Путятин, сходя с подножки вагона. – Вот и она! Мэри, моя милая Мэри. Дети мои! Как она прекрасна, свежа и нарядна!»
На Мэри пальто из современной непромокаемой материи; и дети в таких же, с пелеринами; светские, чистые петербургские дети. Слуги со сложенными зонтиками и с готовностью оказать внимание господам и вещам.
Моряки вышли не задерживаясь. У вагона третьего класса толпа встречала матросов. Путятин взял их в поезд с собой. Ушел из Петербурга с шестьюстами, а возвратился с десятью.
Блестящий поезд, это не пиратская халка[1] на Жемчужной или на Янцзы, где офицеры и матросы спали вповалку на палубе, не ночлег в японской деревне Миасима на пешем переходе в Хэду через горы полуострова Идзу и не Амур широкий, где и Путятину пришлось идти бечевой. Шел босой по песку с господами офицерами и матросами, налегая на лямки. Под конец плавания у парохода плавучими лесинами вдребезги разбило колеса, несмотря на то, что и баграми и жердями охраняли, как могли.
Вчера, когда отошли от Москвы, Витул снял с адмирала сапоги, и он отдыхал на бархатном диване, как в дорогом отеле, в одиночестве...
Мэри истово перекрестила мужа, словно уже при встрече благословляла его на подвиг еще более тяжкий, чем те, что он совершил в путешествиях. У нее сильная рука, объятия кратки и крепки, как и ее тройной поцелуй. Милый округлый подбородок, миловидное лицо, взгляд решительный, властный и требовательный, более адмиральский, чем у самого Путятина. Мэри воинственно воодушевлена. Она не сидела здесь сложа руки и старалась помогать делу мужа все эти годы, проведенные в разлуке. Истово и много молилась в церквах и соборах, ездила на поклонение мощам, заказывала молебны, исповедовалась и всем этим как бы торжественно присягала на верность. Ведь Евфимий Васильевич сам ей говорил, что ему нравится истовость веры.
...Выставив грудь в орденах, боцман Черный сходил среди расступившейся толпы со ступеней вокзала.
– Ваня! – удивилась жена, державшая его под руку. – А где же ухо-то?
Черный посмотрел на высокие дома вокруг площади и на Лиговке, как бы еще не веря, что вернулся.
– Ухо – ничего! – ответил он. С потерей уха он примирился. – Это не беда!
– Серебряным долларом американец снес ему ухо, самым краешком, и сразу выбросил, – пояснил Аввакумов.
«Обкорнали его! – подумал Глухарев, шедший с двумя рослыми сыновьями, одетыми в сапоги и кафтаны. – А то чуть что скажешь – и тут же его ухо...»
...Евфимий Васильевич, усевшись в карете рядом с Мэри, взявшей на руки маленькую Олю, очень расчувствовался и не имел никакого желания говорить про политику, о раздвинутых им на Востоке горизонтах и о просторах для будущего. С приездом в Петербург Путятин становился почти богатым человеком. За все время плавания ежемесячно получал он три тысячи рублей серебром. Тысячу министерство платило Мэри. Тысяча откладывалась до возвращения посла и адмирала. Тысячу он брал себе, но старался не тратить. Ведь никто не узнает и в историю не будет записано, как ради семьи Путятин скупился, ничего себе не позволял, берег каждую копейку. Офицерам не нравилось. Матросы замечали, но не осуждали. Для экономии счастливейшее время было, когда шли вверх по реке и пароход тянули на себе бечевой. По целым месяцам ни копейки расходовать не приходилось, ни полушки, ни гроша. Вот чем еще Амур и хорош! Там купить нечего и деньги некуда девать. Теперь должно было скопиться более сорока тысяч. Почти четыре года прошло, считая время подготовки к экспедиции. Да еще будет пенсион! Теперь уж, по всей видимости, скоро конец войне.
«Но, впрочем, разве это богатство по нынешним временам? Для Петербурга и то невелик капитал, а в Гонконге китайские компрадоры зарабатывают по двести тысяч в год и взяток платят своим чиновникам на сумму большую, чем я отложил за четыре года».
Мэри с воодушевлением рассказывала, какая торжественная панихида была отслужена в столице по адмиралу Корнилову.
В отеле нанята целая анфилада комнат, как квартира в скромном, но приличном доме. С окнами на Исаакиевский собор и на военное министерство. Наконец Путятин вернулся в Петербург! Хотя и в отеле, а все же дома! Тут уж не опасаешься сидящих на мачтах бакланов, что подслушивают. Тут все бакланы сами его опасаются!
В министерстве иностранных дел пришлось услыхать о предстоящей смене директора Азиатского департамента. Прочили на эту должность Егора Петровича Ковалевского, которого ждали на днях из Севастополя, где он сражался в рядах защитников и получил генерала. Ковалевский хорошо знаком Путятину. Знаменитый путешественник по пустыням Африки и Азии. Под видом священника когда-то побывал в Пекине в составе духовной православной миссии, изучал Китай. Знает многие восточные страны и восточные языки. В Севастополе, конечно, немало пользы принес, скорее всего, через свои дружеские связи с влиятельными турками, арабами и с крымскими татарами, добывал через них нужнейшие сведения. Обратил на себя высочайшее внимание! Не зря в петербургском обществе просвещенных болтунов Егора Петровича возненавидели и у него явилось много завистников и неблагожелателей.
Пришлось услыхать, что государь перед отъездом в Николаев ждал Путятина. Это означало, что записка на высочайшее имя будет передана графом Нессельроде незамедлительно, как только царь вернется в Петербург. Бумагам дадут ход, а самому Путятину предстоит высочайшая аудиенция. Министр иностранных дел и канцлер граф Нессельроде хотя и болен, но примет.
Ловко умеют петербуржцы объяснять! Понятно, что Карл Васильевич Нессельроде все еще министр и канцлер, но что уж почти не у дел.
Его высочество генерал-адмирал великий князь Константин также с молодым государем на Черном море.
Приглашение на обед к Карлу Васильевичу. Вместе с супругой.
Нессельроде сказал, что осада Севастополя дорого обошлась союзникам.
Оказалось, что из Гонконга американский банкир Сайлес прислал письма канцлеру графу Нессельроде, сообщая о пребывании Путятина в Японии, и что помощь оказана русскому посольству американцами. Сайлес предлагал и в дальнейшем свои услуги.
– Вы знаете его? Кто этот Сайлес? – спросил Карл Васильевич.
Путятин видел Сайлеса в Симоде, мнения о нем не составил, Константин Николаевич Посьет услугами Сайлеса воспользовался.
Нессельроде сказал, что запасы золота и серебра в Петропавловской крепости убыли более чем вдвое. Заем можно сделать после заключения мира через лондонского банкира Беринга, но еще верней через парижского Джеймса Ротшильда, с которым у правительства наилучшие отношения.
У Путятина у самого были векселя на контору Джеймса Ротшильда в Шанхае. Конечно, через банкиров можно получить займы. От той же Франции для восстановления нашей страны... И от Англии! И через амстердамского Гоппе! Может быть, нужен выпуск процентных бумаг. Путятин узнал в Южной Африке, что, в то время как шла война в Капской земле против каффров, английские же торговцы снабжали врагов огнестрельным оружием...
«...Поблек наш Петербург за время войны, многие в трауре, а еще чувствуется богатство и роскошь жизни», – думал Путятин, проезжая в карете. А какой магазин итальянский сверкнул витринами на Невском!
Все время доносится отдаленный гром: это в Кронштадте время от времени палят тяжелые морские орудия. Но в столице все живут спокойно, не прикрываются стенами из мешков с землей.
Противник у Кронштадта. Говорят, его корабли стоят рядами, и по ночам кажется, что в море протянулись освещенные огнями улицы современного города.
Но уж осень; неприятельские эскадры отправятся к себе на Спитхэдский рейд. Скоро отойдут их последние суда... Грохочет далеко, словно ломается лед на большой реке.
О войне весь мир долго узнавал по сообщениям из Крыма. Между тем огромная война велась самыми могущественными морскими державами против царя и его империи не только в Крыму.
Английскому флоту приходилось действовать у всех побережий России, в Черном и Балтийском морях, входить в Белое море и в Рижский залив. Взяты Керчь, Феодосия, убраны все русские крепости на берегах Кавказа.
О событиях на театре военных действий в Крыму и английские и русские газеты писали много. О действиях английского флота на Балтике гораздо меньше и суше сообщалось с обеих сторон. Для русских невыгодно слишком распространяться, что англо-французские эскадры стоят у ворот столицы, что Петербург лишь немногим дальше от войны, чем Севастополь, и в тихую погоду пальба слышна на Невском, хотя бомбы на бульвары не залетают. Не заслуга, и нечего много говорить; казалось, в Петербурге все заткнули уши ватой. У английской прессы свои причины, чтобы не распространяться об этом же.
Впрочем, все знали, что наши стоят стойко, что в Петербурге – гвардия, в Кронштадте неприступная крепость и флот. Ученый Якоби осуществил свои новые изобретения, созданы еще невиданные смертоносные устройства.
Все это так, но лучше молчать. И сто лет и более спустя будут молчать по инерции и государственные умы, и историки, и пресса. Смолчат о военных действиях и генералы, так как в Кронштадте выстаивают адмиралы, а в военном министерстве не до них.
Началось с того, что в 1854 году, 11 марта английский флот отбыл из Портсмута со Спитхэдского рейда. Никогда прежде для действий против неприятеля не отряжалось одновременно такого количества паровых судов... Всего 15 колесных и винтовых, к ним присоединена армада парусных.
Рослый плотный адмирал стоял на мостике флагманского стотридцатипушечного парохода «Герцог Веллингтон». Чарльз Непир со скуластым лицом, со светлыми глазами и выпуклым лбом.
Непир известный моряк, всегда был в службе. Он не чета другим: старикам. Во время войны на флот пошло более ста старых адмиралов, числившихся в службе, но сидевших до того без должностей. Флот Великобритании так велик и могуществен, что выдержит и эту сотню.
Рандеву французской эскадре назначено у берегов Швеции. 25 марта командующий нанес визит датскому королю. 27 марта без помощи лоцманов прошли Бельт и встретили ожидавший эскадру стодвадцатипушечный корабль флота ее величества «Нептун».
Прибыла французская эскадра. У союзников командует адмирал Гамелин. У Непира на эскадре деятельный адмирал Майкл Сеймур. В свои сорок девять лет выглядит молодым человеком, какими бывают в этом возрасте белокурые. Гамелин и Сеймур, кажется, почти в товарищеских отношениях.
За лето 1854 года соединенный флот стоял под Кронштадтом, был у Абе, под Свеаборгом, у Риги, Ревеля и бомбардировал Бомарзунд.
Изучали возможность штурма крепости Свеаборг. Непир послал донесение в адмиралтейство, что комбинированной атакой с суши и с моря Свеаборг может быть взят. Косвенно это предложение о присылке подкреплений морской пехоте. Французы утверждали, что флот может справиться со Свеаборгской крепостью за два часа. К Кронштадту подходили и уходили и снова возвращались. Блокировали Финский залив. Ловили и захватывали парусные суда и суденышки, маленькие пароходики и лодки эстонцев и финнов с дровами и молоком для Петербурга.
Адмиралам известно, что русские ожидают атаки на Кронштадт. По их предположениям, у союзников существует план захвата Свеаборга, высадки десанта и движения сушей на Петербург. Но Кронштадт и Свеаборг с такой силой отвечали на попытки обстрела, что 22 июля блокада Финского залива была прекращена. 8 августа русские взорвали свои укрепления на Ханко. Вот тогда-то, осенью, адмиралы снова собрались на совет. Непир получил депешу, ему предлагалось принять решение.
Адмирал Парсеваль, вице-адмирал Пено и английский контр-адмирал Майкл Сеймур обсуждали с Чарльзом Непиром и адмиралом Гамелином предстоящие операции. В адмиралтейство сообщено, что по позднему времени ничего не может быть предпринято против Свеаборга. Майкл Сеймур с решением согласился неохотно. Молодой адмирал, возвратившись в метрополию, не скрывал своего мнения. Кроме разрушения Бомарзунда и блокады портов, эффект кампании ничтожен. Флот должен быть усилен для новых действий против балтийских крепостей.
Общественное мнение обвиняло Чарльза Непира в бездеятельности, проволочках и неспособности командовать.
В «Таймс» писали: «Полезным действиям флота на Балтике серьезно препятствовали не только старческий возраст и моральная робость командующего, но также немобильность французского контингента, состоявшего в значительной части из парусных кораблей».
В 1855 году новым командующим назначен адмирал Ричард Дундас. На корабле «Герцог Веллингтон» он пойдет в плавание во главе теперь уже могущественного флота из 88 судов. Вице-командующий адмирал Майкл Сеймур – на корабле «Эксмоут».
Чарльз Непир оправдался. Он доказал, что своими действиями в 54 году подготовил кампанию 55 года. Он собирал «интеллидженс» о русских войсках и укреплениях все время, особенно настойчиво и неустанно в Финском заливе. Были жертвы. Матросы и солдаты морской пехоты погибали, но не зря и редко. Шкипера захваченных судов и пленные лодочники доставляли полезные сведения.
Кампания 1855 года на Балтике началась в густом дыму от массы пароходных труб. Предполагалось в Лондоне, что возможно занятие Гельсингфорса и действия на Кронштадт и в направлении Петербурга. Крепость Свеаборг – главная цель. Но прежде всего – демонстрация у Кронштадта и угрожающий обстрел.
Дундас и Сеймур в кампанию 55 года продолжали ловлю лайб, мелких шхун и пароходиков, идущих в Петербург, который кормился подвозом по морю.
Чтобы захватить большой пароход, пришлось двум английским крейсерам выбросить русские флаги. Прием разгадан поздно. Пароход захвачен. Вел в Петербург три огромные баржи со свежим продовольствием. Великолепный подарок для моряков, давно уже плававших без «освежения»!
Подошел французский флот. Все время подходили все новые английские корабли.
Мир говорит об отсталости России, о неспособности развить современную науку и создать промышленность. Больше всего об этом пишут сами русские в своих сочинениях, осмеивают самих себя, декларируют маниловизм как свое основное свойство.
Дальнобойные орудия Кронштадта не позволяют приблизиться и занять удобную позицию для бомбардировки. Быстроходный пароход «Мерлин» с храбрым французским командующим адмиралом Гамелином пошел к Кронштадту. За ним английский пароход «Файрфляй», что означает «светлячок», но русским можно перевести эффектней, как «летающий огонек», или в американском смысле «поджигатель», небольшой быстроходный пароход с железным корпусом. На «Мерлин» французский и английский капитаны-наблюдатели. Выброшен белый флаг...
В «шпионские стекла», как принято называть новинку – бинокль, видны золотые шпили церквей Петербурга, сверкающие в солнечных лучах. Пересчитаны русские суда в Кронштадте и на чистой воде. Между гаванью и Кроншлотом десять пароходов разного размера, некоторые винтовые: между Кроншлотом и фортом Меншиков – два трехдечных[2] корабля – bow to bow[3]. Берега охраняются сухопутными войсками, видны три лагеря. Множество gunboats[4].
«Мерлин» возвращалась с обсервации, когда взрыв подбросил корму парохода. Второй удар с еще большей силой потряс весь корабль от кормы до носа. Адмирал Гамелин, в то время как мачты наклонились, угрожая пасть прямо на него, не покинул мостика... И тотчас такой же взрыв подкинул вверх нос английского корабля «Файрфляй»...
В рапортах сообщалось: «Эти неопознанные подземные взрывы причинили весьма значительные разрушения на наших судах. Отойдя на глубокую воду, наши корабли избежали дальнейших разрушений». Так в совершенно разных враждующих между собой государствах одинаково умело составлялись рапорты.
Адмирал Гамелин послал в Париж сообщение о новом характере морской войны.
Мелкие суда и баркасы посланы на поиски. Адмирал Майкл Сеймур на корабле «Эксмоут» командует операцией. Храбрый и славный французский адмирал Гамелин сегодня ушел с частью эскадры к Свеаборгу.
С баркаса сигналили: «Мина изловлена!» На фарватере вблизи Кронштадта оказалась прикрепленной линем к бревну, стоящему на якорях на глубине четырнадцать футов. Сквозь прозрачную воду матрос заметил плавающий предмет.
По палубе корабля «Эксмоут» внесли на ют остроконечный предмет из цинка, формы конуса. Отличившийся матрос держал его на руках. Адмирал Сеймур наклонился и рассматривал таинственную находку. Капитан и офицеры обступили ее.
– Зажигательная трубочка... гильза... задвижка... – говорил Майкл Сеймур. Он рискнул и тронул пальцами железный язычок.
Внутри щелкнуло и что-то соскользнуло; задвижка опустилась, разбилась скляночка – и вдруг мина лопнула, обдавая всех огнем и дымом.
Адмирал схватился руками за лицо и опустился на палубу. Капитан пал навзничь, у него раздроблена нога.
Адмирал привстал, стараясь рассмотреть, что происходит. Сквозь дым он едва видел правым глазом, левый жгло, как огнем.
Остолбеневший матрос, на руках у которого произошел взрыв, стоял цел и невредим и был напуган.
...Ловля мин продолжалась. Ежедневно гребные суда с утра до ночи ходили по заливу. Тем временем сведения о Свеаборге собраны. Адмирал Гамелин прислал судно с новыми известиями.
В виду русского укрепления Тангут к финскому берегу пошла шлюпка под белым флагом. Повезли, чтобы отпустить захваченного в плен капитана-финляндца и его матросов, которые уверяли, что можно в деревне купить корову. Когда шлюпка подошла к обрыву, сверху раздалась стрельба.
В Лондон сообщено, что несколько англичан и пленных финнов коварно и предательски убиты первыми же выстрелами с берега в упор по безоружным людям в шлюпке с белым флагом. Остальные взяты в плен. Убит доктор.
Парламент, газеты, общественное мнение возмущены...
Русский и английский командующие обменялись» письмами. На английском судне, пославшем шлюпку, был поднят белый флаг. В шлюпке при тихой погоде белый флаг, как утверждал в ответном письме русский военный министр, не был виден. О месте высадки под флагом мира полагается договориться заранее. Не везде это можно разрешить противнику, что общеизвестно. «Белый флаг уже не раз употреблялся для приближения к нашим судам и укреплениям... Английский офицер и доктор, бывшие в шлюпке, – живы».
В Англии буря... Весь мир заговорил о лживости, коварстве, жестокости, о неуважении варваров к белому флагу, о нарушении священных принципов и прав человека. В парламенте требуют возмездия.
Вскоре весь соединенный флот собрался под Свеаборгом. Корабли выстроились тремя линиями. Началась бомбардировка.
Через три дня Свеаборгская крепость, прикрывавшая город Гельсингфорс с моря, была снесена с лица земли артиллерийским огнем соединенных эскадр. Ночью прекратились последние ответные выстрелы. На островах из мглы проступили лишь руины...
В чистоте безветренного ясного утра, перед восходом солнца на эскадре отчетливо стал слышен звон множества церковных колоколов, который казался тем ближе, чем неподвижней и прозрачней был мирный воздух. Это звонили протестантские церкви города Гельсингфорса, как бы восставшего в это утро из-за стен павшей крепости во всем северном великолепии, еще не тронутом ничьими ударами.
Не слышен бас большого православного собора святого Николая, описания которого имеются во всех энциклопедиях и справочниках. Четко, честно и упрямо и почти однотонно, как в медные доски, били и били колокола на протестантских звонницах, и эти знакомые звуки бередили сердца моряков. Под звон таких колоколов молились дома, ходили в юности на конфирмацию и венчались...
Свеаборгская крепость не существовала. Город, как семья, лишившаяся защиты, просил колокольным звоном о пощаде.
Морская пехота всегда готова к высадке и штурму. Ждут лишь барабана и сигналов. Знамена морской пехоты помнят времена битвы за Гибралтар. Солдаты морской пехоты рекрутировались когда-то из уроженцев Сити, и это единственный род войск, которым разрешалось входить в Сити с оружием, развернутыми знаменами и маршировать под звуки своих прославленных оркестров. Ни один солдат или матрос всех других родов королевских войск не смеет входить в Сити с оружием.
Но десанта не будет и продвижения к Петербургу по суше не начнется. Адмирал Дундас поднялся наверх, на мостик своего стотридцатипушечного трехдечного флагмана с двумя дымящимися трубами и с бортами, похожими на крепостные стены, в трех рядах пушечных бойниц. Действительно, звонили колокола протестантов-единоверцев.
На флагманский корабль явился контр-адмирал Майкл Сеймур с забинтованной головой.
Дундас сказал на военном совете: «Гельсингфорс является твердыней, такой же, как Севастополь, и мы не можем счесть его мирным городом. Гельсингфорс должен разделить судьбу крепости Свеаборг».
Поданы голубые серебряные кувшины со льдом в воде. Тяжелая серебряная посуда и легкое столовое серебро заполнили длинный стол. Известно, что ни одна нация в мире не умеет содержать столовое серебро в таком порядке, как англичане.
Адмиралы и коммодоры разъехались на вельботах. Со склянками на эскадре пробили барабаны, пропели трубы и сигналы были подняты.
Первыми ударили большие современные нарезные орудия, поставленные на сравнительно небольших пароходах. Видно было, как с одной из кирок сначала покатилась черепица и кирпичи, потом колокола, силуэты которых были отчетливо видны, осели и один из них упал и раскололся. Дробно палили из своих чугунных и медных пушек трехдечные гиганты. Казалось, что борта их пылают огнем. Матросы работали у паровых машин, поливали обшивку кораблей из шлангов. Картинные офицеры, с обнаженными палашами, стоят на палубах всех кораблей.
...После разгрома Свеаборгской крепости и разрушения Гельсингфорса эскадра еще раз пришла на вид Кронштадта, как бы для прощальных салютов.
При ясном небе опять на солнце сверкали золоченые шпили столицы Святой Руси и Петра. В лагерях, раскинутых на берегу, зашевелилась пехота и конница!
Флот начал покидать Балтику, когда заревели осенние штормы.
На каменный причал в Портсмуте, в сопровождении офицеров, сошел адмирал Майкл Сеймур. Он в непромокаемом плаще и с черной повязкой, закрывающей глаз.
Майкл Сеймур – вице-командующий флотом в минувшую кампанию на Балтике, теперь он сам назначен командующим. Предстоит отправиться в город Викторию, в новую английскую колонию Гонконг, и принять начальствование над индокитайской эскадрой, корабли которой базируются в Гонконге, ведут войну на севере и готовятся к новой войне с Китаем. Репутация боевого моряка и храброго, предприимчивого воина гарантирует, что ошибки, совершенные в минувшие кампании на севере Тихого океана, не повторятся.
Значение Дальнего Востока колоссально возрастает в мировой торговле и в политике. Там Япония, Индия, Гонконг, Китай и Сиам.
Злые языки тем временем утверждают, что дело не в способностях нового командующего, назначенного в Гонконг. Причина не в том, что на Дальнем Востоке решится судьба будущего человечества. Просто кривого сбывают туда, какое бы там будущее ни было, не в Лондоне его оставлять!
Новый командующий должен быть представлен королеве Великобритании. Лицо у Майкла Сеймура длинное, обрамлено белокурыми волосами в начинающейся седине. Выражение его стало еще строже с тех пор, как выбит глаз, и приходилось напрягаться, чтобы за всем усмотреть. Поэтому сэр Майкл Сеймур как бы вдвойне озабочен и никогда не улыбается.
Капитан 1-го ранга, Константин Николаевич Посьет, верный спутник и ближайший помощник адмирала Путятина, лучший из его дипломатических советников, у себя в номере гостиницы сидел со своим молодым другом и товарищем по скитаниям лейтенантом Александром Колокольцовым, возвратившимся из деревни.
– Государь, видимо, утвердит все представления Евфимия Васильевича. Шхуна «Хэда» пойдет в Японию как наш подарок в знак вечной к ним дружбы. Мне быть посланником, вам – капитаном. Сможете увидеть свою японскую жену. Как только закончится война, мы должны отправиться... Будет сделано все, чтобы продолжить наши начинания на Востоке... Но неожиданно оказывается, что у дела есть более горячие союзники, оно возбуждает в обществе гораздо больший интерес, чем в Зимнем! У меня есть сведения, что русские в эмиграции, несмотря на войну, уже узнали все, и, видимо, через Америку. Они возлагают большие надежды на Муравьева. Может быть, у него есть ход к ним через Париж и французских родственников. Петербургская молодежь готова видеть в Евфимии Васильевиче передового деятеля... От государя ждут реформ, надеются, что он освободит крестьян, что дадут избирательное право, у нас будет парламент, а через Сибирь и океан мы сблизимся с Америкой и отойдем от реакционной европейской политики. Американская печать полна выражения дружественного восторга нам и твердит, что будущее откроется, только когда Россия получит открытый берег на Тихом океане. Пишут, что от этого зависит прогресс и движение в мире. В Штатах идет запись в добровольческие полки, которые предполагается послать в помощь нам в Крым.
Колокольцов только что из родного поместья, под Новгородом.
– В среду всех участников плавания на «Палладе» приглашает к себе наш несравненный Иван Александрович Гончаров. Идемте! Соберемся, запрем двери и потолкуем.
Горчаков заменяет Нессельроде.
...Горчаков сказал Путятину, что в Вене послам Англии и Франции и представителям Австрии и Пруссии не дал никаких обещаний.
«Мир не будет позорен! – сказал он и добавил: – Временные уступки мы сделаем». О действиях англичан и французов в Китае сказал, что это продолжение их европейской политики, так же как в Индии и в Африке, дал понять, что теперь нельзя судить о европейских державах, пренебрегая сведениями об их колониальной политике. Это прямо касается нас; задевает наши интересы. Полная перемена во взглядах нашей дипломатии! Согласен, что нам надо выходить на Тихий океан. Друг юности его, Пушкин, видел там наше будущее, хотел писать исторический роман о Камчатке.
...Комнаты покойного государя Николая внизу закрыты наглухо. Александр занимается и принимает на втором этаже, как и прежде, когда был наследником. Больших перестановок в Зимнем не сделано, недосуг, все откладывается, видимо, до окончания войны и коронационных торжеств.
Нарядные комнаты Александра после скупого кабинета Николая Павловича! А покои внизу как-то невольно считаешь настоящими императорскими. Почувствовалось, что в новых палатах заговорят о новых плаваниях. Впрочем, путешествие Путятина само по себе не меньшая новинка, чем предполагаемые молодым государем реформы. Привезены сведения, которые хватит изучать много лет целым поколениям.
Молодой государь огромного роста, держится прямо, смотрит строго.
Александр понимал значительность деятельности моряков и Муравьева на Востоке, которой долго не признавал канцлер Нессельроде, ставивший всем палки в колеса. Когда-то, по просьбе Константина, проникшегося идеей выхода на Тихий океан еще с юности, отец велел Александру быть председателем Амурского комитета и во всем разобраться.
Отца боялись, его требования исполнялись беспрекословно. Год был тяжкий. В семье наследника умер ребенок. Александр умел заставить себя взяться за дело. Знаменитые учителя с детства внушали, что Сибири принадлежит будущее. Александр знал суждения Петра Великого и Ломоносова об этой стране. Жуковский приучил Александра к мысли об освобождении крестьян и что он станет гуманным самодержцем. И что же теперь? Разноголосица в обществе, в Государственном совете, в правительстве. Все привыкли к гнету отца, покорно ходили под его тяжелой рукой. А теперь все эти старички заспорили, засуетились, и оказывается, что все они – ничтожества.
Путятин доложил о заключении трактата, о постройке шхуны в Хэда и жизни в Японии. Об императоре и шегуне[5], о городах, селах, о торговле и земледелии. Вернувшись в Россию, он уже наслушался упреков за сделанные уступки. Евфимий Васильевич упомянул об англичанах, об их давлении на Японию, как всеми средствами и силами надобно было уравновесить положение...
Александр поднялся и, приходя в хорошее настроение, сказал, что начало положено, поблагодарил Путятина и поцеловал.
Шхуну «Хэда», построенную в Японии, как и представил Путятин, послать в подарок императору Японии. Заплатить тринадцать тысяч за содержание посольства и команды погибшего фрегата «Диана». Материалы, закупленные у японцев для постройки шхуны, не оплачивать, поскольку шхуна, как было на такой случай договорено с бакуфу[6], передается Японии. Быть по сему! Вернуться к этому, чтобы окончательно завершить дела после войны. Представить соображения и все подготовить об отношениях с японским правительством, о доставке в Японию ратификации, о назначении нашего консула, о преподавании японского языка в петербургском университете и о японском словаре. Представить все карты. Вернуться в будущем к делу о границе на Сахалине... Велено будет канцлеру Нессельроде написать обо всем японскому правительству и отправить письмо с ратификацией.
– Но как же так... Путятин, – спросил Александр, подводя адмирала к столу с бумагами, – говорят, что твои офицеры при дешевизне в Японии потратили большие деньги не только на дело? И будто бы все это японцы записали мне в счет, хотя и не упомянули за что?
Путятин смешался, ссутулился, покраснел, стал слабым, старым и жалким. На высочайшее имя тайные доносы доставлялись прежде докладных записок. Как же можно? Во время войны? – как бы говорил молодой укоряющий взор.
Александр взял адмирала за локоть и продолжал со строгостью:
– Скажи, Путятин, своему государю, неужели уж так хороши японки? Впрочем, пусть будет все, как ты просишь! Как и все остальное, что ты предлагаешь... Быть по сему.
Через день в газетах был напечатан указ о возведении Евфимия Васильевича Путятина в графское достоинство. Граф Путятин и графиня Мария Васильевна Путятина получили приглашение в Зимний к высочайшему обеду.
В английской газете, полученной с опозданием через Берлин, Путятин прочел: «Корабли английской эскадры под командованием адмирала Стирлинга захватили в Тихом океане в плен адмирала Путятина и его посольство, возвращающееся из Японии на бременской, шхуне «Грета»...»
«Меня в плен взяли?» – испуганно подумал Евфимий Васильевич, в первый миг по привычке веря английской газете. Он всю жизнь считал, что все английские газеты, как «Таймс» – Gazetteer of the world – «газета газет», или «всемирный справочник», как ее называют, печатают лишь достоверные сведения...
Но, видно, что-то все же случилось. Нет дыма без огня! Как же и что все-таки там произошло минувшим, летом?
БРЕМЕНСКИЙ БРИГ «ГРЕТА»
Большая часть международных бед происходит... оттого, что народы слишком мало знают друг друга.
Налетал ветерок, паруса слабо заполнялись и тут же провисали. Судно едва двигалось. По левому борту, на траверсе, видна щетинистая возвышенность северной оконечности острова Сахалин. В море военный пароход, он быстро приближается. На мачте виден Полосатый Джек. С парохода сделали два выстрела. Бриг лег в дрейф.
Лейтенант Алексей Сибирцев надеется, что вид его не выдает; в двадцать два года, кажется, пора научиться владеть собой. За время перехода из Японии его тяготил не голод, не грязь и теснота...
Есть пословица: кто чего боится, то с тем и случится!
Жаль было уходить из Японии. Но раз ушли, то ушли. Как и все, он желал скорей к своим берегам. Возвращение к родному гнезду лечит и заглушает впечатления от того, что осталось за кормой.
Когда завиделись горы Сахалина, Алексей словно увидел отца и мать, боль и тоска по далекому еще дому дали знать себя с новой силой. Невесте он расскажет обо всем прямо и открыто. До Петербурга еще не близко...
И вдруг этот английский крейсер!
– Немедленно спускайтесь все в трюм! – кричал, бегая по палубе, шкипер бременского брига Тауло, шедшего под американским флагом, обращаясь ко множеству русских моряков, собравшихся в этот солнечный час наверху. Кричал яростно на обескураженных людей, и они невольно повиновались.
Странно, впрочем, что даже в этот горький час у Алексея сохранился интерес к происходящему.
Все офицеры нервничали. У всех дома семьи или невесты. Все истосковались по России и, наверно, гораздо больше, чем Алексей. Ведь им не жаль было уходить из Японии.
Матросы поглядывают на офицеров, словно хотят спросить, что же будет приказано – дать сдачи или сдаваться? В плен никому не хотелось.
– Только бы подойти к ним, Алексей Николаевич, – сказал Маслов, рослый и плечистый детина с толстой шеей, по приказу адмирала произведенный в Японии в унтера, – мы бы им, сволочам...
Офицеры не выказывали никакого желания драться. Алексей удивлялся, что все подчиняются нелепым требованиям Тауло.
Но остаются мгновения.
– Неужели нельзя взять пароход? – вслух подумал Маслов. – Нас триста. Нет, никому и в голову не приходит. Неужели нельзя заставить немца и подойти к ним, обмануть...
Приказано всем спускаться в трюм. Маслов знал, что хорошим признаком характера представляется офицерам умение с достоинством подчиняться обстоятельствам, посчитаться с силой вовремя.
Плотными рядами улеглись и уселись на настиле в трюме триста человек матросов и офицеров. Здесь же все вещи. У немногих оружие.
Штурманский поручик Петр Елкин прикреплял к кожаной сумке тяжелую гирю. Не меньшая тяжесть и на душе. Три года вел гидрографические заметки, снимал карты. В этой сумке дело всей жизни: плавания, описи, открытия. Надо решиться и расстаться со всем навсегда.
– Господа! Вот мне действительно можно впасть в отчаяние! Вам-то что! Просидите в плену, и все. А у меня отберут все мои описи. Все наши секреты не в ваших глупейших канцелярских бумагах и рапортах, а у меня на картах...
– Куда, зачем они всюду идут? Кто их тут просит, – говорил Янка Берзинь.
– Придут с досмотром, – сказал белокурый матрос-татарин Махмутов, – сразу схватить и дать предупреждение на пароход, что всем головы отрежем, если хоть раз выстрелят. Пусть пропустят в Россию. Пообещаем, что там отдадим всех живыми!
Пароход приблизился, но не подходил, словно его капитан угадывал мысли путятинских матросов. Отвалила шлюпка с вооруженной командой. По выброшенному штормтрапу поднялся офицер и за ним матросы с ружьями и кинжалами.
Шкипер Тауло – рослый немец с лысиной во всю голову – поздоровался, сделал вид, что удивился, зло ощерился и пригласил офицера в рубку. Курс проложен на карте, на штурманском столе.
– Национальность судна?
– Какой груз?
– Пожалуйста, документы. Почему пытались уйти? Почему под американским флагом?
Тауло надел очки, подал бумаги, объясняя, что идет в поисках американских китобойных судов, по просьбе их консула в Японии, для продажи продовольствия, полагал, что американский флаг гарантирует безопасность.
– Есть ли на судне люди кроме команды?
– Нет...
Матрос Тунчжинг – гонконгский китаец, считавший себя англичанином и произносивший свою фамилию на английский лад, молча стоял в дверях рубки позади Тауло и уже несколько раз подмигивал офицеру, как бы показывая при этом куда-то вниз, словно желал сказать, что там кто-то есть.
– Откройте люки! – велел офицер, выйдя из рубки и обращаясь к своим людям.
Тунчжинг удовлетворенно кивнул головой и отошел в сторону.
Матросы подняли крышку. Офицер заглянул в люк.
– Эу! – неподдельно изумился матрос с нашивками и, отступив шаг, перекинул карабин на руку.
– Так вот кто здесь! – воскликнул офицер и взглянул на растерянного Тауло.
По палубному настилу в трюме сплошной массой теснились люди. Матросы навели ружья на люк.
– А ну, выходите все! Кам, кам аут! – сказал английский матрос с нашивками на плече, смотревший и сам испуганно.
Матросы стали подыматься из трюма на палубу. Они жмурились от солнца.
– Кладите оружие! – предупредили по-русски. Есть у них переводчик.
Но оружия ни у кого не было – все брошено в трюме; все подымались разоруженными.
Офицеров просили отходить в сторону. Матрос с нашивками считал и записывал. Люди все шли и шли.

Поодаль, наведя карабины на пленных, стоял целый строй британских матросов.
«Первый враг, которого я вижу в эту войну!» – печально подумал Алексей Сибирцев.
– Ваше оружие, – обратились к нему.
– Я не имею.
– Что вам? – обернулся офицер к подошедшему лейтенанту Мусину-Пушкину.
– Я командую экипажем погибшего корабля «Диана», – заговорил Пушкин на французском. – Согласно международной конвенции о терпящих бедствие на море, вы не вправе задерживать нас. Вы видите – мои люди безоружны...
Английский лейтенант с жесткими русыми усами на сильно загоревшем с редкими морщинами лице молчал – кажется, не понимал французскую речь.
Николай Шиллинг перевел по-английски.
– Я не веду никаких переговоров, – ответил офицер. – С этого момента вы пленные.
– В таком случае я должен говорить с вашим командиром, – сказал Пушкин.
– Ждите.
– Сто пятьдесят шесть... сто пятьдесят семь... – считал матрос у трапа.
Поднялся Петр Елкин, красный как рак, решительно и быстро прошагал к борту, вздохнул и с размаха выбросил в море кожаную сумку с грузом, как персидскую княжну. К нему кинулись двое английских матросов.
– Полегче, полегче, – запальчиво заметил Елкин, показывая взглядом на свои офицерские эполеты.
– Что он выбросил? – с беспокойством спросил офицер. Он приостановил движение у люка. – Что вы выбросили?
«Чего они боятся?» – раздраженно подумал Сибирцев.
– What is the matter to you? – со злом и насмешкой ответил он. – The letters of his sweetheart![7]
Лейтенант вгляделся в Алексея и отошел. Можно было понять как совет или предупреждение не осложнять дело дерзостями.
Уже двести! Сколько их еще там? Каков груз продовольствия доставлял немец под чужим флагом.
Когда трюм опустел и вся масса матросов столпилась на палубе, лейтенант переписал фамилии офицеров и Гошкевича.
Старшие матросы осматривали трюм, ощупали некоторые, из тюков, велели поднять наверх ящики Гошкевича и Елкина. Лейтенант попросил открыть их. Потом, обращаясь к Шиллингу, сказал, что шлюпка сейчас отходит. Пушкин взял с собой Сибирцева и Шиллинга.
«Барракута», с ее большими пушками на носу и корме и с высокой трубой, выглядела все значительнее по мере того, как приближалась. У борта большого парохода еще более чувствуешь свое униженное положение. Быстрая и опасная, как хищная рыба барракута, виденная не раз в южноамериканских аквариумах, – так сейчас представлялось неприятельское судно до смерти уставшему Алексею. Все эти дни на «Грете» офицеры спали в одной каюте вповалку. Матросы – в трюме и на палубе, где по ночам начинало веять холодом еще не согревшегося северного моря; ели кое-как, всухомятку; у Тауло не было порядочного камбуза, на бриге не хватало воды.
Командир «Барракуты» лейтенант Артур Стирлинг оказался очень молодым человеком при палаше, кажется, сверстник Алексея. Он с короткими усами и коротким козырьком форменной фуражки, посаженной как по ватерпасу, похож на лейтенанта Гибсона, производившего досмотр и взявшего «Грету».
– Я – старший офицер фрегата «Диана», – представился Пушкин. Он все объяснил.
Во время его рассказа Стирлинг на мгновение понурился, но тут же поднял голову, лицо его приняло серьезное выражение.
– Идемте! – ответил он по-французски и, взглянув на «Грету» в дрейфе, пошел вперед.
Алексей подумал, что еще может обойтись, не поторопился ли Елкин выбросить сумку. Все чуть оживились.
В небольшом салоне Пушкин повторил свои доводы. Стирлинг перестал смотреть ему в лицо.
– Я иду в Хакодате... Там можете передать свои претензии командующему эскадрой адмиралу, – сказал он.
До некоторой степени Алексей понимал, что Стирлинг по-своему прав. «Но мне-то не легче». Когда завидели пароход в море, Сибирцев сам полагал, зачем же прятаться в трюм. Надо всем быть на обычных местах и твердо сказать при опросе, что не считаем себя военнопленными, мы безоружны, потерпели кораблекрушение и с нами не воюют. С толку сбил проклятый Тауло, накинувшись с криками: «Поспешней, как можно поспешней, все в трюм! Я знаю, что им сказать!» Разве боялся, что с парохода начнут стрелять по «Грете», если увидят на ней русских моряков в форме? Спрятались, хотя и унизительно! В общем-то, все равно, хрен редьки не слаще; все устали! Что же теперь? Из рук вон плохо! Если в плен, то уж долго никуда не вырвемся. Какие бы доводы ни приводили, нас уже некуда будет девать, кроме как держать в плену. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
С аффектацией, свойственной его французской речи, Пушкин повторил свои доводы.
– Мы заявляем решительный протест против нарушения международного права, – заявил Шиллинг.
Все волновались, и это выгодно подчеркивало англичанам их хладнокровие.
– Вы сами отказались от статута потерпевших кораблекрушение! – резко возразил Стирлинг.
– У нас больные в команде, в том числе заразные, – в тон ему продолжал Шиллинг. – Зачем же транспортировать их в Хакодате? Экипаж полгода жил после катастрофы в Японии. Какой смысл вам доставлять больных в Хакодате, когда рядом Аян и Охотск? Вы в первую очередь обязаны свезти их на берег. – Он говорил не только как лейтенант с лейтенантом, он говорил как барон.
На эскадрах южных морей заразными болезнями никого не удивишь.
– Вы говорите по-английски? – обратился Стирлинг к Сибирцеву.
– Немного.
– Было ли вами в японском борту Симода совершено нападение на французское судно?
– Нападения на французское судно не было.
– А что же было?
– Предполагаю, что опасения высказывались находившимися в Японии одновременно с нами американцами, будто мы можем напасть на зашедшего в Симоду французского китобоя. Французское судно сразу ушло, узнав от американцев, что мы в Японии.
– Где вы были в Японии?
– В порту Симода.
Стирлинг слушал внимательно, глядя глаза в глаза.
– Вы пережили там катастрофу?
– Да.
– Ужасное происшествие. Много слышал!
– Вы не говорите по-английски? – обратился Стерлинг к Мусину-Пушкину.
– Ответьте ему, Николай Александрович, что я говорю на трех языках с детства, но по-английски не говорю и говорить не хочу на этом языке.
– Лейтенант Пушкин не говорит по-английски, – перевел Шиллинг.
Офицеры уже знали от взявшего их в плен лейтенанта Гибсона, что командир парохода Артур Стерлинг – сын командующего флотом адмирала Джеймса Стирлинга, который сейчас находится в Хакодате, и что «Барракута» была в Аяне и в те дни там стояла плохая погода и был снег.
– Какой же смысл, капитан, когда Аян рядом, доставлять нас в Хакодате, чтобы потом отправлять в Россию? – заговорил Сибирцев.
– Вы уверены, что так будет?
– Да, вполне. Мы все уверены, что это лишь недоразумение.
«Может быть, они по-своему правы, но отпускать нельзя», – полагал Стирлинг.
Неожиданно подали, как говорят у них, «освежение», и довольно обильное. Отказываться не надо, тем более что не считаем себя пленниками, да и голодны, чего нельзя, однако, показать. При виде мяса, вина и фруктов скулы сводит.
Стирлинг, подымая бокал, сказал:
– То absent friends[8].
Попросил рассказать про кораблекрушение. Заговорил Шиллинг. Сибирцев иногда добавлял. Все слушали с возрастающим интересом.
Когда дошла очередь до сорока оборотов, которые сделала «Диана» на своих якорных канатах, проносясь у подножья скал вместе с крутящейся водой бухты, старший офицер, до того совершенно немой как рыба, что-то закричал и вскочил, подняв обе руки со сжатыми кулаками. Все хладнокровие с них как ветром сдуло. Стали расспрашивать...
Алешу грызла мысль, что все это не поможет; к делу никакого отношения... А матросы наши про нас сказали бы: «Ну, жруть!»
– А где адмирал Путятин? – спросил старший лейтенант. Он высок и худощав, с большим носом и маленькими усами.
– Ушел из Японии ранней весной и теперь находится в России, – ответил Пушкин. – На корабле, который мы построили в Японии.
Про корабль не стали спрашивать.
Гибсон спросил про Гошкевича и про коллекции, где он набрал такие прекрасные экземпляры, кто набивал чучела птиц и рыб.
Стирлинг заметил, что хотел бы видеть коллекцию, сказал, что отдает приказание идти в Аян.
– Там коммодор Эллиот – командующий отрядом кораблей.
Ясно. Все должно решиться начальством. Аян близок, а до Хакодате далеко.
– Но я прошу вас, господин Пушкин, дать мне честное слово, – сказал Стирлинг по-французски, – что вами и вашими офицерами и людьми не будет предпринято никакой попытки к освобождению силой или к какому-либо сопротивлению. В противном случае я должен буду принять меры строгости.
– Я даю вам честное слово, капитан Стирлинг, что ни я, ни мои офицеры и матросы не позволят себе никакой попытки к насилию, чтобы добиться освобождения. По прибытии в Аян я надеюсь выручить свою команду, убедив коммодора освободить нас на законном основании.
Стирлинг подумал, что лейтенант, не зная языка, не знает и английских морских правил. «У нас нет закона, на который он мог бы рассчитывать».
– Пожалуйста, лейтенант Пушкин, можете остаться с офицерами на пароходе. Вам предоставим каюты.
– Благодарим вас, капитан. В настоящем положении не могу воспользоваться вашей любезностью. Мы должны разделить участь с нашими людьми.
Пошли садиться в шлюпку. Взаимные вежливости соблюдены. На душе скребут кошки. Надежда, как полагал Алексей, слаба...
Если до сих пор лично к офицерам неприятельского флота он не испытывал неприязни, то сейчас, когда сходил в шлюпку, они показались ему тюремщиками, которые втолкнули его обратно в камеру. Он почувствовал, что теряет самообладание и нервничает, ум его в тупике, сердце глохнет; он не в силах даже придумать что-то спасительное.
Среди чужих невольно рисуешься, но, оставшись в одиночестве, впадаешь в отчаяние. Тюрьмы построены ими по всему свету, всюду подавляют восстания и все ради торговли, как говорил Гончаров... Что еще можно обидного для них вспомнить?
Лейтенант Гибсон, производивший досмотр на «Грете», сопровождал пленных офицеров.
...Артур Стирлинг у себя в салоне обратился к старшему лейтенанту:
– Поезжайте на «Грету». Смените Гибсона. Возьмите с собой сорок матросов. Подайте на «Грету» два цепных каната. Возьмите ее на буксир. На ночь поставьте сильный караул к буксирам, к рубке и к люкам на палубе. Людей разделите на две вахты.
– Да, сэр!
Когда старший офицер принял «Грету», все предосторожности были взяты и цепные канаты закреплены, лейтенант Гибсон возвратился на «Барракуту».
– Благодарю вас, Роберт! – сказал Стирлинг. – Поздравляю вас. Ваш второй приз в эту кампанию.
– Благодарю вас, – почтительно ответил Гибсон. За несколько дней перед этим он догнал и захватил шлюпку русского брига в лимане Амура. А само русское судно было сожжено его же командой.
Гибсон – ирландец. Никто не присылал Артуру Стирлингу распоряжений предоставлять возможности отличиться офицерам-ирландцам. Он сам все понимает. Во всех случаях, где возможно, ирландцев поощряют, так как в Ирландии сильное недовольство зависимым положением, еще не забыты подавленные восстания. При таких обстоятельствах, возвышая честных ирландцев-офицеров и поощряя матросов, даешь понять, что они равны с нами вполне, такие же британцы.
– Что говорят ваши люди?
– Сержант Джонсон сказал, что все пленные вполне дисциплинированные, хорошего физического сложения, но голодны и многие нездоровы. Некоторые довольно серьезно. Доктор подал рапорт, что заразных нет.
– Сказали офицерам, что им предстоит в Аяне встреча с французским кораблем «Константин», который был в Симоде?
– Да, сэр.
– Как они приняли?
– Они устали и безразличны ко всему.
– Янки уверяют, что русские приняли их корабль «Поухаттан» за француза, напали, но поняли, что нарвались, и вовремя ушли.
Артур на месте Путятина и его офицеров, может быть, поступил бы так же, но постарался бы тщательно рассчитать и взвесить все, хотя, однако, времени у них не было, приходилось решать мгновенно. Их можно, можно понять.
«Отличные коллекции натуралистов, книги, множество японских прекрасных предметов рекомендовали умственные интересы пленников, как и вывезенный ими ученый молодой японец, как и знание ими языков, – думал Стирлинг. – Судить о людях, об их привычках и воспитании можно за столом. Также по умению обращаться с вещами и по отношению к животным».
Кампания этого года была не очень удачной. Отец командует флотом из двадцати семи вымпелов. Его консорт – французский адмирал – четырнадцатью...
Что же произошло с «Барракутой» до встречи с русскими, возвращавшимися из Японии?
Ранней весной соединенный флот из двух союзных эскадр под командованием адмирала Брюса вошел в Авачинскую бухту. Этот флот был усилен отрядом кораблей, откомандированных из Хакодате из эскадры адмирала Стирлинга. В составе отряда находилась «Барракута». В Петропавловске русского флота не оказалось: город эвакуирован.
«Барракута» и фрегат «Пик» под командованием капитана Никольсена 1 июня 1855 года были отряжены в Охотское море на поиски русского фрегата «Аврора». А сам адмирал Брюс ушел в погоню за исчезнувшей «Авророй» со своей эскадрой в Русскую Америку.
При тяжелых штормах и встречных ветрах «Пик» и «Барракута» достигли мыса Лопатки 15-го и на другой день под берегом острова Парамушир вошли в Курильский пролив. Разведя пары, «Барракута» проследовала в сплошном тумане в Охотское море. «Пик» открылся снова лишь 25-го, капитан Никольсен сообщил, что был у берега Сахалина, встретил американского китолова, у которого на борту якобы побывал офицер с русского фрегата «Аврора». Русский лейтенант впал в глубочайшую ярость, когда выяснил, что судно не английское. С досады разорвал в клочья американские судовые документы. Про эту «Аврору» все только и толковали, и всем слухам невозможно верить; кажется, шкипер мог приплести «Аврору» из-за того, что корабельные документы не были в порядке... Теперь все можно свалить на «Аврору»!
Китобой рассказывал басни про «Аврору». Как и все американцы! На прощанье выложил:
– Well sir, I trust you don’t believe in all we say; if you do, sir, you have strong digestion, I do say[9].
Зная нрав Никольсена, можно представить, как он это выслушивал, скрывая свое бешенство.
Янки знали, над чем посмеяться. Давно нет свежей пищи. Матросы питаются солониной и сухарями, многие страдают запорами. Офицеры тем более: неподвижность и плохое настроение. Будь рабарбар[10], все поправились бы и ожили.
Встреча американца с «Авророй» якобы произошла в 70 милях от северной оконечности острова Сахалина у Мыса Елизаветы. Шкипер уверял, что в тумане сама «Аврора» не была видна.
15 июля «Пик» и «Барракута» ушли из Аяна, и на другой день в открытом море завиделась эскадра. Друзья или враги? К величайшей радости офицеров и «синих жакетов», оказался отряд из четырех кораблей под командованием коммодора Чарльза Эллиота.
Опять невероятные новости. Оказалось, что коммодор нашел «Аврору». Она совсем не в Америке! «Аврора» обнаружена была в заливе Де-Кастри, черт знает как далеко они успели уйти. Залив Де-Кастри напротив западного берега Сахалина, южней устья Амура... Коммодор надеялся ее захватить, послал к адмиралу Стерлингу за подкреплением, но тем временем «Аврора» ушла. Залив Де-Кастри опустел.
Куда ушла «Аврора»? Единственно возможный путь – в Амур, через северный Амурский залив, где есть вход в реку. Ведь, как известно, с юга нет входа, там перешеек, точнее – обсыхающие мели, как доказал Крузенштерн.
Коммодор, обойдя Сахалин, намеревался войти в Амур с севера в поисках скрывшейся русской эскадры. Эллиот слышать не хотел о передвигающихся мелях, непроходимых лабиринтах и погибших судах.
– Мне нужна «Аврора»! – заявил он. Коммодор принял команду над соединенной эскадрой.
Матросы «Барракуты», кажется, неохотно возвращаются из-за пленных к берегам Сибири. В Гонконге давно отцвел миндаль. Уже есть молодая красная китайская картошка, очень вкусная, любимое кушанье «синих жакетов». Уже есть персики. Всюду в Южном Китае, в Кантоне, на Жемчужной и в колонии – абрикосы, ягоды. Все это должно быть и в Японии! А в Аяне? Старая, проросшая картошка в подпольях сладкая, как перезрелые бананы. Когда расклеивали прокламации к русскому населению, призывающие возвращаться, то в одном из домиков нашли глиняную корчагу с соленой черемшой...
«Барракута» вела захваченный бриг через дожди и туманы на север. У рубки вооруженные английские матросы. Лейтенант на мостике отдает распоряжения шкиперу Тауло. Иногда обращается к Шиллингу, просит отдать приказание, чтобы пленные помогли, и тогда русские матросы подымаются на мачты.
...Вокруг «Греты» английские корабли. На фрегате коммодорский флаг. Видно французское парусное судно. У берега целый флот американских китобойных судов.
Оставляя «Грету», английский лейтенант предупредил офицеров и Гошкевича, что здесь бриг «Константин», который, как известно в Гонконге и Шанхае, защитил в Японии и спас в бою гигантский китобойный корабль «Наполеон III».
– От кого? – спросил Сибирцев.
– Мы в жизни не видели в глаза «Константина», – добавил Гошкевич.
– Как изменился пейзаж: холмы и долины теперь, в середине лета, свободны от снега, – говорил за столом молодой лейтенант Тронсон, только что возвратившись на «Барракуту» с берега. – Деревья оделись густой листвой, и все лужайки сплошь покрыты прекрасными цветами.
– Здесь отличная порода камчатских собак, – заметил старший офицер с нафабренными усами.
– Порода совершенно не та, что на Камчатке. Это коммодорские собаки. С Коммодорских островов.
– Вы ошибаетесь!
– Как можно не отличить! Удивляюсь!
– Сразу заметно?
– Я поражен, господа, вашей совершенной неосведомленности! Как здесь оказаться могут коммодорские собаки! Здесь охотская порода собак. Это сибирский хантер.
Вся кают-компания вовлечена в горячий спор.
Вино придавало горячности. Раздавались голоса, что необходимо добросовестное научное исследование новых пород, открытых на сибирских побережьях океана.
– И справочники с рисунками. Это долг эскадры!
– Наши «синие жакеты» уже обогнали своих офицеров, в палубах есть собаки всех местных пород.
– И с Охотского побережья?
– Да!
– Но «синие жакеты» их портят! Они перекармливают своих любимцев и этим лишают их качества. Их собаки – прообраз будущей демократии пьянства и обжорства.
– При чем тут пьянство? Вы заговариваетесь...
– Нет, это доказательное сравнение, и я его рекомендую, – заявил штурманский офицер Френсис Мэй.
БИЗНЕСМЕНЫ
– Почему у вас часовой и всюду джеки? – спросил курчавый калифорниец.
Тауло пожал плечами, как будто сам не знал, почему такое недоразумение.
– Капитан, это мои клиенты. Они пили у меня в Японии на моем плавучем грогхаузе. Русские очень надежны в этом отношении... Алекс! Николас! А вот за мной идет мистер Рид. Наш консул в Японии! О-о! Мы все собрались здесь! Тут много наших судов. Вот видите, мы пришли торговать. Пожалуйте ко мне в грогхауз на берег!
– Ба-а, так это наши старые друзья по храму Гекусенди!
– Мистер Рид? Это вы? – удивился Сибирцев.
– Я! Да, я временно оккупировал Аян! Так вы думаете? Японцы не давали мне открыть кабак ни на суше, ни на море. Американское посольство в Японии избрало Аян резиденцией и как рынок для продажи виски.
Мистер Рид, который в Симоде выдавал себя за американского консула и безуспешно требовал от японцев признанья, каким-то образом оказался тут. Он радушно тряс всем руки.
– Вот видите, – подвел офицеров к борту курчавый хозяин грогхауза, – тут собрался наш китобойный флот. А я это сразу учуял. Я был уже здесь вблизи, на море. Я привел в Аян мой плавучий ресторан... С виски, с винами! С пивом! Где это видано, чтобы пиво везли через океан! Эль! Наш общий друг – Джон-Ячменное зерно! Идемте... но я торгую теперь не на судне. Видите, видите, вон американский флаг над складом вашей компании! Это я. Это мой бар! У меня зал с музыкой; жаль, нет женщин. Если бы удалось заполучить хотя бы тунгусок!
– Где ваш бар? – переспросил Сибирцев.
– Смотрите, вот! Флаг Штатов развевается над пустым складом. Над соседним помещением также звездный флаг. Это торгует мистер Рид – наш уважаемый дипломат и мой коллега. У его превосходительства в Аяне американский магазин.
– Здесь также ваш старый друг мистер Шарпер, знакомый адмирала Завойко, адмирала Невельского и генерала Муравьева, – добавил дипломат.
– Сейчас рано, а в пять, после полудня, в моем грогхаузе будет полно моряков со всех китобоев и военных кораблей: английские и французские. Милости прошу и вас! Я рад, что нахожусь в вашей великой стране!
– Но мы, к сожалению, не можем к вам ехать, – сказал Шиллинг. – У нас нет денег! К тому же мы – пленные.
– Вы пленные? Кто вас взял в плен?
– Лейтенант Стирлинг. И пока нас не отпустят, мы не приедем к вам.
– Ну, в таком случае я с вами незнаком! – приподняв шляпу, шутливо ответил американец.
Сказал, что идет на «Сибилл», хочет нанести визит прибывшему английскому коммодору и пригласить его в бар. Любезно попрощался со шкипером и офицерами и удалился на вельботе.
Рид крикнул ему:
– Скажите коммодору, что сейчас к нему прибудет его превосходительство американский консул в Японии! – и, подмигнув Сибирцеву, добавил: – Не выдавайте, что самозванный!
Сказал, что со своей стороны при официальной беседе, как дипломат, сделает все возможное, чтобы его русским друзьям дозволено было сходить в бар и в магазины. Он консул в Японии и берет заботу о них на себя как о прибывших из Японии.
– Мистер Алекс, а вы?
– Ах, мистер Рид, вы знаете, что я не пью!
– Разве вы не русский? – удивился консул. – Что делается! Русский, а не пьет. Неужели вам разрешают не пить? Ведь царь спаивает народ?
– Ха-ха-ха, – расхохотался Сибирцев, и хотелось ему хлопнуть приятеля по плечу. Но «царь не разрешает».
– В бар приходят русские из русской армии, отступившей на десять миль в глубь джунглей. Сообщение с ними только на каноэ, но есть и индейские тропы. С ними и вам можно бы повидаться. Оттуда приходят к нам покупатели. Как и во всем мире, пьющих никто не задерживает. Зная это, генерал Кашеваров охотно отпускает своих людей. Ради дружбы я передам через них любые сведения, какие вам надо. Но мы не шпионы, мы – ваши друзья, хотя кто торгует, тот и шпионит, так приходится, это закон.
Говорилось при английском: часовом, который слушал внимательно, кажется думая не о том, чтобы донести, а как попасть самому в американский рай, объединявший у стойки все враждующие народы. Когда еще парня сменят и удастся ли побывать на берегу? Спешим в Хакодате. Кто же знал, что американцы развернут такое дело на этом жестком берегу и что мы увидим в бухте целый лес их китобойных и торговых шхун. Они сказали, что берут и фунты, франки, серебряные русские рубли и ассигнации, курс им известен, также доллары... Русские несут им из своего лагеря серебро, но не за секреты, какие там секреты! Чего они знают!
Рида спросили, где же судно «Каролайн», где его жена, где Сиомара, где Анна-Мария...
Жена родила сына. Она на Гаваях! Рид временно, до получения из Белого дома утверждения в должности, остался в Японии, хотел жить в Хакодате, но ему пока еще не дозволяют, и он ушел инспектировать американскую торговлю в Охотское море. Захватил при этом товар, перекупив его у потерпевшего крушение шкипера, зафрахтовал другую шхуну. Действовал, как человек с адвокатским и дипломатическим опытом.
Подошел вельбот с «Барракуты». На борт поднялся молоденький лейтенант Тронсон.
– Доброе утро! Я прибыл за вами, господин Пушкин. Коммодор просит вас к себе.
– Правда ли, мистер Алекс, что Сиомара была вашей любовницей? – спросил Рид у Сибирцева.
– Боже спаси...
– Теперь дело прошлое, мы с вами могли бы крепко выпить за воспоминания...
КОММОДОР ЧАРЛЬЗ ЭЛЛИОТ
На квартердеке, то есть на шканцах корабля «Сибилл», стоя перед коммодором и двумя капитанами, Пушкин все объяснил. Его густые усы, выпадавшие ниже выбритых щек двумя пышными клоками, правильная французская речь и манера держаться с достоинством обнаруживали человека света и вкуса. Коммодор видел – в плен попал серьезный офицер. Убежден в несправедливости ареста команды корабля, потерпевшего крушение. Вышедшего в плавание до объявления войны. Команды безоружной, исполнявшей свой долг – возвращения в свое отечество... Нельзя прерывать его доказательную речь. Переводчик едва поспевал.
Эллиот выслушал и ответил, что отпустить офицеров и команду не может. Готов на снисхождение. Согласен освободить больных и всех слабых, священника, доктора, Гошкевича, переводчика-японца. Разрешит отправить письма в Россию через Аян.
– Что же за снисхождение, господин Эллиот, – перевел Шиллинг по-английски. – Я не вижу ничего подобного...
– Я сказал.
– Но вы взяли нас незаконно и уклоняетесь признаться!
– Как незаконно? – ответил Эллиот, багровея. – Мой дорогой, – обратился он к Артуру Стирлингу, – зачем в таком случае вы их ко мне доставили? Мне не о чем говорить! Что вам еще тут надо? – грубо обратился он к Пушкину. – Я все сказал! Большего снисхождения не будет.
Пушкин сошел в вельбот. Шиллинг задержался.
Чарльз Эллиот – живая легенда. Старая морская собака!
Долгие годы Эллиот считался грозой Китая. Когда, командуя эскадрой, забрал в свои руки слишком большую власть, опиоторговцы Джордин и Матисон – создатели старейшей и самой большой фирмы, торговавшей индийским зельем, – стали добиваться отстранения Эллиота под предлогом, что он недостаточно гуманен. До того Эллиот вел необъявленную войну на Кантонской реке. Он захватил остров Гонконг, на котором теперь построен город Виктория.
Матисон и Джордин жаловались в Лондон до тех пор, пока Пальмерстон не убрал Эллиота и не объявил войну Китаю. Все закончилось бомбардировкой Кантона и укреплений и полным разгромом китайцев. Все успехи Эллиота сильные люди потом приписали своим ставленникам, захват острова и основание Гонконга были узаконены мирным договором с Китаем. Адмирала Эллиоту не дали. Как известно, чин коммодора равен генеральскому. Но он получил орден Баню А Джордин и Матисон теперь фактические хозяева нового города на острове и колонии. Долго считалось неприличным в Кантоне и Гонконге упоминать имя Эллиота. Но он жив и снова явился. Прошло шестнадцать лет с его удаления, оказалось, что на Ост-Индской эскадре, а также на Виктории[11] его помнят.
За эти годы он был губернатором Тринидата, потом острова Святой Елены. С начала войны Чарльза Эллиота послали туда, где все было начато им, где его жизнь много раз висела на волоске. Он обрушился на Гонконг, как Зевс, и снова стал легендарной личностью. В Лондоне его недолюбливают до сих пор. Там люди высоких принципов. Чтобы получить адмирала, нужны новые заслуги.
Чарльзу Эллиоту за пятьдесят, он еще очень свеж и моложав. У него выхоленные усы, львиная грива, пышный галстук. В нем чувствуется большая физическая сила, храбрость и решительность. Он высок, грузен, ловок и подвижен. Видимо, отлично танцует, ездит верхом.
Шиллинг вспомнил японское изречение, которое ему очень нравилось: «Если старый человек хорошо танцует – это негодяй!»
– Какое мне дело до всего этого! – ответил, выслушав доводы пленных, коммодор и махнул рукой, не желая больше разговаривать. – Ступайте!
В глазах Шиллинга заискрились точки, словно в них закипало серебро. «Конюхи и рыбаки, возомнившие себя аристократами!»
– Вы позорите свой мундир бесчестным поступком!
– Что? – Эллиот, казалось, ополоумел. – Да я... я... Я вас велю повесить!
– Осмельтесь! Вы покроете себя еще большим позором. Я готов к любому вашему беззаконному действию, так как знаю, с кем говорю, в чьих руках нахожусь. Я не стал бы тратить слов, если бы не считал долгом морского офицера напомнить вам о порядочности... Весь мир заговорит о вашем бесчестном поступке!
Эллиот обомлел. На миг ему показалось, что пленник знает всю его подноготную. Эллиот сбит с толку. Но ненадолго.
– Где «Аврора»? – вдруг спросил он.
– Не знаю.
– Не лгите! Где «Аврора»? – закричал Эллиот. – Дайте мне «Аврору» и пойдете на берег... В противном случае – виселица! А берег рядом. Вот ваша страна... Идите домой, но скажите! Или... – Эллиот поднял свою большую, тяжелую руку и торжественно показал на рею грот-мачты.
– Порядочный нахал! – сказал Пушкин, возвратись на «Грету».
Лейтенант, доставивший на судно Пушкина и Шиллинга, подошел к Сибирцеву:
– Коммодор требует вас к себе!..
Оказалось, что Эллиот сам явился на «Грету», желая видеть пленных. Им приказали выстроиться. Коммодор обошел ряды, вглядываясь матросам в глаза, и велел их распустить.
– У меня есть сведения, что вы знаете английский язык? – спросил он Сибирцева в рубке.
– Да, сэр. Немного.
– Вы знаете хорошо! Почему вы знаете наш язык? За свою жизнь я не видел ни одного русского, который знал хотя бы один язык! Зачем знаете? Отвечайте, коммодор с вами говорит!
– Лейтенант Шиллинг предупредил вас о последствиях... Будьте осторожней!
– Что? Откуда вы знаете? Мы говорили один на один. Отвечайте, где «Аврора»?
Он как сумасшедший из-за этой «Авроры». Положение коммодора показалось Алексею смешным. Он почувствовал, что ярости, как Шиллинг, не испытывает, хотя предложение коммодора весьма недостойное.
– Я не знаю.
– Вы служили на «Авроре»?
– Я служил на «Диане».
– Вы знаете, что «Аврора» была на Камчатке?
– Да, знаю, что в прошлом году «Аврора» приняла участие в обороне Петропавловска и что английский адмирал...
– Не рассказывайте чудесные истории! Скажите мне, куда «Аврора» ушла с Камчатки?
– Что вы мне предлагаете?
– Адмирал Стирлинг вам покажет... Я отдаю приказ, чтобы всех матросов и офицеров распределить по английским кораблям. Вы распишитесь и передайте вашему командиру.
– Это не мое дело. Лейтенант Мусин-Пушкин здесь, и вы можете передать ему. У вас есть для этого офицеры.
– Не можете ли достать мне на берегу собак камчатской породы? Напишите записку вашему епископу, который приехал в Аян, чтобы он прислал собак.
– Здесь нет собак камчатской породы. Тут другая порода.
– Мне сказали, что епископ со своей свитой ехал в лодках, которые тащили, мчась по берегу, собаки такой же породы, как на Камчатке.
– Я не знаю никакого епископа. Я никогда не был на Камчатке.
– Жаль.
Эллиот уехал на «Сибилл».
Через некоторое время он приказал доставить шкипера Тауло.
– Кто хозяин «Греты»? – спросил Эллиот.
– Гамбургский купец Пустау.
– Кто? Где живет?
– В Гонконге.
– Все ясно! Зачем судно пошло в Японию? Кто подлинный хозяин судна?
– В Гонконге составилась шайка русских шпионов! – заявил Эллиот, собрав капитанов кораблей после допроса немца. – Там среди американцев обосновалась компания немецких дельцов, принявших американское подданство. Это агентура Зибольда. А Зибольд куплен Петербургом. Мне кажется, американцы забирают бизнес в свои руки. У них банки, суда, и они дотянулись к опиуму. Я уверен, что Пустау с компанией послал судно за русскими, чтобы потом получить от царя за фрахт и вознаграждение. Старайтесь узнавать, Артур, у русских офицеров в плаванье все, что можете.
– Да, сэр, – ответил Стирлинг.
– Хирург, священник и больные, прибывшие на «Грете», освобождаются и свозятся на берег для передачи русским. Священника отправим не сразу, пусть отслужит своей команде и примет поручения. О больных надо снестись с берегом. Русского доктора отправьте на берег, и пусть он сам все подготовит. Вы, Артур, желали взять лейтенанта Пушкина, Шиллинга, Сибирцева. С вами пойдут советник посольства мистер Гошкевич и ученый японец, с которым он не расстается.
– Вы дали слово освободить Гошкевича.
– Гошкевича нельзя освободить. Я рассудил и передумал. Он – глава православного колледжа в Пекине. Я не могу отдать его противнику. Он будет нужен нам для точной информации. Также задерживаем японского переводчика. Я обязан всеми средствами наносить урон противнику.
– Мистер Гошкевич не служит в военном флоте. Он на цивильной службе.
– Он дипломат! Нельзя отпустить. У нас нет закона, позволяющего освобождать цивильных. Потом пусть решают адмирал и губернатор. Вы возьмете часть их людей, Стирлинг.
– Да, сэр. Я найду где поместить сто человек.
– Держите их строго, чтобы не подняли мятежа.
Младший офицер записывал под диктовку. Эллиот с трубкой сидел с боку стола в кресле.
– Два офицера и сорок людей – на «Спартан». Еще двадцать передадим галантному союзнику. Остающиеся офицеры и люди идут на «Сибилл». Лейтенант Гибсон и матросы, взявшие приз под его командованием, назначаются на «Грету» для следования в Гонконг. С ними переводчик мистер Тулли. Для передачи губернатору собрать документы.
Эллиот отправился на берег осматривать обнаруженные следы батарей.
– Где орудия?
Сэр Фредерик – капитан «Эмфитрайта» – сказал:
– Французы высказали предположение, что из-за невозможности транспортировать пушки в джунгли они закопаны.
– Их не могли увезти на лодках?
– Нет таких лодок. Река непригодна для плаванья. Есть тропы, но непригодные для перевозок артиллерии.
Офицеры несколько задержались на батарее. Обступили инженера Уиттингхэма с флагманского судна и выслушали его объяснения об устройстве срытых фортификаций Аяна. Потом все пошли следом за коммодором и капитаном Фредериком на док.
Вокруг обнаженного фундамента валялись остатки взорванного русского парохода. Рядом на стапеле готовая к спуску шхуна. Коммодор сказал, что надо и шхуну взорвать.
– Тут есть русский представитель от компании, он утверждает, что это частное владение, – сказал командир «Эмфитрайта» – сэр Фредерик.
Известно, что Русско-Американская компания имеет обширные владения на Аляске и на побережье, всем командирам кораблей известно также, что эта компания находится как бы в самой тесной компании с Гудзонбайской компанией. Существует обязательство, которое умные и богатые люди в Лондоне и в Петербурге заключили, начиная войну: Англия и Россия воюют, но Гудзонбайская и Русско-Американская компании сохраняют мир, имущество той и другой остается неприкосновенным, территории и фактории на них не захватываются, как и города и селения, корабли не подвергаются нападению и не уничтожаются. Флаги компаний охраняют их имущество повсюду. На территориях компаний война не ведется. Казалось бы, все ясно. На Аляску не вторгаются англичане. Канаду не трогают русские.
Но во время войны оказалось, что небольшие военные порты России на побережье Сибири и ее военный флот снабжаются кораблями компании и повсюду имеются ее фактории, чьи запасы могут быть предоставлены войскам. В Аяне пароход, построенный в эту зиму, по всем признакам, как сказал взорвавший его Стирлинг, предназначался во время войны для плавания в реке и по морю. Служил бы военным целям и был ценным пособием противнику. Склады компании, когда англичане пришли сюда в первый раз, были полны мехов и товаров, и, по возможности, их не тронули, приставив караулы для охраны. Хотя теперь может оказаться, все разграблено, если в них обосновались янки.
– Где этот представитель?
– Он здесь.
Коммодору был представлен инженер Гальшерт. Блондин, в шляпе, в куртке и сапогах, как и полагается инженеру.
Гальшерт сказал, что шхуна – частная собственность начальника фактории господина Кашеварова и строилась лично для него. Он является известным писателем и ученым.
Сэр Фредерик знал, что Кашеваров, который со своими казаками отступил и находится в десяти милях от Аяна, по совместительству является начальником правительственного порта в Аяне. Он командовал тремя батареями, следы которых только что видели. Как быть? Как тут разделить интересы враждебного правительства и почти союзной компании?
Эллиот не хотел входить в подробности.
– Напишите, что даете обещание, что эта шхуна не будет спущена, пока идет война, и не будет участвовать в военных действиях. Пошлите записку в джунгли на подпись капитану Кашеварову, которого американцы принимают за генерала, и пусть поставит печать компании.
Гальшерт согласился.
Тут служащие все же несравненно сговорчивее, чем в Китае!
Эллиот сказал, что свезет больных пленных на берег для отправки в Россию, но попросит передать письмо якутскому губернатору. Непременное условие освобождения: никто в случае выздоровления не примет участия в военных действиях.
Эллиот попросил Гальшерта открыть главный склад – большое помещение с железными ставнями и навесами.
Над железной крышей соседнего здания полощется американский флаг. Американец Шарпер пригласил к себе, сказал, что платить можно наличными или чеками.
– Почему товар стал ваш? Это товар компании?
– Нет, это мой товар, ваше превосходительство! – заявил здоровенный, плечистый Шарпер с лицом цвета печеного яблока и с сединой в черных густых волосах. – Компания разрешила мне торговать в их помещении. Я составил договор на аренду. Вот он – висит на стене. Товары мои собственные, я доставил их на корабле для продажи китобоям в Охотском море.
– Я вижу здесь меха, висевшие в складе компании до вашего прихода, – сказал Артур Стирлинг.
– Очень дорогие меха, сэр, и не всем по карману, – отвечал американец.
– Вы знаете Кашеварова? – спросил Эллиот.
– Да, он мой друг. А вы знаете, ваше превосходительство, – американец вытащил из клетчатых штанов огромный красный носовой платок, громко высморкавшись, вытер нос, – вы знаете... Кашеваров наполовину алеут. И получил в Петербурге образование в морском корпусе... Как вам нравится эта русская система привлекать дружбой народов... Японцы написали в ученом труде, что все инородцы мелких племен льнут к русским, как муравьи на сахар. Я вам уступлю некоторые меха... Я выберу, коммодор.
В баре, отвечая на расспросы офицеров, инженер Гальшерт рассказывал, что климат страны суров, переносится с трудом, дети, несмотря на всю заботу об их здоровье, страдают золотухой в разных формах и почти все население весной болеет цингой. Он упомянул фатерлянд, откуда уехал пять лет назад. Где этот фатерлянд, коммодор не спрашивал. Возможно, не в Пруссии. Скорее всего в Москве, в Риге или в Петербурге.
– Где остановился архиепископ? – спросил Эллиот.
– У его преосвященства квартира в доме сына священника, постоянно живущего в Аяне. Архиепископ Иннокентий – известный ученый, исследователь Аляски, знает языки народов северной Америки и Сибири, издал в Петербурге словарь и учебники алеутского языка, изобрел письменность для колошей – индейского племени, обитающего в колониях компании. Английский путешественник Симпсон, познакомившись с ним, написал в своей книге, что епархия Иннокентия, в которую входит вся Восточная Сибирь, Камчатка, острова Тихого океана и вся Аляска и побережье Северной Америки до Калифорнии включительно, является самой обширной в мире... Симпсон сообщает про случай, когда на судне, шедшем из Америки, умер шкипер. Преосвященный заменил его и вел корабль через весь океан.
Четыре француза с «Константина», как четыре императора Наполеона III, с бородками и в усиках, копаются на огороде, и черные глаза их пылают. Длинными железными шестами они всюду тычут землю.
– Что ищете, галантные союзники? – спросил лейтенант Тронсон.
– Вражескую артиллерию, – ответил один из Наполеонов. – У них закопаны пушки трех батарей!
– Нет, сэр. Они сказали нам в баре, – заметил часовой у церкви, – что здесь закопан русскими железный ящик с золотом и серебром, и они перекопали весь Аян, как участок на собственной ферме. Мы шли вместе, и они признались, что найдут во что бы то ни стало и тогда пригласят нас в таверну.
Офицеры рассмеялись, Стирлинг открыл тяжелую дверь, и все вошли в церковь. Там шла служба и тускло горели свечи. Стихли и сняли фуражки.
Седой священник в облаченье стоял на коленях и, обращаясь к алтарю, с пафосом читал молитву, вздымая обе руки.
– Укрепи... силой своей... умножи славу победами над противоборствующими... сохрани воинство, поели ангела своего, укрепляющего их... и избави от огня и меча...
– Аминь! – тихо и согласно пропели стоявшие у стены; выдавались детские и женские голоса.
Служился молебен о даровании победы над врагом. Гальшерт несколько раз перекрестился. Переводчик мистер Тулли пояснил, что служит архиепископ Иннокентий.
Коммодор и офицеры стояли твердо, как на вахте, решили ждать. Глаза после яркого солнца не сразу привыкали к потемкам, но уже могли рассмотреть молящихся.
С края две пожилых женщины, старик с детьми и худой белокурый подросток, стриженный в кружок, в длинной рубахе и ичигах, подальше видны лица и халаты тунгусов.
...Служба закончилась. Прихожане подходили к епископу, он крестил их. Гальшерт подошел под благословение и сказал, что в церкви находится командующий эскадрой и намерен говорить.
Епископ ушел переодеваться и появился без облачения в черной рясе. Он высок ростом, крепко сложен, в бороде, со свежим, энергичным лицом. Вид его приятен, тем более что Симпсон писал о нем как о храбром моряке.
Все поздоровались.
– Слушаю вас, – сказал Иннокентий.
– Мы рады видеть вас, ваше преосвященство, и познакомиться! – проговорил Эллиот. – Но по долгу службы я должен взять вас в плен.
Иннокентий засмеялся, улавливая солдатскую шутку.
– Зачем же я вам нужен, скажите мне на милость? Неужели у вас своих забот мало?
– Вы полагаете?
– В самом деле! К тому же я человек не военный; следовательно, пользы вам от меня нет, а будут большие хлопоты...
Эллиот шутливо нахмурился.
– Ведь меня надо кормить!
Епископ попал не в бровь, а в глаз, и все рассмеялись. Продовольствия на эскадре мало, это больное место у всех командиров кораблей.
– Так вы отказываетесь сдаться в плен, ваше преосвященство? Но в таком случае будет хуже, вам придется заплатить за свое освобождение.
– Чем же я могу вам платить? – настороженно ответил епископ.
– Как же быть? Впрочем, я могу все взять на себя. Ваше преосвященство должны нам предоставить выкуп – выпить с нами бокал вина за обедом на моем корабле, и только тогда мы отпустим вас.
– Что же делать, – сказал Иннокентий, – раз я в плену, то приходится подчиняться.
Иннокентий знал, что на судах эскадры находятся русские из экспедиции Путятина. Видимо, его приглашали не зря, обращались вполне почтительно, называя «райт ревендер», то есть ваше преосвященство. Он понимал, но говорил через переводчика, полагая, что неприлично выказывать знание языка как бы лишь для того, чтобы расположить в свою пользу.
– Мы просили бы вас, ваше преосвященство, осмотреть вместе с нами госпиталь и встретить доставленных нами больных соотечественников.
– Пойдемте, – сказал Иннокентий, – я покажу вам госпиталь. Доктора там нет, но с больными, видимо, отпускается и наш корабельный врач?
– Да, доктор Ковалевский, – сказал Стирлинг.
– Я не могу понять, почему такое неудобное место выбрано для госпиталя! – рассуждал, расхаживая по болоту, как по площадке для крикета, лейтенант Тронсон. – Тут сыро, это нездоровая низина. Как можно было тут строить это нелепое двухэтажное здание, когда вокруг столько отличных участков на возвышенностях.
«У нас, – подумал преосвященный, – дома для начальства строили на сухом, здоровом месте, а больницы – где попало».
С недоумением осмотрели пришельцы двойные двери, обитые оленьими шкурами. Внутренние помещения бедны, стены оклеены газетами, кое-где заметна плесень.
Пошли на пригорок, в двухэтажную казарму для казаков, сложенную из кедровых бревен. В нижнем – сплошные нары у стен. Верхний этаж разделен на маленькие комнаты с простой, но удобной мебелью, видно, предназначенные для офицеров. Мнения сошлись, что больных лучше поместить здесь.
На берегах горного потока росли ели, березы в свежей зелени, высочайшие тополя, с толстой глянцевитой листвой, на лужайках прекрасные фиалки, крупные синие колокольчики, желтые лютики.
– Азалии образуют пышные заросли по обе стороны потока, – говорил, зайдя в густую, цветущую зелень по горло, лейтенант Тронсон.
В домике епископа все обратили внимание на портрет. Иннокентий еще молод, зорко смотрит вдаль, держит в руках штурвал. Русую бороду треплет ветер. Чья это работа? Подпись по-английски. Кто? Эдвард Бельчер? Сэр Эдвард Бельчер? Англичане столпились у портрета, наклоняясь, читали собственноручную подпись известного моряка и путешественника.
Бельчер, Симпсон, Маккензи – достаточная рекомендация. Эллиот мрачно воодушевился. Он приглашал епископа из деловых соображений, но была и другая причина.
Он рад епископу. Эллиот сражался со всеми народами и всех бил. А Иннокентий проповедовал тем же народам на берегах того же Тихого океана. Какой прекрасный человек! Какое одновременное движение вперед!
– Дорогой мой! Едемте ко мне! – сказал Эллиот сердечно.
Иннокентий знал: не из маниловщины его приглашают.
– С командой корабля «Диана» мы поступаем сурово, – сказал коммодор на корабле, – но иначе нельзя. Мы не можем усиливать ваш гарнизон. Больных я отпускаю.
Эллиот засиделся в авантюристах лишний десяток лет. Он помнил старые добрые времена, когда умел брать за глотку и пристреливать врага, глядя ему в лицо.
Коммодор еще пропитан духом старой Ост-Индской компании. Он еще пригодится.
Эллиот сказал, что взяты в плен матросы с корабля «Охотск», один из них, немец Карл Люгер, сам назвался предателем.
– В Аяне они грабят, и мои матросы удивлены, что русские грабят русских.
Иннокентий знал, что не только грабят, но и показывают взявшим их в плен, где грабить. И американцы грабят.
Иннокентий озабочен и огорчен американцами еще более, чем противниками в войне. Сколько их нахлынуло в Аян на своих судах. Неужели наши когда-нибудь с них пример возьмут? Иннокентий многих детей воспитал. Учил, как стоять, как поздороваться, глядя в глаза, как сесть и встать, как поклониться взрослым. Неужели все напрасно? Все пойдет прахом?
Какие немцы могут быть на бриге «Охотск» и откуда? Шкипер Юзелиус из Риги, где в 1845 году судно снаряжено, не сдал англичанам «Охотска», сжег и сам ушел с большей частью команды на шлюпках. Финны, конечно, были и у него, как и на всех кораблях компании.
Лютеране – звери, как полагал Иннокентий. Он однажды так прямо и написал Фердинанду Петровичу Врангелю в Петербург, что в Аляску присылают служить лютеран, и в скобках добавил: «зверей».
На этот раз он сидел в компании протестантов-англикан. Это другой народ, и вера у них другая.
Иннокентий был среди алеутов не только законоучителем, но и слесарем, столяром, оружейником, лодочником, смолокуром, учил людей всему, чему сам научился, живя в семье в сибирской деревне.
Вот сын последний раз приезжал из Москвы и сказал, что преосвященного Иннокентия ждут там. Все лучшее должно быть в столице! И будто бы Иннокентия Вениаминова прочат со временем в московские митрополиты! Плох Филарет, долго не проживет... Сам говорит. Иной замены, мол, нет. Иннокентий известен подвижничеством и подвигами своими на Аляске и в Сибири. Не пора ли, мол, заканчивать свои скитания? Чем возиться с какими-то вымирающими племенами да сочинять для них азбуки, давно пора в Москву!
А Иннокентий задумал в эту зиму объездить все заселения в новом краю. Амурским инородцам надо дать образование, составить для них азбуки, написать буквари, как для населения Аляски. Тем более что сын здесь трудится и должен со временем сменить Иннокентия как ученый.
– ...За нашего гостя, господа, – приподнимаясь, сказал Эллиот, – о ком мы читали и слышали, кто провел свою жизнь в пустынях, обращая в христианство дикие племена, неся им слово божье! За вас, ваше преосвященство, за ваши подвиги, за ваше здоровье.
Артур Стирлинг никогда бы не подумал, что коммодор способен произносить речи, восхваляющие православного проповедника. Впрочем, известно, что англиканская церковь издревле ищет с православной добрых контактов.
«Положим, вряд ли они про мои труды читали, – полагал архиепископ. – Ну, да не во мне дело! Ни нам, ни нам...»
После обеда Иннокентий отправился на «Грету».
Тронсон спросил инженера Уиттингхэма, будет ли он писать в своей книге о встрече с архиепископом.
– Да, желал бы.
– В таком случае, в моей книге я опущу этот эпизод, – сказал Тронсон.
МОЖЕТ БЫТЬ, НАВСЕГДА
Утром на «Грету» поднялись двое французских офицеров.
Увидя их усы и бородки, Сибирцев подумал, что подобострастие всем народам свойственно. У наших офицеров и матросов усы пущены, как у государя Николая, ныне усопшего. Многие осмеливаются, впрочем, носить одни усы без императорских бакенбард. Матросы постарше предпочитают бакенбарды. На то царская служба!
Китайский богдыхан женился на монгольской княжне, и сразу же все принцы крови и вельможи Срединной Империи стали жениться на монголках. Хорошо, что монголки спокойны по натуре и не интриганки. Скачка верхом и стрельба из лука вошли в распорядок светских забав женской половины двора. Как слышно от японцев, монгольский князь был назначен командующим императорской армией, сражающейся против тайпинов[12]. Китайское подхалимство в этом случае оказывается прогрессивней европейского, способствует спортивному развитию пекинских аристократок – своеобразной эмансипации.
А у нас наш покойный ныне император однажды получил в подарок от австрийского императора лошадь каурой масти. Сразу же весь Петербург поскакал и покатил на каурых.
Император Луи Наполеон III носил закрученные усы и бородку ловеласа и жуира – и все военное сословие империи этими же признаками выражало верность престолу.
– Вы говорите ли по-французски? – спросил старший из офицеров у Шиллинга.
– Oui[13].
– О-о!
Французы просияли. Беседа живо завязалась.
– Мой лейтенант! – обращаясь к Пушкину, сказал капитан Андре Руа с легкой проседью в завитых усах. – Мы очень много слыхали о вас и восхищены вашими подвигами в Японии. Вы в плену! Ваше положение вызывает глубокое сочувствие. Если бы вы, лейтенант Пушкин, с вашими офицерами и людьми были задержаны нами, то уже сегодня находились бы на родной земле...
– Да! Да! – подтвердил юный лейтенант Жан Дени. – В этом отношении наши морские законы значительно более цивилизованные, чем установления островного союзника. Признались нам, что в случае захвата принадлежащего противнику судна у них нет права отпускать даже женщин и детей, не говоря уж о гражданских лицах.
– Господин Гошкевич! Юнкер принц Урусов! – представил Пушкин.
– Господин Гошкевич! Как рады!
– Принц...
Известно, что с военными моряками вместе взят в плен молодой дипломат, который, владея тремя европейскими языками, также знает китайский и японский. Он – глава православного колледжа в Пекине, естествоиспытатель, коллекционер, изобретатель летательной машины, главный советник посла Путятина на переговорах в Японии.
– Я уверяю вас, что у нас не было бы ничего подобного! – продолжал Дени. – Вы были бы сегодня же отпущены под честное слово.
– Да, в этом случае у французов более цивилизованные морские законы, – подтвердил Роберт Гибсон, приехавший проститься и присутствовавший при этом разговоре на палубе «Греты». – Вам надо было сдаться в плен их судну...
– Россия и Франция ведут тяжелую войну, – заговорил Андре Руа. – Наши империи обладают почти равными силами и оспаривают друг у друга подвиги и славу. Наши герои Севастополя с восхищением говорят о вашем солдате: это противник смелый, бесстрашный, быстро исправляющий все нанесенные ему тяжелые повреждения и с необычной энергией наносящий ответные удары... Борьба равных, и она делает честь обоим противникам! Это общее мнение армии и общества.
– Англичане пытаются найти в Аяне ваши закопанные орудия; французы никогда не посмеют унизить себя подобными действиями...
– Князь Александр Урусов, вы с двадцатью людьми назначены к нам на судно? – спросил Дени.
– Да.
– Мы очень рады, принц Александр! Приятно будет видеть вас нашим гостем.
– Вы в Японию, лейтенант? – спросил Андре Руа у Мусина-Пушкина.
– Да-а, – мрачно ответил Александр Сергеевич.
– Желаем весело провести время!
– На том и порешили! – сказал Пушкин, когда гости отбыли. – Кто их всех разберет!
...«Барракута» отошла от причала и бросила якорь на рейде. Готовились к отходу ночью. Солнце висело низко над поблекшим охотским побережьем.
Скрестив руки на груди, Алексей смотрел, слушая музыку, которая все с большей и большей силой звучала в его душе. Воспоминания мелькали, и угадывалось будущее, которое потребует бесконечных сил. «Есть ли они у меня для всех испытаний? Отвратительное самочувствие – видеть родную землю и не сметь ступить на нее».
Проходя по палубе, Стирлинг взглянул на офицера, стоящего у борта.
Заслышав шаги, Алексей невольно опустил руки.
Стирлинг мог пройти, не замечая, как полагается капитану военного судна, но после обхода Аяна, встречи с епископом и передачи больных на берег он невольно слегка поклонился.
– Холодно ли здесь зимой? – спросил он.
– Я здесь впервые, – ответил Сибирцев.
– Как долго идет сюда почта?
Алексей сказал, что доходит с большим опозданием, особенно зимой. Хотел добавить: «Пойдет быстрей, когда поставим пароходы на реку» – но удержался.
– По Амуру возникнет удобное сообщение? – сказал Стирлинг.
Баркасы с людьми ходили между «Гретой» и «Барракутой». Палуба парохода в этот сумрачный час заполнилась угрюмыми русскими матросами с сундучками, ранцами и японскими мешками.
Подошел баркас, нагруженный ящиками с посудой. Стирлинг приказал доставить со склада для пленных и для команды по две тарелки на каждого и по чашке.
– По остальным судам ваших людей уже развезли, – сказал Пушкину старший офицер парохода. – На «Константине» приняли принца Урусова как гостя.
Известно, что юнкер князь Урусов говорил по-французски лучше, чем по-русски.
– Понимает ли кто-нибудь из ваших людей по-английски? – спросил старший офицер.
Из рядов вызвали Маслова, Берзиня и Васильева.
Пушкин сказал, что выбранные люди являются старшими унтер-офицерами, команда разбита на вахты и будет находиться под их наблюдением.
– К ужину они опоздали.
– Они ужинали на бриге, – ответил Алексей.
Сержант, боцман, помощник стюарда и младший боцман явились по вызову старшего офицера.
Сержант повел русских унтер-офицеров в жилую палубу. Ужин только что закончился, и вечерняя молитва прочитана. Койки подвешены. Время отходить ко сну, но все бодрствовали. Английские моряки стеснились в носовой и кормовой части, огражденные часовыми. Вся середина жилой палубы очищена, как для танцев.
– Вот, пожалуйста. Здесь. Вам в ночное время, после отбоя, отводится вот от этого орудия... тридцать шагов...
Все же просторней, чем на «Грете»! Пленные получали у подшкипера подвесные койки, тюфяки и одеяла, некоторым досталась подушка. Все старое, но лучше и не надо: чистые, во всяком случае. Матросы развесили свои качающиеся постели. Наконец-то можно отдохнуть и хоть ночь выспаться, не то что на бриге, где лежали вповалку на нарах. На «Грете» многим приходилось спать на палубе. Сегодня с утра была баня, стирка и выварка белья, сушка, сборы, писались письма.
Маслов прочитал молитву, и в первую ночь все улеглись. В четыре утра пленных могут поднять.
В капитанской каюте Стирлинг объяснялся с Пушкиным, Шиллингом и Сибирцевым.
– Я доставлю вас в Хакодате. Буду говорить с адмиралом о вашем статуте. Надеюсь сделать все возможное, но в английских правилах и приказах не сказано о том, чтобы освобождать женщин, детей и лиц штатской службы, поэтому коммодор решил, что Гошкевич идет на корабле... Я прошу вас подтвердить данное вами честное слово, лейтенант Пушкин.
Пушкин ответил, что слово подтверждает и что уже объявил своим офицерам и команде перед отъездом на «Грете»; что же до решений коммодора, то тут ничего не поделаешь...
«У нас тоже часто бывает, – подумал Алексей, – чем выше должность у чиновника, тем он глупее. Еще в древности замечено, что власть портит. Даже самая справедливая, как в Афинах!»
– Я передаю часть моих людей и переводчика на «Грету» под командование лейтенанта Гибсона. Команда парохода остается в уменьшенном числе. Ваши моряки производят отличное впечатление, они опытны.
Пушкин сказал, что его люди могут помогать команде парохода. За исключением военных действий. Команда разбита для этого на вахты.
Еще говорили о людях, кто и чем может быть полезен, кто пойдет в помощь к мастеру-плотнику, кто к парусному подмастерью:
– But no one to the gunner mate![14] – сказал Шиллинг.
Все пленные будут иметь общую «мессу», отдельно от команды, должны выбрать артельщиков – утром получат завтрак у артельщиков команды.
Разошлись по отведенным каютам. Гошкевич с Прибыловым занимали отдельную. Пушкин поместился с лейтенантом Тронсоном; тот извинился, что плохо говорит по-французски. Он уже заметил, что Пушкин усмехается в свои усы, выслушивая его.
Тронсон записал в дневнике: «Во время осмотра батарей в Аяне инженер Уиттингхэм сказал, что русские вправе быть горды, что тех из них, кто посвятил себя профессии, война нашла готовыми к войне. Повсюду, куда бы мы ни пришли, от Кронштадта и Севастополя до крайних оконечностей их государства, мы неизменно видим одно и то же проявление соединенных усилий таланта и умения командовать. Все их гарнизоны готовы к сопротивлению. Осмелится ли кто-либо из наших офицеров высокой репутации сказать с уверенностью, что точно так же могут быть готовыми к сражению против сильнейшего врага гарнизоны Мальты и Гибралтара? «Неприятель дает урок», – заключил Бернард Уиттингхэм. «Я убежден, что наше традиционное фанатическое изуверство не помешает нам воспользоваться уроком». – «Как говорят американцы, ничего не выгадывается скрытием истины и унижением врага!»
«Барракута», стуча машиной, уходила в глубь ночного моря. Сибирцев, стоявший на юте, смотрел, как Аян заслонялся сопкой... Некоторое время еще мерцали огни кораблей, стоящих на рейде.
Коммодор Эллиот проводил этот вечер в бильярдной в нижнем этаже губернаторского дома. Сэр Фредерик занял дом под комендатуру. Здание и все комнаты содержались в полном порядке. На бильярдном столе зеленое сукно нигде не прорвано.
...Сэр Фредерик, комендант Аяна, сидит на красном диване, держа брюхо на коленях, а в руке перед собой – кий, как жезл церемониймейстера.
Флот сжег бильярдные в Охотске и в Петропавловске. Но нельзя же уничтожить все бильярдные на побережье. Узнают в Лондоне, в «Таймс» появится карикатура, как после неудачи эскадры в Петропавловске идет война на Тихом океане...
Эллиот, взмахнув в воздухе огромными ногами, улегся на борт бильярдного стола, синие глаза округлились и впились в белый шар на зеленом сукне. Тяжелый кий нанес сильнейший удар, дуплет о борт: шар в лузе!
МИТИНГ
Обуздывайте свои страсти, малыши, и не волнуйтесь при виде еды.
Ночью стало покачивать. Проснувшемуся матросу Маточкину казалось, что вот-вот всех засвищут наверх. Судно чужое, матросы и порядки тут свои. Наверху на палубе заходили. Машину остановили, пары, кажется, еще поддерживали, но уже на мачтах ставили паруса. Слышались непрерывные крики в рупор и свистки.
Судно при полной парусности пошло «ин фулл свинг»[15].
Маточкин было заснул в своей зыбкой постели. Ветер еще закрепчал. Заревел шторм, и подбоцман, спустившись по трапу, стал будить Маслова, спавшего в соседней с Маточкиным подвесной койке, и сказал ему по-английски, что «все руки наверх»...
– У них людей мало, – сказал Маслов и приказал подыматься.
Русские матросы первой вахты, босые и в клеенчатых куртках, пошли наверх во тьму с фонарями. Время рассвета, но густые тучи и ни зги не видно. Накатывают на палубу волны в белой пене. Сразу же всех окатило. Вдоль палубы натянуты леера. Ходят, держась за них. Матросы возятся с кожухами над колесами у обоих бортов парохода. Наши офицеры здесь же.
Вчера нетрудно было заметить, что на чужом судне все не так, как у нас. Священник без бороды, крестятся по-другому – ладонью. Иная утварь, другие фонари.
Маслов и Маточкин работали на иностранных судах и на доках в Кейптауне. Те, кто никогда не ступал на палубу английского корабля, старались побыстрей приглядеться.
А паруса такие же, как у нас. И так же ими управляются. Так же все работают босые, лапы такие же. И унтера босые. Здоровенные ребята!
Послышался зычный голос Маслова, которому Сибирцев перевел отданную старшим офицером команду.
– Ну, брат, и хлещут у них, – сказал, вытирая лицо, Васильев, возвратившись после вахты в жилую палубу.
Все переоделись, надели обувь. Койки убрали. Запахло матросской солянкой.
Артельщики внесли баки с пищей. Бородатые и лохматые джеки в парусине составили раскладной стол и выстраивались с ложками и посудой. Матросы «Барракуты» иногда кивнут при встрече: вместе ночью работали на мачтах.
– Все команды у них другие, – говорил Янка Берзинь, позванивая пустым котелком и ложкой.
– Работа такая же, – щелкая зубами от голода, пробормотал промерзший до костей Собакин.
Пахло мясом. Известно, что в Аяне покупали скот, быков взяли живьем. Одного забили на корабле перед уходом. Слыхали, что у них утром дают солянку или горячее мясо, резанное большими ломтями, по два или по три на брата, с соусом из соленых овощей. Джеки, получая порции, рассаживались за столом, выкладывали еду из мутовок на новенькие тарелки.
Дошла очередь до Маслова, и он протянул котелок.
– Ты что мне положил? – спросил он пожилого артельщика в сивых усах и бакенбардах.
На дне котелка небольшой кусок мяса, залитый овощным соусом.
Артельщик достал еще такой же кусок, но не дал Маслову, а кивнул головой следующему – Янке Берзиню.
– Гив ми... фул... Дай полный! – сказал Янка.
– Кам... кам!
– Как это «кам»? Я жрать хочу.
Но уж артельщик наливал Васильеву.
– Вот же сволочь, – сказал Берзинь, понимая, что больше не дадут. – Как же человек может наесться такой порцией?
Маслов обратился к сержанту, сказал, что порции слишком малы, люди останутся голодными.
– Prisoners of war[16], – отчетливо пояснил сержант.
Подошел переводчик.
– Вам так полагается, – объяснил он. Добавил, что это старые законы, может быть, времен войны с 13 штатами.
– Ребята, не сгружайтесь, – сказал Маслов, подходя к скопившимся матросам, которые горячо обсуждали свое положение.
Качка, холод, плен, неизвестность будущего, голодный паек!
– Они могут подумать, что мятеж, вырвут нескольких и посадят в карцер, – пояснил Васильев.
Маслов пошел наверх, попросил позволения подойти к двери каюты Сибирцева и постучал.
– Что ты?
– Нас кормят впроголодь.
Маслов все объяснил.
– Я немедленно поговорю с их капитаном, – сказал Пушкин, которому Алексей Николаевич передал жалобу матросов.
Стирлинг сказал, что сожалеет, но ничего не может сделать.
– У нас есть закон: пленный получает половину порции. Прошу вас это объяснить своим матросам.
– Но мы уж говорили с вами о том, что законы о пленных не могут распространяться на нашу команду, – возразил Сибирцев.
Стирлинг разговора не принимал. Ясно, что никакого толка не будет. Сказал только еще раз, что сожалеет.
За обедом Шиллинг с горячностью доказывал в кают-компании, что у государя России никогда не было намерения захватить Константинополь. Он решил, что его долг объяснить все. Удобный случай: понимают и отлично слушают, отдавая предпочтение его знанию языка и произношению, а в этом случае и мысли доказательней.
Матрос уже обносил всех третьим блюдом и остановился подле Николая в ожидании, можно ли положить ему еще. Но Шиллинг увлекся и не спешил, либо делал вид, что не обращает внимания.
Лейтенант Тронсон полагал, что Шиллинг наиболее intellectual[17] из собеседников. «Пытается убедить нас в лучших намерениях царя. Все слушают, но, конечно, при этом никто не испытывает никакой симпатии к учреждениям и намерениям России».
Матросы собрались на баке вокруг Алексея Николаевича. Он объяснил, что таков закон, что пленному полагается полпорции матроса.
«Он сам сыт», – подумал Собакин.
– Как же они взяли честное слово, что не будет попытки бунта? – заговорил Васильев.
– Они умело разделили нас, Алексей Николаевич, – сказал Маточкин, – и держат голодом.
Через день завиделись берега Японии. Волны улеглись.
В команде раздавались голоса, что офицерам – каюты, удобства и питание. Нам нет мыла, нет табака и голодно. Уж что-то очень голодно, когда рядом едят сытно.
Матрос Рудаков простудился. Корабельный доктор нелюбезен. Придет, посмотрит, ничего не скажет и уйдет, а человека бьет в ознобе.
– ...Я тебе, – объяснял рыжему матросу знаками Собакин, – постираю... За табачок, – он показал на табакерку.
– No... no... – ответил матрос.
– За один только листик, – пояснял Собакин.
Он постирал белье и рубаху соседу. Получил желанные листочки табаку, свернул, вложил в трубку, затянулся и дал товарищу затянуться.
Портной Иванов починил боцману брюки, выстирал и выгладил и тут же получил новые заказы.
Переводчик велел унтер-офицерам назначить своих артельщиков, чтобы получать еду на камбузе на всех и делить самим. За обедом оказалось, что и так не лучше, получается то же самое.
Матросов все время подымали наверх, приходилось мыть и чистить палубу, качать воду, тянуть снасти, перекидывать уголь лопатами. Дела на судне всегда много.
Маслов попытался все же объясниться.
– Ай сэй[18], – сказал он проходившему сержанту, с которым дружески разговаривал перед уходом из Аяна, когда получали койки и одеяла. Но тот прошел крупным шагом по палубе, не повернув головы.
Утром до подъема флага Васильев подошел к матросу Стивенсону, желая поговорить по-товарищески. Стивенсон славный, видный, вместе работали в шторм. Васильев положил ему руку на плечо: «Хау ду ю ду...» – Стивенсон обернулся и грубо сбросил руку Васильева.
– Уси начальники... у море... у води... – объяснял старый лысый плотник старому же подмастерью-ирландцу, с которым вместе пилили доску, – а кузницу узяли у Аяни и Янку поставили молотобойцем. А де силы?
– Туго, брат! Табаку не дают. Нечем отбить голод, – говорил Собакин, беря в починку сапоги.
Портной шил целыми днями.
Жили в Японии за высоким частоколом, а вокруг чувствовался мир людской жизни. Там пение и пляски обретали смысл. Чем глуше и строже казался отгородивший забор, чем запретней были добрые чувства, тем зазывней, радушней и удалей раздавались песни. Слышался дерзкий топот и посвист. Древние песни с отзвуками великого страдания, так понятные повсюду во всем мире, где бы ни пели их матросы...
...Бывало, на фрегате вызывали песенников, выходили плясуны, вынимали деревянные ложки из-за голяшек. А здесь и петь не хотелось.
Толпа мокрых, бородатых, косматых, потных, измерзшихся моряков в клеенчатой и смоленой одежде ввалилась в жилую палубу, и тут невозможно отличить матросов экипажа от пленников, все одинаково измождены, тощи, бесцветны, с некрасивыми лицами. Чих, сип, кашель, мрачная тихая брань...
Англичане вообще довольно бесцветны, с незаметными лицами, волосы их серы, они походят на наших, и в их толпе также не угадываются корни, на которых стоит народ.
Когда стали брать еду у горячих баков с солянкой и порриджем[19], только по количеству ее в мутовках можно было угадать, кто служит королеве, а кто царю. Все изголодались, молодые силы требовали варева и подмоги. Никто не переодевался, и все сели в мокром за горячее. Видели товарищи по работе, что рядом обреченные на голод? Молчат; кажется, им нет дела до другого. Что же, так и во всем мире! Каждый думает только о себе! Тем более тот, кто сам наработался до изнеможения.
После завтрака матросы переоделись. Пришел Сибирцев.
– Боятся бунта, стараются ослабить, – объяснял офицеру Маточкин, зло покусывая русые жесткие усики.
Сибирцев исхудал от обиды и забот. Кусок не шел в горло за столом в кают-компании.
Матросы сказали, что Мартыньш встретил тут родственника.
– Да вот он сам скажет!
«Юс есет летон?»[20] – вдруг спросил латыша один из матросов. Оказался парень с соседнего хутора, когда-то ездил с дядей в город на базар. Пили пиво и слушали рассказы моряков. Потом поступил на судно к финну, потом перешел к шведу, и так пошло. Обошел все моря, выучил язык. По-русски уже не помнит, родную речь не забыл. Подтвердил, что на пароходе боятся бунта пленных. Если русские окажутся сильней, то побросают команду в море. Поэтому велено недокармливать. Строго запретили своим матросам делиться порцией.
– А их, Алексей Николаевич, кормят очень хорошо, – добавил Мартыньш, – мясом два раза в день.
– Все хорошо, и на пароходе во всем порядок, – рассказывал Васильев. – А на линейном корабле у адмирала, говорят, есть старик – пятьдесят три года, а все еще младший лейтенант. Они сами объясняют, что есть медленные, а есть быстрые по службе. Те – по протекции.
Подошел портной Иванов. Когда-то шил он на адмирала Евфимия Васильевича.
– А ты где выпил? – спросил Маточкин.
– Я шил джеку. Он дал мне глоток виски... Пусть увидят, что у нас силы еще есть, еще не заморили...
– Брат, а Рудакову плохо.
Высокий красивый матрос с белокурыми бакенбардами побагровел от негодования, когда Собакин что-то спросил у него.
– What is the matter for you?[21] – почти пропел босой рослый моряк, вскинув голову, как оперный тенор.
– Что ты у него спросил? – осведомились товарищи, когда смущенный Собакин отошел прочь.
– Ничего не спрашивал...
– Будто бы!
– Чего же он взъелся?
– Я хотел узнать, почем у них паунд брэда[22] в Портсмуте...
– Он, наверно, разъярился, думал, что просишь фунт хлеба, – сказал Маслов.
Все расхохотались. И у Алексея Николаевича стало легче на душе, и он подумал, что наш народ выживает за счет своих юмористических талантов.
– Все жохи, как ярославцы, – бормотал Собакин.
– Братцы, спляшем, – просил Иванов.
– Пляши сам, если хочешь.
– Чтобы спеть и сплясать, надо получить разрешение, – сказал Сибирцев.
– Как получишь, когда ни к одному подойти нельзя?
Пришел подбоцман и велел унтер-офицерам расписывать матросов. Качать воду – восемь человек. Третьей вахте обивать цепи и якоря. У помощника стюарда... У лотовых...
Под парами пароход шел проливом, приближаясь к Хакодате, где предстояла встреча с адмиралом Стерлингом и разговор о судьбе пленных. Вечерело. Лесистые сопки темнели по обе стороны Сангарского пролива. Съеден скудный ужин.
Скоро раздастся команда «трайс ап тсе хэммокс!» – подвешивать койки.
По трапу спустился улыбающийся матрос со многими нашивками на плече и на рукавах и сказал, что старший офицер разрешает сегодня по случаю праздника спеть пленным на палубе.
Латыш из английской команды стоял наверху с Берзинем и Мартыньшем и объяснял, что все козни произошли от коммодора Эллиота. Его никто не любит. Когда эскадру отправляли из Аяна, то коммодор сказал капитану, чтобы досыта не кормить.
– Ты потише, – заметил Берзинь, кивнув на стоявших рядом английских моряков.
– Нет, ничего, они сами просили меня сказать.
– Стыдно им, сво-ло-чам! – отчеканил Мартыньш.
Утром, поднявшись наверх, Алексей увидел знакомую гору с плоской вершиной. Слабо плещется широкий Сангарский пролив. Тучно стоят сопки на обоих берегах.
Пушкин и офицеры вместе с матросами на палубе. Все ждут, что-то будет.
– Столовая гора! – сказал Александр Сергеевич.
– Южная Африка! – сказал молоденький матрос.
– Нет. Япония. Хакодате, – ответил Пушкин.
– Какое-то наваждение, – молвил Шиллинг, – куда ни идем – попадаем опять в Японию.
– Здесь мы были в прошлом году на «Диане», – сказал Маслов.
– Уж лучше бы Южная Африка! – размышлял Сибирцев. – Здесь рандеву с остальными кораблями английской эскадры, решающая встреча с адмиралом.
Столовая гора стала отплывать от берега, потом поворачиваться, а из-за нее, по зеленому скату в садах и полях, опять, как из мешка, посыпались и запестрели домики под толстыми соломенными крышами.
– На Хэду похоже! – сказал кто-то из матросов.
Хэду действительно напоминает, так что у Алексея больно стало на сердце. И Симоду! Видны два английских корабля с острыми линиями обводов; крашенные белым порты – на черных бортах.
– У японцев солома на крышах крепкая, – с восхищением говорил, глядя на город, Мартыньш. – Как проволока!
– Адмиральских флагов нет, – заметил Шиллинг.
«Барракута» бросила якорь на рейде. Шлюпки заходили между кораблями. Вскоре стало известно, что оба адмирала, английский и французский, ушли из Хакодате в Нагасаки.
– Ушли, чтобы не встретиться с русскими, – объявил один из английских лейтенантов в кают-компании за ужином. Все сидевшие за столом откровенно рассмеялись.
Похоже, что офицеры недовольны бездействием.
Что же теперь? Длительное плавание в Нагасаки? Здесь «Сибилл». Коммодор Эллиот заходил с эскадрой в залив Анива и высадил десант морской пехоты на Сахалине, заявив японцам, что остров никогда им не принадлежал, что тут всегда были русские посты, находятся их углеломни. Морская пехота в красных мундирах маршировала по широким долинам у селения Анива.
Эллиот недоволен, что не застал своего адмирала в Хакодате. Уже известно из разговоров в кают-компании, что он намеревался склонить Стирлинга к решительным операциям на устьях Амура.
На другой день прибыл посыльный бриг с почтой. Привезли газеты за три месяца.
– Себастопол... Себастопол... – слышится среди английских офицеров.
Приходится вставать и уходить из кают-компании. Нельзя же подойти к неприятельскому офицеру и спросить: «Что же там?» Что наш Севастополь? Кажется, Севастополь держится. Один лишь отзвук его имени, услышанный здесь, заставляет с гордостью сносить униженное положение и помнить о тяжкой године войны.
Куда черт унес адмиралов? Где Стирлинг?
Хакодатские чиновники сообщили Гошкевичу под секретом, что посол Англии и генерал флота Стирлинг вместе с французским генералом отправились осматривать побережье России к югу от гавани императора Ни-ко-ра-и.
– К северу, – поправил Гошкевич.
– Нет... это... к югу...
В кают-компании офицеры «Барракуты», узнав про распоряжения, оставленные адмиралом Стирлингом, пожимали плечами от нескрываемого удивления.
...Пароход, спустив пары, тихо скользил под парусами по гладкому морю, под прибрежными утесами.
– Походит на остров Кунашир, – закидывая голову, говорил Сибирцев.
– Идем обратно в Нагасаки, – сетовал Гошкевич. – Как-то снесет все мой Точибан Коосай! Что-то он думает... Никак не можем увезти его из Японии.
– Куда же адмиралы ушли, что вам японцы сказали? – снова допытывался Мусин-Пушкин.
– Они говорят, ушли на опись наших берегов, но что Стирлинга постигнет неудача, мол, они с французом отправились на больших кораблях, а что на опись надо ходить на пароходах, как американцы.
– Странно, что они ушли на обзор наших берегов к югу от Императорской, это значит пойдут до корейской границы.
Вечером в море полный штиль. Машина заработала. Команда корабля и пленные готовились ко сну.
В жилой палубе на ночь выставляли караул. Дело обычное, «рутинное», как у них называется, но часовые с карабинами приставлены с обеих сторон около пленных, разместившихся в гамаках в середине палубы.
Сержант о чем-то поговорил с Масловым.
– Извиняются за свое командование, пытаются как-то помочь нам, – пояснил Маслов товарищам. – Сказал, что их команда просит нас песни попеть.
– Чего же им споешь! – насмешливо ответил Мартыньш.
– Просили спеть, как вчера.
– Веселые песни не запоешь! – молвил кто-то из глубины темной палубы.
– Давайте споем, люди просят...
– Можно! Проголошную!
Эх, помню, помню я... –
в одиночестве затянул Маточкин, покачиваясь в гамаке.
Эх, как меня мать любила, –
тихо подхватили густые и согласные голоса.
И не раз, и не два
Она мне говорила...
Маточкин слез с гамака:
Когда, Ваня, подрастешь,
Не водись с ворами.
Хор продолжал в мрачном согласии, как бы матовыми или бархатными голосами, истосковавшимися по пению.
В Сибирь-каторгу пойдешь,
Скуют кандалами.
Сбреют волос твой густой,
Вплоть до самой шеи,
Поведет тебя конвой
По матушке-Расее...
Не послушался я мать, –
жарко, с болью и жалобой ввысь поднял песню голос запевалы, -
Повелся с ворами,
В Сибирь-каторгу пошел,
Скован кандалами...
Вокруг Маслова столпились «их» матросы. На этот раз команда заинтересовалась, что за слова у такой печальной песни.
Маслов перевел. Британцы смолчали. Это касается и их. Тут даже у злодеев из морской пехоты могли бы выступить слезы.
– Братцы, а как с маршевыми песнями шли по Японии...
Всем вспомнилось, как заходили в деревню Хэда.
Шел матрос с похода,
Зашел матрос в кабак,
Эх...
– Свистуны! – раздалась команда.
Фьють, фьють...
Сел матрос на бочку,
Давай курить табак.
– Ложкари!
Ой-эй-эй...
Песню прервали, слышно стало, как тяжело работает машина парохода. Не качнет. Идем, как по реке. Неужели в Китайских морях всегда так?
«Плывут в Гонконг, а поют, как гонят их в Сибирь на каторгу, – подумал Стивенсон, выслушав объяснения своего переводчика. – И как вернулся матрос со службы...»
Здорово, брат служивый,
Что, куришь табачок... –
продолжал хор.
«Когда все это слушаешь, то человеку с воображением представляется битва под Севастополем. Какое там ужасное побоище и как геройски сражаются славные британцы, если враги на них идут фронтом с такими песнями. По сути, и нам надо бы усилить вдвое караулы. Но офицеры беспечны».
Матросы палубы и солдаты морской пехоты вылезли из гамаков и выкладывали перед певцами свои фамильные табакерки и грязные кисеты. Угостить больше нечем.
– Они давно плавают вместе, много пережили и хорошо спелись.
– Если им разрешить высказывать свободу мнений, то перестанут слушаться. Откажутся воевать, и начнутся безобразия. Все же дети рабов.
– Я не верю этому. Не может быть, чтобы матросы набирались из рабов.
А на другой вечер пленных прямо попросили спеть про мать, которая страдает за сына-разбойника...
Собакин, молодой, неуклюжий и сутулый, как старик, сидя на краю скамейки, подозвал к себе собаку, отличавшуюся свирепостью и прожорливостью.
Пес подошел неохотно, поглядел презрительно и зарычал. Собакин что-то сказал ему. Кобель поджал хвост, наклонил голову и смущенно отошел. Собакин опять позвал его. Пес повиновался. Матрос сказал:
– Разве у тебя нет ума? Тебе не стыдно?
Пес раскорячился, склонил морду и, сильно и судорожно напрягшись всем телом, отрыгнул огромный кусок вареной говядины.
– Видишь, какое хорошее мясо, – сказал Собакин. – Как же она его сглотнула?
Матрос встал и у всех на глазах выбросил кусок мяса в открытый порт.
За столом играли картежники. Один из них вскочил и стал бить Собакина.
– За что? – отстранился пленный.
Маслов вырвал Собакина за руку из сбившейся толпы и сам несколько раз съездил ему по шее.
– Тебе самому не стыдно?
– За что ты-то? Они от нас просят песен, а мясом кормят собак, поэтому и взъелись. Эта собака хуже полицейского. В этом куске целая порция...
– Тебе какое дело?
После этого все стали замечать, что у Собакина особые отношения с псами. Собаки его слушают и понимают. При всей привязанности матросов к собакам, никто такой силы влияния на них не имел. Все стали опасаться за своих любимцев. Показалось, что собаки стали чахнуть. В шторм одна из офицерских собак услыхала крик и ругань своего владельца, стоявшего на вахте. Молодая собака, видимо, решила, что ее зовут на помощь. А дверь не открывалась. Собака сидела и ждала, пока кто-то не вошел, и она выскользнула на палубу. Тут же волна смыла ее в море.
Вечером спросили Собакина, как он полагает, что случилось. Кто-то из пленных смеясь сказал, что по части собак Собакин собаку съел. Переводчик перевел буквально.
– Он съел собаку? – возмутились матросы экипажа.
– Это пословица, а не на самом деле, – перепугался Янка Берзинь. Он скорей пришел на помощь.
– Этого не было... Так только говорится.
Стали объясняться.
Но уже поздно! Как их теперь вразумишь?
– Что же ты, брат, наделал, – толковал Маслов обмолвившемуся товарищу. – Дернуло тебя за язык!
– За собаку теперь с ними ввек не разочтешься! – сказал Мартыньш.
– Он ест собак? – спросили про Собакина.
– Собакин, иди сюда, – приказал Маслов. – Расстегни рубаху, покажи крест. Посмотри, джек, его руку. Вот видишь, какая у него кость.
Маслов не стал пояснять, что на собачине такую кость не выкормишь.
– А ты, Собакин, не срами товарищей... Оставь все свои фокусы. Я старший унтер-офицер и тебе приказываю.
– У них есть умелые марсовые! – говорили матросы «Барракуты» после очередного шторма. – Командование поступает несправедливо.
– Да, недостойное поведение коммодора!
– На мачтах они не заслужили упрека.
– Пети-офицеры у них старики, всем лет по тридцать – тридцать пять! У всех вискерс – бакенбарды. Все босые, как и рейтинг – служивые, – излагал Собакин свои наблюдения. – Все боксеры!
Двое матросов экипажа подошли, достали из картузов глиняные трубки, угостили Собакина табаком, и все закурили.
– Платков у них нет, а как идут на берег, надевают черный шелк на шею, – продолжал Собакин. – Не матросы, а дамы!
– Европа нас удивляет и превосходит, братец, и это доказывает! – ответил Васильев.
– А что же мы?
– А мы как придется... По одежке протягивай ножки...
– Dog charmer! – проходя мимо и хлопнув Собакина по плечу, одобрительно сказал Стивенсон.
– Что они меня теперь так называют? Что такое дог чармер? – спросил Собакин у Маслова.
– А это то же самое, что и по-русски. Разве не понимаешь? Дог это и есть дог. А чары есть чары. Значит, у тебя для дога чары. Это они заметили, что ты очаровал всех собак!
– Собачьи Чары! – засмеялся Маточкин.
Матросам экипажа ясно теперь, что у пленных, как и у них, такие же босые, как железные, подошвы в смоле. Так же не боятся они холодного ветра, так же прячут свои odds and ends – мелочи – в шляпы и фуражки. Если удивляемся, что у них трубки не глиняные, то надо лишь вспомнить – они из страны лесов. Обжиг глины и выработка черепицы до совершенства доведена только на нашем острове. Глиняные трубки для рядового, бегающего по мачтам, удобней. Когда куришь в час отдыха, то греют озябшие руки.
– Красиво, а пустыня, – глядя на вершины прибрежных утесов, сказал Шиллинг.
Под скалой бил гейзер, угасал, потом опять белая струя воды и пара подымалась саженей на сто и, распадаясь, рассыпалась по черным обломкам скал, на которые, дыша, находил и отходил светло-зеленый после шторма океан.
Поток падает с обрыва – целая река рассыпается в воздухе и превращается в дождь.
Вахтенный лейтенант попросил всех уйти с палубы.
...Матрос Стивенсон, размахивая рукой, стоял на баке и, обращаясь к собравшемуся на палубе экипажу, кричал высоким голосом:
– Своим эгоизмом наш адмирал, фигурально образно говоря, не может ли толкнуть христианский народ на путь людоедства? Как мы выглядим в этом случае? Кто же и в чем виноват? Если это так, то есть ли какие-нибудь сомнения?
– Слушайте! Слушайте! – раздались голоса.
– Я выражаю желание призвать всех товарищей выказать солидарность, подать петицию капитану парохода, коммодору и командующему эскадрой. Есть ли причины для унижения пленных матросов? Чем они воняют в ноздри его превосходительству? Они трудятся с нами наравне, и каждый заслуживает паек моряка.
Вахтенный офицер спокойно прохаживался мимо митингующих. Иногда он отдавал распоряжения вахтенным на палубе, не принимавшим участия в сборище. Стивенсон сошел с банки на крышку люка и на палубу. Он надел фуражку. Плотник поднялся наверх и заявил, что, прежде чем бороться за других, надо подумать о своих.
Матрос, гордо выпятив грудь, сжимая кулаки, закричал гулким басом:
– Я сам слышал, как в Хакодате они говорили по-японски! Люди возвращаются после научной деятельности на родину и в плену заслуживают вполне табака и мыла!
– И полной порции! – вперебой добавили голоса из толпы.
– Скажем слово против эксплуататоров в защиту рядового матроса. Против лавочников, переводчиков и газет, искажающих истину! За свободу слова!
Вышел матрос в бакенбардах, в лохматых шерстяных штанах и босой.
– Мы поем: «Вверх, Британия, и вниз, все остальные». Для русских за голодное терпение и за их железные лапы я призываю сделать исключение, и я готов отвергнуть ради них наши патриотические предрассудки. Фигурально выражаясь, пленные моряки – как полновесные стерлинги Соединенного Королевства!
– С ними война! – крикнули оратору.
Митинг загудел, выражая недовольство этой репликой.
– Вы, Алби, вместе с мистером Дог Чармер сегодня обстенили парус и положили рей на мачту. После нашей неизбежной победы в Севастополе речь о войне прекратится. Долг моряка бросить спасательную бочку! Я призываю: идти прямо в зубы ветру и подавать бумагу командующему!
– Тэд вырвал эти доводы и эту блестящую речь из моего рта! – заявил следующий оратор, рыжий матрос без всяких нашивок. – Дайте мне бумагу, я поставлю на ней свой крест!
Митинг закончился.
– All sails aback![23] – раздалась команда вахтенным.
На другой день при подъеме флага вышел капитан Артур Стирлинг. Как всегда по субботам, спросил, есть ли жалобы. Стивенсон выступил вперед и попросил позволения подать петицию.
Молодой капитан просмотрел длинную бумагу со множеством подписей. Сказал, что передаст петицию адмиралу, ушедшему в Нагасаки, и тогда ответ будет известен.
– У нас Степан Степанович первому же спикеру за такое дело отгрыз бы ухо, – почесываясь, говорил Собакин.
– У вас плохой капитан? – спросил Стивенсон.
– Нет, хороший, – ответил Маслов и подмигнул товарищам.
– Но мы привыкли, – молвил Маточкин, – а у вас хороший капитан?
Стивенсон ничего не ответил.
– Как у вас разрешают так рассуждать? Капитан не наказывает?
– Ему нет дела до этого.
– Ты же служишь у него?
– По службе я исполняю все приказания. Иду в бой и работаю. До остального ему нет никакого дела...
– Ай сэй! – желая приостановить уходившего Стивенсона, сказал Васильев. Но тот не обернулся, опять скинув руку с плеча, и ушел.
– Панибратства не любят! – предупредил Маслов.
– Но в тред-юнионы не каждого принимают, – объяснял плотник. – Надо быть хорошим мастером.
Молодой матрос сказал, что в военном флоте тред-юнионов нет, запрещены всякие объединения и стараются, чтобы католиков было меньше. Католики верят папе и подчиняются ему.
– Флот стоит дорого. Хотели ввести продажу капитанских и офицерских должностей, чтобы оправдать расходы. Парламент не утвердил. А у вас дорого стоит флот?
– А нам не говорят, сколько стоит.
– Почему же не требуете? Может быть, вас обманывают?
– Еще хотели военные корабли продавать капитанам в собственность.
– Как японские церкви бонзам! – догадался Васильев.
Матросы разговорились и рассказали, что у них все население разделяется на работающие классы и на думающие классы. Зашла речь, что думающие классы будто бы думают о том, как улучшить положение трудящихся. Чтобы эта задача решалась успешней, велено их хорошо кормить. Поэтому трудящимся приходится ради своего счастья во всем себе отказывать и они живут впроголодь. И еще много есть хороших и благородных теорий. Но дело не меняется для тех, у кого силы нет. Толковали об устройстве тред-юнионов, зачем они составляются и можно ли говорить об этом на корабле, разрешается ли военному моряку – или за это преследуют...
– Лучше говорить реже, – пояснил моряк, похожий на оперного певца.
– Королева царствует и управляет. Советуется с парламентом. В тронной речи объявляет, что должны потом подготовить тори или виги.
– Кто такие? – удивился Маточкин, выслушивая не совсем ясные переводы товарищей.
Пленные сгрудились и слушали с интересом. Добровольные переводчики задавали любой вопрос и переводили ответы.
– Ну, что, понял, Собакин? – спросил Маточкин, когда беседа закончилась.
– Понял.
В воскресенье пели и танцевали; теперь веселилась команда корабля.
Некоторые напевы с четким, частым ритмом, в котором фразы теснились так, что певцы спешили произнести их почти речитативом. Подыгрывала итальянская гармоника, ритм подбивали гитары.
– Проголошные у них, может, и вовсе не поются, – говорил Васильев.
– Почем ты знаешь? У них разные есть песни. У них есть все.
– Слушаешь – и отдыхаешь. Слезы не льешь.
В танце замысловатые коленца не выкидывают, присядки у них нет. Стивенсон, ступая короткими шажками, затянул песню, многословную, как жалобу или рапорт. Потом он, гордо расправив плечи, грациозно и лихо расхаживал по палубе, высоко вздернув нос.
I am beggar,
But beggars are some gentlemen,
[Я нищий,
Но нищие тоже джентльмены.] –
под общий хохот закончил он.
Утром Собакин умывался в общем умывальнике, когда рядом встал Стивенсон.
– Джентельпуп, здорово! – сказал ему Собакин.
Стивенсону послышалась насмешка, но не следует обращать внимания. Этот пленный все же большой оригинал, а оригинальные люди редки.
– Подавать такую петицию адмиралу – это давить кровь из камня! – сказал Сибирцеву штурманский офицер Френсис Мэй. Они вместе чертили в рубке карты.
Кажется, следует понять в том смысле, что командующего не разжалобишь.
Скромный штурман Мэй обычно испытывал молчаливое благорасположение лично к Сибирцеву. Становясь разговорчивым, он жаловался на жару в китайских морях и что возвращается туда с неохотой.
СТАРООБРЯДЦЫ
Двойка врезалась килем в берег. Ульян перескочил борт, прошел несколько шагов по отмели в ракушках и звездах, упал ничком и лег лицом в сухие водоросли, как в ворох сена. Не ждал, что останется живой, готов был к уходу из мирской жизни. Сейчас силы покинули его. Сознание невыносимо тяжелых испытаний, предстоящих еще, не пришло к нему. Он, как малый ребенок, припал на грудь земли.
Боцман Шабалин вылез следом, разулся, пососал пустую трубку и подошел к Ульяну. Тот дышал ровно.
По названию «старообрядцы» – это значит старые, как старый хлам людской, бесы щуплые и верткие. Невельской выбрал из них трех братьев и парня – их племянника. Подобрались удалые, свежие – кровь с молоком. Ульян широк в костях, ладони большие, пальцы толстые, хваткие. Фал или шкот потянет в любой ветер легко. Какое дело ему ни поручалось – выполнял старательно, обучался с усердием. Староверы все делали на судне хорошо. Пропойц среди них не заметно. Чарку не ждали...

Все погибли, кроме Ульяна. Двух братьев сразу убило бомбой. Видно, Ульян не мог и сейчас опомниться. У них семьи крепкие, за своих стоят, а тут никого у него не осталось.
Шабалин сел на корточки. Курить хотелось до смерти. В мокрой одежде без работы зябнешь.
После того как вражескими ядрами бот был разбит и сразу стал тонуть, оставшиеся в живых кинулись в воду, и тут же волны разъединили всех. Страшно стало море, когда берег далеко. Шабалин успел ящик с инструментами забросить в шлюпку. Плавали вокруг нее с Ульяном долго, не могли перекинуться через борт из-за зыби.
Там, где кончался песок, смываемый волнами, росли хвощи. Дальше зеленел кустарник, а за ним здешний богатый, цветущий лес. Туда волна не достигала никогда.
За сопкой тут, неподалеку, бухты, живут удэ. У них остался погостить наш проводник Кя.
Из бухты Уня[24] вышли вчера, чтобы идти в бухту Посьета. Тунсянка Кя остался в стойбище Вайдя.
Вчера не могли выйти из пролива, заштилели и пристали к огромному острову в больших горах, который закрывал вход в бухту Уня. Сегодня боцман Шабалин решил продолжать плавание. Попутный ветер вынес бот из пролива и помчал через перемежавшиеся полосы тумана. Шабалин смело забирал мористей, чтобы пересечь большой залив. Сразу встретились, но не с китобоем, как бывало, а с неприятельским «конвертом».
Теперь нечего и думать возвращаться в Уня сушей. В бухте Безымянной придется ночевать. Но как? Заедят комары и мокрец.
Сушились. Ловили рыбу, избивая ее в речке палками. Кремень и огниво Ульян сберег на груди в кожаном мешке. На суше Ульян – как Иван на море.
Ульян долго молился вечером о спасении душ братьев своих Андрея и Иоанна и племянника Иосифа.
Улеглись между костров из гнилушек.
Шабалин не уверен, что завтра по сухому пути удастся добраться до бухты Уня. Подумал: «А что, если погибнем? Крест можно заготовить самим, еще пока живые».
«Здесь погибли за Русь и царя смолоду
Военного флота моряк и товарищ его кержак
с голоду.
Боцман с медалью Шабалин
и старообрядец Ульян Басаргин».
Он хотел бы мысленно продолжать надпись на кресте, думал, как вырезать, что по-разному верили в высшее божество, но примирились в ничтожестве... Шабалин решил, что надо спать и вообще лучше не умирать, чем сочинять стихи на свой памятник, тем более что рифма не подбиралась.
Мокрец кусает так, что спасу нет... Где моряк не пропадал! И чего только не слыхал! Моряка ничем не удивишь.
«Tell it to sailors!»[25] – говорят джеки.
У боцмана Ивана Шабалина кортик, а у Ульяна нож забайкальский, точен с обеих сторон, как кинжал, можно отрубить барану голову.
...К вечеру на другой день на плоту перебрались через залив и поднялись на гору. Внизу, как в пропасти, открылась между гор огромная бухта Уня, окруженная дубовыми лесами. Бухта с изгибом. Похожа на полусогнутый указательный палец... Но палец этот шириной с Амур. Удэгейцы так бухту и называют: Уня – значит «палец». Указывает в глубь гор, а корнем выходит из пролива между материком и становым островом в горах.
Навстречу по тропе шел Кя с собаками.
– Кирилл! – воскликнул боцман.
– Ты живой, Иван? – тихо спросил удэ.
На Шабалине и Басаргине одежда изорвана, а сапоги, видно когда были мокрые, растоптались и разбухли, потом ссохлись, показали зубы и стали белы от соли. Сапоги – неудобные обутки, это знает каждый таежник. Нога в них преет и болеет.
– И ты живой, Улька?
Тунсянка Кя, он же Кирилл, позвал в фанзу. Там было много народу, но все поспешно расступились, и Ульян увидел, что на кане[26] сидит белокурый живой и здоровый племянник его, чистый и прекрасный как ангел. Юное лицо Иосифа нежно зарделось при виде вошедшего Ульяна. Казалось, он смутился перед дядей, что так все случилось, что он посмел спастись и принял спасение от чужих людей и по их милости живет.
Иосиф грамотный, подростком ездил на ярмарки в Кяхту и Маймачен, там научился говорить по-китайски.
Еще сильней смутился сам Ульян. Ему стыдно стало, что он в душе уже похоронил братьев и любимого племянника своего Иосифа, расстался с ними и смирился навсегда с их гибелью.
В Забайкалье старообрядцы живут, не зная притеснений, как всюду в Сибири. Муравьев считает их лучшими сынами России. «Пока я губернатор, волоса не упадет с вашей головы» – так в старообрядческом селе Тарбагатае говорил Николай Николаевич. Он призывал самых удалых крестьян переселяться на Зеленый клин в Приморье, обещал покровительство. Уверял, что там нечего бояться придирок от Святейшего Синода и попов-никониан. А на старых местах старообрядцев теснят, оскорбляют, называют раскольниками, попы у них отнимают детей, матери кончают из-за этого жизнь самоубийством.
При виде доброго, сильного и светлого лица живого, словно восставшего из мертвых Иосифа душа Ульяна озарилась светом счастья, не закрытого и для старообрядцев. Иосифа спасли! Оказывается, что не только горе приносила чуждая жизнь и чужие люди. «Прости меня, Иосиф!» – подумал Ульян с потаенной горячей радостью, обнимая кровь свою, как спасенного родного сына.
Удэгеец Кя поставил на кан перед Иваном коробку с листьями табака, а жена его родича – хозяина фанзы – принесла огромный арбуз с огорода.
Тунсянка хотел бы рассказать, почему родня его живет в Вайдя, а сам он с большей частью рода – на речке Хоре, далеко отсюда.
Когда-то весь род Кя жил в бухтах вокруг Уня и в тайге. Но потом начались набеги маньчжур. Пришельцы никого не жалели. Удэгейцев рода Кя обращали в рабов. А удэгейцы рода Кя не желали порабощаться, убивали маньчжур. А те приводили с собой рабов – китайцев. «Китаец» по-гольдски «нека». «Раб» по-удэгейски и по-гольдски тоже «нека». Тогда впервые старики увидели китайцев. Они штаны подвязывали по-своему, не так, как маньчжуры. Тунсянке все это вспомнилось вчера, когда китайская шаланда ловцов трепангов подобрала молодого русского в море.
Вечером Тунсянка рассказывал ночевавшим в фанзе китайским ловцам трепангов и удэгейцам. Шабалин узнал, что не все жители здешних мест удэгейцы – вернее, все не настоящие удэгейцы, что китайцы зовут их да-дзы, то есть тазы, – смесь удэгейцев с китайцами. Сначала маньчжуры прогнали часть удэгейцев, а оставшихся притесняли. Удэгейцы в неволе мерли. Потом маньчжуры привозили рабов на промыслы. Рабы жили в фанзах с удэгейцами, отбирали у них жен. Рождались дети, похожие на китайцев, говорящие по-удэгейски и по-китайски, но презираемые и пренебреженные своими отцами. Теперь уже нет больше рабов, вымерли, а приходят китайские ловцы на добычу трепангов.
Предки Тунсянки рода Кя ушли из Вайдя на далекую речку Хор и стали называться Кялундзюга... Всего не запомнишь. Тунсянка сейчас говорил по-своему и несколько раз упомянул Муравьева. Что-то спрашивали, поминая Муравьева, ловцы трепангов и тазы.
«Далеко же слышно его имя! – подумал Иосиф. – Спасибо Муравьеву, – на него зла не было, – он хотел и себе и нам как лучше!»
Невельской доложил губернатору Муравьеву, что, снаряжая на юг края, в Приморье, бот с матросами под командованием грамотного боцмана Шабалина, узнал при этом, что старообрядцы, переселенцы из Забайкалья братья Басаргины и племянник их Иосиф Силин, знающий по-китайски, просятся в плавание, хотят видеть необитаемые бухты, узнать, правда ли все, что про те места толкуют.
Первая цель, как пояснил адмирал отплывающим, искать места, удобные для земледелия. «Землю будем давать бесплатно, кто сколько может обработать. Вторая цель: всем судам дружественных держав показывать объявления на иностранных языках, что край наш, всем побережьем владеет Россия, и не сметь никого трогать без позволения. Третье: врагам стараться доказать, что в тех водах плавают и на тех берегах живут русские, – показывать наше знамя. Не бояться врага, стараться погибнуть, если надо, как наши братья умирали и умирать нам завещали». Так складно сказал, не хуже стихи, чем сочиняет Иван Шабалин. Мол, пусть враги увидят, и все такое... Велел погибнуть за родину. И присовокупил, что еще не может сказать по-другому, что еще не догадался никто приказывать: не умирать, а жить во славу родины-матушки и оградить детей и родню и доход, «чтобы ни один враг, видя нашу силу и твердость, не сунулся».
Невельской выдал боцману судовой журнал, четверых крестьян зачислил во флот матросами, дал документы, но в салоне дозволил повесить пудовые медные складни. Дал объявления на иностранных языках, что заливы Ольга, Посьет и Владивосток вечно принадлежали Российской империи.
Назначил шкипером своего лучшего моряка, боцмана, как бы в залог, что посылает не на гибель и что дело исполнимо. Выдал харчи: сухари, бочку солонины, уксус, ром и водку. Запасные паруса. Два якоря, канаты. Определил плату и выдал за год деньги вперед и еще двести рублей серебром боцману, чтобы купил быков, если останется на зимовку, и сам начертил карту...
Так старообрядцы сами попросились в плавание, когда узнали, что бот пойдет на юг, где на берегах раскинулся таинственный и благодатный Зеленый клин, о котором многие толкуют и по Сибири слухи идут...
Грести все умели, парусом управлялись, зверя и рыбу били, умели плавать, голодать, терпеть. Кроме Шабалина и Басаргиных с племянником на боте пошли двое штрафованных матросов, еще один герой-марсовый с медалью и украинский казак. Снаряжение и припасы даны были лучшие. Железные вещи и красное сукно на обмен. Мы цель достигли и приказание Невельского исполнили: все умерли за родину, кроме трех!
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЛУОСТРОВ
Адмирал Стирлинг долго стоял в Хакодате.
Хакодате и Нагасаки – порты, открытые для флота Англии по договору, который адмирал сэр Джеймс Стирлинг заключил в прошлом году. Теперь срок действия начался.
По договору, заключенному Путятиным, порт Хакодате открыт и для русских. «Посол и адмирал Путятин захочет в этом году проверить действие договора?» – «Да, да!» – отвечали японцы. Стирлинг все лето ждал, что адмирал Путятин прибудет в Хакодате. В северных морях кампания этого года подходила к концу. «Путятин прибудет в Японию?» – «Да, да!» – с улыбками отвечали почтительные японские чиновники, радуя гостей.
...Япония – идеальная страна для старых адмиралов. Их огромные парусные корабли нигде в мире не производят больше такого впечатления, как в Японии. Старомодная отделка адмиральских кают, в бархате и позолоте, вызывает восхищение японских чиновников. В Японии вся эта отсталая роскошь считается открытием, слывет новинкой из Европы.
Черный, тяжкий век! Отвратительная промышленная революция лезет на корабли, разрушает флотский аристократизм.
Адмирал Джеймс Стирлинг слывет взбалмошным. Он известен своими причудами. В Шанхае бывает в китайских кварталах и ест там палочками пельмени из свинины с чесноком, на корабле надевает штатский костюм, а вечером китайский халат. К подъему флага является во всей форме.
Ради оригинальности мог бы поднять свой флаг на быстроходном пароходе. Но на «Барракуту» назначен капитаном его сын Артур и делает на ней кампанию. Этим назначением сэр Джеймс отдает должное изобретениям и моде века. Свой флаг, как почти все адмиралы его возраста, держит на старом стопушечном корабле. Старосветские громадины, несущие облака парусины, сохраняют внешний белоснежный аристократизм без угольных бункеров, без труб и без кочегаров.
Да, он мог бы поднять флаг на коптилке, где нет роскоши, где машины требуют места и теснят комфорт аристократов, где меньше людей и услуг, а механикам и кочегарам надо предоставить удобный отдых и сытную пищу, иначе не смогут работать в жаре, без воздуха; это не служба «перед мачтами».
Стирлинг полагает, что он все же не так оригинален, чтобы поступиться ради скорости и престижа британской промышленности традиционными вековыми удобствами в угоду машине и дыму. А жилое помещение, как известно всем, оказывает сильное влияние на мышление и характер обитателей.
Внезапно Стирлинг ушел из Хакодате. Он переплыл моря и прибыл на своем линейном корабле, как в плавучем особняке, в цветущий порт Нагасаки, где в прошлом году подписывал договор. Очень долго шел из Хакодате в Нагасаки. Явился в порт назначения, когда там уже стоял вышедший после него из Хакодате отряд судов коммодора Эллиота с новостями о сожжении портов Сибири: Петропавловска, Охотска и Де-Кастри – и об уходе «Авроры» в Амур.
Артур Стирлинг желал бы знать, где отец был так долго. Почему французский адмирал на таком же старомодном линейном корабле сопровождал его в плаванье? Подобные секреты долго не сохраняются. Сэр Джеймс пригласил сына к позднему завтраку.
– Я уверен, что пленные офицеры надоели вам, – сказал адмирал сыну. – Я освобожу от них пароход, они жили слишком хорошо.
– По прибытии на мой пароход... они...
– Кинулись? – вскричал отец. – На еду?
– Нет!.. На английский язык. Один из офицеров сразу же, как только вступил на палубу, стал записывать в карманный словарик выражения. Мы предоставили им каюты и стол в кают-компании. Пленные матросы – сто человек, все хорошего физического сложения и довольно рослые – походят на отборных солдат. Наша морская пехота ушла с коммодором на Сахалин. Часть команды с лейтенантом Гибсоном отрядил на «Грету». К подавлению мятежа мы были готовы все время. С их офицерами мы проводили время вместе. Пленную команду свои же офицеры держали в повиновении. Матросы помогали нам, исполняя все работы, и заслужили уважение экипажа.
Отец для Артура подобрал на «Барракуту» хороших молодых офицеров. У себя на корабле оставил пожилых лейтенантов. Старик капитан ходит с бородой, как Санта-Клаус, и в цилиндре, как швейцар. Один из офицеров, младший лейтенант, служит сорок лет в одном чине. Эти люди не удовлетворены своей карьерой и далеко не уйдут. Но им придется смириться.
Сын сказал, что пленные матросы голодны и что это всех заботит.
– Чего же они хотят?
– Они не получают табака и мыла.
– Тут я ничего не могу поделать!
– Они исполняют все работы наравне с нашими матросами и заслужили их расположение... Команда попросила позволения собрать митинг и подала петицию...
Ах, петиция матросов! Адмирал задумался. Это важно. Адмирал, как и король, все же зависел от своего народа, которым строго управлял.
– Какой их рацион?
– По уставу, половина порции матроса. Но без табака и без мыла, в чем пленные крайне нуждаются.
Артур спросил наконец о таинственном плавании адмиралов.
– Хотя это открытие французов, – оживившись, заговорил сэр Джеймс, – но...
Он сказал, что пришел с описи странного полуострова, который имеет характер горного Приморья.
...В эту кампанию корабли союзных эскадр бороздили Японское море в поисках противника и адмирал Стирлинг не раз получал рапорты командиров своих судов о том, что побережье, которое тянется от устья Амура до корейской границы, изобилует гаванями. Некоторые из них, как Де-Кастри, заняты противником и известны нам. О других есть сведения от китобоев. Они якобы удобней и чем дальше к югу, тем глубже, а климат мягче – возможно, там есть незамерзающие заливы!
– Мой консорт в Хакодате получил с посыльным бригом донесение капитана корвета «Кольбер». При осмотре побережья северней корейской границы корвет обогнул скалистый мыс, у которого направление берега меняется. Неожиданно нашел густой туман, плотно закрывший берег. Убрали паруса и отдали якорь при полном безветрии. На другой день подуло от норда. Подняли якорь, чтобы уйти в море. Туман внезапно снесло, словно материк всасывал его. При ярком солнце открылся живописный берег в горах с цветущими лесами.
– Вы говорите о плаванье на линейном корабле «Президент»? – спросил Артур, зная, что отец иногда заговаривается. Его не увольняют. С войной, как известно, открылось так много новых вакансий, что адмиралов не хватает. Должности замещаются старыми, но известными преданностью моряками.
– Нет! Шел не я! Шли наши галантные союзники! Перед носом их корвета «Кольбер», следом за остатками быстро несущегося тумана, мчался по волнам палубный шлюп под русским флагом, вооруженный двумя пушками... Его косые паруса были наполнены, и гнулись мачты. Встреча лицом к лицу! – воскликнул адмирал Стирлинг. – Враг находился так близко, что галантные союзники рванулись к орудиям! Признаюсь тебе в величайшей тайне! Прозвучали выстрелы – и открылся целый мир! – выкатив глаза и выскакивая из-за стола, закричал сэр Джеймс. – Шлюп был разбит и пошел ко дну! Двое из команды спаслись в чудом уцелевшей шлюпке. Следуя за ней, два французских гребных судна увидели, как беглецы, имевшие преимущества в скорости, скрылись. Казалось, что они ударились в отвес берега и исчезли в нем. Конечно, это была игра теней, как на сеансах с волшебным фонарем! На самом деле шлюпка с погибшего бота вошла в пролив... Галантным союзникам показалось, что на входном мысу могут оказаться батареи. Французы не решились войти! «Там бухта!» – решил я, узнав обо всем этом. Отлично закрытая лесистыми горами от всех ветров! Осмотр потребовал бы подготовки и времени. Сведения, собранные французами: на потопленном боте шли русские квакеры под командой боцмана императорской службы.
...В Хакодате, получив эти сведения, оба адмирала осмотрели карты описей берегов к северу от Кореи. Стирлинг сам решил идти туда. Француз последовал за ним. Поэтому в Хакодате «Барракута» не застала адмирала. Пришлось идти в Нагасаки, куда ушел Стирлинг. Но в Нагасаки «Барракута» пришла раньше, чем корабли командующих.
Теперь Артур все понял. Ясно, чего хотел отец. На переходе в Нагасаки вместе с французским адмиралом он побывал у берегов загадочного Приморья, которое на картах изображено в виде гигантского выступа материка.
– На больших, неповоротливых кораблях, мой дорогой, нельзя приблизиться, чтобы искать входы в гавани. Баркасы и шлюпки, посылаемые на осмотр и описи, заливало при непрерывных свежих ветрах. Каменистые островки и рифы одевались туманами. Неисследованная полоса берега оказывалась слишком извилистой и протяженной. Ее меридиальное направление в самом деле сменялось на широтное: и вот тут-то начинается, от поворота берега на вест. Там, видимо, гнездятся многочисленные бухты. Об этих берегах ходили легенды. Если судить по архитектонике, то прекрасные бухты и заливы, пока не виданные и не описанные, не могли не образоваться там, где параллельные хребты материка, тянущиеся в меридиальном направлении, были после сотворения мира обрублены и измыты океанскими волнами.
– С вами был паровой корвет?
– Нет!
– Небольшой пароход?
– У французов не было даже паровой шлюпки! Берег опять изменил направление! Оказалось, что чем дальше к югу, тем теплей и ярче море и тем больше рифов и скалистых островов. Страна показывала нам по временам прекрасные ландшафты в глубине гигантских заливов, которые мы увидели. Киты, морские звери и множество птиц, необычайное изобилие рыбы... Ах, мой дорогой, я долгом своим счел погасить проблески интереса у моего коллеги! Это было нетрудно. Даже при виде роскошных стран он целыми часами может говорить о парижских интригах. Люди будущего: интриганство – превыше всего! Никто не поверит, но мне кажется, что это было открытие нового мира! Там целый таинственный материк. Я видел его сам! Иногда казалось, что мой консорт о чем-то догадывается! Мы с ним, старые баловни и болтуны, привыкшие к собственной свирепости, стоя рядом, глядели и шамкали, как дикари при виде человеческого мяса: «Ньям-ньям!» Рыхлый, блудливый старичок с вишнево-черными глазками в туманах! «Какой гигантский полуостров!» – «Где же он, где же?» – «Дайте мне его»
Артур знал, что его отец неуравновешенный человек.
– Карту! – закричал Стирлинг.
Сэр Джеймс признался, что сам возбужден не менее француза.
– Но что же это? – продолжал он, склоняясь над столом, над принесенной картой. – Что? Подайте мне, мой дорогой, сведения. Пока их нет! Масса камней, зверей, птиц, бухт... Бухт! Я сам все видел – бухт нет! Сплошной берег. Нужны исследования, мой дорогой! Не мог же я лезть в бухты на «Президенте». Большим кораблям не втиснуться! На таком гигантском парусном корабле не въедешь в рай грядущего! Величье плавучих особняков! Коллега был во власти парижских интриг и ничего не заметил у себя под носом! Все было бы терпимо и дело могло бы ждать! Если бы не потопленный бот! Железный бот, железный берег! Маленькая посудина среди гор, бухт, островов. Чья? Чей этот материк будущего? Вам, мой дорогой, идти! Может быть, в будущем году? Но удастся ли? – Тут на память сэру Джеймсу приходили ужасные, отвратительные гонконгские интриги. Интриги гонконгских англичан.
– Придется посылать гидрографическую экспедицию! Описывать, мой дорогой сын! – заключил свой рассказ Стирлинг. – Но сначала я должен поразить своего злейшего врага – губернатора Гонконга.
Сэру Джеймсу нравилось все китайское. Стирлинг в восторге от китайцев, от их гармонической и яркой беспорядочности, пропитанной практицизмом, от множества их твердых и консервативных условностей и философских понятий, которые никогда не отомрут... При жизнеспособности, жизнедеятельности, плодовитости... При внешней нечистоте у черного народа большие силы... Изысканная опрятность аристократии. Стирлинг полагал, что его дружественность к китайскому обществу может служить образцом для консервативных англичан. Со временем, однако, Англия не подпадет под влияние Китая, так как находится на острове. Может быть, что в будущем китайцы в наказание заставят англичан курить свой опиум...
Артур вернулся на «Барракуту» поздно вечером.
Русские офицеры ждали его, оставаясь в полутемной кают-компании.
– Адмирал затрудняется послать суда на север для вашего возвращения в столь позднее время года, – сказал капитан.
ПОДВЕШИВАЙ ГАМАКИ!
Коммодор Эллиот прибыл на пароход «Барракута» в сопровождении капитана Никольсена и командира корвета «Стикс» капитана Келлога. Русских офицеров опять пригласили на квартердек. Явились Мусин-Пушкин, Шиллинг, Сибирцев и Гошкевич.
Загорелые моряки в белых костюмах, белые паруса, увязанные на реях, и белые бухты канатов, добела выдраенная палуба, а вокруг на берегах дворцы и храмы Нагасаки и зонтичные сосны на холмах и островках – и все это сквозь ванты множества мачт. Красиво, ничего не скажешь! Славный денек!
– Адмирал Стирлинг из сочувствия к нам решает взять ответственность на себя, – торжественно объявляет Эллиот. – Его превосходительство готов освободить вас!
Коммодор и оба капитана взглянули на своих пленников с ободряющей добротой. Эллиот ждал отклика. Но объявленная новость была столь ошеломляющей и неожиданной, что пленные офицеры молчали, опасаясь подвоха.
– Я иду со своими кораблями к берегам Сибири и беру с собой всех вас, чтобы сдать на русские корабли, – продолжал Эллиот.
– Вот так бы и говорил! – вздрогнул Пушкин и свел свои густые брови.
– Согласны ли вы принять мое предложение?
– Но где вы найдете русские корабли? Вы все лето искали их и не нашли.
– Мы пойдем туда, где они есть. Мы прекрасно знаем, где находится фрегат «Аврора».
– Позвольте вас спросить, – заговорил Шиллинг, – при подобной встрече не произойдет ли сражения между вашими и нашими кораблями?..
Барон для Эллиота как для быка красное.
– Да, произойдет! – заносчиво ответил усатый загорелый англичанин.
– Когда же вы сдадите нас на наши суда? До битвы или после?
– После.
– Кто же кого победит?
– Победим мы! – в запале коммодор как бы закусил удила.
– Кому же тогда нас сдадите?
– А черт их побери! – пробормотал Эллиот, отводя своих капитанов. – Я ведь так и говорил адмиралу, что это не довод и ничего не получится! – Эллиот тупел и терялся в таких случаях.
– Адмирал пошлет вас в шлюпках под парламентерским флагом мира, – поспешно объявил коммодор, не давая открыть рот Шиллингу. – Дайте расписку, что по флагу не будут стрелять!
– Мы готовы дать расписку, но не согласны вести вас в Амур, – ответил Пушкин, – просим высадить нас в известной вам гавани Де-Кастри.
– В Де-Кастри никого нет, и вы перемрете от голода. Я могу вас доставить только в Амур.
– Они хотят, чтобы мы показали им вход в реку, – сказал Пушкин по-русски.
– Дайте нам продовольствия на десять дней и высадите нас в Де-Кастри. Мы сами дойдем.
– Нет, я не могу подвергать вас риску голодной смерти!
– Мы отказываемся идти в Амур!
– В таком случае останетесь в плену.
– Объясните ему все сами, Николай Александрович, – сказал Пушкин.
– Я надеюсь, что вы не откажете, коммодор, в таком случае, – заговорил Шиллинг, – мне в личной просьбе.
– Да, пожалуйста!
– Передайте вашему адмиралу, что он далеко не джентльмен.
– Да как вы смеете? Вы... вы... Кто и чем обидел вас?
– Каждый честный офицер вашего флота обиделся бы, если б ему предложили за свободу стать изменником.
– Никто вам этого не предлагал!
– Неужели вы думаете, что мы из первых ваших слов не поняли, куда вы клоните?
– Вы надеялись, что мы укажем вам пребывание наших судов? – сказал Пушкин.
– Вы смеете предлагать нам освободиться в обмен на сведения о фарватере Амура!
– Не забывайтесь! – закричал Эллиот. – Могу отдать приказание заковать вас в кандалы!
– Заковать меня можете... Но вот ваш адмирал все-таки не джентльмен! Да и вам, господа, не следовало бы передавать такие унизительные предложения!
– Остаетесь в плену! – сказал Эллиот. – Вы будете переведены на другие суда! Порция не будет увеличена вашим матросам.
– Кто это решил?
– Приказание адмирала!
– Когда он отдал его?
– Это не ваше дело!
– Ах, вот как! Так не забудьте, пожалуйста...
Эллиот и капитан сошли по бронзовому парадному трапу в вельбот...
– Хорошо. Теперь мы имеем полное право держать их в плену, – сказал на флагманском корабле в своей каюте прибывшим офицерам адмирал Стирлинг. – Мы предлагали им освобождение – они сами отказались. Из страха перед своим правительством! Ну, так им и надо! Но только убрать их с парохода! Всех их разделить, не оставлять вместе. Офицерам не давать кают! Пусть ночуют в палубах. Днем могут проводить время в кают-компаниях... На ночь подвешивать койки в жилых палубах вместе с матросами. Не хотят стать изменниками? Так они заявили? Вы пообещали надеть на него кандалы? Они всего боятся! Приказываю порции их матросам не увеличивать... Табаку и мыла не давать!
– Ваше превосходительство! – заговорил Эллиот. – Их люди честно работают, и наши команды настоятельно просят... на кораблях петиции подписаны всеми, пленные заслужили уважение... «синих жакетов»!
Адмирал был так возмущен, что не хотел больше слушать.
– Петиция не имеет никакого значения, если пленные офицеры дерзят мне! Никому не будет снисхождения!
Коммодору Эллиоту предложено готовить отряд к плаванию обратно на север. Но без русских пленных. Их доставим в Гонконг. Искать вход в реку Амур, попытаться сделать все, что удастся! Бомбардировать Де-Кастри. Отряд Эллиота будет усилен винтовыми судами и фрегатами. Стараться войти в реку и проникнуть на рейд нового порта. Найти «Аврору». Потопить ее... Уничтожить город и порт!
– Взять «Аврору» и привести ее в Гонконг!
«Будет ли Эллиот адмиралом?» – закручивая ус, подумал боевой коммодор. Такой вопрос мог бы подразумеваться!
– Как и решили, пленных офицеров, знающих по-английски, переведите на мой корабль, – приказал командующий. – Я хочу видеть их сам! Держать их перед глазами Пушкина оставить без переводчика. Натуралиста отделить от офицеров. Перетасовать пленных. Все время переводить их с судна на судно, чтобы больше они не заслуживали симпатий наших «синих жакетов». При первых же попытках неповиновения прибегнуть к наказаниям пленных.
– Я прошу вас, мой сын, – сказал сэр Джеймс, оставаясь в салоне с Артуром, – пренебрегите своими дружескими отношениями с офицерами посольства Путятина. Подайте списки пленных. Я приказываю убрать всех с «Барракуты» и перевести на другие суда! Я не рекомендую вам сохранять какие-либо отношения! Я уверен в вас! Они не джентльмены и более для вас не существуют!
– Может быть, необходимо освободить Гошкевича? В одном из китайских портов он мог бы сойти, как лицо гражданское, мог бы отправиться в центральную Европу на пакетботе...
– Гошкевича ни в коем случае! Он же был секретарем Путятина... Держать его дольше, чем военных! А то явится в Петербург, тогда будет считаться, что они заключили договор с Японией.
– Но Путятин уже в Петербурге!
– Путятин? Что он значит, если все его посольство в плену! Просто он бежал, бросил всех на произвол судьбы. Наши газеты напишут об этом! Никто не признает, что он, а не я заключил договор!
Алексей смотрел через порт, в который выставлено на Нагасаки дуло морского орудия, и думал об Оюки. Он надеялся, что в Нагасаки хоть что-нибудь узнает о ее судьбе. Поэтому возвращение в Японию не было для него таким ужасным и невыносимым путешествием, как для его товарищей. Но вот эскадра уходит. Уж вымпелы вьются... Напрасно ждал, что удастся побывать на берегу. Нас переводят, и сегодня уйдем!
В Хакодате встретился знакомый переводчик Сьоза, сказал Алексею, что в Нагасаки в этом году, по совету посла Путятина, открывается первая японская высшая военная морская школа голландского кораблестроения и плавания и что один из самых знатных молодых рыцарей уже отправился туда из окрестностей деревни Хэда и что он теперь в Нагасаки и, возможно, что-то знает о судьбе Оюки. Как всегда, у них ребусы! Понимай как хочешь! Мол, он знаком с красивой молодой японкой из деревни Хэда – дочерью банкира и купца.
Баркас с пленными готовился к отвалу. Стивенсон, тряся руку Васильева, объяснял ему, что на фрегате «Пик», на «Президенте», на «Винчестере» и на всех кораблях, куда переводят пленных, командами также будут приняты резолюции в защиту прав русских матросов курить табак и съедать полную порцию.
– На всех кораблях ее Величества эскадры Китайского моря движение охватывает все экипажи.
– Мы об этом позаботились! В добрый путь! – подтвердил Тэд.
– See you again![27]
Алексей Сибирцев, японец Точибан Коосай и сорок матросов поднялись на парусный адмиральский корабль «Президент». Как для экзекуции, на палубе выстроены две длинные шеренги моряков. Адмирал Стерлинг в торжественной тишине прошел между рядов гулкими шагами и быстро кинулся к Сибирцеву.
– Пойдете в Австралию! – закричал он на остолбеневшего Алексея. – В колониях нужны рабочие. Объясните, кто этот офицер, который передал мне оскорбление? На рудники! Вы не сдержали честного слова! Вы не джентльмен! Будете спать у меня не в каюте, а в подвесной койке. Целый день слоняться без места и без дела! Я не позволю вашим людям помогать моим морякам! Пусть сидят и скучают, как пленным полагается! Всех вас я буду время от времени переводить в плаванье с судна на судно. Я вам покажу права погибших при кораблекрушении!
Японец Точибан удивился, слыша все, что говорил английский морской генерал. Не понимая его речи, он понимал смысл и обиделся за Сибирцева. Это очень невежливо и постыдно. В княжестве Какегава даже дети не простили бы отцу такую брань. Так не говорят с рыцарем. Его можно убить, но это надо сделать благородно, нельзя оскорблять. А тут крик, как на допросе воришек или мелких шпионов эдосской полицией у моста Симбаши...
...Кроме князя в школу западного кораблестроения из Хэда, рассказал Сьоза, посылаются для дальнейшего обучения несколько бывших плотников, возведенных еще во время пребывания посла Путятина в рыцарское достоинство... А деревня Хэда теперь закрыта как для иностранцев, так и для японцев, и ничего о жизни там никому узнать невозможно. Все переводчики оттуда отправлены в порты. Под страхом казни им запрещено рассказывать обо всем, что было в деревне Хэда. Голландцы начинают японцев всему снова обучать в новой морской школе в Нагасаки...
«Вот и я, офицер, сижу, как и все мои товарищи, в жилых палубах и жду команды: трайс хэммокс – подвешивай гамак! Что ж, поспим и в гамаке! Спят же матросы! И я спал. Как смею я предполагать, что чем-то отличаюсь от них! Устаревшие, глупые понятия! Не за горами реформы в России! Черт их побери! – подумал Алексей, дождавшись команды и прикрепляя свою койку к крюку. – Чем все закончилось! Впрочем, теперь на душе легче, не стыдно людям в глаза смотреть, вокруг все свои, койки Маслова и Берзиня подвешены рядом. Дальше Сидоров, Васильев, Мартыньш, Маточкин. Так же и на других судах вместе с матросами все наши господа офицеры».
СЮРПРИЗ
В плаванье невыносимо скучно. Погода прекрасная, дует ровный попутный ветер, гонит корабль все дальше от России. Ветер не разводит волнения. Можно развлекаться мыслями, что где-то близко берега Китая. В чистом море видны, похожие на веера, красные, оранжевые и желтые паруса на лодках китайских рыбаков. Но самого Китая еще нет. А приближение к этой великой стране очень волнует. Уже идем водами, где плавают китайцы! Веками из Китая в Японию, как объясняет Гошкевич, доходили знания. Философские книги, религиозные учения, великие истины, манеры писать картины, сочинять стихи и думать. Японцы пишут китайскими иероглифами, хотя есть две своих слоговых азбуки. Китайцы полагают, по словам Осипа Антоновича, что японцы – легкомысленные люди. Но тут на ум Алексею невольно приходит, мол, если японцы легкомысленные, то какие же китайцы!
Тоскливо и Точибану. «Я не могу среди русских и англичан жить без Гошкевича! В моем положении Осип Гошкевич-сан нужней мне всего остального. Хотя я шпион и должен выведывать все в его стране, что может стать полезным для Японии, то есть я его противник! Но это совсем не так! Я теперь понял, что шпион может очень любить тех, против кого шпионит. Пока я японский шпион в России, у меня нет лучшего друга, чем Гошкевич-сан, он русский патриот и служитель своей веры! Поэтому я не могу не любить его и мне очень больно расстаться с ним. Англичане очень гордые, но я лучше умру на их виселице, чем подчинюсь им! Расстаться с Гошкевичем-сан вдали от княжества Какегава – это значит совсем расстаться с мыслями о родине, совсем засохнуть, не слыша японских слов: молчать невыносимо, когда вокруг все говорят на своих языках, и это их облегчает. Я лишен этого. Поэтому лучше идти на какой-то риск, чтобы убили».
Точибан наблюдал за всем, что делается на английском корабле. Когда морской генерал кричит, то его голова властно приподнята, глаза округлены и выкачены, глядят куда-то в пространство, не на окружающих.
Точибан заметил, что иногда офицеры бьют матросов по морде, совершенно как полицейские в Японии. Особо провинившихся наказывают веревками. Имеются также бамбуки. Когда матроса бьют по лицу, он не кланяется, соблюдает прямизну, принимает мордобой с достоинством.
Точибан Коосай недоволен англичанами. Он прибыл как иностранец в Нагасаки. Он смотрел на японские дома, но не мог побывать на берегу. Он никогда не бывал прежде в Нагасаки. Как красив оказался этот южный порт! Точибан не сходил на берег, и его никто не приглашал, хотя он мог бы пройтись со своими новыми товарищами, как русский матрос Прибылов. На всякий случай у него с собой в матросском ранце есть кимоно, гетта[28] и палочки. Как прекрасна Япония, с которой он простился! Не зря русские, бывавшие здесь с Гончаровым, так часто вспоминают Нагасаки. А теперь Точибан на корабле в открытом океане.
Его опять увезли из Японии. Снести все это – выше сил человеческих. Подобно лишению жизни дважды. Отсекли голову. Потом оживили человека и показали ему его прекрасную родину. После чего еще раз отрубили голову. Даже хуже: человек с отрубленной головой мертв и ничего не чувствует. А Точибан Коосай наказан еще более жестоко. Он приговорен к мучениям и вечно страдает. Боль утихла, когда он отплыл от берегов родины. Но его снова вернули сюда, снова все разбередили в душе. В то же время сам он теперь очень боялся японцев. Он желал скорее уехать в Европу и рассеять себя изучением новизны. Гошкевич, конечно, догадывался! Но Гошкевича нет, и это ужасно – больному человеку оставаться наедине с собой.
– Повидали свою отчизну, Коосай-сан? – спрашивает Сибирцев по-японски.
– В их стране нет ничего хорошего. Я очень опасался, что англичане могут меня выдать из своих коммерческих видов как политического.
– Англичане не знают, что среди нас есть японец, они считают вас русским матросом.
– Они не знают, что я японец?
– Нет, на этом судне никто не знает, как я полагаю.
– Русские матросы очень верные, – сказал Точибан.
Прибылов начинает говорить по-английски! Японцы, конечно, не так глупы и тупы, как полагают западные люди. И не так несведущи, как притворяются. Японцы многое знают. Они решили все изучать. Особенно судостроение, машины и артиллерию.
Точибан Коосай был у себя в княжестве Какегава офицером-артиллеристом, не в мундире с золотом, а глупым японским офицером-самураем в смешной одежде, с косичкой и в кимоно с саблями. Потом его карьера нарушилась... На английском корабле он изучает пушки. В этом случае хорошо, если будут переводить его с судна на судно и он увидит разные образцы. Так знакомишься с разнообразными орудиями английской артиллерии.
Сибирцев немного по-японски говорил, но это не Гошкевич.
Точибан сказал Алексею:
– У вас скоро будет сын...
Алексей вздрогнул. «Иногда я сам думаю об этом, но как он почувствовал?»
– Какая будет судьба ребенка? – спросил Сибирцев.
– Его, конечно, убьют, – ответил Точибан. – Это... будет закон... убить всех детей, родившихся от... нас... от русских.
Алексей не хотел верить.
Точибан замечал, что англичане не интересуются ничем и никем и ни на что не обращают внимания, словно зная точно, что они все знают, поэтому никого не слушают. Если так, то очень счастливы, если нечего больше изучать.
Англичане новый, еще неизвестный народ. Очень сильный и самый богатый в мире. Их красные мундиры самые храбрые. Они ничего не боятся, ничему не удивляются.
В Японии есть старинные храмы с террасами, открытыми в искусно подобранные сады, в которых все кажется естественным, но все до единой травинки посажено человеком. Надо сесть на заданном расстоянии от края террасы; известно в каждом храме – на сколько сун и сяку[29]. И смотреть. В четырехугольнике, образуемом крышей, толстыми стенами и полом, предстает дивная картина. Молящиеся и мыслящие сидят часами и созерцают. Всегда видны деревья, кусты, цветы и травы. И в глубочайшей тишине окружающего леса вдруг вблизи храма раздается удар дерева о дерево, дощечки о дощечку. Такое устройство в ручье: сосуд и деревянная лопатка. Когда сосуд наполняется водой, то все устройство опускается и переворачивается, а лопатка хлопает о доску. Раздается удар. Чтобы тишина не была мертвой! Такая прекрасная музыка дерева!
Все создано природой и человеком! Хлопки напоминают человеку, что даже в священной тишине время идет и конец приближается!
Когда Точибан с борта английского корабля смотрел на сады Нагасаки, он вспоминал, как любил наслаждаться созерцанием цветов, камней, скал, но потом все забыл, отверг, пил, хвастался, познался с разными очень опасными людьми и добывал средства для преступных любовниц игрой... и попался. Его запутали, запугали и заставили под угрозой казни...
Чай и фарфоровая посуда – произведение искусства. Бумажные изделия. Это все предметы для удовольствия детей и взрослых всех сословий. Бедные, дешевые, но прекрасные вещи созерцаются, как леса в пору цветения сакуры. Богатые японцы учат бедных наслаждаться чаем и придавать этому созерцанию характер преданности идее. Идее красоты. Любоваться храмами и дворцами князей. Их выездами. Много-много есть всяких приемов, как сделать народ счастливым. Кроме опиума и сакэ! Народ должен быть счастлив идеей. Также чашкой душистого чая! Дешевые наслаждения истинно прекрасны. В этом особый смысл!
А бедным все это не нравится. Хотели бы разбогатеть, чтобы пить сакэ с утра, каждый день, курить контрабандное зелье, ходить в публичные дома, не работать, при этом строго воспитывать и счастливо растить детей.
Известны ли английским даймио[30] такие понятия, что народу лучше всего питаться чаем и идеей?
Исследование или гибель! Одна из этих целей будет избрана судьбой! Коосай чувствовал, что впадает в отчаяние. Гордость его уязвлялась непрерывно как в Японии, так и на английском корабле. Если убьют, не надо мучиться и всю жизнь оставаться шпионом! Вероятно, после казни удастся отдохнуть.
Да, у древнего бревенчатого храма в лесах под Киото, если вода наполнит чашу, то прикрепленная к ней палка с деревянной лопаткой переворачивается и раздается звонкий хлопок в тишине! Нужен ли такой удар в важной и достойной жизни на английском корабле?
Чем наслаждаются англичане? Им любезны лошади и собаки. Они любят красивые камины. Но ничему не придают значения, берут все как должное, их невозможно удивить.
Точибан видел на пароходе много прекрасных книг и вещей. Но высшее благородство – ни на что не обращать никакого внимания, словно даже самые хорошие вещи совершенно не нужны? Это есть и у знатных японцев. Внешнее невнимание ко всему красивому и дорогому, чем любуешься исподтишка, чтобы другие не узнали, что любопытен.
Отправляясь с «Барракуты» на флагманский корабль, Точибан с трепетом ждал встречи с адмиралом Джеймсом Стирлингом. Он посмотрел на него с благоговением, как на божество, несмотря на его ругань.
Плаванье в Гонконг такое длительное, что постепенно меняешь мнение. Точибану начинает казаться, что морской генерал Стирлинг сам близок к безумию.
Как же узнать истину? Надо изучать. Англичане очень гордые. Повторим главное – они ничему не удивляются. И ничего не боятся.
...Артур Стирлинг слушал отца понурившись. Сэр Джеймс это помнил. Хотя считал себя совершенно правым. Отец, по мнению Артура, не пожелал пренебречь традицией? На громадном, неповоротливом деревянном корабле в век пара... Тешил себя несбыточной мечтой? Может быть, и сыну надоел постоянными криками и угрозами, с которыми обращается к подчиненным!
Сэр Джеймс сам недоволен своими исследованиями. Из плаванья ничего путного пока не получилось. Придется все начинать сначала! Но когда? И как? И кому придется начинать заново? Может быть, не Стирлингу. Против адмирала плетется интрига в Гонконге! Всеми действиями сэра Джеймса недоволен губернатор колонии, он же посол королевы в Китае – сэр Джон Боуринг. Когда корабли шли из Гонконга, на все это смотрелось проще. Теперь, когда эскадра туда возвращается, неприятности становятся значительней.
На ночь адмирал оставался в своих трех отделениях гигантской каюты, которые равны трем комнатам в приличном доме. Иногда он запирал двери. Значит, не боялся одиночества, необходимого в его положении.
Утром сэр Джеймс через открытую дверь спальни вошел в салон и вложил ключ во входную дверь, чтобы затем взять колокольчик и позвонить. У трапа, ведущего в адмиральскую каюту, находятся часовые. Рядом каюта камердинера. У дежурного адъютанта на непредвиденный случай имеется второй ключ от каюты.
Сэр Джеймс уже поднял ключ и, повернув при этом голову, увидел, что в его святая святых – в адмиральском салоне на диване кто-то сидел. Это кем-то установлена статуя человека. Он изображен в японском халате и с веером. Это было японское изваяние! Статуя, изображающая японца в кимоно. Сюрприз? Какая прелесть! Подарок от благодарных офицеров за успешную кампанию. Это намек, что адмирал Стирлинг первый европейский дипломат, заключивший выгодный договор с упрямым современным японцем. Да, он вспомнил! Он догадался! В Нагасаки среди офицеров эскадры была подписка на подарок адмиралу.
Адмирал обмер. Сюрприз шевелился. Он качал головой, его глаза моргают. Искусная работа азиатских выдумщиков? Или... Может быть, это померещилось? Нет... О-е!
Сэр Джеймс шагнул обратно к двери, снова сунул ключ в скважину, ухватив ручку. Ключ не поворачивался, а дверь не открывалась.
– Сюда! – истошно закричал Стирлинг, дергая и распахивая дверь. Все тело его выражало сильное, небывалое напряжение. Неуверенный в себе и в том, что происходит ли все, что он видит, на самом деле, сэр Джеймс заметался по каюте. Он подумал, что, кажется, готов выбежать на палубу и броситься в море... Стирлинг на миг остановился и взял себя в руки.
– Кто вы такой? Как вы сюда попали? – спросил он. – Что вы тут делаете?
– Yes! – отвечала фигура. Человек слегка приподнялся и, не спуская поджатых ног с дивана, стал кланяться.
Это явно японец! Какое чудище! Стирлинг протер глаза пальцами. Он увидел, что в каюте находятся также офицеры и с трапа заглядывают матросы.
– Скажите, что вы тут делаете? – спросил он любезней. – Откуда вы взялись?
Теперь Точибан убедился, что, несмотря на величайшую важность и скуку, даже самый высший англичанин может обмереть со страху и растеряться. Значит, они еще не совсем конченый народ! Значит, и вы человек. Спасибо!
А Точибан, наблюдая, не раз думал – зачем они живут! Если что-то делают, то бессердечно. Никто не догадался спросить: «Ты японец? Как попал? Зачем едешь? Куда? Как тебе нравится у нас? Что, по-твоему, имеется хорошего у англичан?» Нет, ничего подобного. Ни единого такого вопроса задано не было. Как будто Точибана Коосай не существовало. Англичане видели только самих себя и то как-то тускло. Теперь спасибо! Наконец он заставил обратить на себя внимание и его спросили: «Кто ты такой, как сюда попал?» Сам морской генерал!
Англичане переполошились и забегали, между ними было много споров, и они все стали людьми. Точибан, благодаря, простерся перед адмиралом на полу в почтительном поклоне.
Сам Стирлинг кричал:
– Как мог на мой корабль попасть японец? Он мог зажечь все судно! Они – фанатики! Это желтая раса! Ужас будущего! Он мог и в пороховой погреб забраться... Для осуществления подобных целей они себя не берегут! Вы все сошли с ума!
Точибан был глубоко благодарен своим предкам. Они создали эту школу! Но он и сам изобрел...
У Точибана было умение, редкая таинственная способность, он мог незамеченным пройти мимо любых сторожей, мимо зоркого хозяина и даже проскользнуть вовремя, в выбранный миг, мимо любых западных часовых, а иногда и мимо самураев княжеской охраны. Он очень редко пользовался этим своим умением.
Адмиралу Стирлингу говорили и докладывали, со слов пленных офицеров, про ученого японца, служившего в русском экипаже. Сын рассказывал. Но сэр Джеймс никого не слушал, помнил только о долге, думал только про свою главную цель и про своего главного врага – гонконгского губернатора сэра Джона Боуринга. Про японца забыл совершенно, не помнил даже разговора о нем. И сейчас потрясен, узнав, что есть японец на судне, при этом казалось всем, очевидно, что адмирал выжил из ума.
Конечно, так на самом деле, очень возможно.
Японец тише воды и ниже травы, и не уходил из салона, и на каждый вопрос отвечал с поклоном и ласково улыбаясь:
– Yes!
Он все отлично видел и понимал, как бы острым ножом разрезал своих английских пленителей и приоткрывал их души.
Точибана вывели на палубу.
Русские матросы хохотали, рассказывая Алексею Николаевичу, как японец досадил сумасшедшему сэру Джеймсу. Сибирцев обеспокоился не на шутку. Он поднялся наверх и попытался объяснить флаг-офицеру, что все это недоразумение...
Сибирцева ввели в салон. Адмирал пил содовую холодную воду и молчал.
– Это ваш матрос? – вскричал, обратившись к Алексею, старый белокурый капитан, с бородкой и с лубяными глазами, похожий на швейцара. – Как он попал сюда?
Сибирцев энергично и уверенно заговорил:
– Это не матрос. Я говорил вам, это японец, взятый нами в Японии, решивший покинуть свою страну и просивший нас об этом, не имеющий никакого представления о западных порядках и законах. Я объяснял, но меня никто не хотел выслушать. Впервые он на иностранных кораблях. Он ничего в жизни не видел.
– Он приговорен к расстрелу! – отрубил коротконогий капитан со швейцарской мордой.
– Но если он не русский, а японец, – залепетал Стирлинг, – то я отменяю наказание... достаточно пятидесяти ударов плетьми!
– Он впервые в плаванье и никаких европейских обычаев не понимает, – горячо возразил Алексей, – он боготворит вас, ваше превосходительство, и желал, видимо, это выразить. Неужели за это получит пятьдесят ударов? Он не имеет понятия о том, что к вам нельзя... Я уверяю вас, что он дисциплинированный, вежливый, почтительный. Ужасное недоразумение произошло только из-за того, что его разделили с его учителем и другом... Пока этот японец находился с нашим ученым секретарем посольства и знатоком японского языка, господином Гошкевичем, он вел себя как нельзя лучше и никто не мог бы его обвинить в неповиновении. Он сам объяснял мне, что не находит себе места без Гошкевича... Он боится, что разлучен с ним навсегда, что Гошкевич может погибнуть.
А наверх уже вызвали унтер-офицера Маслова.
– Это ваш человек? – спросил его младший офицер.
– Йес!
– Выпороть линьками! Сейчас же...
Маслову объяснили суть дела.
– Линьками его! Пятьдесят линьков!
– Он бывший буддийский монах, – не унывая, стоял на своем Сибирцев, обращаясь к адмиралу, – автор книги об Англии, пострадавший за это в закрытой Японии и вынужденный бежать.
Стирлинг закричал, что если японца уже начали пороть, то пусть остановятся! Всякое наказание отменяется!
«Но как он мог попасть в салон незамеченным? – сетовал сэр Джеймс. – И у него хватило терпения просидеть взаперти всю ночь! Это удивительный народ. Очень большая опасность для тех, кто этого еще не понимает! Но я заключил с ними мирный договор!»
Сигналили на «Стикс». Легли в дрейф. Пришлось посылать свой баркас.
В каюту адмирала ввели Осипа Антоновича с японцем.
– Кто этот человек? – спросил Стирлинг, показывая на Точибана. – Как он попал к вам? Он ваш? Или он сел на корабль тайно в Нагасаки?
– Японский джентльмен, ученый, пожелавший вместе со мной производить филологические исследования, ваше превосходительство!
– Мистер Гошкевич, переведите ему: почему он ничего не хочет говорить нашим переводчикам?
Точибан медленно, сквозь зубы процедил, что, наблюдая адмирала, понял, что он высшего происхождения, как бог, и желал молиться ему, оделся чисто и проник в храм.
– Я не желаю быть японским богом, – ответил Стирлинг.
Японец пояснил Гошкевичу, что своими криками и угрозами Стирлинг очень надоел ему, как и всем.
– Я открыл дверь, а в моем салоне кто-то сидит, как мумия, и зловеще шевелит глазами, как фарфоровый болван! А я еще подумал, что сувенир от офицеров эскадры за большую победу!
– Ваш пленник и мой друг – японский лорд, принадлежит к старинному княжескому роду...
– Возьмите его с собой на «Стикс», мистер Гошкевич. Я не хочу его видеть!
– Адмирал просит вас к себе, – сказал флаг-офицер Сибирцеву, который сидел в кают-компании, читал в старом журнале статью об усадебной архитектуре в сельской Америке.
Сибирцев поднялся из кают-компании на палубу и спустился по трапу.
Стирлинг пригласил садиться и сказал, что благодарит за помощь. Подвинул ящичек:
– Гаванскую сигару, пожалуйста...
– Благодарю вас, ваше превосходительство, я не курю.
– Я решаю пойти вам навстречу и смягчить условия. На каком судне вы хотели бы находиться?
– Я бы хотел находиться вместе с лейтенантом Пушкиным и моими товарищами Шиллингом и другими, но я не могу оставить моих людей.
Стирлинг перебил, сказав, что все обдумает, и велел, по возможности, ослабить строгости, один раз в неделю выдавать мыло и табак. Но только увеличить порции еды невозможно.
– По моему приказанию японца отделили от мистера Гошкевича и держали на флагмане, но ему не нравилось... Я велел убрать японца с моего корабля, чтобы я его больше не видел... Я бы повесил его не задумываясь! Но нельзя повесить единственного японца, тем более что он лорд, и мне стало известно от мистера Гошкевича, что японец нужен адмиралу Путятину для ученых исследований.
Несмотря на желание поправить свою стратегию и доказать способность к продолжению войны и карьеры, Стирлинг не желал делать неприятностей лично Путятину; как и все английские моряки старшего возраста, он испытывал к известному адмиралу уважение.
– Величайшая чепуха – разговоры про мой возраст! Известная старая истина: у мужчин до пятидесяти лет лишь подготовка к жизни. Настоящая же деятельность начинается с пятидесяти! А я полагаю – нет! Не так! Только с шестидесяти! Да! Даже с семидесяти!
Стирлинг быстр в решениях и смел. Но он умеет быть осторожным. Главная опасность впереди. В Гонконге предстояла встреча с губернатором Джоном Боурингом.
«Вот про сэра Джона действительно можно сказать, что он выжил из ума от старости. Терпеть не могу этих чиновников из литераторов и проповедников! Великий ум! Гуманист! Вот кого старость совершенно разрушила! Неприятная, склочная личность».
Но ничего. Стирлинг даст отпор. Боуринг – губернатор, Стирлинг – командующий флотом. Ведомства совершенно разные, и в этом случае, когда не зависишь, действовать можно даже против губернатора. Боуринг облечен властью. Кроме того, он посол Англии в Китае, хотя китайцы и отказываются с ним вести переговоры и не пускают в Кантон. На порог его не пускают в свои дворцы! Если китайцы говорят с ним, то только на английских кораблях и как высшие с низшим, это бесит сэра Джона. Он никак не может приспособить идеи гуманизма к китайской важности!
– На что обиделся барон Шиллинг?
– Лейтенант Шиллинг оскорблен, полагая, что вы предложили нам быть шпионами.
– Он понял правильно. Я действительно хотел бы, чтобы вы помогли в сборе интеллидженс Мы одни... И я расположен к вам вполне. Вы чем-то напоминаете мне моих сыновей...
«Пощечина полагается в таких случаях, тем более – один на один. Однако послушаем, учиться так учиться, и у них и у японцев. Да и на виселицу мне идти не следует».
– Шпионаж – великая деятельность общества будущего... Тот, кто шпионит – отдельная каюта. Кто не шпионит – подвесная койка в матросской палубе и паек, какой бы... ни был...
– Будем спать в подвесных койках! – сказал Сибирцев, выслушав речь адмирала, и, показывая, что разговор окончен, встал.
– Разрешите уйти?
– Да, пожалуйста, лейтенант.
– Я никогда не обольщался на их счет, – говорил Елкин, стоя с мешком в темной, душной палубе под крюком, назначенным для койки Сибирцева. Уже подана команда «подвешивать гамаки». Сумбурный день закончился.
– Я ждал, что таким Стирлинг и должен оказаться, – отвечал Мусин-Пушкин, прикрепляя вытянутыми руками петли.
– А, черт с ним! Охота вам говорить про них! – молвил Алексей и тоже стал подвешивать.
Усталость брала свое. Жарко. Чувствуется противная прель. Спертый воздух.
– К тропикам подходим. Говорят, что ждут тайфуна, на палубу не пускают спать. Задохнешься здесь.
– Посмотрите, что будет в Гонконге. Они переморят нас... – молвил уже забравшийся в свой гамак мичман Михайлов. – Там желтая лихорадка, холера!
– До Гонконга еще несколько раз могут перевести нас с корабля на корабль! – заметил Сибирцев.
– Это приказание адмирала в силе?
– Он не будет отделять нас от наших матросов. Это он мне обещал.
– Что это был за бот, который французы потопили? – вдруг спросил Пушкин, когда все улеглись.
– Ума не приложу! – ответил Сибирцев.
– Господи! – с горькой досадой воскликнул Елкин. – Я кинул в воду гидрографические заметки и карты! Все мои записи, изо дня в день, за все время в Японии! В плаваньях! У своих берегов! Как будто я не жил! Как будто в жизни моей ничего не сделано... Вот вам и все! И наши экспедиции останутся никому не известными! А теперь они все опишут. Теперь они пойдут туда, где должны быть мы, где место нашего города, порта, флота.
– Не говорите мне про них... ничего слышать не хочу! – отозвался Шиллинг.
Потянулся к соседней койке Точибан.
– Адмирал Стирлинг... – зашептал японец, – это... еще не совсем... плохой... очень... возможно!
– Джек идет! – предупредил Маточкин.
– Потише, пожалуйста! – подходя в полутьме между висящих коек, сказал часовой.
Ни дуновения ветра, а барометр показывает бурю.
В море все еще зловещая тишина. Мирно стучат плицы пароходных колес. А где-то уже близко подходит тайфун.
Жара.
ГОНКОНГ
Первым заграничным портом на пути моем был Гонг-Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не видел даже на картинках; прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, музеи, ботанические сады...
– Celestials! – кивая на большую толпу на пристани, сказал матрос, держа чалку и готовясь размахнуться.
Винтовой корабль «Винчестер», у борта которого стоял Алексей Сибирцев вместе с другими пленными офицерами и матросами, подходил в пять часов вечера к одной из пристаней Гонконга.
Матрос кинул чалку вверх, и она, описав дугу и подымая за собой веревку, упала в расступившейся толпе.
«Celestials», или, точнее, «The celestials», означает «небесные» – так в Гонконге называют китайцев. Когда-то была величайшая и устойчивая держава, громко и торжественно именовавшая себя единственной избранной небом, с Сыном Неба во главе, и с самым процветающим народом вселенной. Превратилась, говорят, теперь в сплошной курьез, а пышное название осталось. «Сундук со старой рухлядью!» – по выражению Ивана Александровича Гончарова. Но еще крепка и обширна. «Европейцы подрывают у этого сундука крышку».
«А как тут красиво! – вдохновляясь видом яркой толпы и панорамой города и порта, подумал Алексей. – Но мы-то в плену!»
На борт военного парохода поднялись военные чины в белых шлемах и прошли с капитаном и его офицерами вниз. По кивку часового у трапа с оживленными криками хлынул на палубу сплошной поток китайских торговцев. У некоторых на плечах коромысла и по две тяжелых корзины.
– Капитэйна... капитэйна! – зазывали продавцы, обращаясь к офицерам и матросам.
В корзинах персики, яблоки, бананы и лимоны, лук, огурцы, баклажаны, виноград. Много фруктов, которым мы и названия не знаем. Табак, шелка, сигары. Туфли, халаты, картины, кажется, перерисованные с фотографий портреты знаменитых европейцев.
– Капитэйна, капитэйна! – хватая Сибирцева за полы мундира, наперебой заголосили китайцы.
Предлагали кораллы, резьбу из слоновой кости. Тут же сласти: леденцы, из кунжута липучки, орехи в сахаре. Жареные куры, горячие пельмени размером в пирожок, тыквенные семечки в масле, креветки простые и королевские. Что-то горячее, душистое. Арбузы, дыни. Чего тут только нет! И все за гроши!
Появились китаянки, обращаются на ломаном английском, можно понять, предлагают детские игрушки, изделия из нефрита, вышивки, китайские карты, фарфор, забавные картинки. Молодые прачки в красивых кофтах и клеенчатых передниках берутся гладить, чинить, крахмалить, тут же сразу, в каюте, в жилой палубе.
– Эу, хау ду ю ду? – обращается к Алексею рослая китаянка и пристально смотрит в глаза. – Уошинг[31]? Рубашку? Брюки?
Фартук у нее в руке. Ждет ответа. Не отходит. Хороша собой, в голубом шелковом костюме из кофты и штанов, с гребенкой и красной розочкой в черных волосах, ноги босые, смуглые, большие, не обезображены... Говорят, что китайцы ломают ноги девочкам с детства, помещая их в колодки. Видимо, это у аристократов и у тех, кто посостоятельней. А простой народ живет, значит, по-своему... Тем более в Гонконге, где, видно, здоровая нога больше нравится. Тут у всех ноги как ноги, все дамы босые.
Китаянки, кажется, смелей, уверенней, чем японки, ростом выше и на вид здоровей. А говорят, что южные кантонские китайцы мельче северных маньчжурских.
– Your name?[32] – спрашивает Алексей.
Китаянка засмеялась, закинув голову.
– Лю! Водэ ю бота!
– Меня зовут Лю. У меня есть своя лодка, – перевел Гошкевич и пояснил: – Это на здешнем англо-китайском жаргоне.
Алексей ответил со вздохом, что... пока, пока нет... Все выстирано и выглажено, чисто...
Лицо китаянки стало острым, взгляд злым и горячим. Она презрительно оглядела Сибирцева.
Перемена неожиданно тронула Алексея, и китаянка невольно понравилась ему. Это совсем не походит на рассказы, что Китай спит, китайцы покорны и безропотны, истощены и безразличны ко всему на свете. Кажется, Гошкевич прав? Экий огненный характер, каким взглядом одарила! Поди ж! Напротив, тут все оживленны, самоуверенны, бойки... Или это лишь в Гонконге? При соприкосновении с иным миром? Обиделась... но при этом овладела собой и посмотрела, словно недоумевая, что за человек и откуда. Лодка у нее своя!
– Мисс Лю...
А фруктами и ягодами уже завален весь корабль; в корзинах, в плетеных ящиках из стружки или рассыпаны на рогожках из рисовой соломы.
– Я говорил вам, сэр Алекс, что встретимся в Гонконге! – послышался из толпы заокеанский говор, и Сибирцев увидел перед собой старого знакомого по Японии американца Сайлеса. – Мой дорогой! Вы не один?
– Как видите...
– И вы здесь, барон! Как я рад! Николай-сан!
Встречались в порту Симода, жили вместе на американском военном пароходе «Поухаттан», который доставлял в Японию американское посольство. Гонконгский банкир и делец Сайлес Берроуз явился одним из первых бизнесменов с военной эскадрой втягивать японских дельцов в международную коммерцию.
– Едемте, господа, немедленно ко мне!
– Мы не можем поехать к вам, мистер Сайлес! We are the prisoners.
– Военнопленные? – вскричал Сайлес и с гримасой пренебрежения махнул рукой. – Больше вы не будете военнопленными! Господин Гошкевич! – увидел он Осипа Антоновича и воскликнул по-китайски: – Чиго фан ля?[33]
– Чиго фан ля! – с шутливым поклоном ответил Гошкевич.
– Мистер Пушкин? О! Как приятно! Рад познакомиться!
– Много слышал о вас! – любезно ответил Александр Сергеевич.
Сайлес достал из кармана отрывную книжечку, на листках которой было что-то напечатано, как на чеках, быстро написал записку и отдал ее слуге-китайцу в юбке белоснежного полотна и в чесучовой куртке. Тот снял жесткую соломенную шляпу. Сайлес сказал, показывая на кормовой трап:
– Ками, ками, деливери капитэйна... нау льюфутейна, ками капитэйна! – Это означало на местном жаргоне: иди и передай капитану, не лейтенанту, а прямо капитану!
Слуга пошел по палубе, проталкиваясь среди китайцев и покрикивая на них, а иногда и угощая зазевавшихся пинками. Все стали почтительно кланяться ему и расступаться, отодвигая корзины.
Сайлес подошел к борту и что-то крикнул. Зашевелились носильщики, ожидавшие со своими паланкинами седоков. Подкатили две коляски с выкрашенными в красный цвет колесами, в каждую впряжено в оглобельки по китайцу. Остановились на каменном причале у трапа пароходокорвета, где с карабином стоял, всех пропуская на судно и обратно, рослый и плечистый Джек в парусине и широкополой панамской шляпе.
На палубе торговцы отскакивали, заслышав стук офицерских каблуков.
– Все в порядке, – со строгой почтительностью сказал лейтенант, подходя к Сайлесу. – Пятерым офицерам и юнкеру принцу Урусову разрешается идти в город по приглашению банкирской конторы Берроуз, – обратился он к Александру Сергеевичу. Не сказал «пленным». Честного слова не спросил.
– Благодарю вас!
– Можете идти, господа! Пожалуйста, господин Берроуз.
– Господин Сайлес, – заговорил Пушкин. – Премного благодарен, но лично я не могу принять ваше любезное приглашение. На этом корабле находятся сто моих матросов. Я отпускаю господ офицеров, но мой долг, как командира, остаться с людьми. Охотно приму ваше приглашение в другой раз.
– Это категорически?
– Да.
– Я вас понял, мистер Пушкин. Да где же ваши люди?
– Вот они все здесь, на палубе.
– Ничем не отличишь. У них есть деньги?
– Да, как видите, все что-нибудь покупают.
– Прибылов! – тихо сказал японцу Осип Антонович. – Я иду на берег. Пожалуйста, не беспокойтесь!
Точибан ответил легким наклоном головы, но взгляд его стал недовольным. Коосай обижен, что его не берут с собой на берег, в Англию.
– Этот американец был с коммодором Адамсом в Симоде, – стоя среди товарищей, сказал матрос Маслов.
Американский коммодор звал Маслова Мэй Слоу, советовал Путятину произвести его и Сизова в офицеры. Банкир менял у Татноске золотые доллары на японские бу.
– Алексей Николаевич молодой, да ранний; живо сговаривается с американцами, – благожелательно кивнув в спину уходящему Сибирцеву, заключил матрос.
Алексей переступил с трапа на набережную, не веря себе и тому, что происходит вокруг. Вся толпа в движении, которое он видел с корабля.
Торговцы продают садовую ягоду в огромных корзинах. Старая женщина предлагает фарфоровых монахов, на рогожке расставлены обезьянки из нефрита. Продают шелковые картины-свитки, горячие пирожки, английские и китайские бифштексы. Фокусник с попугаем, который что-то кричит по-английски. Предлагают живых обезьян. Сибирцев оглянулся. Лица наших матросов видны над бортом, они стеснились там всей массой. В эту минуту Алексей поклялся, что никогда не оставит их в беде, что бы ни случилось.
– Садитесь в эти коляски. Новейшее изобретение. Только еще вводится! – говорил Сайлес. – Видите, сколько вокруг носильщиков с паланкинами: здесь все ездят в паланкинах. Глупейшее медленное передвижение! А такая коляска очень гуманное открытие! Устройство коляски может быть японское, но усовершенствование американское. Здесь много претендентов на право первого открытия. Вместо лошади запряжен человек... Но это лучше, чем таскать на руках паланкин! И китайцу легче, и заработок лучше.
– Впервые в жизни поеду на человека! – растерянно сказал мичман Сергей Михайлов.
– А в чехарду-езду разве не играли в корпусе? – спросил Сибирцев, садясь в плетеное сиденье между красных колес.
– А я всю жизнь езжу на людях! – весело заметил Сайлес.
Китаец поднял оглобельки и помчался. В лицо Алексею пахнуло сухим жаром.

– Пик Виктория! – кричал Сайлес, оборачиваясь на передней коляске и показывая на самую высокую коническую гору. Перед ней мелкие горы в кустарниках и перелесках по морщинам, очень похожие на сопки на юге нашего тихоокеанского побережья.
У дороги китайцы в соломенных шляпах отваливают от скал глыбы, тянут их веревками под ритмическое пение артели или откатывают на катках. Тут же распиливают обломки скал на большие кубы. В другом месте кубы камня грузят на двуколки и увозят на быках.
– Камень идет на постройку домов! – кричал Сайлес. Казалось, он вез не в мировой центр торговли опиумом, а в каменоломни и что здесь, как в древнем мире, величественные сооружения создаются трудом рабов. Американец крикнул, что эти китайцы зарабатывают гораздо лучше, чем у себя в Китае.
Открылся вид на бухту и сразу же закрылся.
– Сэр Алекс, знаете, мистер Тауло здесь, – сообщил Сайлес. – Сейчас поедем, и будет видна «Грета». Ее привели сюда под сильной военной охраной... На днях будет суд над господином Тауло... Спор и шум на всю колонию...
Но вот и улица началась! Гонконг, про который слышал, читал и который видел с корабля. Да, действительно стены новых особняков возводятся из пиленого камня, кубы, верно, аршин по полутора по каждому ребру. Китайцы под какую-то свою «дубинушку» лебедками подымают эти тяжести на высоту второго и третьего этажей. Получаются не особняки, а неприступные крепости! Тут же готовые здания с занавесями на открытых окнах, с балконами в цветах, обращенных во дворы и сады, где деревья и масса цветущих кустов. Дома с жалюзи и со ставнями у окон нижних этажей.
Воздух накален, какой жар приятный! Не тот душный, сырой, даже мокрый жар, что на кораблях.
...Тайфун так и прошел мимо, не дождались. В жилых палубах и каютах невозможно было спать, матросы выносили постели на верхнюю палубу. Погода стояла отличная. На исходе ночи на небе бывал виден Южный Крест, всходил из черноты океана, предвещая утреннюю свежесть, и Алеша подолгу смотрел на него.
Вчера пришли в Гонконг и сутки простояли у входа в пролив. Утром на судне мыли палубу, и до вечера потеки на ней не высохли.
Сайлес прав, это не античные рабы. Всюду движется оживленная толпа. Тут деньги все двигают вперед, деньги сняли гору и провели на месте ее скал богатую улицу в деревьях, которой мог бы позавидовать любой город в южной Европе. Аркады каменных торговых рядов, нарядные здания контор, банков, большие витрины магазинов ломятся от всяких товаров. «Где я?» – думалось Сибирцеву. То и дело в паланкинах несут европейцев или важных китайцев. Вереницы кули тащат на себе тюки грузов, иногда в паланкинах проносят женщин.
Опять открылся пролив, корабли с голыми мачтами и под парусами, винтовые суда с дымящимися трубами, пароход с красным кожухом на колесе ведет за собой квадратные грузовые плашкоуты, всюду сампаны[34] и рыбацкие лодки с красными, темными и оранжевыми парусами из цветной рогожи и соломы, лодчонки юли-юли, каждая с единственным веслом на корме.
– Вон стоит «Грета», – кричит Сайлес. – Пухо![35] – добавляет он, кивая Гошкевичу.
Бухта – как проспект в Питере, по ней во все стороны идет движение судов. Видны целые плавучие кварталы жилых домов, похожих на бедные лачуги, среди них, как улицы, прямые и чистые, полосы воды оставлены для движения судов и перевозов. Около особняков, с необычайно толстыми стенами вокруг садов, берег моря облицован. Там военный пароход с пушками и не видно плавучих жилищ. Близко за проливом тучные и безлесые бурые сопки. Под одной из них что-то вроде городка. Подальше деревенька. Там Китай, совсем близко.
Усатый англичанин, по всей видимости жокей, едет на скакуне, другого ведет в поводу. Заведены рысистые бега и скачки! Больная женщина лежит под деревом поперек тротуара и тяжело дышит.
– Тут люди мрут как мухи. Никак не отучишь их бросать мертвых в воду... Холера...
Проехали в переулок, где теснились солидные дома в три и некоторые в четыре этажа. Всюду вывески по-английски и по-китайски цветными иероглифами, и это придает городу бойкий и нарядный облик. Главная улица с экипажами и паланкинами, с толпами китайцев, малайцев, индусов. Большие деревья выращены на этом еще недавно голом острове. Быки, ослы, лошади, пароходы, парусные баржи; англичане, американцы, китайцы, индусы... Все движется, все на ходу, все спешат и стараются.
– Вот что значит люди пришли не в пустынную тайгу! – заявляет Михайлов.
Как странно и непривычно видеть все это после стольких лет плаваний в пустынных морях, после жизни в бедной Японии, после стояния на якоре у своих берегов. Наш самый большой на этом океане порт Аян похож на малую деревеньку со складами торговой компании.
Проехали два верховых солдата-бенгальца, в белых чалмах и в мундирах с белыми пиками, на высоких лошадях. Видно правительственное здание с куполом, как у православного собора. Вокруг разросся сад так пышно, что на фоне залитой солнцем желтой горы чернеет как туча.
У небольшого каменного особняка Сайлес вылез. Вышли китайцы-слуги, помогли всем сойти.
«Явиться бы сюда когда-нибудь с посольством, с нашей эскадрой, а не пленником!» – подумал Алексей.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В доме необычайно прохладно. Стены этих особняков так толсты, что солнце не в силах прогреть.
– Вот это, называется, люди умеют жить! – сказал юнкер князь Урусов, отдавая слуге-китайчонку пропитанную потом фуражку.
– Здесь, господа, вы не в плену, а в гостях у дружественного вам и вполне нейтрального американца. Чувствуйте себя как дома! Все услуги в вашем распоряжении. Прошу вас... Бойз![36] Харри, Том! – крикнул хозяин двоих китайчат.
– Прежде всего, – сказал Сайлес, когда его гости вымылись, привели себя в порядок, надели доставленные слугами из магазина «тропическое» белье из коттона, отглаженные брюки и мундиры и до блеска начищенную обувь, – я очень рад видеть вас... после... после...
– После капитального ремонта! – подсказал Алексей, чувствуя свежесть тела, прохладу и приятно мокрые волосы.
– Да. Да.
– Ванна и душ! – восторгался юнкер князь Урусов.
– Да это просто. Это у нас есть. Только нет воды!
Воды пресной нет, очень дорогая.
– Где же вы берете ее?
– Это целая история! Возим воду по воде, на кораблях, и бочками – китайские водовозы... ловим воду в воздухе...
Сайлес рад. Но это еще не все.
– После плена, после Сибири, Японии и всей этой нищеты, в которой вы жили так долго, вашим усталым мозгам нужен такой же капитальный ремонт! Прямо и откровенно! Каковы, господа, ваши денежные дела? Сколько я мог бы предложить вам взаймы? Ваше положение очевидно для меня, и пусть это вас не беспокоит. С деньгами в этом городе вы будете гораздо независимей, чем без денег.
– Мистер Сайлес, – сказал Николай Шиллинг, – мы сердечно благодарим вас. Но мы не можем воспользоваться вашим предложением.
– Что такое, почему?
– У нас есть деньги. Plenty![37]
– Plenty? – вскинул руки и захохотал Сайлес.
– Адмирал перед уходом из Японии выплатил жалованье офицерам и всему экипажу за год вперед.
– Ах, вот как!
– Нам, как вы сами знаете, тратить негде было! – добавил Сибирцев.
И в самом деле деньги имелись и у офицеров, и у матросов. Адмирал, уходя из Японии, оставил лейтенанту Пушкину деньги для найма судна, чтобы оплатить фрахт. Но всех денег сразу шкиперу Тауло не отдали, как договорено было. Перед началом досмотра в открытом море, когда на «Грету» были наведены пушки английского парохода и к ней шел катер, все деньги поделили.
Сайлес предложил ради экономии квартировать у него, пока семья отсутствует.
– Благодарим, – был ответ. – Невозможно.
– Тогда чем же я могу вам помочь? Зачем вам жить на пароходе, где вы считаетесь пленными?
– А нам разрешат жить на берегу?
– Безусловно!
– В таком случае, можно ли снять комнату в доступном отеле? – спросил Шиллинг. – Для этого у нас достаточно средств.
– Да, конечно! О чем может быть речь!
Сайлес обещал послать в отель и сказал, как, по его мнению, следует поступить.
– Что же может быть со шкипером «Греты»? – спросил Алексей.
– Если послушать здешних ораторов, вина Тауло одна: он с вас много взял! И это ему сильно повредило. В Гонконге об этом знают, и ему грозят неприятности. А вам – не удивляйтесь, – вам здесь, в гнезде ваших недругов, многие симпатизируют... Прежде всего мы – американцы! Но не только мы! Это, знаете, богатый и разнохарактерный город. Тут свои интриги, личности... Вам будут рады, все же вы люди авантюры и приключений, каких Гонконг считает своими. Я первый это угадал своим спекулятивным нюхом! Жаль, что мне надо срочно ехать в Кантон. Но не беда, кое-что я успею сделать для вас до отъезда.
– В Кантон?
– О, да! В Кантон!
– Мы долго были совершенно ото всего оторваны и ничего не знаем, что и где делается.
– У меня для вас, господа, найдутся новости.
– О Севастополе? – спросил Николай.
Сайлес поморщился. Крым слишком далек от Гонконга. Что там, в Крыму? Зачем там сцепились – никому не известно! Может быть, также чья-то спекуляция! Но он вполне понимает их тревогу. Он умел мгновенно входить в чужие интересы.
– В Севастополе все по-прежнему. Там не прекращается холера и даже чума! Есть случаи в Константинополе и Скутари. Вы знаете, умер от чумы сам английский командующий лорд Раглан, а французский командующий заболел холерой. Если умирают командующие, то можно себе представить, что уж солдаты их мрут как мухи.
«У нас тылы на севере, – подумал Сибирцев, – где чище и прохладней, а у них – в Турции, там эпидемии никогда не прекращаются».
– Лондонские газеты полны сообщений из госпиталей, словно в Крыму идет война не на полях сражений, а с болезнями. Англичане шлют в Крым англо-германский, англо-сардинский, англо-итальянский, англо-бенгальский полки! Это только называется «англо»! А на самом деле там они лишь офицеры и то не все!
Сайлес повел гостей в библиотеку.
– Читайте газеты, господа. У меня библиотека на китайский лад, немного книг, но так называется, а в самом деле – комната приемов... Здесь все американские газеты, также «Таймс» и «Лондонские Иллюстрированные Новости». Две газеты издаются в Гонконге, грызутся между собой. Между ними идет война с ожесточением, как в Крыму. Печатают довольно свежие новости. Почта из Лондона приходит за две недели.
Сайлес показал снимок в английском журнале: «Долина смерти под Балаклавой». Удивительно, каких успехов достигли они в фотографировании. Техника воспроизводства снимка поразительная. Дагерротип остался далеко позади, это дело прошлого. Долина среди голых гор вся засыпана ядрами, как бывает берег в очень крупной гальке. Здесь многие месяцы стояли английские войска под огнем русской артиллерии. Долина пустынна. Где же их войска? Куда ушли? Вперед? Или отступили? Нет, конечно, заняли эту долину и ушли вперед.
– Все хорошо, господа! Живите здесь и делайте что хотите! Говорите что хотите, ругайте кого и как хотите, кроме королевы! Мой дом будет всегда открыт для вас. Милости прошу к столу, господа!.. Кроме королевы, можно ругать всех!
– А что же грозит мистеру Тауло? – повторил свой вопрос Сибирцев. – Тюрьма? Штраф?
– Только не тюрьма! Здесь это все не так! И вообще все дело с «Гретой» в Гонконге выглядит совсем не так, как это было бы где-нибудь в Европе.
Что это значит? Однако не стоит проявлять преждевременное любопытство. Сам Тауло, конечно, препорядочный прохвост.
Сайлес сказал, что живет сейчас как холостяк. Жена уехала в Штаты, а потом к младшей дочери в Гамбург, старшая дочь с зятем в Нью-Йорке, дома все соберутся к будущей зиме. «Есть ли здесь зима? Есть и нет? Есть декабрь и январь. Зима? Мы так называем. Но не такая, как в Австралии!»
– Надо сказать, что губернатор Гонконга сэр Джон Боуринг замечательная личность. Сэр Джон здесь недавно, третий год, – рассказывал Сайлес. – Это не просто крючок и не red tape[38]. Он знает почти двадцать языков. Почетный член нескольких европейских академий. Издатель философии Бентама, сам философ. Кстати, знает русский язык. Выучил в молодости. Он бывал в России. А вы знаете, я тоже бывал в вашей стране и немного знал по-русски. Долгое время сэр Джон был миссионером. Королева произвела его в пэры перед утверждением в должностях губернатора и посла в Китае. Сэр Боуринг полная противоположность нашим опиумным торговцам и дельцам. Он преображает Гонконг. Здесь открыты отделения научных и миссионерских обществ. Выпускаются «Ученые записки». Есть школа для китайских детей. Сэр Джон серьезный человек. Свобода слова гарантирована. Китайцы очень ловко пользуются открывшимися для них возможностями. Китайцы далеко не такие простаки и рохли, как думают те, кто не жил с ними. Это труженики, коммерсанты, эпикурейцы, законники, жохи, банкиры, кредитное дело доводят до совершенства. Недавно в новом номере «Ученых записок» была статья, которая, как мне кажется, вас заинтересует. О русской духовной миссии в Китае. Вот... – Сайлес сходил в библиотеку и принес книгу. – Вы слышали что-нибудь?
Шиллинг взглянул на Гошкевича, который пригнулся к столу, как бы желая спрятать свою большую фигуру, и слушал с напряженной и кислой улыбкой вежливости. Он не ждал ничего хорошего.
– Сообщается, что русские держат в Пекине православную духовную миссию, что она существует с семнадцатого века. Это верно? Таким образом, русские – единственные из европейцев, которым разрешено жить в столице Китая, куда закрыт доступ представителям всех других держав. Однако, как пишет автор статьи, эта миссия совершенно бесполезна и существование ее лишено смысла, она ничего не делает для науки, а служит лишь для престижа Петербурга. На самом же деле русское правительство запрещает своим миссионерам вступать в общение с китайцами. Автор утверждает, что православным миссионерам строго запрещено изучать китайский язык. Они живут за стенами своей миссии в полном отчуждении от окружающего их народа из-за обычных опасений Петербурга, пресекающего всякую деятельность и самостоятельность своих подданных. Живут, не зная страны и ее культуры... Да вот, читайте сами.
– Это вранье, мистер Сайлес! – проглядев статью, не выдержал Шиллинг.
– Неправда? – обрадовался американец. – И я такого же мнения! Я даже удивляюсь. Я прочитал и поразился. Мне показалось, что это чушь. Разве в России запрещено изучать китайский язык? Я же сам видел, когда был в Симоде, что вы, господин Гошкевич, переписывались с японцами китайскими иероглифами. И не только я! Все американские офицеры это видели. Вы же прекрасно говорите и по-японски и по-китайски. Я сам все видел и слышал, мистер Гошкевич отлично знает не только иероглифы. Как бы это могло случиться? И какой смысл запрещать изучение китайского языка в Пекине, если в Петербурге, как вы мне сказали, есть школа китайских переводчиков и для нее нужны преподаватели, знающие Китай? Да иначе и быть не может. Вы соседи, у вас с ними своя богатейшая торговля на Кяхте. Дай бог, чтобы кто-то из англичан быстро писал иероглифами, как мистер Гошкевич...
– Я служил десять лет в русской православной духовной миссии в Пекине, мистер Сайлес, – прочитав статью, сказал Осип Антонович, – и я все годы изучал там китайский язык, как и все члены миссии. Из наших миссионеров в Пекине вышло несколько ученых. Наш синолог Бичурин посвятил свою жизнь изучению Китая. Существует его знаменитая карта Пекина.
– И вы сами жили в Пекине?
– Да.
– Я же говорю! Вот откуда вы так все знаете хорошо! Чего только не пишут про вас, господа! Я очень рад! Вы еще будете иметь возможность доказать свою правоту, мистер Гошкевич. Это всем вам придает ореол авантюризма!
– Что может доказать военнопленный!
– Это не имеет никакого значения. Наука и политическая пропаганда несовместимы. Вы это и докажите. Да, вы знаете, кто автор статьи в «Ученых записках»? Кто бы, вы думали? Кто?
– Подпись – Боуринг, – сказал Алексей.
– И не просто Боуринг, а сам сэр Джон Боуринг... Губернатор Гонконга. В ранге посла в Китае, хотя и не имеет права входа в Китай. Его туда не пускают. Известный гуманист и ученый.
– Как это могло быть? – спросил ошеломленный Алексей.
– Не знаю.
– Вы так хвалили его... И такой подкоп!
Все засмеялись.
– Он очень образованный человек, а печатает такие глупости, – вскричал Сайлес, выкатив глаза. – Какая чушь! Это чистая агитация! Я уже говорил вам, что вас ждали. Известие о захвате «Греты» пришло давно. И сама «Грета» уже здесь, как вы видели.
«Он хочет сказать, что Боуринг напечатал статью к нашему приезду? Чтобы знали, что мы из отчизны тьмы и невежества! Смазал нас по роже для начала? Для первого знакомства! Чем же это отличается от замашек наших генералов и сановников – любителей задать острастку при первом же знакомстве?»
– Я сразу сказал, что этого не может быть. Я уже заходил в Ученое Азиатское общество, которое издает записки, и говорил там. Обязательно зайдите туда и вы, мистер Гошкевич, и все вы, господа. И засвидетельствуйте все сами и объяснитесь. Они рады будут познакомиться. Впрочем, я думаю, они сами пригласят вас.
– Как это может быть? Мы пленные, как же нас примут или пригласят в английское Азиатское общество? Кто может пригласить? Англичане?
– Да! И вы не отказывайтесь. Воспользуйтесь их понятиями. Только тут все не так, как можно предположить! Одна партия – сторонники Стирлинга – признает, что адмирал законно взял вас в плен. Другая партия – особенно влиятельная в Гонконге, и у них найдутся сторонники в метрополии – категорически заявляет, что вы взяты в плен незаконно. Они против Стирлинга и осуждают его действия.
Хотелось бы спросить, какая же позиция Боуринга, но уже вскоре стало очевидным из намеков Сайлеса, что сэр Джон терпеть не может адмирала и добивается его смены и что в Лондоне вот-вот назначен будет новый командующий флотом, – видно, и Боуринг как представитель власти не считает нас пленными.
«Но, может, вам не совсем ясно?» – хотел, казалось, спросить Сайлес, глядя слегка выкаченными глазами.
«Нет, зачем же... – взглядом отвечал Сибирцев. – Очень ясно!»
– Мнения партий расходятся. Поэтому на кораблях у Стирлинга вы в плену. А на берегу у Боуринга вы такие же, как все! Почти! Вы еще получите много приглашений, и вам, уверяю, придется выслушать много сочувственных речей. Одни говорят: это наши гости. Другие возражают: а что будет, если их отпустить в Россию? Они усилят войска, сражающиеся против нас. Ваши друзья говорят: «Постыдная выходка бездарного Стирлинга и его офицеров. Моряки Путятина не враги и не пленные». А вы? Чего хотите вы сами?
– А что же мы? Мы не хотели бы иметь никаких дел с нашими противниками! Мы прежде всего хотели бы послать домой письма! – ответил Шиллинг.
– Я хочу вас успокоить... Вашему канцлеру Нессельроде я уже написал о встрече с вами в Японии. Я думаю, что со временем мы будем с ним своими людьми и я ему напишу подробнее о вашем прибытии и о каждом из вас. Что же касается ваших личных писем, то вы можете написать их по моему адресу. Моя дочь учится в Гамбурге. И там у меня есть отделение фирмы колониальных товаров. Я в скором времени провожаю в Гамбург одного из своих служащих, который должен на днях вернуться из Шанхая. Мы избегнем почтового ведомства. Кстати, тут не только англичане! Считается, что самые большие обороты у староанглийской фирмы опиумных торговцев «Матисон и Джордин». Но еще существуют американские и смешанные фирмы. Гонконг в военном отношении принадлежит Англии... Кстати, сын Боуринга – жених дочери Джордина.
– Гонконг принадлежит, как у нас принято тут говорить, «всем нациям, спасающим Китай». Это даже официально записано в уставе гонконгского клуба в разделе, кто может быть его членом. Не делайте вреда себе и своим тремстам матросам, которых вы любите, как я это вижу. Да, вы правы! Прежде всего вам надо сохранить своих людей! Помните: одна партия восхищается вашим пленением. Другая возмущена! Есть и особые мнения! Воспользуйтесь этим. Я уверен, вы умеете быть благородны с врагом не только на войне!
– Я очень рад, что вы, сэр Алекс, в Гонконге, – сказал Сайлес Сибирцеву. – Я так и надеялся, что увижусь с вами. На борту американского военного парохода «Поухаттан» я думал, как полезно было бы этому молодому человеку побывать в Гонконге. Не обращайте никакого внимания на то, что вы в плену. Конечно, немного прискорбно. Но что делать, если так уж случилось. Здесь вам есть на что поглядеть и, может быть, найдется чему поучиться, тем более что там, у себя на севере, вы вышли на Тихий океан. Вам со временем неизбежно придется торговать с Гонконгом, Америкой и Китаем. Торговать и воевать на океане! Хотите ли вы или нет, а Гонконг будет для вас лично полезен. Вы только что ознакомились с Японией. Здесь вы познакомитесь с Китаем. Не с надутым, глупым и закрытым Китаем мандаринов, а с умным и изобретательным. Увидите, какие тут тузы! Ваши неудачи в Крыму дело временное. С кем не бывало! Для вас же может быть и лучше, что в эту войну вы с товарищами попали в Гонконг. Завтра я пошлю в Сити-холл просьбу о разрешении жить вам на берегу в отеле. Там вам будут комнаты. Вы не все хотите жить в отеле?
– Нам потребуется одна комната. Мы будем меняться.
– Почему?
– Чтобы дежурить на кораблях по очереди. Наши люди почти не владеют языком.
– Не покидать их на произвол судьбы? Я вполне понимаю и сочувствую!
Сайлес перестал мягко улыбаться, лицо его стало серьезней.
– Такие здоровые молодцы! Их сразу видно. Я же помню, как наш посол Адамс с первого взгляда сказал, что матросы Путятина хорошо развиты физически. Им тут можно найти работу, и они отлично заработают. Здесь нет рабочих-европейцев. Китайцы трудятся за гроши. Но среди них пока еще нет таких мастеров, как у вас. Все ваши кузнецы, плотники, печники, столяры, канатчики, парусники здесь пойдут на вес золота. У вас же все профессии. Я знаю, нам нужны даже скотоводы. Сэр Боуринг заводит здесь фермы. У меня впечатление, что, в то время как в Крыму противники ненавидят друг друга, здесь нет и не будет ничего подобного. Гонконг не хочет воевать, он далек войне. За исключением квасных патриотов, которые за это получают жалованье! Что тут в газетах делается!.. Редакторы ненавидят друг друга и не выходят на улицу без пистолетов и без охраны. Но это не имеет никакого отношения к Крыму! Как я сказал, тут своя севастопольская война, но между редакторами.
...По дороге на пристань Гошкевич вылез из коляски и разговорился с одним из носильщиков. Китаец спросил его:
– Какого государства человек?
– Я из России.
– Сколько тебе лет?
– Тридцать пять.
– Почему знаешь по-китайски?
– Я жил десять лет в Пекине.
– Даже так! – изумился китаец.
Приняв плату за всех сразу, он поднес зажженный фонарик к лицу Гошкевича.
Ночь хороша, звезды над горами, огни по всему проливу отчетливо видны. Сопки в китайской стороне глухие и мрачные, как тучи. Тепло.
...Разбирая журналы, Алексей нашел еще одну любопытную фотографию. Молодая маркитантка французской армии в Крыму, в военной форме со стеком, ударами которого она якобы остановила бегущих турок, нарушивших строй и в беспорядке хлынувших с поля битвы.
– Мне китаец много любопытного успел рассказать. Хорошо, что вы дали ему полдоллара, – сказал Гошкевич.
– Странно, колония английская, а доллар в большем ходу, чем фунт, – ответил Шиллинг. – Надо признаться, что у англичан неудобные деньги.
– Китайцы всюду предпочитают доллары, – сказал Гошкевич.
По причалу подошли к борту «Винчестера».
Вахтенный матрос слегка стукнул карабином. Матросы спали вповалку на палубе. Один из них приподнялся и взял Гошкевича за руку.
– Прибылов? Вы не спите? Как Александр Сергеевич?
– Хоросе, – ответил японец.
Мусин-Пушкин прохаживался на баке.
– Ко мне приходил корреспондент здешней газеты «Чайна мэйл»[39] и передал на завтра приглашение своего редактора мистера Шортреда. Вместе со всеми вами, господа...
...Со дня на день должен подойти корабль «Пик» под командованием зверя Никольсена. Там еще наши матросы с поручиком Елкиным. «Как-то там Петр Иванович ладит с капитаном?» – подумал Алексей.
ЗАСЕДАНИЕ В АЗИАТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Я... вспомнил о девушках минувших дней... когда, пользуясь милостями неба... я носил дорогие... халаты и белые шелковые штаны, сладко пил и сытно ел.
Между кафедрой и черной доской, какие бывают в колледжах, стоял белокурый молодой человек с добродушным лицом без бороды и без усов. Произнеся фразу на китайском, с характерными интонациями, похожими на повизгивания, он дважды мелко и быстро шагнул на своих длинных ногах к доске, написал иероглифы и тут же перевел тексты на английский, говоря со слабым американским акцентом и слегка ошибаясь.
Раздался первый сдержанный отклик симпатии и сочувствия небольшой аудитории, как бы выражалась готовность к чему-то более искреннему, чем отказ от настороженности.
В Гонконге не бывает концертов Берлиоза, итальянцев или исполнителей Шопена, сюда не приезжают ни Диккенс, ни Жорж Занд, здесь не бывает выставок Тернера; все интересы упираются в барыши от коммерческого просвещения Срединной Империи, в судоходство, игру в крикет и в рысистые бега. Но жители Гонконга не лишены жажды к знаниям и высших потребностей. Здесь есть свои художники. Коммодор Эллиот писал когда-то картины. Эллиот был отсюда удален, поэтому его произведения не выставлялись в Гонконге. Картины Эллиота оказались в коллекциях соседнего Макао! Португальцы поместили некоторые из них в свою галерею. Так и в Гонконге самый большой художественный талант, как и всюду в хорошем обществе, был изгнан!
«Китай – это сундук со старой рухлядью! – снова вспомнились суждения Ивана Александровича Гончарова. – Давно пора европейцам подорвать порохом крышку у этого сундука, освежить все, проветрить...»
Алексей находился среди тех, кто эту крышку подрывал. Здешнее Азиатское общество изучает жизнь Китая кропотливо, тщательно, как обычно в провинции, где таланты направляют свою силу не столько вширь, как в глубь явлений и где превыше всего ценится подлинность знаний. А за проливом, как за межой, угадывается великий Китай с его просторами, неистощимыми жизнетворными силами, с его древней литературой, философией и наукой, с его современным клокотом восстаний. Туда проникали католические миссионеры. Оттуда вырывались яркие личности компрадоров, гении коммерции и авантюризма, морские бродяги под пиратским флагом.
И вот со знанием тайны тайн из глубины глубин закрытой страны «небесных» пришел молодой ученый, преданный враждебному стану царя и своей ортодоксальной греческой вере. Он явился странно, как ниспосланный свыше, заброшенный судьбой и морскими ветрами, и буквально затоплял родственную ему по духу ученую аудиторию изобилием точных знаний, особенно когда стал на все вопросы давать достоверные ответы на китайском и на английском. «Вы жили в Пекине?», «Вы бывали при дворе Сына Неба?», «В запретном городе?», «В летнем загородном дворце?», «Кто был вашим учителем китайского?».
Осип Антонович и его товарищи, сидевшие среди слушателей, почувствовали, что произошел новый взрыв интереса – к политической жизни в Китае, к личности богдыхана, к устройству и деятельности правительства и государственных учреждений.
Гошкевич рассказывал о летнем загородном дворце, куда богдыхан со своим двором переезжал из города ранней весной, когда на горах, видимых с окраин Пекина, еще не сходит снег. Он начертил на доске планы галерей, в которых, как по коридорам, у обеих стен сидят чиновники. Непрерывно подъезжают конные курьеры. Здесь же перед дворцом, перед воротами – базар, торговля горячими яствами. Чиновники выбегают из дворца, наскоро едят... Во внутреннем дворе два высших учреждения: маньчжурское и китайское отделения правительства. У входа в галерею, ведущую в палаты богдыхана, стоит толпа телохранителей, из которых один выбирается гигантского роста и очень зорко оглядывает каждого входящего. И при всем этом множестве охраняющих, размещенных внутри и вокруг дворца, случается, что неподалеку от дворца на большой дороге разбойники грабят и даже убивают купцов.
По вопросам почувствовалось, что англичане многое знают о государственных учреждениях в Китае, об устройстве финансового ведомства. Знают о жене богдыхана монголке. О том, что монголы в почете.
Гошкевич отвечал, помня, что не должен открывать все, что знает про тяжкие распри в соседнем и дружественном для России Срединном государстве. Правление маньчжур, конечно, шло к упадку, но не его дело глумиться над богдыханом и его двором или выставлять напоказ раны Китая. Раны его еще придется, может быть, нам лечить.
Рослый лысый господин с высоким лбом и щетинистыми усами с оттенком иронии приглядывался к Осипу Антоновичу, словно признавал в нем своего старого знакомого или человека, которого ждал.
Англичане, конечно, хотят все знать, рвутся вперед, упорно и терпеливо добиваются права торговать в Китае и держать свое посольство в Пекине и не отступятся, чего бы это им ни стоило. На юге Китая, еще не имея права входить в глубь страны, создали с помощью всех «спасающих наций» мощную сферу своего влияния, как бы другой центр бурной жизни, увлекающей самих китайцев и уравновешивающей влияние Пекина.
Осип Антонович сказал, что в летнем дворце он видел прекрасное оружие английской выделки, в том числе современное нарезное. Также вазы севрского фарфора, про которые было сказано, что это подарок богдыхану от королевы Великобритании.
«Что значит «подарок»? Наверно, они сказали вам «дань»? Каким образом эти вещи могли попасть во дворец? Когда и как, по мнению мандаринов, королева принесла «дань»?»
Какие-то темные международные дела! Кто и за какие выгоды сделал от имени королевы подобное подношение? Как знать! Может быть, кто-то из знаменитых губернаторов Индии или купцы, торгующие «западной грязью»? А может быть, могущественный широкоплечий господин с щетинистыми усами? Что-то подобное могло быть! Новости, оживляющие воображение, утверждают во мнении, что путь спасения выбран верный. Французский фарфор и нарезное оружие в Летнем дворце! Следует со временем открыть эти залежи, прочесть китайские архивы и все изучить.
«Что представляет собой Запретный город?», «Размеры зданий?», «Характер архитектуры?». Отвечающий не мог бы так отвечать, если бы не был всюду сам. Каждый вопрос означал: «Вы там были?»
Многие стороны обыденной и политической жизни Китая гонконгские англичане знали гораздо лучше Гошкевича: банковское дело, кредитные товарищества, корпорации, способы торговли, преступный мир и мошенничество чиновников, морскую коммерцию. Но Гошкевич отвечал на вопросы о том, про что все «нации, спасающие Китай» хотели знать: о жизни в столице.
Война русских на Амуре в XVII веке с только что взошедшими на престол Китая маньчжурами, еще не была войной с Китаем, как объяснил Гошкевич. Он сказал об истории возникновения прославленной миссии в Пекине и о ее пастве. В XVII веке первое столкновение под Албазином... впоследствии была учреждена в Пекине миссия для русских пленных, уведенных туда. Со временем там возникла школа русских синологов...
Высокая барышня в кружевной блузке сидела в первом ряду, рядом с пустым креслом. Конечно, эта девица – за эмансипацию, будущая общественная деятельница.
Но свой восторг она адресовала не ученому педантизму молодого теолога, она не обращала на него никакого внимания. Ее юные синие глаза стремились к довольно элегантному и приятному офицеру, единственному из гостей Общества, кто вошел как пленный в изношенном мундире. У него благородное и чистое лицо, и он с такой гордой добротой и вниманием слушал доклад своего товарища! Глупо, смешно, ограниченно и бесстыдно к глупой войне добавлять собственные глупости и придавать значение политике, когда есть мгновения, вызывающие в душе что-то гораздо более возвышенное. Она не ошибалась, ее зоркий ум все видел. Ученый доклад его товарища – это зеркало его интересов, но само зеркало не имеет, конечно, ничего общего с богатством чувств и величием того, кого оно отражает...
...Сэр Джон Боуринг опоздал. Он подъехал на лошади с гибкой длинной шеей, на которой красиво лежала золотистая расчесанная грива, и, отдав поводья одному из верховых в красном мундире, спрыгнул с седла и вошел в подъезд двухэтажного особняка Клуба наций, спасающих Китай. Мельком осмотрел большой зал Общества и сел в свое свободное кресло рядом с дочерью. Доклад еще не закончился, докладчика перебивали вопросами. Сэр Джон опоздал настолько, что, войдя, сразу понял, что тут произошло. Он пришел не зря!
Гошкевич, как показалось ему, сам походил на англичанина, слепо увлеченного идеей. Кажется тщательно подготовлен. Очень похож на знакомого хранителя из Британского музея. Приводит только точные факты. Ссылается на изданные труды, сочинения и карты. Доклад, кажется, не был скучен.
Члены Азиатского общества изучают колонию, ее географию, гидрографию, историю, этнографию, археологию, разыскивают памятники архитектуры и старины. Изучают китайский язык, историю страны, литературу. Издают миссионерскую и научную литературу на английском и китайском и распространяют ее. Усилиями губернатора и его добровольных сподвижников в Лондон отправлен учиться медицине молодой китаец. В Гонконге дочерью сэра Джона открывается школа для китайских детей, в одной из церквей служит обращенный в христианство китаец, есть госпиталь с палатами для китайцев, хотя тысячи их мрут от эпидемий на лодках и в трущобах. В Сити-холл, где у Азиатского общества есть помещение из двух комнат, в которых хранятся коллекции и карты, находится научная библиотека и довольно большое собрание английских рукописей о Китае и Индии. Сэр Джон передал туда несколько документов из Управления колонией, китайские книги и рукописи. У Общества своя типография.
По залу прошел энергичный шепот одобрения, когда Гошкевич начал читать на китайском тексты из евангелия, переведенного в Пекине православными миссионерами.
Сегодня много желающих послушать, поэтому собрание проходит в клубе. Тут вооруженные редакторы обеих газет со своими телохранителями, знаменитые звезды опиоторговли и рядовые коммерсанты. Офицер генерального штаба в штатском, милитери интеллидженс[40], как именуется род его служебных занятий. Прибыл в Гонконг из Лондона с началом войны. Обычно молчит и этим напоминает серьезного ученого, знает китайский. Сэру Джону известно, что молодой офицер еще не привык здесь, не представляет местных условий, военный чиновник, еще не приобрел колониального блеска.
Раздались общие дружные аплодисменты. Докладчик прошел на место, чувствуя свой успех и избыток энергии, сел, закинув ногу на ногу, но тут же, вспомнив о приличии, переменил позу, скромно поджал ноги.
Сэр Джон Боуринг недавно прибыл из Сиама, где подписывал трактат о мире, дружбе и торговле. Возвратившись, он увидел, что здесь утекло много воды. Кое-что было неожиданным для губернатора.
Поднялся высокий лысый господин с щетинистыми усами и в безукоризненном костюме с атласом на лацканах.
– Ваше превосходительство губернатор сэр Джон Боуринг! Господин председатель! Уважаемые леди и джентльмены! Я выслушал доклад господина Гошкевича, изложенный на английском и на китайском, с большим удовольствием и выражаю вам, господин Гошкевич, чувство признательности и полагаю, что со мной будут согласны!
Снова раздались дружные аплодисменты.
Сухими цифрами и цитатами на китайском из евангелия разжег их Осип Антонович сильней, кажется, чем итальянский тенор петербургских меломанок. Сибирцев вслушивался, но понимал плохо. Тогда он воодушевлялся собственными мыслями о происходящем, и по его виду можно было понять, как он счастлив и горд за товарища.
– Леди и джентльмены! – продолжал господин с огромным лысым черепом. – Ортодоксальная церковь во многом подает пример, осуществив перевод всех частей библии, а также молитв. Труды достопочтенного отца Иакинфа, о которых упоминал господин Гошкевич, до сих пор были недостаточно известны, и этот пробел восполнен сегодня со всей быстротой и энергией.
– Ваше превосходительство! – почтительно обратился оратор. – Достопочтенный и глубокоуважаемый сэр Джон Боурин! Не так давно мы имели честь читать в третьем номере «Ученых записок» патриотическую статью о деятельности русской ортодоксальной миссии в Китае. При этом мы узнали, что русским священникам, приезжающим в Пекин, запрещено общаться с китайцами, а также изучать их язык на том основании, что петербургское правительство не желает общения своих подданных с другими народами. Выслушав доклад господина Гошкевича, частично прочитанный на китайском, я с большим удовольствием убедился в несостоятельности мнения, изложенного в вышеупомянутой статье. Как и вы, ваше превосходительство, я рад, что рассеиваются предвзятые представления о бездеятельности русских ученых, основанные лишь на ошибочной информации и наших собственных предрассудках. Как специалист по китайскому языку, я отлично понимаю достоверность, совершенство и законченность познаний многоуважаемого господина Гошкевича.
Опять аплодисменты. И это при Боуринге. У нас любой губернатор стер бы в порошок за такие речи. До седьмого колена ели бы и корили потомков такого критика. А тут губернатор бровью не повел. Мало того, сэр Джон встал, с улыбкой поблагодарил оратора и под аплодисменты сказал, что ему приятно видеть господина Гошкевича и воспользоваться знакомством с ним, чтобы составить более точное и отчетливое представление о предмете, которому был посвящен доклад.
– Скрытием истины не достигается цель! – под новый взрыв аплодисментов заключил сэр Джон.
Он подошел к вскочившему Гошкевичу и пожал ему руку.
– Спасибо! Благодарю вас! – сказал он по-русски.
– Благодарю вас! – горячо воскликнул Гошкевич.
Члены Общества стали подходить к Осипу Антоновичу, а потом к Сибирцеву, Шиллингу, мичману Михайлову.
Это, право, только у англичан может быть. Воюют с Россией – и на тебе, при этом слушают доклад. У нас бы сказали: «Да вы что? Врагу на руку играете? Какая там истина! В Шлиссельбург хотите угодить с подобными истинами во время войны?»
Джентльмен, объявивший себя ученым специалистом китайского языка, как уже знал Алеша, был не кто иной, как сам Джордин, купец, совладелец крупнейшей торговой фирмы «Джордин и Матисон», которая, как говорят, торговала с Китаем еще в прошлом веке, возя опиум из Индии, и имела всегда не только коммерческий, но свой военный флот. Сэру Джону будущий свояк, сват, кум... Как это по-английски? Китайцы довольно метко прозвали Джордина – Железноголовая Старая Крыса. Гошкевич представил сэру Джону своих товарищей-офицеров. Боуринг не подавал руки. Представил свою дочь. Известно, что она автор статей о нравственности и религии китайского народа, напечатанных в «Известиях Лондонского Королевского Географического общества».
К Алексею подошла юная леди со свежим, миловидным лицом и, протянув ему мужественную руку, сказала:
– Энн Боуринг. Вы говорите по-английски?
– A little[41]! Алексей Сибирцев! – представился он.
Энн уверена в своей репутации и держится независимо.
– Я желаю поблагодарить вас. Я восхищена прочитанным докладом. «Алексей» – это ваше христианское имя?
– Да.
– А ваше имя в семье? Как звали вас в детстве?
Сибирцев ответил.
– Благодарю вас. Мы будем друзьями? – спросила она, выходя с Алексеем из здания клуба на жару, и взглянула настороженно. Он не успел ответить. – Вы ездите верхом?
– Да.
– Идемте на мою конюшню. Выберете лошадь. Вы не откажете мне, если я предложу покататься вместе?
«Но я пленный!» – мог бы ответить Алексей. «Какие глупости! – готова была возразить Энн со всей решительностью. – К чему такие предрассудки!»
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
Не все наездники могут быть хорошими моряками, но все моряки могут быть хорошими наездниками. Взбираясь на реи, невольно выучиваешься крепко держаться...
Белое здание Сити-холл с несколькими разросшимися деревьями по бокам казалось еще белей и ярче на фоне газона для игры в гольф, который изумрудно зеленел и тщательно подстрижен. В этот предзакатный час китайцы носят на плечах деревянные бадейки с водой, наливая ее у чана, подобного деревянной башне. Садовники в фартуках тщательно поливали траву, как сад.
На конюшне старший конюх в шотландской юбке и с голыми коленями предложил коня каштановой масти. Алексей погладил морду, потрогал шею и пегую стриженую гриву. Высокая лошадь посмотрела на него с доброжелательным достоинством.
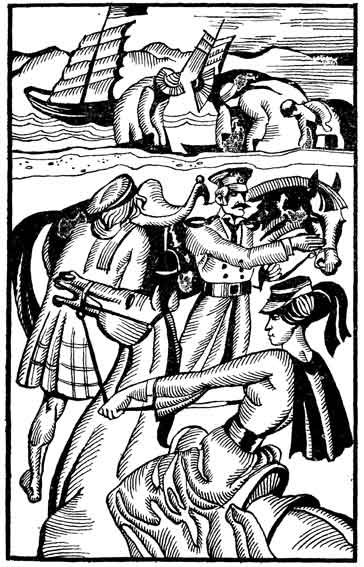
За холмом проехали мимо низкого здания из красного кирпича. Несколько тучных коров в пятнах, таких же белых, как Сити-холл, лениво прохаживались в тени, павшей на луг. Из двери коровника вышла и поклонилась высокая, белокурая, еще совсем молоденькая девица в платочке и кружевном переднике, видимо собравшаяся доить. Алексей заметил ее печальное лицо.
– Я покажу вам, за горами есть тенистый уголок. Молодые люди проскакали через невысокую седловину на другую сторону холма.
– Прекрасные сосны, по имени которых китайцы называют весь остров. «Сян-ган» означает «душистый остров»! Или благовонный остров. Это сосны особой высшей породы, из их смол добываются благовония для императорского дворца в Пекине и для храмов. Также для аристократических домов. От этих сосен и произошло название, you see?[42]
Самшит? Или мирт? Или что-то вроде пинии, или, может быть, сосна, как в Закавказье...
Энн замечала, как Алексей сидит в седле и как он смел, но деликатен с умной лошадью.
На отмель в искрах солнца приходила тяжелая зеленая волна. На узкой отмели изгибистые и длинные, как волны, вороха водорослей с ракушками, морскими звездами и рыбинами, забитыми прибоем. Китайцы бродят семьями, роют эти мокрые груды, раскрывают раковины и тут же съедают моллюсков.
В ущелье чернела густая роща ароматических деревьев.
– Маленький заповедник! – сказала Энн.
Как хорош этот день, небо, море, ветер с теплых океанских просторов. Но на все смотрелось сквозь сумрак тяжелого настроения, как через матовое стекло. Энн хороша, умна, приятно быть около нее! Но яд еще действовал и отравлял всю прелесть встречи. И только сейчас Алексей понял, как далеко отошел он от самых простых радостей жизни.
В хвойной роще наступил вечер. Поднялись на самую высокую гору острова, на конический пик Виктория. Здесь солнце еще не заходило, оно опускается к сопкам за проливом.
– На той стороне Китай! – показала Энн. – Вы побываете и там!
Вокруг пика несколько домиков. Бунгало? Виллы? Как тут принято называть?
– Здесь всегда прохладно. Многие предпочитают летом жить на пике Виктория.
Весь остров виден как на ладони. Идущая через город улица Королевы – «Куин Роуд», панорама гавани, корабли под разгрузкой, окруженные китайскими джонками и плашкоутами, плавучие кварталы лодок бедноты. Мысы, бухты, проливы. До Китая, видимо, десять минут хода на вельботе. Там большая мрачная сопка, обращенная в этот вечерний час теневой стороной к городу. Видны редкие фанзы под соломой с небольшими полями. Но местами здания сгрудились тесней, там что-то строится.
«Тропический Петербург!» – подумал Сибирцев, обводя взором всю эту панораму.
– Отец закладывает основы на века! – сказала Энн, как бы уверенная в восхищении собеседника. – Я посвятила себя христианскому долгу! – добавила она тихо и серьезно. – Здесь великий мир, где множество обездоленных и нищих. У них нет никаких представлений о человеческом достоинстве и правах. Да, пробуждение в современных людях чувства достоинства без различия пола и цвета кожи – моя цель!
Обо всем этом у Алексея было свое, довольно ясное мнение, особенно после того, как он пробыл лето на кораблях английской эскадры, но он молчал, полагая, что может огорчить Энн. Впервые в жизни познакомился с англичанкой своего возраста.
– Вот Китай! Он рядом! Мы ничего не знали о нем, все было скрыто, как высоким забором. Но вот китайский забор повалился – и стало видно, что множество людей там дерутся и все бьют и уничтожают друг друга. Их забор был плотный и казался надежным, сохраняя их мир, мнимый покой и процветание немногих. Одно удивительно, как они дрались, – так, видно, давно, но так тихо, что никто не замечал этого. Так сказал мне отец, когда я приехала в Гонконг...
Энн сказала, что открыла здесь школу.
– Какие прекрасные китайские дети! Какие умницы, как способны к ученью. Какие прекрасные задатки в этом народе и какие ужасающие власти иссушают этот народ. А китайские женщины! Обратите на них внимание. Они так красивы! – Она заметила, что при упоминании о женщинах он чуть оживился. – Вам приходится ездить в колясках, запряженных людьми? – спросила она.
– Да.
Как могут оказаться в одном и том же обществе сэр Джеймс Стирлинг и Энн Боуринг! Впрочем, что-то общее было!
– А в вашей стране? Ведь у вас много serfs[43]?
«Да, большинство наших крестьян – рабы, но не все», – хотел ответить Алексей, но смолчал.
Как офицер, он не должен во время войны, в плену, вести подобные разговоры. Энн задела его за живое. Рабство – ахиллесова пята каждого из нас. Долг обязывал поднять перчатку, брошенную девицей-рыцарем.
– Вы знаете нашего поэта Пушкина? – спросил Алексей.
В современном мире нет тем, о которых нельзя говорить. Энн жила в постоянных несогласиях с отцом, испытывая к нему при этом глубочайшее благоговение.
– Нет. Я не знаю.
На кораблях, в кают-компаниях английской эскадры почти никто не знал Пушкина, так, что-то слышали...
– «Увижу ль, о, друзья! народ неугнетенный... – стал переводить Алексей, – ...и над отечеством свободы... Взойдет ли наконец... заря!»
Энн остановила лошадь. Она вслушивалась. У нее был вид древнего норманна, услыхавшего боевой клич, готового выхватить меч и ринуться в битву. Казалось, судьба свела ее с тем, кто будет вдохновенно просвещать рабов царя.
Алексею нравился этот женский тип, исполненный красоты и потаенного огня, готовый к проявлению силы и к действию.
– Пушкин был другом революционеров-декабристов. Вы знаете? После восстания их заключили в тюрьмы и сослали в Сибирь. Пушкин убит на дуэли со светским playboy[44], любимцем вельмож и льстецов государя... Поэт Лермонтов написал стихи в его защиту и за это был сослан на Кавказ. Лермонтов написал о противниках своего поэтического кумира: «Его убийца хладнокровно навел удар – спасенья нет... Пустое сердце бьется ровно...» – Алексей переводил как мог.
Еще он хотел бы перевести ей «Думы» и «Молитву», но у него не хватало слов.
– Я не ошиблась, когда сказала, что хочу быть вашим другом! – сказала Энн.
Жаркая ночь спустилась быстро. Внизу, разбиваясь и всплескиваясь, фосфоресцировали волны. Чуть ниже вершины горы, под пиком Виктория, белели летние резиденции.
Она заговорила о чопорности и строгости нравов в провинциальном обществе колонии. Достаточно, чтобы кто-то из семьи чиновника совершил опрометчивый шаг в личных отношениях, как служебное лицо будет скомпрометировано и удалено.
«Но жена Цезаря вне подозрений? И дочь Цезаря тоже?» – подумал Алексей.
– А какие кони в вашей стране?
Алексей сказал, что казачий конь невысок, но вынослив, отлично переплывает реки и горные потоки. Есть прекрасная порода крупных донских скакунов... Орловские рысаки... Карабахи у горцев. Из степей приводят ахалтекинцев. За Каспийским морем у древнего народа в пустынях разводится эта порода скакунов. С золотистой короткой шерстью, они словно вылиты из чистого золота. Те, кто видит их впервые, не верят, говорят – вы их покрасили... Есть ахалтекинцы с белокурыми гривами и голубыми глазами.
– А сами туркмены?
– Черные как смоль.
«Как он любит лошадей!» Она спрыгнула с коня. «Но любит ли он собак?»
Они подошли к небольшому домику с садом.
– Я познакомлю вас с отцом.
Они сидели в гостиной, когда с занятым видом вошел сэр Джон. Алексей встал. Сэр Джон протянул Алексею руку. Кивнул головой дочери и прошел в другую комнату.
Поздно вечером Алексей и Энн простились на улице у отеля. Ее сопровождал офицер-бенгалец и два сипая.
– Бай-бай, – чуть тронув его руку, сказала девушка.
Когда росой обрызганный душистой,
из-под куста мне ландыш серебристый
приветливо кивает головой, –
вспомнил Сибирцев любимые в отрочестве стихи.
«Неужели из скромного и усердного мальчика я превратился в развязного повесу, в типичного моряка? Или я слаб и впечатлителен?»
Китаец-швейцар открыл низкую дверь, в отель и быстро поклонился с глубокой почтительностью.
Шиллинг сидел на диване и читал местную газету.
– А где Осип Антонович?
– Его пригласил к себе мистер Джордин.
«Долго его нет!» – подумал Сибирцев.
ЛЮДИ ДЕЛА
...как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное... удовлетворение этим потребностям... Задача всемирной торговли... удешевить... сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо; смешно сомневаться в будущем успехе... Комфорт и цивилизация почти синонимы... Куда европеец только занесет ногу, везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия.
Энн вернулась в резиденцию на пик Виктория. Она переоделась и попросила у отца позволения войти в кабинет.
Сэр Джон при зеленой лампе сидел у стола с бумагами.
– У казаков особое седло, которое не принято нигде более, – стала рассказывать дочь, – они скачут, стоя в стременах.
– Да. Я ездил в России в таком седле.
Отец везде был и все видел.
– Папа, вы знаете русский язык?
– Да, я знаю русский язык. Я первый в нашей стране переводил русских поэтов.
Отец с трудом оторвался от занимавших его гонконгских дел. В отношениях с Китаем неустойчивое и унизительное для Англии положение.
Сэр Джон познакомился с офицером, введенным в дом дочерью, и подал руку. Он вполне доверял ее вкусу и выбору.
– В свое время я выучил русский и после этого издал два сборника русской поэзии и народных песен в моих переводах. Первый сборник разошелся быстро и принят был у нас как нельзя лучше. Он вызвал также восторженные отклики в России. Тогда царствовал Александр Первый – наш союзник в войне против Наполеона-Бонапарта. До меня дошли известия, что император удовлетворен появлением книги в Англии. Я приехал в Россию, и государь наградил меня бриллиантовым перстнем. Я храню его. Я познакомился с великими писателями России Державиным и Карамзиным. Вернувшись домой, ободренный, я продолжал работу со всем жаром молодости. Мне было двадцать два года. Вскоре я выпустил второй сборник, которому предпослал обращение к царю с призывом освободить крестьян и отменить цензуру. Мой второй сборник, а главным образом, мое предисловие к нему вызвали недовольство царя. Александр был человеком настроения, пылко религиозным и поддавался влияниям. Кончилось тем, что царь приказал запретить распространение моих книг в его империи. Я был введен в заблуждение тем, что увидел и услышал в Петербурге. До меня доходили известия, что Александр либерален, готовит реформы, стремится к освобождению крестьян. В те годы он издал на русском языке нашу конституцию для распространения в своем народе. Нам казалось, что страна готова к реформам и ждет их. Но как средство от болезни ей навязали еще более ужасную тиранию.
Энн не была удивлена, хотя никогда не слыхала ничего подобного. Она знала, что ее отец необыкновенный человек, но полагала, что его литературная деятельность принадлежит лишь его поколению.
– Вы знаете поэта Пушкина?
Сэр Джон встал как бы вдохновенный. Ясно, молодой человек рассказывал ей о поэзии.
– Я переводил Батюшкова, Державина... Карамзин был моим другом. Я открыл нашей публике Жуковского. Пушкина я не переводил.
– А Лермонтова?
– Нет. Нет. Теперь все народы гордятся именем какого-либо поэта, который не имеет значения нигде, кроме как у себя на родине. Пушкин подражатель Байрона, для наших читателей он не представляет интереса.
– Алекс сказал мне, что Пушкин поэт борьбы за свободу, папа.
Боуринг с удивлением посмотрел на дочь.
Сэр Джон высок, с белокурой головой в легкой седине, с лицом, с которого еще не сошел румянец, несмотря на годы, но глаза на этом сильном жизнерадостном лице тяжелы и мрачны, как у человека, видевшего слишком много, и при этом с оттенком привычной властности. Казалось, единственное холодное выражение застыло в них.
– Нет! – горячо сказал он. – Пушкин поэт придворный. Он поэт военных парадов, побед и маршировок гвардейцев, певец захватов! Это значит – сторонник самодержавия и расширения империи, апологет завоевания Кавказа! Он враг Мазепы, он утверждает все то, против чего мы воюем.
Боже! Как может существовать два столь противоположных мнения! «Почему, отец, поэт не может восхищаться подвигами защитников своей отчизны, своими войсками!» – хотелось воскликнуть Энн. Хотя эти темы лично ей чужды совершенно, какие бы войска ни» совершали подвиги. Она еще ничего не знала про военные поэмы Пушкина. «Но мы же вместе сражались против Наполеона? И разве мы не восхищаемся патриотизмом своих поэтов и художников? Кто из великих не отдавал этому дань?»
Дочь поблагодарила и ушла к себе.
Боуринг сел к лампе и занялся делами. От разговора остался осадок.
«Пушкин революционный поэт? Как Петефи? Как Мицкевич? Разные общественные положения! Пушкин упрямо придерживался своих взглядов. Пушкин – боярин! И гордился этим! Но что значат доводы ученого отца! Молодость верит молодости!»
Несмотря на постоянные несогласия со взглядами Энн, отец признавал, что у нее есть чуткость, она улавливала то, что другим дается после долгих кропотливых изучений. Энн – человек дела, прототип женщины будущего. Она посвящает свою жизнь бедным слоям трудового народа, которому власть помочь не в силах. ...Положение к Китаем очень сложное, трудное и неприятное. Боуринг готов осуществлять идею Бентама, она проста и близка сердцу каждого: дать как можно больше счастья каждому человеку. Подразумевается – каждому человеку на земле. Значит, и китайцу надо дать счастье, устойчивое, надежное человеческое счастье, без оговорок. Освободить китайца от постоянной опасности потерять голову под ударом палаческого меча. Как это сделать? В Китае ужасающая нищета, бесправие, непрерывные массовые казни – рубка голов у ни в чем не повинных людей. Свирепствуют болезни... Засилье мошенников-чиновников. Все основано на взятках. С чем же европеец приходит в Китай? С требованием открыть двери для торговли и просвещения. Какой же товар он предлагает китайцу? Пока что из всех товаров, привозимых коммерсантами так называемых «наций, спасающих Китай», лучше и больше всего продается опиум. Казалось бы, от торговли ядом судьба китайского народа становится еще ужасней и к бедам Китая прибавляется беспощадная эксплуатация народа иноземцами – и все это во имя гуманности и пробуждения страны? В этом сложном и запутанном положении, когда весь образованный мир готов был видеть в англичанах корыстных отравителей Китая и лицемеров, правительство послало в Китай сэра Джона Боуринга, гуманиста, миссионера и либерала. Он назначен послом в Китай и губернатором в Гонконг – в самое гнездо опиоторговцев и отравителей.
Джордин полагал, что современная торговля ядом – неизбежность. Она не хуже, чем продажа алкоголя в Европе. Все зависит от умеренности или распущенности потребителей. В доказательство Джордин предложил сэру Джону выкурить с ним по порции после обеда. Лишь торговля ядом, как сказал он, даст средства, чтобы взломать ворота запретной страны и открыть китайцам путь к свободе и просвещению. Нет никакого лицемерия! И нет иного выхода.
Все это не имеет никакого отношения к тому, что сын Боуринга будет зятем Джордина и что он стал пайщиком крупнейшей компании по продаже опиума.
Картина, какой она представляется в Гонконге, весьма отличается от той, какая видна из метрополии. Здесь все утверждают в один голос, что китайцы сами из всех товаров, привезенных европейцами, больше всего требуют опиум. От торговли ядом китайские посредники получают большие средства, чем английские торговцы. Это подтвердили сэру Джону и виднейшие знатоки Китая, коммерсанты Джордин и Матисон, в руках которых значительная доля торга с Китаем. Их предки начинали еще в прошлом веке, посылая флоты к берегам Китая и Индии. Суть дела ясна, сомнению и обсуждению не подлежит. Такова естественная основа, на которой стоит весь Гонконг, его торговля и гуманная деятельность. Говорят, что к этому твердому убеждению склонили сэра Джона не столько английские коммерсанты, как тузы китайского делового мира...
За проливом, в расстоянии полумили от Гонконга, а местами на ширину Темзы, находится Китай. Со временем у китайцев явятся пушки и они будут наставлять их ни Гонконг. Нужна вторая война с Китаем. Надо оттеснить Небесную Империю от пролива, взять часть территории с горами на материковой стороне и присоединить к колонии. В противном случае Гонконг будет жить в вечной опасности. Уже и теперь деревни за проливом – убежище для преступников. Но гонконгская полиция действует смело, она преследует негодяев и на той стороне.
Новая территория нужна! Еще важней общая перемена политики самого Китая. Нужен такой удар по мандаринской стране, такая пощечина Сыну Неба, чтобы в китайском народе раз и навсегда была развеяна внушаемая легенда о превосходстве, могущественности и непоколебимости властей в Китае, о том, что даже английская королева платит богдыхану дань и смеет обращаться к нему лишь как вассал. Именем этой власти в Китае идет великая рубка голов. Разрушение веры в могущество властителей Китая – лучшая услуга тем, кому головы еще не срублены.
Боуринг пытался действовать мирными средствами, завязать отношения с высшими чиновниками в Кантоне. Но его даже не впускают в китайский город. Послу Англии дозволено посещать лишь европейские «фабрики», как называются блоки жилых зданий, магазинов и складов, выстроенных иностранцами на берегу реки Жемчужной вне стен Кантона.
Однажды Боуринг пригласил в Гонконг к себе в гости кантонского губернатора. Мандарин сидел за столом и обнюхивал подаваемые кушанья из лучшего мяса, дичи, рыбы; сласти, пудинги, пирожные, все отталкивая, кривясь, как бы показывая, что вся варварская пища несъедобна для ханьского человека[45].
Это не единственный случай. Такова вся политика, в ее основе – презрение ко всем народам, высокомерие, наглость. Бывали случаи убийства европейцев.
Какими же средствами и как подвинуть остановившуюся жизнь гиганта? Как пресечь творящиеся там злодейства? Пока нет иного средства получения средств к этому, как торговля под строгой охраной, в которой так заинтересованы сами китайцы, и не только их купцы, но и сами же мандарины. Можно действовать, только пользуясь корыстью обеих торгующих сторон как рычагами. Положение все ухудшается, и европейская торговля все больше попадает в зависимость от компрадоров. А мандарины унижают достоинство англичан. Жалобы отвергаются. Представители не допускаются. Власть мандаринов губит китайский народ более, чем опиум. Ее надо сокрушать всеми средствами.
Разорвать путы на руках европейской торговли и открыть путь в Пекин. Торговать на равных правах с китайцами, а не на положении «варваров».
Все эти замыслы лишь подтверждаются тем, что пришлось выслушать сегодня на докладе в Азиатском обществе. Русские получили доступ в Пекин. Их наука развивается.
Кроме Пушкина у них есть Гоголь! Вся Европа знает, что такое русский маниловизм! Совмещается захватнический тиранизм и маниловизм! У нас также нет недостатка в маниловских проектах! Недавно один из образованных джентльменов опубликовал проект постройки дороги под Ла-Маншем. Езда в тоннеле будет в каретах, сможет в своем экипаже отправляться любой господин или госпожа. На всем протяжении тоннель будет освещаться газовыми светильниками в хрустальных абажурах! Чем же это отличается от стеклянного моста, на котором, как желал господин Манилов, стояли бы купцы и торговали разным товаром?
Поэт, который написал «Полтаву», не может стать известным на Западе! Влияния он не обретет! Поэт, создавший «Медную статую»!
Отец не хотел бы совершить ошибку в глазах Энн, хотя бы и в далеком прошлом. Он помнил, какие Пушкин вызывал в нем чувства. Боуринг возмущался. Можно ли судить о Мазепе как о предателе, когда он желал того же, чего все желают, – разделения и ослабления Российской империи. Мазепа у Байрона узок, но поэтичен, человек со слабостями, подвержен пылким страстям. Пушкин довел изображение этих страстей до того, что Мазепа стал исчадием ада, а не борцом против империи. Получается, что Мазепа мстит царю за то, что тот схватил его в гневе за усы. Контраст велик, Пушкин не пожалел красок.
Пушкин огрубил поэтический образ Мазепы политическими мотивами!
А в свете лампы лежали бумаги о делах Гонконга. Приходилось возвращаться к обязанностям посла. Моральный риск велик; защищая цивилизацию, придется ломать средневековые устои и деревянные ворота китайских дворцов и крепостей. В китайских водах уже собран флот из винтовых и парусных судов, наготове морская пехота и полк солдат, два батальона бенгальцев, пенджабская так называемая иррегулярная кавалерия. Из самих китайцев формируются батальоны «милитери сервис». К действию также готовятся все «нации, спасающие Китай».
Можно надеяться, что в скором времени будет назначен и прислан из метрополии новый командующий флотом...
МИСТЕР ВУНГ
У России совершенно особые отношения с Китайской империей. В то время как англичане и мы сами лишены привилегии непосредственной связи даже с наместником Кантона... русские пользуются преимуществом держать посольство в Пекине...
Карл Маркс, «Русская торговля с Китаем»[46]
– Господин Сайлес! Рады видеть! Как давно вас не было! – воскликнул Сибирцев. Начинаешь смелее говорить на чужом языке и сразу, как в путешествии, открываются горизонты. – Вы из Кантона?
Сайлес расплатился с носильщиком.
– Да, я был в Кантоне.
Банкир перездоровался с офицерами, почтительно поклонился Мусину-Пушкину.
– Разве в Кантон есть доступ? – спросил Александр Сергеевич.
– Да! Конечно!
– А у нас тут было заседание в научном обществе. Господин Гошкевич делал доклад, – сказал Шиллинг.
– Я слыхал об этом в Кантоне.
– От моряков?
– Зачем же! От китайцев. Они говорят про господина Гошкевича, что очень прекрасный молодой человек. Но в китайском языке делает грубые ошибки.
– Они-то откуда знают? Не было ни одного китайца! – сказал Осип Антонович.
– У них есть свои люди везде. Начиная с повара...
– Что же за ошибки?
– Да, говорят, в слове «хуа» надо «а-а» произносить протяжно и снизу вверх, только вверх, а вы, господин Гошкевич, делали это недостаточно отчетливо... И еще с недостаточной степенью почтительности хвалили нравы и обычаи эпохи Хань. Ну, впрочем, идемте, я пошутил, только пошутил! Идемте, господа, в суд! Об этом поговорим в другой раз. Так суд над мистером Тауло! Вы решили присутствовать?
Вид у Сайлеса удрученный. Дело, кажется, касается и его. Опытный делец не падает духом; как всегда, шутит.
Очень трудно перебивать торговлю старых гонконгских фирм. Англичане любезны, и он хорош с ними. Но Сайлесу оказывается стойкое сопротивление. Он охотно бы нашел новое поле для своей коммерческой деятельности. Это Япония и Россия, выходящая на Тихий океан. Он не раз заговаривал на эту тему с Посьетом и через него зондировал мнение Путятина.
У подъезда суда появились джентльмены в черных костюмах и стоячих воротничках, некоторые в белых пробковых шляпах. Подъехала карета, вылез молодой господин в сером сюртуке. Приподняв серый шелковый цилиндр, слегка поклонился, ему ответили. Сайлес тихо сказал вслед, что это сын Боуринга.
– Новый опиумный туз!
Группа англичан подъехала верхами. Тут все европейцы здоровались друг с другом, даже с незнакомыми.
На тротуаре толпились празднично одетые китайцы, но в дверь не шли.
Рослый китаец, сойдя из паланкина, кинул носильщикам монету. Сайлес представил:
– Мистер Вунг! Рекомендую... Один из тех, на ком стоит колония!
– Ах, что вы, что вы! – смеясь ответил китаец. – Такие пустяки! Здравствуйте, здравствуйте, господа! – Он поглядывал остро, зорко и с интересом на новых знакомцев: кажется, не понимал, кто это, или, может быть, все слыхал и знает, но желает составить собственное мнение, кто и сколько стоит.
– Мистер Вунг начинал со спаивания английских матросов, – хлопая китайца по плечу, рассказывал Сайлес. – Он изобрел особую одуряющую жидкость, которая шла у моряков нарасхват! За что и прозван Джолли Джек. А также – Ред Роджерс! Под этим именем известен всюду, теперь хозяин компрадорской фирмы и банка, один из самых влиятельных.
Китаец смеялся и в свою очередь слегка похлопал Сайлеса по плечу. Пришлось здороваться с мистером Вунгом за руку, как с джентльменом. Китаец высок, усат, как англичанин, броваст, губаст, голос басовит и с хрипотцой, он с косой, в европейской шляпе, в китайской кофте из тяжелого дорогого шелка с серебряными шариками-пуговицами, в полосатых брюках, какие любят американцы, и в башмаках.
– Не смотрите на косу, она привязанная: мистер Вунг мандаринских обычаев не придерживается!
Слуга-китаец провел чистейшим платком по плечам мистера Вунга и этим же платком смахнул пыль с его ботинок, ловко и почтительно отянул и оправил брюки, как ребенку. Мистер Вунг поздоровался и с Точибаном. Японец одет с иголочки, в белой шляпе, крахмальном воротничке и в костюме «грей» – в сером.
– Кам, кам, мистер Джолли, – сказал Сайлес, обнимая компрадора, и китайский туз вошел в зал заседания вместе с пленными офицерами и толпой американцев.
– Это очень большой мастер... фальшивых монет, – признался Точибан, обращаясь к Гошкевичу.
– Преступник? Фальшивомонетчик?
– О-о! Нет! Это... Напротив... В Гонконге никто не принимает серебряных долларов и талеров без его штампа.
– Вы знакомы...
– Да... – небрежно ответил Коосай.
Вунг показался Алексею похожим на сына европейца, рожденного в Индии от туземки матери, каких тут приходилось видеть, или на китайского пирата, каким он, видно, и был когда-то, судя по кличке Ред Роджерс. И на нашего фартового мужика, на этакого китайского Ваньку Каина.
– Вам здесь интересно? – спросил Вунг у Сибирцева.
– Да... – ответил Алексей.
– Вы должны знать! Эта компания, в которую вы входите! Ха-ха! Пригодится! Большому кораблю большое плавание! Я очень люблю ваших царей!
АНГЛИЙСКИЙ СУД В ГОНКОНГЕ
В здании суда окна открыты на все стороны, сквозь жалюзи зало продувается, как палуба корабля. Впереди два ряда кресел, дальше – скамейки, как в протестантской церкви.
Пот катит градом с раскрасневшегося лица купца Пустау, он то и дело выдергивает платок из заднего кармана сюртука, утирается и опять небрежно заталкивает, платок из разреза торчит красным хвостиком. Оба немца – Тауло и Пустау – в черном и Сайлес в клетчатом сблизили головы, как бы составляя заговор. Сегодня они виновники происходящего. Сибирцев замечает всеобщее оживление, как в театре при съезде гостей или перед открытием занавеса. Энн сказала ему, что театра в Гонконге нет, суд заменяет театр.
Тауло под судом, но отвечал своим карманом судовладелец Пустау, какую-то закулисную роль играл Сайлес.
Тауло осклабился, и голова его дернулась, когда он увидел в публике лица Пушкина, Шиллинга, Сибирцева, Елкина и Михайлова. Впереди, на ряд ближе, Гошкевич и японец с тростью в джентльменском костюме. Встреча не из приятных! Однако Тауло с улыбкой потянулся к своим бывшим пассажирам.
Подсудимому предложили сесть на место. Сайлес еще и еще давал ему какие-то советы и едва оторвался.
Вошел судья в парике и в мантии. Заседание началось. Судья задал обычные вопросы. Суть дела была изложена и казалась всем ясна.
– Сколько же вы взяли с моряков погибшего при кораблекрушении корабля «Диана» для доставки их в Россию через Охотское море? – спросил судья.
– Двадцать тысяч долларов, – ответил Тауло.
Раздался дружный хохот всего зала.
– О-е-ха! – закричал мистер Вунг, он же Джолли Джек, подскакивая в поставленном для него кресле наособицу.
– Сколько? – делая изумленное лицо, спросил судья.
– Двадцать тысяч! – вызывающе резко бросил шкипер.
Раздался еще громче взрыв хохота, но едва судья открыл рот, как зал дисциплинированно стих. И опять слышался китайский крик Джолли. Общее неодобрение публики к подсудимым стало сразу очевидным. Судья это почувствовал. Английский джентльмен, конечно, знал, как он популярен, как любит публика его парадоксальные вопросы.
– Так вы дураков нашли, если загнули такую цену? Подсудимый, отвечайте: да или нет. Вы дали присягу отвечать чистосердечно. Да?
– Да, – ответил Тауло.
В зале начался гомерический хохот, как при виде любимого актера, любая реплика которого приводит всех в восторг.
– Повторите сам: «Я нашел дураков среди несчастных, попавших в беду». Повторяйте.
– Это снизит наказание? – не растерялся Тауло.
Тут захохотали Пустау и вся компания немцев и американцев во главе с Сайлесом.
– Нет, это не снизит наказания, – ответил судья, – но должно уяснить дело.
– Тогда не повторю.
Хохот повторился, но быстро ослабел.
– Редактор газеты «Чайна мэйл»? – оборачиваясь к Сибирцеву и показывая глазами на затылок долговязого джентльмена, спросил Гошкевич.
Джентльмен что-то записывал и качал головой, словно все происходящее подтверждало его собственное мнение.
– Это мистер Шортред, – ответил Алексей.
Горячая речь обвинителя поначалу слушалась в молчании. Вскинув руку, он заговорил, что подсудимый грубо попрал права человека, оболгал и обобрал ни в чем не повинных тружеников моря, чей корабль подвергся еще невиданным испытаниям и погиб. Пользуясь несчастьем, подсудимый заломил цену, которую никто и никогда не брал.
– Вместо бескорыстного спасения тех, кто заслужил признание и восхищение, вы обчистили их, как карманный вор!
– Слушайте! Слушайте! – раздались крики.
– Впрочем, чего же от вас ждать! Вы поглумились над правами людей и сделали спекуляцию на их страданиях, осквернив понятия долга и милосердия!
Адвокат вскочил, как на пружине, и высоким голосом с уверенностью опытного оратора, немного нараспев и с аффектацией стал доказывать, что мистер Тауло, как никто другой, пришел на помощь страдальцам и защитил права человека! Он спас погибших! Благодаря ему они среди нас и пользуются традиционным английским гостеприимством. Кого же благодарить за это? Только мистера Тауло! Он единственный в мире защитил право потерпевших на спасение! Свобода слова, независимость понятий, уважение к правам человека, вот те... те...
Судья извинился, перебил оратора и спросил, не проявляет ли защитник неуважения к суду, выкрикивая некоторые слова и пуская при этом петухов.
От хохота слушатели, казалось, валились навзничь и друг на друга и целые ряды их качались, как волны в ветер.
– Он сжалился, господин судья, и решился на подвиг чести, – уверенным сильным голосом сказал адвокат, подавляя общий хохот и водворяя тишину. – И что же теперь, достопочтенный судья? Что же грозит ему за любовь к человеку, за защиту его прав, за спасение стольких молодых жизней?
Судья огласил приговор под бурные аплодисменты и восторженные крики зала.
Шкипер Тауло признан виновным в недозволенной перевозке людей во время войны и приговаривается к денежному штрафу.
– Бриг «Грета» конфискуется! – под новый взрыв одобрения объявил судья.
Публика расходилась. Тауло и Пустау вышли с толпой немцев и американцев. На улице Сайлес отстал от них и присоединился к русским.
– Что же теперь будет с господином Тауло? – спросил банкира мичман Михайлов. – Ему придется уезжать из Гонконга?
– Вы думаете, его выселят? Как сделали бы у вас? Нет, что вы! Никто и не подумает! Просто ему придется расплатиться и заняться своими делами поэнергичней, чтобы покрыть убытки. Тут больше всех пострадал хозяин корабля господин Пустау! Но приговор не скажется на их делах! Мистер Тауло опытный моряк, а мистер Пустау преуспевающий бизнесмен... Вы заметили, сегодня публика была на вашей стороне?
Сам Сайлес, как видно, скрывал свое недовольство. Наверно, в душе должен сетовать, задета и его репутация.
Вышел мистер Вунг и, почтительно поклонившись Пушкину, сказал, что рад будет принять господ офицеров, сочтет себя польщенным, если присланное приглашение будет любезно принято.
– Буду очень рад! – вдруг сказал Вунг по-русски и засмеялся.
Слуга подозвал носильщиков, и богач отправился с целой свитой китайцев.
– Решение суда, как мне кажется, нелогично, – выпив рюмку вина, сказал Шиллинг, сидя у Сайлеса. – Шкипера Тауло винили за негуманное отношение к нам, а приговорили за недозволенные перевозки в военное время! Так я понял?
– Ах, что вы! – криво осклабясь и вскидывая руки, воскликнул хозяин. – Английский суд постоянно приговаривает не за то, в чем упрекает подсудимого судья. Они умалчивают, в чем повинен подсудимый перед английскими интересами. Вы правильно уловили! Не за то преступление судят, за которое приговаривают. Иначе не подберешь статьи. Или будет слишком велика огласка и начнутся споры! Такой же статьи нет – за негуманность. Англичане часто выносят приговор так, чтобы главной вины не упоминать и не оглашать и чтобы все выглядело бы благородно, а про сущность своих претензий умалчивают... Пустау еще будет апеллировать и судиться! И Тауло тоже. Но вряд ли что-то удастся с судном. Штраф могут снять. Но конфискацию не отменят. Действуют законы военного времени. Судья вел пропаганду в пользу проявления человеколюбия к потерпевшим бедствие на море, а приговорил за перевозку врагов в военное время! Судили Тауло за неблагородный поступок, упрекали, что взял большие деньги с потерпевших кораблекрушение, винили в нарушении международного акта спасения на водах! Зато уж тут никуда не денешься – перевозка вражеских войск в военное время. Да еще под чужим флагом! Отобрали хорошее судно!
Сайлес стал рассказывать, что у него есть свои адвокаты, им приходится постоянно судиться по разным делам, что в Гонконге все судятся друг с другом, предъявляют разные иски, и можно было понять, что дела идут потоком, что в суде он свой человек.
– Так, бременский бриг «Грета» стал, господа, гонконгским и будет продаваться с торгов!
Сайлес помолчал, как бы что-то обдумывал.
– На суде был Шортред... – вымолвил он.
– Можно ли что-то ждать от Шортреда? – спросил Пушкин.
– Все возможно! Но...
Сайлес хотел сказать, что сам сходит к редактору «Чайна мэйл», но его вдруг осенило.
– Кто-то из вас уже знаком с мистером Шортредом? – спросил он и оглядел всех.
– Да, вот мистер Сибирцев, – ответил Шиллинг. «Этот скромный молодой человек? – подумал Сайлес. – Неужели? Быстро усваивает уроки!»
В любом случае Сайлес готов поддержать общее дело.
– Вы заметили, англичане открыли вам все возможности. Но в душе недовольны. Мной тоже! Этого вы еще не видели! Это как раз то, что сближает меня с русскими. Постоянное скрытое недоверие. И лицемерие!
– А откуда господин Вунг знает по-русски? – спросил Шиллинг.
– Вы, господа, и ваша империя в мире довольно значительная сила. Это можно понять даже по высказываниям газет ваших противников. Значит, Вунг, как и я, когда-то вел дела с Россией. Ведь господин Гошкевич сам мне говорил, что в Пекин ходят из Сибири караваны с товарами... или не совсем в Пекин... но... ходят. Да?
– Нет, именно в Пекине!
– И в Европе и в Китае известно, что у русских строгие законы, что русские не умеют торговать, они покупают на самых дорогих рынках, по самым дорогим ценам, а все продают по самым дешевым. Я вам это уже говорил в Японии. Знайте это, господа! И вас никто учить торговать не будет, так как всем с вами так лучше! Все вас осуждают, но всем выгоден ваш пьяный мужик, а не трезвый. Все, кто может, извлекают от вас прибыли, прекрасно обходя ваши строгости!
– Так вы говорите, китайцы в обиде на меня? – спросил Гошкевич.
– Да, это очень гордый народ. И есть отчего! Но, к сожалению, излишне гордый! В это не верится, глядя на жизнь в Гонконге? Но это так. У меня в Кантоне есть приятель, хозяин фирмы и выбранный глава компрадоров, посредник между нациями спасающими и самыми страшными мандаринами. Его прозвали Хоппо, или Гиппо. В год он платит налогов и дает взяток на двести тысяч долларов, столько же, сколько чистого дохода получают за год крупнейшие английские фирмы за весь свой опиум. Что вы хотите! А мистер Вунг? Попробуйте потягаться с ним в коммерции. Если найдется держава, которая даст им оружие и научит обращаться с ним, они при своей численности через сто лет раздавят весь мир.
«Старая мечта адмирала Евфимия Васильевича – спасти Китай, как и Японию, дать Китаю современное оружие, инструкторов, помочь этим в войне против Англии. Путятин крепко держит в голове свои думы и не отказывается от намерений».
– А державу-благодетельницу – особенно беспощадно! – словно отвечая мыслям Алексея, продолжал американец. – Мистер Вунг делает для Гонконга больше, чем любой представитель спасающих наций. Англичане делают вид, что этого не поняли. На пассажирских пароходах не пускают его в первый класс и в кают-компанию! Американцы и то не все считают мистера Вунга своим человеком! А правда ли, господин Гошкевич, что прибывший с вами японский профессор читает на днях в китайском обществе доклад о японском государстве и цивилизации? Слушатели собираются приехать даже из Кантона. Прибудут завзятые диалектики, последователи Лао-Цзы, наследователи, представители и потомки Шинов, Танов, Минов, Ханов, азиатских истуканов! Ханьские люди! Вы-то знаете, мистер Гошкевич, что это такое!
Речь зашла о деловой жизни колонии. Пушкин сказал, что все, с кем приходилось ему встречаться, производят впечатление благородных джентльменов.
– Благородные джентльмены! – Сайлес махнул рукой и сделал отвратительную гримасу. – Все до одного опиоторговцы и отравители! Торговцы опиумом и пираты! Кроме сэра Джона!
– А ученые?
– Какие ученые? Они знают бизнес и платят клеркам проценты к жалованью за изучение китайского языка!
– А что же он сам... – уныло сказал Пушкин по-русски, не глядя на Сайлеса.
Тот понял и не обиделся.
– И я тоже! – сказал он. – Чем я лучше! Как я могу иначе? Я даю деньги торговцам отравой, и мне за деньги платят деньги. Деньги делают деньги. Это, конечно, не все... Но я и не говорю, что я – благородный рыцарь! Я – банкир и коммерсант. У меня свои суда, которые ходят в Кантон. И не только в Кантон. Новый пароход будет ходить в Калифорнию. Ах, господа, если бы вы знали, как мне нужны хорошие моряки, честные, порядочные сотрудники. Большие деньги я трачу, чтобы найти хоть каких-нибудь капитанов. Все европейцы, остающиеся без дела, алкоголики. Кто порядочный – держится за место, и хозяин держится за него! Здешние шкипера сами торгуют опиумом, составляют одну шайку с китайскими компрадорами. Нанимаем шкипером, на джонку малограмотного английского матроса и даем ему команду из китайцев. Он берет с собой собаку и ящик виски. Люди бывалые, но... Китайца-шкипера не успеешь нанять, как он начинает меня же эксплуатировать.
Гошкевич насупился. Ему тут уже делали очень лестные, по здешним понятиям, предложения.
– Я просто несчастный человек! – воскликнул Сайлес.
Вечером в гостинице на имя Пушкина было письмо от господина Пустау. В воскресенье все офицеры приглашались на обед. Мистер Вунг прислал со слугой раззолоченный свиток, в нем каллиграфически выведено золотой краской приглашение по-английски и собственная подпись с росчерком.
ПРЕССА
В Гонконге две фамилии славятся богатством и влиянием, как прежние венецианские и генуезские... Джордин и Матесон...
Что такое? «Возмутительные призы адмирала Стерлинга», «Митинг британских моряков»...
В глаза сэру Джону бросились эти фразы из статьи в «Чайна мэйл», едва он развернул свежий номер.
Боуринг прочел статью.
«...Пытаясь уравновесить свои неуспехи... Незаконно захватывается экипаж фрегата «Диана», потерпевший катастрофу на море... «Синие жакеты» требуют лучшего содержания для пленных».
Умный и трудолюбивый Шортред! Выступает всегда смело и вовремя. Не советуясь с губернатором, он все верно угадывает! Бывало, что сэр Джон не сразу оценивал значение некоторых статей и лишь впоследствии постигал смысл поданных подсказок.
Писалось, что пленные доставлены в Гонконг, тут их положение не улучшилось. Они находятся на судах эскадры и голодают, живя вместе с нашими сытыми матросами, работая с ними наравне и заслуживая их уважение, но по-прежнему получают лишь половину пайка британского матроса.
Особенно страдают рядовые. По приказу командования их не только морят голодом, лишают табака и мыла и не пускают на берег, но и побуждают бросить своих офицеров, стать предателями и дезертирами, уехать в Австралию на заработки. Один из матросов, помещенный в госпиталь, недавно умер, и пленные офицеры лишь случайно узнали об этом. Только благодаря случайности начальники и товарищи скончавшегося смогли присутствовать на похоронах. «Вообразите, гроб несчастного страдальца опускают в землю на чужбине, вдали от родины, и никто и никогда не узнает об этом...»
Автор восхищался пленными офицерами, которые покупают на последние деньги продовольствие и мыло для матросов, заботятся, особенно о больных. Все они собрались при погребении рядового, а один из молодых офицеров исполнял обряд, читая молитвы. Писалось «о позорных действиях английской эскадры в северных морях». Адмирал оказался «трусом, мстящим пленным за свои неудачи, которые произошли от нераспорядительности командующего, на обязанности которого было нанесение решительного удара по эскадре врага». «Мы покрываем себя позором!»
Серьезная статья! Сэр Джон готов со всей энергией обнаружить свой прорусский гуманизм, тлевший в его душе еще со времен дружбы с Карамзиным и Жуковским.
«Не в силах терпеть голод, пленные матросы чистят одежду, чинят обувь наших моряков, за остатки еды или за горсть табака».
Но возникает вопрос, как помочь пленным, из каких сумм, где взять деньги? Адмирал сэр Джеймс Стирлинг подмочил свою репутацию неудачным, формальным договором с Японией, который в конце позапрошлого года он заключил в Нагасаки, а также своими действиями на море и еще многими другими. Есть сведения, что в Лондоне это понимают, дни Стирлинга в этих морях, как командующего, сочтены. На смену должен прибыть молодой адмирал сэр Майкл Сеймур, участник бомбардировки Кронштадта и уничтожения Свеаборга, получивший ранение на Балтийском море...
На других страницах газеты сразу обращают на себя внимание огромные объявления на китайском. С каждым выпуском еженедельника их становится все больше. Это рекламы китайских фирм о покупках, продаже, аукционах, операциях китайских банков. Величайшее достижение мистера Шортреда! Не зря пущен анекдот, будто редактор соперничающей газеты «China Star»[47] грозит убить его из пистолета и оба редактора ходят с вооруженными телохранителями. Шортред первый завел китайский набор в типографии. У него работает китаец-наборщик в европейской одежде. Силу и пользу прессы поняли китайцы, владеющие компрадорскими фирмами и торговыми делами не только в Гонконге, но и в закрытом для европейцев Кантоне.
Соперники Шортреда из «China Star» немедленно прибегли к тому же и стали помещать такие же объявления, напечатанные иероглифами.
В обеих газетах английские транспортные фирмы помещают на китайском языке расписания по дням недели об отходе пароходов в Кантон и о прибытии в Гонконг. Регулярное пароходное сообщение на реке Жемчужной очень популярно среди китайцев, – они пассажиры и грузоотправители. Хотя даже самых богатых и европеизированных не допускают в кают-компанию первого класса. Конечно, это наше глупое лицемерие и предрассудки. Но не все сразу!
В «Чайна мэйл» и «Чайна стар» много сообщений о жизни в Китае, что происходит в его пяти открытых портах, также о тайпинах и гражданской войне. Об Америке и событиях во всем мире.
Обе газеты стараются превзойти друг друга обилием новостей, печатают сведения о приходе и уходе парусных и паровых судов, о крушениях на море, об уничтожении кораблями флота Ее Величества пиратских джонок. Также о коммерческих сделках, о криминальных происшествиях, корреспонденции из зала суда. Обе отдают одинаковую дань подвигам британских солдат под Севастополем.
Но все же мысли губернатора возвращаются к главному: война с Китаем неизбежна. При этом многие китайцы как по убеждению, так и за деньги или от голода встают на сторону англичан.
Сэр Джон готов тысячу раз повторять: без войны невозможно обойтись, хотя все меры приняты, чтобы доказать миролюбие. Перепробованы все средства, с китайцами надо действовать беспощадно. Бомбардировка их городов – вот что они заслужили. В конце концов, по вине своих владык и мандаринов.
В будущем Китая нельзя быть уверенным. Этой стране может помочь какая-то держава: Америка, а может быть, Пруссия. Послать туда своих офицеров и оружие. Дальнобойность современной артиллерии все возрастает. Не стыдно повторять, что конфликт необходим, чтобы отрезать по договору о мире всю полосу гористой территории, лежащей на материке напротив острова Гонконг, в расстоянии отличной видимости простым глазом всего, что там происходит. Эта территория уже теперь фактически под влиянием Гонконга. Там деревушка Кулун растет не по дням, а по часам, все кулунские китайцы работают в Гонконге, ежедневно переезжая пролив, который местами не шире Темзы. Туда скрываются преступники, совершившие в Гонконге кражи или убийства. Там гнездо пиратской агентуры.
Сэр Джон, проходя через анфиладу комнат своего дворца ко второму завтраку, с удовлетворением ощущал, как сквозь открытые огромные двери, подобные воротам, из больших окон и с открытых, увитых зеленью и цветами веранд в лицо дует прохладный ветер, словно воздух тропического Гонконга, врываясь, остывал у этих мраморных стен, под высокими потолками красного дерева. Каждый день сэр Джон испытывал это удовлетворение, проходя к обеду по залам.
Его замыслами и стараниями дом построен на холме, склоны которого превращены в сад. Все обнесено высокой каменной стеной, и в воротах ходят рослые солдаты в красных мундирах. Посредине двора огромный широковетвистый бук – оставлен от бывшей редкой лиственной рощицы. Дворец на все четыре стороны выходит белоснежными фронтонами с ионической колоннадой. Терраса, спускающаяся в зелень сада тяжелыми ступенями, смотрит на рейд со множеством кораблей.
Сэр Джон запретил возделывание риса в Гонконге, чтобы не было болот и тропической лихорадки. Он исследовал причины заболевания солдат. Оказалось, что томми болеют гораздо чаще, чем торговцы. Служба солдат облегчена, их казарма перестроена по образцу дворца, пища улучшена, дозволены отлучки и развлечения.
Гонконг застраивался готическими башнями и дворцами богачей с садами и спортивными площадками, разбивались скверы и бульвары... Все это нужно, чтобы не скучать вдали от родины. Глаз отдыхает и сердце радуется, видя красоту, созданную своими руками.
...В «Чайна стар» – статья, в которой Пустау и Тауло называются русскими шпионами, автор восхищается смелыми действиями адмирала эскадры Стирлинга, одержавшей ряд внушительных побед, уничтожившей все порты неприятеля и прочно занявшей позиции в гаванях им открытой и ставшей теперь дружественной Японии.
Адмирал Стирлинг и коммодор Эллиот действовали умело. Аян, Де-Кастри, Петропавловск-на-Камчатке, фактории на Курилах и Охотск с его адмиралтейством стерты с лица земли.
Коммодор сэр Чарльз Эллиот снова увенчал себя неувядаемой славой. Прибыв в Гонконг, он заявил, что единственный русский железный пароход взорван в Аяне. Некоторым судам противника удалось укрыться в реке Амур. Но, по отзывам моряков, возвратившихся после военных действий, ценность приобретения Россией этой реки представляется весьма сомнительной. Среди мелей устья настигнут был транспорт противника, команда бросила его и зажгла. Удалось догнать и потопить один из его севших на банку баркасов и снять команду, состоявшую из финнов. Некоторые заявили, что с гораздо большей охотой согласны служить королеве Виктории, чем царю.
Лейтенант Артур Стирлинг – капитан парохода флота Ее Величества «Барракута» – командовал операцией.
У северного берега Сахалина лейтенант Артур Стирлинг задержал бременский бриг под фальшивым флагом Штатов и взял в плен 300 русских моряков, шедших на подмогу своим в Сибирь, несмотря на их попытки обмануть наше командование ложными заявлениями, что они – потерпевшие бедствие на море.
Так Россия на Тихом океане больше не существует и остатки неприятельского флота не выйдут из реки Амур.
Пленные матросы противника нашли новые для себя удовольствия и отдых на кораблях эскадры, которой командует адмирал Стирлинг. Они охотно помогают нашим командам, так что во время тяжелых работ на палубах можно слышать традиционное «йоу-хив-хоу» (yo-heave-ho) наших «синих жакетов», звуки которого сливаются с русским «эу-взиа-ли»...
Вечерело, и бухта закрылась поднявшимся туманом.
У сэра Джона сидел мистер Джордин. Подняв свою большую лысую голову, он с интересом выслушивал суждения губернатора – знаменитого писателя и философа.
Мистер Джордин повторил свое мнение:
– Опиум не отрава. При умеренном употреблении это безвредное средство. Более того – опиум полезен. Это лекарство. Я сам курю опиум, как вы видели. По воскресеньям, после обеда, один-два шарика, не более!
Мистер Джордин улыбнулся, подбивая свои щетинистые усы.
– Мне известно благотворное действие такой дозы... Предохранение от эпидемий! Средство от многих недугов, особенно от холеры. Улучшение настроения! Переключение нервной энергии. Отдых от умственного напряжения. Мы даем Китаю средство для пробуждения энергии в народе. Другое дело, что ради выгод сами китайцы превращают опиум в отраву, они выкачивают деньги из массы народа, травят его беспощадно. Но протестовать против торговли опиумом на этом основании было бы так же нелепо, как запрещать виски на родине моих предков – в Шотландии или как запрещать водку, где царь и правительство снискали ее продажей одобрение и преданность народа. Опиум, как и водка, при умеренном употреблении есть признак благосостояния! От опиума производительность рабочего народа увеличивается. Но в Китае не хотят знать об этой спасительной умеренности, она не выгодна!
Боуринг вспомнил о своем сыне Льюине. Сыновьям нет никакого дела до благочестия и человеколюбия родителей. Гуманная деятельность отца признается лишь в той части, где за нее следует оплата и видное положение! «А сама суть благотворительной деятельности, которой отец отдал все силы, может быть, тоже признается, но лишь отвлеченно, теоретически. Как быстро освоился Льюин в Гонконге и как он бурно вошел в здешние коммерческие интересы и обратил на себя внимание при его прекрасном воспитании и внешности!
В Европе и в Англии в статьях о Боуринге-отце замечали не раз, что у этого англичанина не типичный английский характер. Сэр Джон стопроцентный англичанин из старой дворянской семьи, связанной с международной торговлей. Мистер Джордин – потомок шотландцев, кажется, более похож на англичанина.
– Предоставить для пленных блокшив старого корабля, – сказал губернатор. – Чем же кормить? Каждая чашка чая, ложка супа и сухарь должны быть сосчитаны, о них надо написать в Лондон и получить утверждение, только тогда голодный матрос смеет открыть рот. Но они перемрут прежде, чем переписка состоится. Подпустить к пленным благотворительное общество невозможно. Я решаю действовать своими средствами.
Джордин выслушал и заметил:
– Мой совет, как всегда: пусть они сами себя прокормят, они сделают это лучше, чем правительство. Дайте им заняться делом. У командующего эскадрой, как он показывает, нет денег. У него все пенни сосчитаны. Нельзя ограничить невинные доходы капитанов. Адмирал не может отнимать суп и сухари у «синих жакетов». Хотя они сами подавали петиции об этом.
«Наше лицемерие въедается в наш народ», – подумал Боуринг.
Джордин полагал, что права не только «Чайна мэйл», но и «Чайна стар»! Обратил внимание на описание, как поют на палубах: «йоу-хив-хоу» и «эй-взиа-ли!» Это хороший признак: значит, сами пленные на эскадре держались молодцами, никакого противоречия с «Чайна мэйл». Одна газета – как и другая! Их разница во взглядах – это лишь дуализм единства.
– Если действительно, как уверяют американцы, пленные – рабочие: плотники, судостроители, – продолжал гость, – и что среди них есть кузнецы, канатчики, медники, то что же их держать! Им надо пойти на берег и работать по найму! Тогда все прояснится и они оправдают себя. Фирмы охотно разберут, нам будет польза, им – заработок и одежда. Будут сыты по горло.
– Вы полагаете?
– Производительность труда европейцев, особенно при работах, требующих силы и быстроты исполнения, гораздо выше, чем у ослабленных веками недоедания китайцев. О пленных неудобно сделать объявление в газетах. Но и без рекламы разберут быстро.
– Там, вероятно, окажутся бывшие сельскохозяйственные рабочие. Для себя лично я взял бы двух, – сказал Боуринг. – Но сначала их надо отобрать у эскадры.
– Командующий, я уверен, будет держаться за эту даровую рабочую силу.
«Надо передать их в распоряжение сухопутного гарнизона, – полагал губернатор, – и тогда дадим работу на берегу».
– Пока будет переписка и волокита, мне кажется, можно попытаться договориться с адмиралом. Он до сих пор не представил полного списка пленных, уверяя, что возвратились еще не все суда, на которых находятся русские...
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
– Напротив, сэр Джон, надо дать Китаю все, что только возможно, и вооружить его, – заявил Джеймс Стирлинг.
Что за чушь! Как можно дать штуцера и нарезное оружие безграмотным азиатам! Может быть, когда-нибудь.
– Китай наш естественный союзник! – продолжал командующий. – Неудача Наполеона в том, что он не смог проникнуть в глубины России. Действовал с одной стороны. Ах, если бы турки и персы поддержали его! В то же время сам очутился как между двух жерновов. Стояние под Севастополем свидетельствует, что союзники не проникнут в недра империи неприятеля и не заденут ее сердца, хотя падение Севастополя неизбежно! Противника надо ставить между двух жерновов! Провидение указывает нам уравновешивающего союзника. Надо долго готовиться для этого Китаю. Но как к нему подобраться! Как к ним подъехать, как пробудить интерес и стремление к нашим пушкам, хотя бы у будущих поколений?
– Трудней всего преодолеть спесь китайцев, – ответил сэр Джон.
Сэр Джеймс не собирался покидать пост командующего эскадрой в китайских морях. Адмирал надеялся на свои веские консервативные и патриотические доводы, которые упрочивают положение. В Лондоне их знают. Его мнение: помочь Китаю подавить инсургентов, закрыть глаза на кровожадность и коррупцию маньчжурской династии.
– Я рад, что вы пришлете мне список пленных, ваше превосходительство! – сказал губернатор.
– Но я все же не могу их отпустить.
– Они, возможно, вам не нужны?
– Ка-ак? Я им как отец! Они еще никогда не были под такой верной рукой!
Формально командующий эскадрой обязан подчиняться послу и губернатору колонии. Например, Боуринг может приказать адмиралу начать военные действия, но не сделает этого без распоряжения из столицы. Вместе решаются дела об экспедициях против пиратов, о конвоировании транспортов с товарами, об охране торговых путей на Жемчужной, о кораблях, несущих брандвахту на виду Кантона, также все, что касается поддержки военной силой дипломатических действий. В менее значительных делах, где губернатор не станет напрасно терять вес, защищая свои настояния, адмирал уклончив.
– Уверяю вас, что, если вы хоть раз сходите к китайцам в баню, где банщицы моют простонародье среднего достатка, вы переменитесь физически и почувствуете уважение к ним! Я сражался с китайцами! Я топил их суда! Но это не меняет дела... Баня – не сражение. Как и китайская кухня. Как их лучшая в мире прачечная! Я теперь чищу зубы солью пальцами, а не щеткой. Десны мои кровоточили, а теперь крепки, как у парня из деревни. А китайцы-парикмахеры? Они с таким же усердием изучают штуцера и нарезные пушки!
Стирлинг уверял, что англичан, единственных из всех европейцев, китайцы никогда не посадят в низкие бамбуковые клетки. Может быть, остальным европейцам будут рубить головы всем подряд, а европеянок заставят каждую родить по десять китайчат, и рождаемость в Европе будет восстановлена. Пьяные, склочные и ленивые европейские мужья, озабоченные карьерой и престижем, потеряют головы.
Прощались, энергично и почтительно тряся руки, но все же, как полагал сэр Джон, проводив гостя, сэр Джеймс – маньяк. Его трудно вынести. Живой архаизм, пропитанный философией будущего. Один из уникумов великого флота! Примерно двести таких старых адмиралов из числящихся на службе, но не имевших приличных должностей до начала войны! Старики – проклятие империи! Охотно мечтают об уничтожении России, которая тысячу лет держит щит, прикрывая Европу от Азии. И если Европа не с русскими, то Россия уйдет в Азию, они сплотятся с азиатами. Это будет ее гибель и наша тоже. Русским надо дать европейскую поддержку. Сэр Джон патриот, но он не в восторге от Крымской войны, хотя ненавидит петербургскую деспотию и ее чиновничью империю.
Говорят, что храбрый адмирал Майкл Сеймур, который вскоре прибудет в Гонконг, неудобен для метрополии, так как у него не хватает одного глаза. Потерян на войне в морском сражении под Кронштадтом. Но кривые командующие не для столицы... Времена Нельсона минули.
На другой день с лейтенантом получено краткое письмо адмирала Стирлинга и список пленных: офицеров, младших офицеров, тех, что у русских по-немецки называются «унтер-офицер», и всех матросов.
– Кто командует их отрядом? – спросил сэр Джон офицера, доставившего бумаги.
Чиновник, принявший присланные бумаги, стал листать списки.
– Командир всего отряда старший офицер погибшего фрегата «Диана» лейтенант Пушкин, ваше превосходительство, находится на корабле «Винчестер», – ответил лейтенант.
Во время визита Джордин говорил, не упоминая фамилий, что их командир образованный человек и поэт, но больше интереса выказывал Гошкевичу.
Светлое лицо сэра Джона приняло выражение еще большего достоинства.
– Его имя при крещении?
– Александр, сэр, – поспешил с ответом чиновник, смотревший в бумагу.
В открытых глазах губернатора мелькнула тень готовности принять на себя еще одну заботу.
– У них есть еще одно имя – по отцу. Собственное имя, полученное при крещении, и имя по отцу упоминаются при сложном вежливом обращении в обществе.
Оно также, видимо, упоминается в официальных документах офицера. Посмотрите, упомянуто ли в списках?
– Я вижу, понял, сэр.
– Это второе имя по отцу похоже на польскую фамилию. Если отец Петр, то сын – Петрович. Это почти то же, что Мицкевич, Адамович. Второе имя по отцу отвечает на вопрос «чей?». По-русски «отчество».
– Сергеевич, ваше превосходительство, – сказал чиновник.
На миг лицо губернатора выразило смятение. Впрочем, того, о чем он подумал, не могло быть.
– Сколько же ему лет?
– В документе не сказано. На «Винчестере» я видел этого офицера, – сказал лейтенант. – Я уверен, что ему не менее пятидесяти пяти лет.
В пятьдесят пять лет лейтенант? В нашем флоте бывают пятидесятилетние лейтенанты на старых линейных кораблях, у старых полоумных адмиралов, где служат облысевшие матросы в очках.
– Говорят, что до войны он занимался литературой. Это его профессия, – продолжал молодой лейтенант. – Он якобы написал на древнем языке поэму о царе Георге.
– Он поэт?
– Да, сэр. Я знаю. Сказали офицеры «Винчестера» и также офицеры «Монарха», что заслужил их расположение. С большим уважением они относились к Пушкину. По-английски он не говорит.
– Вы ошибаетесь, у него поэма не о короле Георге, а о Петре Великом, – несколько смущенно сказал губернатор.
– Может быть, ваше превосходительство. Мне было сказано о Георге.
«Так вот почему моя дочь Энн настойчиво уверяла меня в величии Пушкина! Невероятно! Пушкин здесь, в Гонконге, он командир экипажа, взятого в плен! Однако как деликатна моя Энн! Да, были сведения, что Путятин составил свое посольство из весьма образованных офицеров. Я никогда не слышал, чтобы Пушкин служил во флоте. А-а! Кажется... Впрочем... Ведь он был смолоду дипломатический чиновник по министерству Нессельроде. Мне помнится сообщение, что он убит...»
Боуринг поблагодарил офицера и после его ухода ненадолго задержал чиновника. Оставшись один, просмотрел списки пленных и отложил в сторону. Опустил руки и задумался, согнувшись в кресле и опираясь локтями на колени.
«Неужели еще один промах? Еще пробел, неточность в наших сведениях? До сих пор у нас считали, что Пушкин погиб двадцать лет назад. Уж кто-кто, а я, писатель, должен, казалось бы, знать! Всеобщее мнение – русские пылки и человечны, деспотия кормит их нелепыми выдумками и они горячо верят! От их имени баснями наводняют Европу.
Вот каков Пушкин! Пошел в Японию! Попал в плен! Пушкин в плену у англичан. Это Стирлинг, все он! Как неудобно. Пушкин в Гонконге, а я его не переводил. Правда, он не нравился мне. За восхваление побед! Я этого не люблю! Он совершенно не понимал, куда следует направить свое развитие, устремить гениальность к какой цели. Он делал все не то, что Запад ждал от него, Я был так уверен в своей правоте, что решил дать ему понять все это и демонстративно отвернулся и обратился к Мицкевичу и Петефи.
В Петербурге всегда стряпают ложные сведения. «Утки», как их там называют. Эти утки летают по всему свету! Сообщение о смерти Пушкина могло быть рассчитанным обманом. Не раз оттуда получались фальсифицированные сообщения.
Но неужели за эти годы, когда я занимался Африкой, Индией и Азией, Пушкин стал известным поэтом и борцом за свободу? Переменил убеждения! И приехал из Японии в Гонконг. Совсем плохо. Это уж я попадаю в плен, а не он ко мне. Неудобно и неприлично, однако не будет обнаружено никогда. Можно допустить его, я охотно встречусь. Нельзя не смотреть ему в глаза. Но какой обман. Всегда у них обман!
Неудобно пригласить к себе пленного офицера, который в распоряжении командующего, не объясняя адмиралу причину. Я уже представляю себе, как все это сделать, не обращая внимания общества».
Особенно срочных и важных дел не оставалось. Сэра Джона ничто не держало. Он приказал приготовить свою яхту к плаванию.
Боуринг поехал верхом на пристань. Через час он был в открытом море. Стоило самому взяться обеими руками за талреп и под скрип блоков потянуть снасть вместе с матросом, как возвращалось ощущение природной стойкости и мужественности. Поднятый парус вздулся, схватив ветер, вырвавшийся из-за Малого Пиратского острова. Яхта пошла, подкидываемая руками «шкиперских дочерей», как называют в народе белопенные волны.
«Да, Джордин прав, китайцы могли бы курить опиум, соблюдая умеренность! Однако, если бы они стали благоразумны и, подавляя свою страстность, не предавались бы пороку, то... На их умеренности невозможно было бы построить Гонконг, открыть в нем ученые и филантропические общества. Какие образцовые джентльмены появляются за последнее время из среды самих китайцев! Мистер Ван, владея английским, преподает китайскую философию и ведет занятия по китайскому языку с англиканским епископом».
Пронеслись через полосу пены, отчетливо очертившей пределы пресных вод Жемчужной. По правому борту, на траверзе, за горизонтом устье великой Кантонской реки. Ее воды идут тихо и уверенно, даже здесь, в море, гася его волны, вдали от своих то гористых, то низких прибрежий, где рисовые поля, огороды и прекрасные крестьянские сады у деревень, похожих на низкие скирды старой соломы.
Река Жемчужная, впадая в океан, оставляет слева от фарватера группы скал-островов, на самом большом построен Гонконг. На других еще до сих пор в мелководных бухточках есть убежища пиратов. Скалы, скалы в воде. В море между этих каменных круч местами ветра не хватает, чтобы заполнить матросскую шляпу. Но вдруг налетает шквал и подымает речную воду среди моря, выдувая из гребней пену. Вихри бьющихся волн при горячем ветре. Яхту кренит. Восточный ветер погнал ее в устье Жемчужной, вот-вот завидятся берега и плоские илистые островки на баре. Такому ветру почти невозможно сопротивляться. Прогулка частично увеселительного свойства, на самом деле успокоительная.
«Нет, не может быть, чтобы Пушкин был жив!»
А горы и острова Китая уже видны простым глазом. Высокие деревянные журавли на крестьянских полях. Соломенные крыши – как копны. Не хотелось бы губернатору Гонконга просить убежища на мандаринских военных джонках. Или выбрасываться на китайский берег. «Впрочем, в устье Жемчужной стоят, охраняя торговлю, наши паровые военные суда».
Командир яхты, лейтенант, молчаливо насуплен, как человек, знающий дело. Паруса упали. Вышли на сильное течение реки. Яхту подхватывает и несет, а горячий шквал ослабевает, затем налетает с другой стороны, с силой хлопая в волны, но тут же уходит прочь.
Боуринг совершенно не желал бы встретить китайских мандаринов. «Надо избегать всяких разговоров с ними! А тем более их любезностей. Они глумятся, не допускают в свою страну, выкачивают товары, извлекают из нашей деятельности выгоды, а нас грабят и унижают. Позор, который мы скрываем от всего мира. Нельзя обнаруживать слабости».
А ветер опять крепчает, яхту гонит теперь прочь от Кантона. Приезжие оттуда усиленно говорят, что к городу гонят восемьдесят тысяч пленных тайпинов, взятых в последних боях. Предстоит рубка восьмидесяти тысяч голов – может быть, уже началось.
Массы тайпинов сидят на улицах и за городом и ждут казни. Умирают от голода и болезней... Кровь польется по сточным канавам...
Появились католические соборы португальского Макао. Кажется, что стоят на воде. Миниатюрный полуостров отходит в море от материкового берега близ устья реки. Китайцы еще в древности перекопали перешеек, полагая, что навеки отгородились от португальцев, превратив их полуостров в остров, и отдалили от Китая этот клочок земли в полторы квадратных мили. На нем построен маленький замечательный город, осколок пиренейской старины, переброшенный в Азию; крепость и форт, дворцы, склады, магазины. Город с домами богатых португальцев, окружающих своими белокаменными этажами внутренние садики – дворы, тенистые патио[48]. Каждый камень напоминает о временах португальского владычества на морях и о католицизме. Китайцы в Макао, как и в Гонконге, живут в трущобах, держат стариков в деревянных клетках, привязанных к набитым жильцами лачугам. Их и тут много. Они же в плавучих кварталах: покрытых лодках. И там голод, покойники выбрасываются в море, продажа детей... Макао – предок Гонконга, его предтеча. Когда-то англичане, не имея в Китае своего пристанища, начинали торговать с Небесной Империей через Макао.
В Макао и теперь молятся, как в средние века. Много обращенных богобоязненных китайцев, и есть китайцы-священники. Соборы и здания внутри и снаружи украшены статуями святых и великих. Богатые жители Макао коллекционируют картины для частных собраний и для своего прекрасного музея. Каждый патио в частном доме – с великолепным фонтаном, мраморными скамейками и ваяниями.
Традиционная холодность протестанта и британца к старым соперникам с Пиренейского полуострова забывается, когда после делового Гонконга видишь плоды рук верующих мастеров. Впрочем, как и в Гонконге, здесь население занято торговлей опиумом, стесненной лишь размахом англичан из новой колонии.
Мы продаем опиум под речи о демократии, они – под чтение папских булл, под колокольный звон и под проповеди... Но португальцев становится в Макао все меньше, а верующих католиков-китайцев все больше. Может быть, и Гонконг со временем станет Англией без англичан. Ведь говорят же в Китае: «Сто тысяч варваров являются врагами, пока они сидят верхами. Как только они слезут с коней – это сто тысяч новых граждан!»
Поставили паруса, пошли против ветра.
Боуринг и его спутники, уставшие, с сожженными ветром и солнцем лицами, ступили на древние камни Макао.
На пристани расхаживают юные потомки основателей крепости в безукоризненных современных сюртуках, шляпах, с тоненькими усиками и бородками. Солидные гранды и негоцианты с дамами проезжают в экипажах.
Испанские дома. Романская, мавританская, готическая архитектура. Губернатору Макао с адъютантом в штатском послана визитная карточка. Посещение частного характера. Но гостю немедленно подана карета, запряженная четверкой каштановых лошадей. Ах, тройка гнедых! – так назвал эту масть Карамзин, когда скакали с ним по Петербургу.
Конный офицер от португальского губернатора доставил приглашение на обед.
Сэр Джон проехал узкими улицами, где медленно, но звонко цокала копытами запряженная парами, цугом четверка. Через дворик, окруженный балконами, он прошел в глубь здания и по мраморной лестнице – в картинную галерею.
Деловой Гонконг не завел еще ничего подобного! Мадонны... Портреты старых и молодых португальцев в кружевных рукавах и жабо, дамы в бархате.
Но что это? Копии Тернера?
...Горящий военный корабль, битва соединенных флотов против турок и египтян, гибнущие суда, опять пожары на море, стрельба, победы над врагом во всех видах на всех морях!
«Наш Чарльз Эллиот! С большим умением изобразил бомбардировку Кантона винтовыми судами. Чувствуется артиллерист. Но нельзя выставлять в метрополии. Во-первых, подражание Тернеру...»
Возвратившись в Гонконг, сэр Джон засел в своей библиотеке.
«Поэт Пушкин убит в 1837 году. Как я мог забыть!
Не написал ли я что-нибудь о его гибели в свое время? В Гонконг прибыл не тот Пушкин. Может быть, один из его родственников, но, конечно, не кузен».
Сэр Джон весь вечер читал Пушкина по-русски. Иногда он брал справочники и тома энциклопедии. Все статьи о Пушкине кратки. Убит в 37 году!
Ранним утром вернулся к книге о Сиаме, а потом в назначенный час явился начальник полиции.
В Гонконге все преступники – китайцы; кражи, убийства, содержание самых отвратительных притонов, худших, чем в Индии и Малайе, продажа украденных детей в публичные дома, грабежи, шантаж, вымогательства, игорные дома, игра процветают повсюду. По отзывам начальника полиции, лучшие детективы не только британцы, но и китайцы. Некоторые злачные места посещаются в дозволенные часы нашими томми и «синими жакетами». Как быть?
Придется запрашивать командира полка, стоящего в городе. И снова объясняться с сэром Джеймсом. Что тут можно сделать? Китайцу надоедает ежедневное изнурение, он курит опиум и пытается сразу выиграть богатство, ставя на карту свободу, даже жизнь...
Среди состоятельных китайцев продолжаются оживленные споры, почему две самых сильных державы не могут взять Севастополь и почему флот союзников потерпел поражение в прошлом году на Камчатке. Якобы приходят известия из Пекина, что там довольны Муравьевым, что он разбил англичан, чего еще никогда и никому не удавалось. В Пекине готовы пойти на уступки и на соглашение с северным соседом, чтобы с его помощью навеки обезопасить северные границы и укрепить тыл Срединного государства. Часть здешнего общества толкует, что нашлась наконец страна, которая нанесла поражение врагам Китая. Другие возражают. Мистер Вунг смеется. Мистер Ван горячо защищает Англию.
Да, умы у китайцев горячие, склонные к спорам. Есть благородные и гордые молодые люди, готовые на самопожертвование. Некоторые читают по-английски, знают из газет о прениях в парламенте.
Претензии и высокомерие китайских мандаринов известны. Всемирное господство Срединной Империи неоспоримо! Китай – центр вселенной. Народу внушается, что все государства всего мира подчинены Китаю и зависят от него. Все короли лишь данники богдыхана, они в вассальной зависимости от Сына Неба.
Китайцы верят. Другие делают вид, что верят. Они слишком умны и практичны, чтобы не угадывать истин. Кроме того, инородческая династия уязвляет народную гордость. Нищета и бесправие вызвали небывалое восстание народа, которое бушует по всей стране. А династия стоит еще крепко, и Китай все еще незыблем, и мандарины твердят, что Сын Неба останется владыкой мира и что даже королева Англии от него зависима. Это они! А мы? Сэр Джеймс спросил про школу Энн. Адмирал надеется на миссионеров!
Чему наши миссионеры учат! И здесь, и во всем мире! Африка, Америка и вся Азия принадлежат Англии! Английская Калькутта – главный город Азии. Это зазубривают в школах будущие пасторы: негры, индийцы, полинезийцы! Масса проповедников трудится во всем мире! Наша спесь и китайская спесь. Коса нашла на камень! И дочь Энн не может изменить учебников...
Теперь являются американские миссионеры и тоже с библией. У них свои понятия о всемогуществе. Они вредят англичанам на каждом шагу и высмеивают их претензии. Там, где завелись американцы, приходится быть осторожным.
Сэр Джеймс легок на помине. Прислал бумаги. Копии распоряжений по флоту.
– Ваше превосходительство, – поясняет чиновник суть дела, – адмирал... сэр Джеймс... отдал приказ остающимся у него на судах пленным... Адмиралу захотелось удержать у себя часть рабочей силы! Решил выдавать пленным полную порцию. Табак и мыло. Деньги на мелкие расходы.
Почтительный чиновник продолжал: его превосходительство адмирал Стирлинг пригласил к себе русских офицеров и объявил, что всем им будет выплачиваться ежемесячно по 10 фунтов. А тем, кто «перед мачтами», выдается единовременное пособие.
– Нашлись деньги! – почти неприлично расхохотался вечером этого дня Джордин. У будущего свата он обычно сдержан, но тут не утерпел.
«Адмиралы – воры! Как и командиры судов! Капитаны крадут! Адмиралы своего не упустят! Вот что хотел сказать мистер Джордин. Ведь еще Бентам говорил: «Трусость, прикрытая маской благоразумия, может вкорениться в национальный характер!»
А наши картины, восхваляющие подвиги военных моряков? Эллиот провинциален. А Тернер? Наши победы! Трафальгар! На Средиземном море! А наша литература, поэзия... А наши книги и журналы; все о победах. О парадах!»
Мистер Джордин заехал с приглашением на торжественный обед по случаю открытия новой трансокеанской пароходной линии: Шанхай – Гонконг – Сан-Франциско. Via[49] все открытые порты Китая. Пароходство Джордина обзавелось двумя новыми отличными пароходами, которые только прибыли и вступают в строй. Крики восторга, энтузиазм, речи будут на обеде... Корзины прекрасных китайских цветов... И цветов, выращенных из семян, доставленных из Нагасаки! Из Индии! Из Сингапура!
Пленные офицеры приглашены на обед офицерами нашего доблестного пехотного полка в новое здание дворца – казармы. Им будет предложено там обедать ежедневно, столоваться на правах уважаемых гостей и морских коллег...
Да, нашлись, нашлись казенные деньги! Адмиралу пришлось признаться, стало жаль... Не хочет совсем расставаться с даровой силой. Ответственность перед общественным мнением!
Боуринг не мог пригласить к себе Пушкина, но решил встретиться с ним как бы случайно. «Пушкин может заехать вместе с Сибирцевым за дочерью, и я задержу их».
– Зайти к тебе как бы случайно с мистером Сибирцевым...
Дочь сказала свое мнение. Она напомнила о Шиллинге.
– Барон Шиллинг? – переспросил сэр Джон.
– Да, папа! – ответила Энн. – Он говорит грамматически правильно и владеет большим запасом слов.
– Я не приглашаю. Влияние немцев на русскую культуру и так велико. Это задевает достоинство русских. Обойдемся без него, хотя ты говоришь, что Пушкин не говорит по-английски? Но говорит Сибирцев?
– Да, он говорит, но как ребенок! – вспыхнув, с нежностью сказала Энн. – Они все говорят по-французски.
Сэр Джон полагал, что англичане и русские должны говорить без переводчиков и тогда только что-нибудь получиться. Война начата, как и обычно, посредниками. Русский крестьянин, умирая в бою, имеет самое смутное представление о ее целях.
«Я был молодым, очень молодым человеком. С каким восторгом я обратился к государю Александру. Но он сам был бессилен, он так смешался, прочитав мое обращение...»
По просьбе сэра Джона, но не упоминая о нем, английские молодые люди, товарищи сына губернатора, дали понять Сибирцеву, чтобы взял с собой Пушкина на party к Энн.
Хрустальные колпачки над свечами охраняли пламя от ветра из открытых в ночь окон. Голубое серебро на скатерти. Легкие вина. Вода со льдом. Аршад со льдом, или ориндж, как называют по-английски. Множество подставок, салфеток...
Боуринг рассказал, что занят книгой о Сиаме. Заговорил про страну, рассказал про короля и о народе, помянул об удивительной красоте храмов, а потом сказал, что он изучил, как составлялись проекты этих торжественных сооружений и как и из чего они строились, какие материалы шли на фундамент, чем скреплялись его части и чем камни стен, как накладывалась лепка и резьба, какими инструментами работали камнерезы и художники, из каких деревьев, из коры или листьев добывались красящие вещества, как вытесывались глыбы гранита, как формовался лекальный кирпич.
Пушкин готов был втайне признаться, что этот человек начинает очаровывать его, забываешь разницу положений, обязательность вражды, войну...
Александр Сергеевич очень осторожен сегодня; как человек, не любивший англичан, он тщательно старался это скрыть, был очень сдержан и корректен и произвел прекрасное впечатление на сэра Джона. Еще дядя его, известный Мусин-Пушкин, говорил когда-то, что бывают натуры, для которых самые приятные собеседования с теми, кого они не любят.
Боуринг увидел, как приличен и воспитан старший товарищ Сибирцева, как держится скромно. Принимая все это за чистую монету, сэр Джон стал радушней и откровенней.
Переменили скатерти, переменилась и посуда. И опять дали что-то легкое, свежее, вкусное и еще фрукты.
Вечер затягивался. Пэр и вельможа не выказывали ни высокомерия, ни чопорности.
Боуринг заговорил про Петербург. Помянул дружбу с Державиным, Жуковским, Крыловым, особенно с Карамзиным... Сэр Джон говорил про них так же основательно и подробно, как о сиамских храмах, изучал, видно, и не на шутку интересовался. Александр Сергеевич и Алексей Николаевич готовы были рот раскрыть от удивления, кое-что слыхали о своих собственных великих писателях впервые. Много нового, верного, все подмечено. Что мы знаем про классиков? Они для нас как иконы. А тут оживали в рассказах иностранца. Казалось, прекрасный оратор читал лекцию о их родной России.
Энн слушала с холодной гордостью за своего отца.
Боуринг заговорил по-русски:
Не кукуй, моя кукушечка...
Мое сердце не тревожь...
– Эта народная песня переведена мной!
Сэр Джон прочитал ее на английском. Потом декламировал Батюшкова, Языкова и Вяземского на память по-русски.
– Жуковский и Карамзин! Я говорил с ними только по-русски. Мы расстались друзьями! – Нельзя сказать, но ни тайная полиция, ни патриотические чиновники Петербурга ни тогда, ни теперь не объявляли Жуковского, Державина, Батюшкова, Карамзина – близких знакомцев молодого Боуринга – английскими шпионами, предателями родины! Тогда еще до этого не додумались!
Сэр Джон отдыхал от китайских дел, от книги о Сиаме, от неприятных известий о войне в Крыму. Воспоминания о Петербурге были воспоминаниями о молодости...
Энн наблюдала за отцом. Смолоду он был красив светлой английской красотой. Он и сейчас еще хорош. Седина и годы не угасили его живости, а лишь ярче и четче стало его сильное лицо. Начитанный, влюбленный в науку и твердо следующий ее указаниям во всем, обладающий ясным умом и обширными познаниями, изучивший полтора десятка языков, когда-то любимый красивой женой, отец красивых детей. Профилем он напоминает чеканку на почетных медалях.
С годами стал суше, молитва и науки по-прежнему владели им. Он мог быть требователен, а иногда резок. И как миссионер полагал, что все народы заслуживают заботы, милосердия, участия. Не холодного участия, а искреннего участия сердца. Во имя этих убеждений сэр Джон мог быть строг и беспощаден.
Отец ученый, но с пылкостью и способностью увлекаться, какие свойственны художественным талантам, поэтому, когда он заканчивал работу над темой, терял к ней интерес и даже забывал то, во что когда-то так глубоко погружался.
Но он не забывал совсем ничего и никогда. И вот вдруг из каких-то далеких кладовых он подымал драгоценные сокровища мыслей и наблюдений.
Боуринг знал, что понимание с русскими возможно. Поэтому он просил Энн не приглашать барона Шиллинга, хотя тот, может быть, в самом деле правильнее всех знал язык.
Без умелых и дисциплинированных немцев строгое русское правительство как без рук. Бароны приобрели привилегию представлять империю в Европе. В Петербурге они горячие патриоты, принимают иностранцев и, обучая их восторгаться всем русским, подают им новую страну как бы из первых рук. Боуринг, тогда еще молодой человек, прекрасно понял это именно потому, что был молод. Надежды царя и правительства на ландскнехтов – признак деспотии, от которой сами русские терпят, хотя все делается их именем.
...Александр Сергеевич ответил, что в роду Мусиных-Пушкиных один из его родственников знаменит тем, что нашел древний список поэмы неизвестного автора «Слово о полку Игореве» и перевел ее с древне-славянского.
«Игоря, а не Георга!»
Все становилось ясно.
«...С каким вдохновением в детстве учили:
Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки...
Боурингу это, наверно, и непонятно, и далеко, чуждо, враждебно; он там, где «Сыны любимые победы, сквозь огнь окопов рвутся шведы»... Да он не в России живет, с него нет и спроса... Никто же не глумится из нас над Нельсоновой колонной! Но почему же мне стыдиться строк, любимых всю жизнь:
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!..»
Пушкин и сейчас готов выхватить шпагу, командовать, кидаться на штурм, на абордаж... Только предатели России, окруженной врагами, могут стараться забыть эти стихи.
– Скажите, господин Пушкин, что бы вы посоветовали мне из произведений русского поэта Пушкина перевести на английский? – спросил сэр Джон.
Невозможно было более польстить Александру Сергеевичу. Явно Боуринг считал его и родственником, и знатоком великого поэта. Мусин-Пушкин сам уверен в своих родственных связях с поэтом Александром Сергеевичем.
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...
Под конец вечера поговорили про жизнь в Японии. Сибирцев, видавший на верховой прогулке собственную ферму сэра Джона, помянул, что для адмирала Путятина и офицеров в Японии наши матросы раздоили несколько коров, ухаживали за ними и даже научили японцев пить молоко.
Боуринг добродушно расхохотался.
Потом он как бы опять превратился в делового человека и губернатора и сказал, что охотно взял бы на работу двух «молочных людей».
Пушкин подтвердил, что согласен отпустить матросов, работа сохранит им силы. Сказал, что несколько человек уже работают в механическом заведении у Купера на доках.
Прощаясь, Энн обхватила пальцами и пожала руку Алексея.
– Почему он только китайцев так не любит? – задумчиво спросил Пушкин, идя домой.
– Как вы заметили?
Пушкин не ответил. Он совсем ушел в себя.
«А вам-то что! – хотел бы сказать Алеша. – Какое дело, кто кого любит или не любит. Зачем мы нос суем куда не надо... Без нас разберутся: не рой другому яму!»
Но ничего не сказали друг другу и пришли домой дружно, по-приятельски.
В гостиничном номере никого не было. Шиллинг сегодня на «Монархе» с матросами. Гошкевич опять у Джордина.
Осип Антонович появился поздно, расстроенный чем-то. Слышно было, что его привезли, экипаж подъезжал.
Джордин уламывает перейти после войны на службу. Нужен ему человек, побывавший в Пекине, обещает столько же, как у нас Путятин получает.
А матросов сманивают в Австралию... А сами мы знаем одно: приказ свыше! Крутись по ветру!
Джордин долго беседовал с Осипом Антоновичем.
Сидели в библиотеке, заложив ноги на низкий столик по-американски. Дом у Джордина как дворец венецианского дожа: чего только нет, каких диковин из Китая, Сиама, Индии! Статуи, вазы, ковры, вышивки жемчугом, цветы – видно, такая роскошь свойственна старым колониальным семьям. При этом, по китайскому выражению, и у него в доме «пахнет книгами»....
ВАЛЛО-ВАЛЛО ИЛИ ЮЛИ-ЮЛИ
– Bad work[50], – сказал мастер кузнецу Васильеву, который подолгу отдыхал.
– No bad work! – заносчиво ответил мастеровой, невольно подражая «синим жакетам». – Bad food![51] – горячо добавил он, вскидывая голову, как на митинге.
– Strike![52] – заявил тяжело дышавший молотобоец Мартыньш, усаживаясь на скамью рядом с товарищем, и поднял кулак над головой.
– Yes, – примирительно сказал сухощавый британец и пошел своей дорогой. Теперь ему ясно, почему не работают. Безобразие, если ленятся или не могут справиться с работой. Но забастовка – другое дело! А матросы погибшей «Дианы» на это имеют право, опытные кораблестроители! Всем известно, что построили первый в Японии корабль английского типа, хотя в газетах об этом не пишется. Забастовка – признак цивилизации, нашего собственного влияния, не просто лодырничества!
– Успокоился, понимает, сволочь, что нашу работу нельзя сравнить с китайской! – молвил вслед мастеру Маточкин.
– Ты хорошо ему сказал страйк! – подтвердил Васильев.
Подошел Сибирцев. Каждое утро он приводил матросов на док.
– Китайцев ослабили опиумом, – продолжал кузнец.
– Да, водка не ослабит, – согласился Мартыньш.
– Водка? – спросил Алексей, услышавший отрывок разговора.
– Какая водка! – недовольно отвечал Мартыньш.
– Ноу даже сип виски, Алексей Николаевич! – сказал Собакин.
– Да, ни глотка, – подтвердил Васильев. – Это они только обещают дать порцию. Сволочи!
– Еретики! Англикане! – зло заметил Лиепа.
– Все рано протестанты! – сказал Маслов, желавший избегать всякой розни между моряками.
Сибирцев вспомнил, что в какой-то матросской шуточной песне про католиков и пресвитерианцев поется, что у них нет настоящего «Bishop to show the way», то есть англиканского епископа, указывающего верный путь.
Сибирцев ничего не сказал, слегка поклонился и ушел.
«А гонконгский bishop – епископ, представляющий, кажется, Высокую Церковь, – живет, утопая в роскоши, во дворце покрасивей, чем в парке на скалах у Джордина, в то время как, кажется, труженики Низкой Церкви рискуют жизнью, живя в Китае в нищете. В общем-то, не мое дело, духовными не занимаюсь».
– Серега Грамотеев! Иван Степанов! – вызвал на корабле на вечерней поверке Маслов. – Завтра пойдете со мной на доки. Они еще людей требуют.
– Бастовать?
– Нет, уговорились пока. Я тебе дам – бастовать!
– Хорошая у них кузница? – спросил Грамотеев у Васильева.
– Увидишь сам.
Утром казенную порцию не увеличили, все пошли на работу полуголодные. А ждали, что утром дадут обещанные Стирлингом полфунта на брата, но не дали.
Алексею стыдно в душе за себя и за своих, что не могут показать работу в лучшем виде. Сам все время сыт, но для очищения совести пытался голодать, чтобы почувствовать, каково людям, да и не наесть тут себе морду на чужих харчах. Вчера офицерам выдали по десять фунтов, а матросам велено подождать. Обещано – сегодня дадут обязательно.
– Я им сказал: что же ваша королева скупится? – говорил Васильев.
– Помнишь, как старик Фофанов у Букингемского дворца сказал шотландскому гвардейцу, мол, что же тебе королева на штаны денег пожалела?
Матросы засмеялись.
– Вы им не поминайте про королеву, – строго сказал Сибирцев. Сам он тоже получил десять фунтов стерлингов со щедрой руки Стирлинга.
У китайцев на базаре хорошая еда и стоит гроши. А шли как раз по базару, точнее через базарчик, который раскинулся перед доками мистера Купера-младшего. Рабочие могут перехватить тут в любое время.
– Эй, джангуй, – обратился Грамотеев к китайцу, открывавшему мануфактурную лавку.
Торгаш поднял широкий дощатый ставень и подпер его деревянной меркой, раза в полтора побольше нашего аршина.
– Сольти ё?
Матросы расхохотались, а джангуй вспыхнул от ярости, стал плеваться и кричать.
Алексею опять подумалось, что народ наш выживает за счет своих наклонностей к юмористике. «Сольти» – это соль. «Ё» – это как будто по-китайски «надо».
– Ты что у него спросил?
– Да так... – уклончиво ответил матрос.
– Они работают не на валло-валло, а на юли-юли, – говорили сзади про каких-то лодочниц.
Сибирцев остановился у обжорки, где развешено и разложено мясо, и, посоветовавшись с Масловым, указал хозяину на свежее свиное стегно.
– Чифан! Кушать, – пояснил Сибирцев, показывая себе на рот, но никто из китайцев с места не тронулся.
– Доши чена?[53] – спросил Маслов на жаргоне, показывая рукой, что берет.
– It is very dear for you[54], – нахально ответил старший торговец.
Уже все знали, что у пленных были деньги, но больше не осталось.
Сибирцев, примерно зная цены на хорошее мясо, вынул два больших мексиканских доллара, оба с клеймами банкирской фирмы мистера Вунга, кинул их на колоду и велел отвязать свиное стегно и выбрал кусок говядины.
– О-е-ха! – китаец сразу засуетился. – Пожалуйста, пожалуйста! – вмиг меняясь, весело сказал он и снял куски.
Тут же, на открытом воздухе, пошла и варка и парка.
Китаец спросил, что готовить из свинины и что из говядины. Разрубил мясо, двое китайчат живо измололи его в большой мясорубке, раскатали уже готовое тесто из отличной белой крупчатки. Молодой китаец – видимо, старший сын хозяина, повар – изрезал говядину на куски. Китайцы живо разложили начинку с луком и завернули огромные пельмени, величиной с пирожок. Сам хозяин стал бережно укладывать их на деревянную решетку на горячий пар над котлом. Все прикрыли деревянным колпаком и полотенцем. Даже самовар есть у этого лавочника! А китайский самовар – роскошь богатых домов.
Молодой повар заварил в самоваре тончайшие ломти говядины, как и попросил Алексей. Он впервые видел приготовление этого роскошного кушанья, когда был в конторе у мистера Вунга.
Матросы помогали хозяевам: резали лук, катали тесто. Народу много, и работы много. Грамотеев готовил паровые пампушки. Мартыньш крошил курицу. Где-то уже побывали наши матросики и чему-то научились. Не у тех ли лодочниц с валло-валло и юли-юли?
Целая гора пирожков появилась перед рассевшимися на циновках. Ложка у матроса всегда с собой за голенищем сапога. Поначалу получили по чашке цаху – супа, или селянки-скороварки. На ложку попадался и свиной жир, и кусок мяса или курицы. Но это не пропастина, сами выбирали продукты.
Китайцы догадывались, что времени терять нельзя, матросы спешат; Купер – белый дьявол, опоздать опасно.
Каждый едок зажал в кулаке по пучку зеленого лука. Запили зеленым чаем, поблагодарили хозяина.
Перекрестились. Надели фуражки и пошагали к Куперу.
– Английска адмирала один фунт стерлинг, – пошутил, прощаясь, китаец-хозяин, – ваша приятель, лейтенанта, один шиллинг.
Китайцы, как заметно, знали всех офицеров. Они Николая Шиллинга недолюбливали. Впрочем, барон не давал спуска никому, даже перед Стирлингом и Эллиотом не ударил лицом в грязь, поддерживая престиж России.
КУЗНЕЦЫ И МОЛОТОБОЙЦЫ
На прошлой неделе, когда речь зашла о посылке первой партии пленных матросов на работу на доки, Пушкин велел Алексею Николаевичу съездить к Куперу и договориться обо всем.
На вопрос об условиях и оплате Купер ответил, что еще рано решать, надо посмотреть, что сумеют делать и как работают. Тогда известно станет, кого и куда определять и сколько кому платить.
Ничего не скажешь! Люди дела! Нельзя и заикаться, мол, извольте сначала накормить.
Не будешь же на доках жаловаться хозяину или мастеру, что их же адмирал морит наших людей голодом. И что с утра они щелкают зубами как волки. Ведь все согласно закону. Тяжелы колеса казенной бюрократической машины. Горе тому, кто под них попадет, да еще на чужбине, где сердца еще черствей наших и никого не разжалобишь. Да, он прав! Покажи, как работаешь!
Придя под навес, где протянулась череда горнов и наковален, матросы, как всегда перед работой, снимали верхние рубашки, аккуратно укладывали их в отделения на полке. Надевали на себя старую рабочую одежду из почерневшей парусины.
Мастер за столом в конторке передал унтер-офицерам чертежи и размеры поковок. Алексей Николаевич переводил и пояснял. На тачке китаец подвозил чушки железа. Горны запылали, задышали. Другой китаец крутил поддувальное колесо. Струи воздуха ударили, раздувая пламя. Понемногу краснели железные слитки. Кузнецы и молотобойцы надели фартуки и встали к наковальням. Васильев захватил горячий слиток огромными щипцами и кинул на круглый стальной стан. Ударили молоты. Васильеву сегодня надо отковать части руля. На соседнем горне Мартыньш кует скобы для крепки деревянного судна. Куются звенья пароходной цепи. Еще заказана обшивка для форштевня деревянного судна, клепки разных размеров для железного парохода, гвозди, штыри; работы много. И нельзя сказать, что работа скучная. После того как у входа на доки поели у китайца – не пожалел Сибирцев и расплатился из своих десяти фунтов за еду, чтобы не ныть, – работать можно, сегодня покажем.
Васильеву начинает тут нравиться. Под соседним навесом китайцы формуют землю. Сибирцев сказал, будет отливаться вал для парохода. Будто он слыхал, что валы для винтовых железных судов получаются из Англии, но и тут их отливают и обрабатывают. В литейной металл варился в печке вроде нашей пудлинговой. Мастер в черных очках подходил к заслонке и заглядывал. Дальше молотами и кувалдами бьют здоровенные полуголые китайцы, «глухари» – как у нас называют клепальщиков железных судов. Оттуда идет сплошной гул и грохот – такой, что глохнешь.
Пришел высокий инженер в усах, постоял у горна, доброжелательно заметил Сибирцеву:
– Good work![55]
– Китайцы, за немногими исключениями, слабы для кузнечной работы, делают аккуратно, но медленно, – пояснил мастер.
Матросы сильно, удало били вперебой малыми и большими молотами. Мехи дышали и свистели, уголь разгорался все сильнее, тела обливались потом, рубахи затекали и чернели. В промежутки между поковками рабочие отдыхали, старались отдышаться, пили воду из кадушки. Знали, что вода здесь дорогая, ее не хватает. Китайцы на плечах принесли хорошую, ключевую или колодезную, в кадке на двух шестах.
– А ну, братцы... кузнецкую!
Эх, ва-а куу... –
запел Маточкин.
Ва ку-уз-нице,
Эх, ва-а ку,
Ва ку-уз-нице,
Эх, ва кузнице молодые кузнецы...
Пошла работа! Как паровоз поехал!
– Работаем не для себя, Алексей Николаевич, – сказал Васильев, когда шли с доков.
– Отец меня учил, на кого бы ты ни работал, должен работать хорошо, – сказал Мартыньш.
Сибирцев в парусине, как матрос, но в погонах и белой фуражке с козырьком. Офицер виден по выправке, по легкому шагу, заметно, что тяжелый груз не носит годами. Впрочем, и матросы сегодня легки на ногу и в выправке не откажешь, все подобраны и выучены в гвардейском экипаже.
Теплынь, хорошо тут, сейчас все бросятся купаться.
На кораблях собрали пленных и зачитали списки тех, кто переводится на берег в распоряжение властей колонии и кто остается на эскадре. Всего на берег шло двести человек. Объявлено, что жить будут в старом блокшиве. Матросы становились в очередь, получали по спискам деньги у клерка.
– Господин Купер, мне неприлично было говорить с вами о нуждах моих людей, пока, по вашему обычаю, вы не увидели их работу. Хотя у нас любой купец сначала накормил бы. Вы, господин Купер... – с дружеской улыбкой продолжал Алеша, делая вид, что сбивается, не может подобрать нужного слова, – порядочная скотина (beast), по нашим понятиям. – Сибирцев осмелел. Хозяин – зверь, ругается и бьет китайцев, одному из них вчера ткнул при пленных палкой в лицо – что же с ним церемониться? Дядю Купера в Шанхае, говорит Сайлес, китайцы убили, а его дом сожгли. Его сын там все снова начинает.
Из карманов куртки у Купера торчит по пистолету. Разговор, видно, у него бывает короток. Морда красная, мужицкая: нос картошкой, жесткие усы нависли над ртом, лицо смуглое от загара, небольшие серые глаза.
– Они получили деньги на кораблях, – ответил Купер.
– Они обносились, ни у кого нет целых сапог. Нет белья. На это пойдут деньги Стирлинга. Примите во внимание, что адмирал Стирлинг очень скуп на казенное добро. Как вы думаете?
– Я не думаю об этом.
Матросы опять ели сегодня на китайском базаре. Но за два дня сытой еды силы не вернуть.
Алексей не стал говорить, что его личных денег хватит ненадолго. Нечего унижаться!
– В таких случаях, господин Купер, еды не просят. Порядочный хозяин дает вперед. Получить аванс – законное право работающего.
Хозяин грубо хлопнул Алексея по плечу и заметил, что у него мускулы как из железа. Купер открыл несгораемый шкаф.
– Пишите расписку. Сколько надо на двадцать человек?
– Сто долларов.
– Можете написать на двести долларов. Сто – матросам, а сто я заплачу вам, возьмите себе. Никто знать не будет.
«Вот как он меня понял! Под меня ключи подобрал!» «Из их заработка?» – «Да», – ответил бы, наверно, Купер. Или: «А вам какое дело?»
Алексей написал, что для матросов, работающих на доках, получил лично от хозяина доков, господина Купера, аванс в сто долларов под оплату, причитающуюся в конце недели.
– Сколько же вы хотите? – зло спросил Купер, принимая расписку.
Алексей смолчал, словно не слышал.
– Можете прислать мне еще людей? Садитесь. Какие есть у вас еще мастера?
– Как бы они ни вывертывались, Алексей Николаевич, – сказал Васильев, принимая аванс, – а матрос свое возьмет. Матроса только накорми.
Матросы располагались на блокшиве. Отставной старик матрос, скуластый, в седом жабо, из обангличанившихся голландцев, как он сам сказал, каких, мол, тут немало, и здоровенный китаец в красной американской рубахе следят за водой в трюме и за якорями.
– Поставят потом солдата для охраны, – предупредил голландец и, скалясь и дружески похлопывая Маточкина по плечу, добавил, что служил в Англии в портовой полиции и здорово бил русских по морде. Пояснил, что ханьшин лучше виски, если утром с похмелья напьешься простой воды, то опять целый день пьяный совершенно бесплатно, и что нищие и рабочие китайцы в Гонконге бессемейные и занимаются скотоложством, а китаянки возятся с британскими моряками.
– Ханьшин хорошо закусывать хреном голландским! – заметил старику Собакин.
Голландец испуганно озирался на новых своих, покатившихся с хохоту подопечных.
– А как по-ихнему «хрен»? – спрашивали Собакина.
– Кажется, хорс редиш – лошадиная редиска...
– А Янка опаздывает, – сказал Мартыньш.
– Он каждый день поздно приходит, – отозвался Лиепа.
– Янку опять поставили на легкую работу, – позавидовал Мартыньш. – Он умеет устроиться... Это такой человек!
– Это, право, так!
– Про него, конечно, ничего плохого не скажу... – начал Мартыньш, – но...
– Да лучше про Янку не говорить, – перебил Маслов. – Он хороший кузнец. А раз послан на ферму, то исполняет.
– Но слушай, вай-вай-вай... Это просто страшно. Это такой человек... А-а, вот и он сам! – не сразу переменился Мартыньш.
– А мы за тебя беспокоились.
– Что за меня беспокоиться! – ответил Берзинь.
За прошлую неделю пленным совсем не платили. Зато в субботу при расчете Васильев получил фунт, шиллинг и мелочь. Он держал монеты на ладони и раздумывал. Деньги не так радовали, как пробуждали зло. Значит, труд стоит денег? И всегда стоил? А что видел он в жизни? Что он получал? Полушки и грошики. Такая плата разжигала обиду не только за свою жизнь в плену. Разве молотобойцы или кузнецы не знают цены своему труду? «Значит, мы стоим, но не знаем... А что же мы видели в жизни до сих пор?» Зло появлялось и к своим офицерам, заботившимся прежде всего о самих себе, и к здешним хозяевам, так долго державшим всех на голодном пайке. «А теперь больше фунта за неделю! Поем мяса и я. Пусть они поставят на горн своего Смита. Они все хвалятся: Смит, Смит!»
По вечерней жаре почти выбившиеся из сил за неделю матросы шли на свой блокшив пешком, вразброд, без строя. Покупали еду по дороге, ели фрукты и пили легкое вино.
– Я хочу купить шляпу и пиджак, – сказал Васильев. – На фунт можно одеться. Куда тебе! И башмаки возьму у китайца... Маслов велел собрать деньги артельщику. Мы ругали, что плохо кормят, а теперь придется варить самим.
Идущих с работы матросов остановил еврей, сказал, что знает, как пленные работают, предлагает им наняться в Южную Америку на плантации надсмотрщиками. «Не идет? Подумайте... Там обучают негров кузнечному делу. Еще можно на золотые прииски в Австралию. Но там мало вакансий... Но очень выгодно».
– Англичанин идет важный, – продолжали свой разговор матросы, двинувшиеся дальше, – а впереди собака, тоже важная и несет трость... А навстречу дог, еще важней их, и за ним хозяйка. Эти собаки выхолены, как скаковые лошади.
– Да, лошадей здесь берегут, – подтвердил Собакин.
– Зря не гоняют. Ездят на китайцах, – согласился Иван Пухов.
Антонов и Строд, с позволения Маслова, наняли паланкины и поехали на пристань.
– Целым поездом, как на свадьбе! – крикнул вслед им Грамотеев.
Остальные пошли пешком, вразбивку. Остановились у лавки. Спросили, почем шелка.
– Это очень дорого для вас... – на ломаном английском ответил торгаш.
– А сольти ё? – насмешливо спросил Грамотеев. Китаец разозлился и взвизгнул. Сибирцеву непонятно, почему китайцы обижаются на такой вопрос.
Матросы расхохотались и ушли.
Маслов предупредил всех, что «начистит зубы» каждому, кто напьется. Но разве за этой кобылкой теперь уследишь! На блокшиве Васильев спросил вечером перед поверкой на палубе у Сибирцева, можно ли сделать покупки для дома.
– Конечно.
– А дозволят увезти?
– Им-то что!
– Эй, ты, мистер Собакин, – крикнул с борта матросу, замешкавшемуся с «хреном голландским», – иди жрать, сегодня досыта! Что мешкаешь, Собачьи Чары?
Латыши, а их было десять человек у Алексея, обратились с просьбой, чтобы разрешил завтра, в воскресенье, сходить в церковь...
– Пожалуйста... Напиши, Берзинь, мне рапорт и веди товарищей.
В гостинице Пушкин строго заметил Сибирцеву, что у него есть некоторые сведения, что матросы команды были пьяны.
– Как вы смели разрешить матросам получать такие деньги? Что за буржуазность овладевает вами в Гонконге? Извольте сами получать деньги на своих людей, выдавать их нижним чинам частями, под расписку. Все расписки представите мне с рапортом. Вы понимаете, какую несете ответственность? Если команда распустится, то по возвращении в Россию вам придется предстать перед военным судом!
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЕРЕД КООСАЕМ
Матросы мыли палубу. Солнце еще не всходило. По палубе прошел Точибан с вещевым мешком.
– Ты куда собрался? – разгибаясь во весь рост, недовольно спросил его вслед Мартыньш.
Всему, что говорил Андрей Мартыньш, латышский акцент придавал большую силу и выразительность.
Японец обернулся и посмотрел на матроса. Тот стоял с намоченными веревками, тянувшимися от швабры по луже на палубе.
– Давай-давай! Работай! – ответил Точибан на чистом русском и небрежно кивнул головой.
Матросы до сих пор в этом японце видели что-то свое, знакомое и дружественное, с чем сжились в чужой стране.
«Но как люди быстро меняются! – подумал Мартыньш. – Хотя бы вежливо ответил или поклонился...»
Точибан что-то сказал своим вахтенным у трапа. Его не задерживали. У другого конца трапа полицейский бенгалец с одутловатым красным лицом даже не взглянул.
Точибан закинул мешок за плечи и вразвалку, как заправский моряк, пошагал в город.
На вымытую палубу вышли мичман Сергей Михайлов и юнкер Урусов, дежурившие сегодня на плавучей казарме С ними старший унтер-офицер. Раздались свистки – и пленные стали строиться на утреннюю молитву.
Японец ушел с блокшива и поселился в отеле в номере с Гошкевичем. Продолжали составлять большой японо-русский словарь и в тот же день стали делать черновые наброски. Узнавали друг от друга много интересного.
Чтобы Прибылов чувствовал себя свободней и не обращал на себя внимания, Гошкевич решил его переодеть. Позвал разносчика. Купил Точибану европейский костюм и соломенную шляпу. Китаец-портной за гроши тут же на улице подогнал пиджак и брюки по фигуре Прибылова. Башмаки у него уже были, легкие, какие обычно носили в этом климате европейцы.
...Иногда Точибан отлучался в город с позволения Гошкевича и почти всегда рассказывал о своих прогулках. Нельзя отказать ему в понятливости и наблюдательности. Словно ежедневная газета, доставлял в отель офицерам все городские новости, как видны они с улицы и известны толпе. Даже Александр Сергеевич не жалел, что разрешил рядовому покидать казарму и общий стол и жить в отеле.
Иногда Точибан где-то задерживался и приходил поздней обычного. Сказал, что познакомился с местными китайскими коммерсантами и бывает у них.
У Точибана появились деньги, и он старался сам платить за свой стол. По его словам, он помогал одной китайской фирме в ведении записей и составлении писем своим каллиграфическим почерком, также делал рисунки на посылаемых частных бумагах, и к нему обращались охотно – кажется, становился популярной личностью. А рисовал он хорошо, и картинки его исполнены вкуса и тонкого изящества.
– Матросы у нас работают, с деньгами, вам не надо отставать, – сказал японцу Сибирцев, которого Осип Антонович во все посвятил.
При случае, когда кто-то из немцев или американцев заходил в отель к русским офицерам, японца рекомендовали переводчиком Прибыловым. А по городу прошел слух, и, как всегда, говорили больше, чем есть на самом деле, что среди русских есть японский профессор, и американцы спрашивали, правда ли.
Точибан сказал Гошкевичу, что не хотел бы мешать ему обдумывать свои научные труды и затруднять занятия. К чему он клонил?
– Я мог бы переехать в другую комнату...
Прибылов снял в том же отеле отдельный маленький, темный и дешевый номер, похожий на кладовку с оконцем. При этом работал с неизменным усердием, с интересом, радовался, как ребенок, записи перевода каждого нового слова, и казалось, что составление словаря становится делом его жизни.
Держать Точибана взаперти, как полагал Осип Антонович, нет никакого смысла, – в самом деле, человек он скромный, тем более что и наши матросы, хотя и считалось, что ходят на работу и с работы под надзором унтеров, на самом деле, наверно, и отстают, и отпрашиваются, и всюду бывают. Кто за ними усмотрит, кто их разберет!
– Мне очень хочется рассказать в Гонконге... о прогрессе в нашей стране, – говорил японец, – и о значении в этом русских, как они могут быть полезны в Азии...
– Пожалуйста, рассказывайте, это ваше желание.
– Спасибо, спасибо...
Через несколько дней Точибан явился в новом черном костюме, сшитом китайским портным, на этот раз по последней моде, в крахмальном воротнике и шелковом шарфе-галстуке на груди, как у лондонского денди. Показал подкладку, на которой вышито золотыми нитками: «Especially made for mister Tochiban Pribilov. The best tailor of colony, M-r Fun-Tin-Shi»[56].
Точибан все время с офицерами и как бы сам себя считает офицером. Сел, закинув ногу на ногу, и закурил сигару.
– Вы знаете, – сказал он Сибирцеву и Гошкевичу, – я свел знакомство с богатыми китайскими компрадорами, которые приглашают меня для прочтения доклада в свое общество.
– Когда вы читаете?
– Скоро... Но хотел бы посоветоваться...
– Ах, вот как! А вы знаете, что это за общество? – спросил Гошкевич.
– Богачи, всегда очень нарядные, очень умные и умелые, как они сказали, все, что англичане продают и покупают, проходит через их руки. Я думаю, в их руках торговля...
– Что смущает вас?
– Мне помогает один человек...
– Кто же?
– Мистер Вунг. Или, как все его называют, Джолли Джек. Или Ред Роджерс. Вы знаете, прежде, когда он торговал одуряющей и разжигающей сладострастие жидкостью для английских матросов, его звали Ред Роув. Что это такое!
– Что такое «ред роув»? Это, кажется, пиратский флаг, – сказал Сибирцев.
– Поэтому потом ему стало неудобно носить такое имя и он отказался от популярности и переменил прозвище на Ред Роджерс, а еще его зовут Джолли. Общество предложило мне сделать доклад. У них свобода слова. Поэтому Джолли Вунг пригласил меня.
– Вы были у него в усадьбе?
Точибан поклонился, но не ответил – могло означать что угодно.
– Хороший у него дом? – спросил Сибирцев.
– Довольно красивый, но слишком богатый. Мистер Вунг уверяет: «В моем доме пахнет книгами!», но я еще не заметил... Из библиотеки вынесены книги, там у мистера Вунга собственная опиокурильня. Много дорогих предметов! Отсутствует поэзия скромности. Недостаток вкуса вполне возмещается гостеприимством.
– А где же проверяют подлинность серебряных монет? Для этого у мистера Вунга существует целая фабрика?
– Банк имеет мастерские, там производятся испытания и ставятся штампы. Работают опытные специалисты по серебру. Конечно, он прекрасный человек. Очень хочет видеть вас у себя и сказал, что послал вам приглашение. У него есть собственный мудрец и философ. Как у всех великих китайцев... Стиль жизни, противоположный основным понятиям, которые во мне воспитаны. Вы знаете, японцы очень скромны!
– А господин Вунг?
– У господина Вунга есть китайская важность, – застенчиво ответил Прибылов. – Вы знаете, – обратился он к Сибирцеву, – я познакомился с китайской барышней. Она хорошо знает вас, Аресей.
– С какой барышней вы познакомились?
– Она лодочница!
– Ах, да... Я нанимал лодку...
– Ее сестра передавала вам привет.
– А куда ездили вы?
– Совсем недалеко. Я ездил в Китай.
– Как – в Китай?
– Да, лодочница перевезла меня на ту сторону бухты. Вон в ту деревушку. Там Китай, и всем было бы интересно. Ее сестра сказала про меня, что еще никогда не видела такого мужественного иностранца.
– Что же тут удивительного, если вы ей понравились...
– О-сё-фу-сан, – с чувством обратился Точибан к Гошкевичу, – я очень хотел бы встретиться с мистером Боурингом и попросить у него разрешения читать доклад на обширной китайской аудитории.
– Какая же тема вашего доклада?
– Значение России для азиатских народов. «Почему народы Азии тянутся навстречу России, как тараканы на сахар». Это не вопрос, это объяснение.
– Не советую вам ходить к сэру Джону, – заметил Гошкевич.
– Он может не разрешить? Мне кажется, это его заинтересует.
– Конечно, он исправит ошибки, – сказал Алексей.
– Не знаю, как он вас примет. Но лучше бы не ходить, – повторил Гошкевич. – Все, что делается у китайцев, они не контролируют.
– Прошу вас, О-сё-фу-сан, сделать это для меня. Вы знаете, что вам разрешат... Попросите приема. Если нам будет отказано, то я могу быть спокоен.
– Пожалуй, если так надо, я попрошу.
Гошкевич рассказал все собравшимся товарищам. Офицеры дружно рассмеялись.
– Подите с ним! – сказал Шиллинг. – Посмотрим, что получится.
Договориться с Боурингом оказалось делом несложным. Сэр Джон намеревался учить японский язык и начинал интересоваться Японией. Точибан явился во дворец губернатора в одиночестве.
Хозяин встретил его на широкой мраморной террасе, темной в этот солнечный час дневного отдыха от обильно вьющейся зелени. Как густые зеленые ковры, она спускалась с каменной крыши между колонн. Вся терраса была увита лианами в цветах.
У Точибана был такой вид, словно он заблудился, ослаб в смятении, даже осунулся.
Боуринг увел его в кабинет и стал переписываться с ним иероглифами.
Не в правилах сэра Джона приглашать кого-либо к своему столу, но этот воскресный урок затянулся до вечернего обеда. Говорят, что японцы не едят мяса, однако Точибан с жадностью съел бифштекс и приободрился.
– Вам бы хотелось в Англию? – спросил Боуринг.
– Да, очень.
Точибан все это говорил бесстрастно и цедил английские и русские слова сквозь зубы.
– Какая же тема вашего доклада?
– «Значение России для азиатских народов, или Почему народы Азии с большей надеждой смотрят на Россию, чем на Англию или Францию». Видимо, нельзя разрешить?
– Почему? – вскричал сэр Боуринг. – Читайте! Очень интересно!
Сэр Джон решил не только позволить чтение доклада. Он охотно бы напечатал такой доклад в своей типографии.
Уходя от губернатора, Точибан воспользовался своими гениальными способностями: минуя адъютанта, он проскользнул мимо швейцара и гвардейцев в красных мундирах у входа так, что его, кажется, не заметили, хотя он всем вежливо кланялся.
Когда Точибан возвратился в гостиницу, Гошкевич заметил, что он волнуется. Словно что-то хочет сказать, но не решается. Что с ним? Что ему там сказали?
– Вы знаете, О-сё-фу-сан, мне кажется, что сэр Джон неправильно меня понял. Он что-то мог подумать. И поэтому я очень ира-ира[57]... Скажу под большим секретом: в разговорах с подданными Великобритании мне приходится лгать. Если до вас дойдет, то, пожалуйста, поймите это.
На вопрос, зачем же лгать англичанам, Точибан не ответил, и Гошкевич впервые в жизни увидел, как Точибан смутился и сразу закрыл глаза.
И не надо спрашивать! Его дела! Придет время – захочет – сам расскажет. Пусть у него какие-то тайны сохраняются!
ЛАТЫШИ И ТАТАРИН
На другой день десять матросов к обеду вернулись невеселые.
– Помолились? – спросил их старший унтер-офицер Маслов.
– Да-а, – невесело ответил Берзинь.
– Не пон-ра-ви-лось! – отчеканил Мартыньш, снял ремень и бросил. Стал снимать и новую рубаху.
– Ребята очень печальные, – рассказывал за обедом товарищам Ванька Пухов. – Они пришли в церковь, а там, мол, все как в костеле и поп – китаец.
– Слова не может как следует выговорить, – подтвердил услыхавший этот разговор Лиспа.
– А ты бы его спросил: «Сольти ё?» – посоветовал из глубины палубы кто-то из матросов. Все захохотали.
– Служба походит на вашу? – серьезно спросил Маслов.
– Нет, совсем не так. Служат не так и молятся не так. Да что об этом говорить! – недовольно молвил Берзинь.
Латыши явно были разочарованы. После обеда разговорились по-своему и немного повеселели.
...В церкви все заметили высокую и тонкую девушку в опрятном платочке, белокурую и голубоглазую, со скорбным бледным лицом, острым и нежным, напоминавшим такие же родные лица сестер и их подруг. Походила на печальную девушку-крестьянку с хутора. Стыдно сказать, но как на обманутую бароном... У многих матросов при виде ее дрогнуло сердце. Откуда здесь такой ангел, в этом гнезде воров и разбойников?
Когда выходили из церкви, Янка с ней поздоровался вежливо. Она ответила поклоном, но не переменилась. Что-то горькое, трагическое таило ее милое бледное лицо. «Ты откуда ее знаешь?» – спросили Янку товарищи. Но он умолчал. «Вот, очень ловкий и нечестный...» – подумал Мартыньш.
Мотыгин понял, о чем расспрашивают Янку. Все знали, что из-за молока и сакэ Берзинь жил в Японии с экономкой самурая. Матрос рассказал, что на ферме губернатора, куда они с Берзинем ходят работать, эта девушка дойщица коров. Они с Янкой видятся каждый день. Она недавно приехала из Англии, выписал ее сам Боуринг. Казалось, что все успокоились. Только Мартыньш подумал, что Янка не остановится на этом, не смирится.
– Это уж такой человек! – сказал он Мотыгину. – Знаешь, какой это человек? Слова о нем плохого не скажу. Но это просто страшно что за человек!
– Хорошая девушка! – со вздохом сказал по-латышски Лиепа.
– Очень хорошая! – подтвердил Мартыньш. – Не такая, конечно, как у нас...
«Где же теперь помолиться?» – думал Янка.
На «Сибилле» и «Барракуте» служили английские военные пасторы. Не такие, как дома, но пасторы.
Военный пастор строгий, читает молитву, а потом ка-ак глянет на матросов – и все дружно произнесут:
– Амен!
– Ну, а как ты помолился? – спросил Маслов татарина.
Махмутов – здоровенный детина, блондин, все лицо в рыжих веснушках.
– Сегодня не молился. Позавчера был наш праздник. Тогда молился. Пушкин отпускал.
– В мечети был?
– В мечети был.
– Мечеть большая?
– Мечеть большая. Народу много.
– Что за люди?
– Как что за люди? Магометане!
– Магометане разные бывают.
– Есть арабы, торгуют тут бриллиантами. Яванцы, бенгальцы, есть китайцы-магометане. – Махмутов засмеялся. – Я вошел в мечеть, и сразу все распрямились, они думали на меня, что хозяин острова. Я помолился. Задумался. Они удивлялись. Потом служба закончилась, подходили и знакомились. Удивлялись, сказали, первый раз видят, что белый человек магометанин.
– А они сами?
– Они сами разного цвета. Есть бронзовый, есть коричневый, как крынка. Есть черный, как чугун.
– Как же ты с ними говорил?
– По-арабски.
– А ты разве знаешь?
– Учился, хотел быть муллой. Отец отдавал в медресе, в Уфу. Самые богатые здесь – арабы. Я арабский язык могу говорить. Сказали магометане, что пришлют вяленой баранины.
– Может, верблюжины? Или конины?
– Молодой конины хорошо бы! Англичане не велят молодых коней убивать. Не верили мне, что я из России.
– Э-эй! Вон арабы едут... Стой! Смотри... Эй! Давай сюда... Вон и сам араб верхом...
На осле подъезжал к трапу еще не старый человек в чалме, в бороде, выкрашенной хной. Несколько арб, запряженных быками и подпрягшимися к ним китайцами, везли огромные бочки с шандуньской бараниной.
– Хватит на весь экипаж! – обрадовался Махмутов и пошел встречать гостя.
Араб слез с осла и низко поклонился белому человеку-единоверцу, видно признавая его теперь настоящим магометанином. Ведь и Магомет, говорят, был белокожий и со светлыми кудрями.
РОЗАЛИНДА
Разрушены все чары, и отныне
Завишу я от слабых сил моих.
На собственной ферме сэра Джона не было рабочих-европейцев. Китайцы на своих полях работают на коровах, как на быках. Молока не пьют. Молочных продуктов не производят. Коров в своем хозяйстве не раздаивают. Корова для них лишь рабочий скот. Как говорят в Гонконге, китайцы считают варварами и дикарями те народы, которые пьют молоко и едят баранину, как монголы.
Китайцы на ферме, случалось, били палками прекрасных породистых молочных коров, как лошадей, за что шотландец-приказчик бил их самих.
Единственно, кто любил и холил коров, это юная девица Розалинда, привезенная из Англии, где у ее матери была молочная ферма под маленьким городком неподалеку от Стаффорда на Авоне.
Мать Розалинды, прозванная Вирейгоу, что означает бой-баба, арендовала землю у хозяина, который в свою очередь был зависим от богатого землевладельца. Ферма процветала, и, несмотря на сложность взаимных обязательств, отношения владельцев были ясны и устойчивы. Разорение пришло не по их вине. Тогда в судьбе дочери приняла участие семья Боуринга: сэр Джон неожиданно предложил Розалинде путешествие в Гонконг со всей семьей и работу в новой колонии на ферме.
Не женское дело исполнять тяжелые работы, а китайцы приучались медленно. Главный их недостаток – нет скотолюбия англичан. Ударить или пнуть собаку, лошадь, корову – ему ничего не стоит.
Энн, принимавшая участие в судьбе Розалинды и ее скотин, подала полезный совет отцу:
– Почему бы, папа, вам не взять на ферму русских матросов? В своих деревнях они имеют скот и содержат его совершенно так же, как наши фермеры. При этом сами русские крестьяне принадлежат своему ленд-лорду как рабы. Но во время жизни своей в Японии они обучили доить коров и открыли молочные фермы. Япония теперь обогнала Китай Японцы научились пить молоко, и это первый шаг. Русским матросам, вероятно, поставят за это памятник в Японии на берегу моря.
Боуринг немедленно попросил Пушкина прислать двух опытных скотников из числа тех, кто принес зерно европейской цивилизации в Японию.
Английские матросы понять не могли, почему вдруг пленные на корабле подняли невероятный хохот. Вообще пленные еще до ухода на берег повеселели, выглядели здоровей.
На вопросы, что же такое произошло, пленные, как один, отвечали, что объяснить невозможно. И при этом покатывались со смеху.
В команде узнали, что Берзиня, или, как его называли, Березина, посылают работать на молочную ферму.
– Ну, Янка, опять с молоком! – покачивая головой, усмехнулся Ян Мартыньш.
Хохотали до упаду, вспоминая историю с самурайской экономкой.
Но еще сильнее хохот начался вечером на блокшиве через несколько дней после того, как латыши неудачно сходили в церковь. Янка вернулся поздно. Под глазом у него сиял большой синяк.
– Ну, брат, тебе, видно, тут не фартит!
– Ты, братец, опять хотел взять абордажем?
Шуткам и насмешкам не было конца. Хором спели:
Эх, хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет...
Янка был печален.
Впервые явившись на молочную ферму Боуринга чуть свет, двое матросов, Ян Берзинь и Захар Мотыгин, увидели, что в коровнике, окрашенном в красный цвет, коров доит высокая красивая девица. Янка обмер. Настоящая барышня!
Девушка вышла с подойником, закрытым белоснежным полотенцем, сама в крахмальном переднике с белой наколкой на льняных волосах.
Оба матроса поздоровались почтительно. Она ответила коротко и любезно и сразу прошла. Пожилой шотландец в юбке с голыми коленями и с красным пером на белом берете, как у курляндского барона, спросил, понимают ли матросы по-английски.
Оба ответили, что понимают, но не все, знают слова корабельные, морские, хозяйство сельское известно с детства, но что и как называется у вас – еще не выучили. Показали на сено, на корма, на кормушку, на коровьи рога и на навоз. Джентльмен в юбке все назвал. Захар не стал запоминать, решил, что Янка запомнит; зачем делать двойную работу? Мотыгин показался шотландцу поздоровей, и он назначил ему на сегодня чистить назьмы; из давно слежавшихся груд лопатой перекидать на телегу и перевезти на лошади к садовнику-китайцу. А еще в деревне каждому известно, что лопатить коровье дерьмо – самая тяжелая работа из всех в сельском хозяйстве.
Янку определили в помощь барышне. Джентльмен сказал, что надо исполнять все, что велит мисс Розалинда.
Матросы охотно согласились. Мотыгин взял лопату и ушел за усатым управляющим в юбке.
Янка искоса полюбовался на англичанку. У нее тонкая шея покраснела. Может, начала оживать? А сначала была такая грустная.
Янка, по ее указанию, чистил коровники, вывозил навоз на тачке, потом вымел помещение. Сам взял скребок, чистил коров. Подавал сено в кормушки. Потом грузил навоз вместе с Захаром, и всякая работа казалась легкой, словно пускал в воздух пушинки одуванчиков, а не набрасывал на телегу мокрые широкие и тяжелые пласты слежавшегося навоза.
«Вот тут я действительно могу работать! Как у отца! Не знаю, сдал барон отцу еще на срок хутор или ушли родители на другое место? С японкой была императорская служба! Молоко шло для адмирала и просвещения буддистов. С японкой жил, да? Она немолодая. А я – матрос. А может, и здесь не надо зевать? Почем знать, кто еще тут вертится возле нее. Надо узнать. Разве она девка? Вон какие бедра, какая походка».
Девушка присматривала за работой.
...Она может понять, какой Янка старательный и аккуратный, неутомимый, изобретательный работник. Зачем ему морская служба! Мартыньш, Строда, Лиепа – все работали до службы на реке и на море, ходили на лодках-лайвах, на лиеллайвах – речных парусниках, на рыбацких баркасах. А Янка – пахарь и во флот попал по своей глупости. Ездил с дядей в город на базар. Дядя любил посидеть в пивных. В Риге, как всегда, полно матросни, и все врут, что только могут. Янка наслушался – и ему захотелось в море. И так получилось, что вызвали по рекрутской очереди, и он соврал: сказал, что плавал в море с рыбаками. Теперь вот за это в Гонконге. А сегодня почувствовал себя как дома, на хуторе.
Розалинда заметила, что появились настоящие труженики. Они превосходили всех работников, каких ей приходилось видеть, не говоря уж о гонконгских. Старый китаец, подметавший дорожку и таскавший воду, и тот удивлялся, как умело Янка все делает. Старик качал головой, ревнуя, кажется.
В полдень девушка угостила Янку молоком, хлебом и сосисками.
Розалинда что-то громко и вдохновенно говорила, как оратор на митинге перед суфражистками, которых Янка видел в Лондоне. Она уверена была, что он понимает. Знал же он по-английски и говорил довольно хорошо. Но сейчас, огорошенный ее вдохновением, он не успевал понимать и, когда она умолкла, готов был поспешно вымолвить «амен» в знак согласия.
– Как ваше христианское имя? – скромно спросила девушка перед обедом в шесть часов вечера, накрывая стол скатертью и подкладывая дощечки с картинками под тарелки.
– Янка! – ответил он смело.
– Эу! – насторожилась юная дойщица. – Yankee! – она изменилась в лице. Взор ее стал резким и подозрительным. – Yankee? – с презрением спросила она. Взглянула в его глаза пристально и вздохнула разочарованно, словно поняла, что нечего и говорить.
– Неу, неу американ! – испуганно залепетал матрос, сообразив, в чем дело.
Она грозно нахмурилась.
– Я не янки... неу янки... Я – Янка!
– О-оу! Yankee...
– Ай ноу американ... май нэйм Янка оо Ян!
– Разве у русских есть имя Ян?
– Янка то же самое, что Джон, а по-русски Иван... о Ян... ноу янки!
Как знала девушка, янки теперь всюду лезут, они нанимаются на любые суда; может быть, служат и у царя...
Входить раньше времени в подробности и объяснять, кто он и откуда, Берзинь не желал, чтобы еще сильней ее не напугать. Все же он убедил, кажется, что не американец. Да ни один янки не стал бы так работать на черной ферме; она должна сама понять!
Обед был сытный и вкусный. Конечно, треска. Но особенно – горячая колбаса, какой Янка в жизни не ел. Молока вдоволь. Хлеб из лучшей крупчатки. Кусок пирога. И еще другой пирог. И капуста...
Пришел Захар и тоже подовольствовался всласть.
На другой день Розалинда украдкой поглядывала на Берзиня. Рыжеватые волосы! Лицо со вздернутым носом очень красиво. На родине всегда говорили, что эта легкая рыжеватость белокурых волос – признак наивысшего аристократизма. Такой чудесный золотистый отлив! Ведь так выглядят принцы королевской крови! Об этом еще мама и бабушка рассказывали... Это идеал!
На другой день опять завтракали дважды. Обедали на этот раз наедине.
Красавчик сержант, погляди и подумай! Не воображай, что ты неотразим! Красавчик из морской пехоты! Сердцеед! Угодник! И все! Ах, как он ей нравился, и его волна волос от пробора к уху! Красивый мундир с золотыми пуговицами. Головные уборы солдаты и сержанты морской пехоты носят очень гордо. Его усы. А когда узнал, из-за чего она уехала из Англии, то сразу поблек. На родине ее, кроткую, скромную девицу, оклеветали и назвали колдуньей!
Розалинда ненавидит Шекспира и короля Иакова. Это все от них! Доверилась, поделилась, как с сердечным другом. А он? Поверил, что колдунья, и струсил, струсил. Но ведь на самом деле она не колдунья. Ведь это была клевета! Военные все трусы, они только со страха перед офицерами идут в бой, храбры по приказу.
Все хвастуны! Он отступился! А как часто приходил и врал, что женится... Она осталась еще более одинокой, чем была. А что произошло на самом деле? Откуда сплетни про колдунью? В их сельских местах все верят в нечистую силу, в ведьм, в колдовство. Это виноват Шекспир. Все ссылаются на него. Так у великого драматурга! Бабушка говорила, что король Иаков издал законы, в которых определяется, как надо узнавать ведьм и какое значение имеет в государстве нечистая сила. А до сих пор у них за всю историю ни один закон не отменяли... Как учил пастор, Розалинда так и верила во все эти бредни и не сомневалась в своей правоте.
На маленькой ферме у нее были любимые коровы, и они давали много молока. С этого все началось. Ферма матери приносила приличные доходы, и, конечно, соседи завидовали. В самом деле Розалинда очень заботилась о своей скотине и любила ее. Она тщательно мыла им вымя перед дойкой, руки у нее были нежные и ласковые. Она знала от матери, как мать знала от своих бабушек, как ухаживать за скотом, пук какой травы и в какое время надо добавить в корм, чтобы не болела, и когда выгонять их на луг на прогулку. Корова, которая много лежит, дает нездоровое молоко. Корова не перегонный куб, не фабрика, не машина. Она дает молоко детям. Это не самодельное устройство, в котором приготавливают по ночам домашний алкоголь – Moonshine, то есть сияние луны, или лунный свет, – самогонку. Может быть, так кажется тем омертвевшим заживо кулакам-скупердяям, которые думают, как бы побольше отвезти молока на продажу да похвастаться, и они поят ленивых коров, лишь раскармливая их. О самой корове не думают! Дайте корове подышать воздухом, погулять, попрыгать на лугу. Она очень смешно прыгает, но как она при этом нежно радуется! Розалинда умела ласково потрогать коровью морду, угостить вкусным куском. Ферма процветала, и арендная плата вносилась вовремя. Древний городок – центр графства – совсем недалеко, скупщики молока и всего молочного приезжали ежедневно.
Однажды Розалинда отправилась на несколько дней на свадьбу двоюродной сестры в другое графство. Она там танцевала и играла с парнями и девушками. Что же оказалось? Без нее на ферме коровы стали плохо доиться. Они уж не давали столько молока, как прежде. Они отворачивали морды от соседки, нанятой матерью в помощь. И молоко оказывалось не таким вкусным, как прежде. Соседка обиделась. Слух о странном поведении коров быстро пронесся по окрестности. Решили, что дело нечисто, что молоденькая дочь хозяйки фермы – колдунья. Почему бы иначе без всякой причины коровы не давали без нее молока!
Подобные случаи в графстве бывали когда-то, о них помнили – таким образом, имелись прецеденты, необходимые для самосуда.
Янка тоже ласково обращается с коровами, как и она сама! С коровами он меняется. А с людьми – скуп на разговоры, застенчив, очень скромен! У нее и здесь, в Гонконге, коровы дают больше молока, чем на фермах Джордина и Купера.
Да, скандал произошел, когда она поехала порадовать родню и повеселиться, а коровы без нее стали скучать и выть. Против дьявола, казалось, поднялся весь народ. Почувствовалось, что их предки были когда-то католиками! Темный, дикий, грубый народ, хуже китайцев! Они пришли с вилами, лопатами, топорами; может быть, хотели ее убить и тут же закопать? Или сжечь живьем? Пастор за нее заступился, говорил о Кранмере и Ридлее, принявших мученическую смерть при королеве Марии за проповедь веротерпимости и демократии, и за отрицание католицизма и предрассудков, и за англиканские понятия о крови и теле господнем.
Тут куда угодно согласишься уехать, не только в Гонконг!
А вот Янка, он не тычет коров палкой, как это делают китайцы.
Но когда Янка однажды наедине залюбезничался с ней и, ободренный ее приветливостью, ухватил девушку за талию и пытался прижать к себе, Розалинда с большой силой ударила его несколько раз прямо по лицу так, что он даже обиделся. Зачем же так, дралась боксом... Рассердилась, схватила и тут же кинула в него подойник с молоком и ушла.
...А народ не успокаивался. На соседних фермах собирались люди и являлись толпами. Розалинда была пристыжена и притихла, чувствуя себя виноватой, как настоящая колдунья, пойманная на месте преступления. Мать ее отчаянно защищала. Она ссылалась на библию и сыпала изречениями направо и налево. Она приводила яркие примеры из современной жизни.
– Очень страшно, если в Новой Зеландии дикари едят людей! – басом кричала Вирейгоу. – Но так же страшно, когда люди, которые ездят в Лондон по железной дороге и ходят в церковь в накрахмаленных рубашках и в сюртуках, объявляют ведьмой доброго и бесхитростного ребенка!
Ее дочь могли посадить в тюрьму, убить, женщины грозили сжечь ферму вместе со скотом. Ярость овладевала рослыми и сильными людьми графства. На день-другой мать сумела укротить их своим грозным голосом и энергичными доводами. Но возмущение еще не утихало. Этот стойкий и мужественный народ не отступался в своей жажде жертвы и не скоро менял убеждения, а какие-то личности, конечно, извлекали выгоду.
Из города приехал старый, почтенный адвокат с большой бородой, на хорошей лошади и в скромном стареньком экипаже. Подал матери несколько сердечных советов и рекомендательное письмо от городского торговца молоком. Сказал, что Розалинде лучше скорей уезжать куда-нибудь подальше. В Америке всегда нужны рабочие руки. Наняться туда за хорошую плату можно уже здесь, на острове. Уехать хотя бы на несколько лет за океан. Сказал, что постарается найти вербовщиков, хотя до сих пор не видел их сам.
После его отъезда мать была в отчаянии. Запрягли быка и поехали в город, где есть телеграф, не пожалели средств и вызвали телеграммой дядю, брата покойного отца. Он уж давно служил машинистом на локомотиве Стефенсона. Зная про законы короля Иакова, обязывающие представителей власти ловить ведьм, в полицию не обращались.
Дядя приехал, все выслушал и сказал возмущенно, что по описаниям узнает приезжавшего человека. Это и есть вербовщик! Его часто видят на вокзалах и в поезде. Существует целая корпорация дельцов. Они часто переправляют девушек по железной дороге в порты. Уверяют, что на работу на американские фермы Большой Равнины, но на самом деле – в Калифорнию, в публичные дома. Туда для золотоискателей – белых, негров и мексиканцев – требуют женщин светлых, молодых, с крепким здоровьем; едут многие с островов и из других стран: чешки, польки, шведки.
Страх охватил мать и дочь с двойной силой. Боялись шантажа адвоката, и вербовщиков, и гнева соседей. Но тут заявило о себе общественное мнение. История дошла до членов филантропического общества и корреспондентов провинциальной газеты, а от них – в Лондон, к знаменитому гуманисту сэру Джону Боурингу...
В тот вечер, когда Розалинда била Янку по лицу, она ушла слегка покрасневшая, но вполне удовлетворенная, словно этого и ждала, как будто так и надо было.
На другой день увидела, какой поставила ему синяк под глазом. Янка все же очень приятный и красивый. Но как смутился! Теперь ясно видно, что она ему нравится... Good-looking boy![58]
Но также всем известно, что она недоступна! Красавчик хотел было жениться, но... Трус! Трус! Иди в театр и смотри ведьм Шекспира! Розалинда о нем не вспомнит. Ах, какие ласковые руки у Янки, как это понимают коровы! И какой рыжеватый, аристократический отлив его волос! Но только и пленный не должен забываться!
– А в России есть хорошие коровы? – наивно заговорила Розалинда за обедом.
– Только у летонов! – ответил Янка гордо. Он тут выложил, кто такие летоны, при этом сказал про себя, объяснил, где живут летоны, и рассказал, какой у них скот.
– А у русских?
– У русского тоже есть корова. Но рябая и маленькая, как коза, и дает совсем немного молока. У них и вороны черные, мелкие, живут в Москве на крестах и на царских дворцах и летают тучами над городом. Это я сам слыхал... Но кричат не по-вороньи, а как воробьи.
– Все, что вы рассказываете, очень интересно! И я бы хотела видеть купола святых церквей Руси! – мечтательно сказала Розалинда.
Она узнала, что существуют только две истинные христианские веры: англиканство и православие.
ЗАСЕДАНИЕ В КИТАЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Во всех практических делах – а война есть дело сугубо практическое, – китайцы намного превосходят все другие восточные народы, и нет сомнения, что в военном деле англичане найдут в них способных учеников.
Японец Точибан Коосай, зачисленный в русский отряд под именем матроса Прибылова, читал доклад, не произнося ни слова. Тесная и горячая аудитория его отлично понимала. С блеском и быстротой заполнял он черную доску на стене столбцами иероглифов, выделяя некоторые, особенно важные, элегантными росчерками, что изобличало в нем художника. Не зря богатые компрадоры, его покровители, украшали свои бумаги виньетками и рисунками Коосая.
Точибан выказывал свое хорошее воспитание, тонкий вкус, принадлежность к высшему классу. А китайцы видели в его докладе свое историческое и культурное первородство.
Если докладчику приходилось упомянуть что-то подходящее по стилю к серьезному изложению серьезной темы, то Прибылов обращался к Гошкевичу по-японски, по-русски или по-английски, и тот передавал устно по-китайски.
Все видели, что высокий рыжий господин говорит довольно правильно, и слушали китайскую речь Осипа Антоновича внимательно. Хотя можно сомневаться в основательности его познаний. Нет западных иностранцев, которые во всей глубине могли бы постигнуть знания и культуру, созданные китайцами. Возможно, как все они, ловко нахватавшийся! Объяснял толково и немного шутил. Это приятно, возбуждает пылкую симпатию публики.
Тема доклада занимала всех. Название ее опять изменилось, накануне она была объявлена как «Значение России для азиатских народов. Почему они тянутся навстречу русским, как муравьи на сахар». Сегодня читается под заголовком: «Япония и ее открытие для торговли с Китаем, как с самым большим государством мира».
Название доклада менялось несколько раз. Реклама была другая, но суть содержания, как казалось Гошкевичу, не менялась.
Точибан в глубине души сам не убежден в том, что сегодня докладывал. Но старался выказать веру в свои доводы. Как ему известно, самые горячие сторонники не те, кто верит в дело и готов за него умереть, а те, кто ищет в новой вере надежных выгод. Или хочет обрести устойчивое положение. Точибану приходилось и об этом подумать. Прибылов желал твердо дать понять, чей он сторонник. Китайцы, как всегда, считая себя более опытными, полагали, что японцы народ очень легкомысленный. Но доводы и понятия человека из Японии хотели знать.
На доклад прибыло много богачей и ученых, есть гости из Кантона.
Иногда сборище китайцев степенно шумело, раздавались вскрики восторга за столиками и на скамейках под полированными деревянными балками в обширном помещении.
Осип Антонович догадывался, что тут не только общественное собрание, в другое время, по-видимому, даются представления, что-то вроде театра или кабаре, где очень приличные артистки иногда под собственный аккомпанемент на барабане целыми вечерами поют и рассказывают о подвигах исторических героев Китая.
Слуга носит ведро с кипятком и полотенце, опускает его в воду, выжимает, выкручивает и тут же дает освежиться. Мистер Вунг вытирает лицо и лысину, возвращает полотенце, оно снова опускается в кипяток и предлагается другому джентльмену.
Коосай, прибыв на доклад, снял свою черную шляпу и бросил в нее перчатки, совершенно как европеец. Все заметили это легкомыслие! Разве в этом суть! Типично японское легкомыслие! Но сейчас гость выказывал себя ученым. Познавшим премудрости китайской науки.
Вдруг Прибылов заговорил по-китайски. Он сразу разочаровал аудиторию. Так коверкал слова, что слушатели совершенно не понимали, словно говорил на другом языке. Но, конечно, это их речь. Все были вежливы и воспитаны.
– Хо! Хо! – раздался всеобщий крик одобрения.
Вдруг все встали. Аудиторию охватил необычайный энтузиазм. В помещение вошли два высоких джентльмена в черном. Сам сэр Джон Боуринг – губернатор Гонконга. С ним белокурый, довольно молодой, или, может быть, моложавый, господин, стройный и, судя по осанке, очень опасный и крепкий. Конечно, переодетый новый морской генерал. Черная повязка на бледном лице закрывает левый глаз. Другим глазом смотрит строго и зорко, как все кривые. Морское войско Англии значительно усиливается.
Джолли Джек в униженном поклоне засеменил навстречу. Не разгибаясь, с сияющей улыбкой пошел вровень с гостями, иногда чуть отступая и открыв ладони гостеприимно распростертых рук.
Множество тучных спин гнулось, и бритые головы с косами низко и почтительно кланялись.
Губернатор Джон Боуринг и адмирал Майкл Сеймур, недавно прибывший в Гонконг, явились к китайским тузам. Оба знатных англичанина в сопровождении адъютантов в штатском. Большая честь! Гостей провели к немедленно поставленным для них бархатным креслам.
Точибан Коосай поклонился и оставался так некоторое время. У ног сэра Джона сели переводчики с японского и с китайского. В их числе тот самый мистер Джон, который был рыбаком на родине, пропал в шторм с судном, а явился в Японию через несколько лет в цилиндре, ходил по Нагасаки, объявляя себя иностранцем. «Нью бритиш» – так заявлял он о своей национальности!
Губернатор дал знак продолжать и, видя, что Точибан разогнулся, взглянул на него ободряюще.
Коосай почувствовал особенную ответственность. Тут собрались высшие лица, учителя жизни. Также знатные коммерсанты, как у них в Осака. Ханьские люди! И самые сильные западные; хозяева жизни и смерти.
Новый командующий! Которого все ждали с замиранием сердца. Его еще никто не видел! Весь флот в страхе! Все распоряжения и приказы исполняются мгновенно. Тысячи пиратских джонок будут уничтожены. Одноглазый морской генерал воевал в северных морях! Это видно по его незагоревшему, болезненному лицу. Кривые всегда очень злы. Хотя Гошкевич как-то уверял, что Кутузов был кривой.
Едва смолк докладчик, как Точибану предложили вопросы. Были доброжелательные, очень простые, даже бытовые вопросы, самого обычного низкого житейского свойства. Это ничего. Ведь задал же шогун Японии одному из допущенных к нему европейцев подобный вопрос. Он спросил, правда ли, что западные люди за обедом не снимают обуви? Но иногда бомбардировали Коосая снарядами большой силы. Чувствовались богатства цивилизации. Все, чем гордилась Япония, в этом случае оказывалось заимствованным.
Прибылов не смотрел на Боуринга, но чувствовал, что всесильный игирису[59] внимательно слушает и читает иероглифы. Сам сэр Джон на его выступлении! Не только разрешил, но и сам приехал!
Китайцы спрашивали докладчика очень искренне и действительно всем интересовались, как добрые соседи. Они же очень вежливо умеют задать оскорбительные вопросы. В этом не уступают японцам – потомкам богини Аматерасу. Но нельзя и вида подать, что неприятно выслушивать.
Точибан и прежде знал, что китайская философия – огромное здание, построенное за тысячи лет неустанной работы мысли. Все, что он учил когда-то как нечто отвлеченное, тут жило; тут все было определено, все обдумано. Законы нравственного развития семьи и общества крепко установлены и, видимо, неуклонно соблюдались. О них часто и умело упоминали. Выказывали быстроту суждений, сыпали терминами. При этом Точибан помнил про необычайную ловкость дельцов, про торговые обороты, про опиум – жизнь тут кипит. Голова кружится у скромного японца. Философия сама по себе, а компрадоры сами по себе, но все это одно и то же, все это единая великая жизнь, основанная на высших идеях. Идеи и игральные кости! Как говорит О-сё-фу-сан: «Ханьские люди, мой свет!» Банковка! Хунди-хайди – азартные игры, растление! Опиокурилки! Все изучают нравственные законы и тут же дают курить. И всюду восстания против богатых. Однако здесь что-то было старшее для японца в этом обществе.
Духота, у всех веера, все потные, и нет потолка... Отлично отделанные балки держат крышу над головами. Так же крепко стоят на конфуцианских устоях учреждения и общества. Кажется, они решили показать островитянину свои большие континентальные мысли? Точибан показывает, что японские мозги не тупеют. Он не спешил с ответами и отвечал с достоинством – так он познавал здешнюю жизнь в новом свете. Она заманчива, хотя бы сочетанием высокого развития и изобилием дешевых пороков. Это Китай на английский лад. Оживленней, чем у самих англичан! У тех, судя по Стирлингу и его эскадре, сухая скаредность и очень устойчивое высокомерие...
Не зря Кавадзи, всесильный чиновник Кавадзи, учил: познавать! Каждый познающий принесет пользу. Предложил посылать молодых людей в чужие страны! Для полного изучения эбису[60]. Но законы это запрещают. Точибана пришлось посылать по способу «горелое мясо».
И вот Точибан, японец, ставший русским, в плену у англичан скитается по китайским приемам и опиокурильням.
Еще вопрос: «Имеют ли острова, на которых расселился ваш народ, какие-нибудь собственные названия?» Подразумевается, что основные и коренные названия китайские...
А он сам – горелое мясо! Притворяется бежавшим от пыток из своей страны. Это расплата. Его не казнили, а приговорили: быть «горелым мясом» от имени государства. Приходится терпеть и учиться. Такова расплата за грехи, за стремление к власти, за неудачи в политических интригах! Другие оказались ловчей, хотя совершили преступления. А Точибану стать опиокурилыциком по-китайски? Алкоголиком по-английски?
– Ваше превосходительство губернатор и пэр королевы Великобритании и колоний, сэр Джон Боуринг, – с восторженной горячностью заговорил Джолли Вунг, когда доклад закончился. – Ваше высокое превосходительство командующий флотом и славный адмирал и пэр нашей королевы сэр Майкл Сеймур! Китайский банкет! Общество приглашает вас!
В соседнее зало открылись входы, широкие как ворота. Одной стены не стало, и там луна сияла над черным тропическим садом. Вспыхнуло множество свечей на столах и в фонариках. Помещение проветривалось ночной морской прохладой через открытую стену, словно подняли витрины в большом магазине.
Множество слуг в голубых кофтах. Необычайное новшество: юные китаянки с цветами в прическах скромно подносят гостям букеты и делают европейские реверансы.
Стол под белоснежными скатертями ломится от множества китайских блюд...
Вунг мог бы удружить дорогим хозяевам жизни и смерти... После банкета – редкие, иначе говоря – запретные, удовольствия!
Но оба английских джентльмена так строго приличны, так чисты и благородны их нездоровые белокожие лица, так они походят на благочестивых англиканских пасторов, что им нельзя предложить ничего подобного.
– Я вам это как англичанин говорю! – кричал за высоким банкетным столом, обращаясь к сидевшим вокруг джентльменам-китайцам, выпивший лишнего японец Джон Джонс. – И вы не смеете мне противоречить. Да, да, – добавил он и покачал пальцем перед носом соседа, а другой рукой поправлял галстук.
...Во вторник в мраморном особняке Джордина, в прохладной комнате при библиотеке, сборище почтенных джентльменов в усах и пышных бакенбардах выслушивало невероятно интересное сообщение синолога и япониста русского посольства. Не задавалось никаких вопросов о дипломатических отношениях России с Японией или Китаем. Гошкевич не сообщал никаких служебных сведений. Он показывал чучела. Демонстрируется прекрасная коллекция набивных птиц и зверей. Задается много вопросов о японских собаках. И о лошадях. О тех самых пришлось рассказывать, которых наш друг Ябадоо, или Сугуро, разводил в горах для продажи, а двух ежегодно отводил князю Мидзуно в подарок – отцу прелестнейшей барышни, за которой ухаживал Григорьев.
Боже, цепь воспоминаний о чужой стране! Как она живуча! Как милы воспоминания! О-сё-фу-сан! – так ведь там все звали Гошкевича! Или: «Человек в мундире цвета хурмы», и еще: «Человек из породы хромоногих»...
Но подлинную сенсацию произвел Точибан Коосай.
В черном сюртуке и в галстуке, как замечал Осип Антонович, у него было одно из тех лиц, какие попадаются и у нас в петербургском чиновничестве и даже во дворянстве.
Сегодня Точибан отвечал блестяще: кратко и скромно, сурово и почтительно. Потом, в гостиной, он пил кофе, сидя среди англичан, и довольно хорошо разговаривал по-английски и держался так, словно всю жизнь провел в европейском обществе.
Джордин, дружески разговорясь с Точибаном, предложил посмотреть книги, увел в библиотеку. Разглядывали корешки, обложки, иллюстрации. Кое-что Прибылов мог прочесть. Присели за небольшим столиком между шкафов, закурили сигары.
– Все, что я вижу, меня очень восхищает.
– Вам бы хотелось побывать в Англии? – спросил Джордин.
– Да.
– Вы хотели бы жить в Англии? – осведомился всесильный негоциант.
Нахал Джон, который служил переводчиком у Стерлинга, никуда не годен. Носит английское платье и объявляет всем черт знает что.
– Да... – печально добавил Точибан. – Но... это... о... очень трудно...
– Почему же трудно? Можно сделать все. Нужно только ваше согласие.
– Да, – согласился, твердо кивнув головой, Точибан и добавил: – Но... я еще не могу.
– Почему же? Скажите прямо!
– Я... очень... больной...
– Чем же? Легкие?
– Нет. Это-о... Хуже... Мне стыдно признаться.
«Сифилитик! – отпрянул мистер Джордин. – За моим столом! Ел из нашей семейной посуды?»
...К Точибану не впервые приставали с предложением, чтобы он перешел на службу. Он понимал: им тут нужен образованный японец.
Ах боги, и так больно и горько, да еще приходится наговаривать на себя, сочинять небылицы, чтобы не завербовали в разведку, чтобы довести до конца и честно исполнить указания родины, данные «горелому мясу».
– Вы знаете, ваше превосходительство... кроме того... я – очень тяжелый... запойный... алкоголик... Поэтому я бежал из Японии, совершив преступление.
Джордин молчал, ошеломленный.
Коосай помолчал и опустил голову, как на суде.
– Я убил беременную женщину, свою любовницу... Я много убивал... женщин...
Он говорил бесстрастно, пряча глаза. Потом поднял их. Глаза холодны, как черный лед. Он смотрел не мигая.
– Поэтому я решил бежать с русскими. Они не хотели меня брать с собой... Я их упросил, скрыв, что я совершил убийство... Я, конечно, был еще... болен... но не так, как вы подумали... Но... Спасибо, спасибо вам!
Казалось, Точибан очень тронут.
...В тот вечер сэр Джон Боуринг также сидел с гостем в своей библиотеке, и на обширном столе перед ними были груды книг о Китае и Индии и многочисленные старые и новые карты.
Адмиралу Майклу Сеймуру говорил о французском маршале Бюжо. Командуя экспедиционным колониальным корпусом в Алжире, в сороковых годах, Бюжо сменил в своих войсках кивера на кепи. Первый полк тюркосов сформирован им в 41 году. Но чалма была оставлена офицерам и солдатам туземных войск во всем Алжире, и покорение успешно закончилось. Император предупредил пруссаков и баварцев, что в случае их нападения он приведет тюркосов на Рейн... Наш sepoy[61], который сражался в Пенджабе, также носит чалму.
Да, всем известно, что сипаи справились с пенджабцами и завоевали для Англии их страну. И это после того, как белые войска британской короны испытали в Пенджабе некоторые неудачи. Бенгальцы теперь преувеличенного мнения о своей доблести. Европейских войск в Индии мало, не хватает. В Индии брожение... Впрочем, как всегда.
– В каждой стране при формировании туземных войск свои особенности, – сказал сэр Джон. – Португальцы дали пример, формируя войска сипаев. Но в Индии чересполосица наций, фанатизм, касты. Бенгальские войска неверны, но в Китае будут сражаться, Китай един и многолюден, в этом особенность. Это не Индия с ее множеством разноязычных народов и верований!
Речь шла о сформировании наемных войск из китайцев для войны против Китая.
– Сначала без оружия! – сказал адмирал Майкл Сеймур. – Дадим при удобном случае, после первых испытаний.
– В Китае очень сильно стремление личности к благосостоянию, – продолжал губернатор, – и это при том развале, который происходит в государстве и в армии, становится смыслом жизни всех, в том числе власть имущих и образованного общества, то есть чиновников. В стране нет иных образованных людей, кроме имеющих чины. Сама степень образованности – чин. И наоборот. Такая взаимозависимость накладывает особый, неповторимый отпечаток на всю их умственную жизнь. А народ голодает; большинство находится на крайней степени нищеты. Они так ценят еду, им так тягостен вечный голод, что за питание и одежду встанут под любые знамена, чтобы почувствовать себя людьми. Наденут на грудь нашу ленту с надписью military service... К оружию их придется приучать... Комплектацию возьмут на себя компрадоры, и они же дадут часть денег.
Формирование сипаев – войск в Индии из туземцев всех племен, рас и верований – начали португальцы еще в XVIII веке. Теперь мир полагает, что англичане первыми начали формировать туземные войска в своих необозримых индийских колониях. Как всегда, история быстро забывается, особенно первым поколением, и потом ее уже легко искажать.
Из индийской армии в Крым ушли полки коронных войск, состоящие из европейцев. В Индии осталось сорок тысяч британцев на двести пятьдесят тысяч сипаев. Сэр Майкл Сеймур на пути в Гонконг заходил в порты Индии. По всей стране происходит брожение, туземцы поддаются яростной пропаганде фанатиков, протестующих против нового закона, введенного англичанами, запрещающего детоубийство девочек... Готовится новое восстание сипаев. Англичане в Индии, как всегда, беспечны и ничему не придают значения, пока не грянет гром.
Всюду на базарах пророки провозглашают конец их владычества.
Несмотря на брожение в индийской туземной армии, два батальона сипаев уже присланы в Гонконг и выказывают готовность к решительным сражениям с китайцами. При виде «небесных» бенгальцы разъяряются и забывают свои претензии к англичанам. Сэр Майкл вполне согласен, что в туземных войсках в Гонконге, которые пойдут в Китай, надо утверждать в офицерских чинах, вплоть до капитана, командиров бенгальцев, пенджабцев и афганцев, чей военный опыт и храбрость очевидны. Нельзя знатных туземцев оставлять на фальшивом положении, держать на должностях сержантов и капралов. Это само по себе вызывает недовольство. Здесь начинается решительная реформа.
Да, в Индии неприятности. Сэр Майкл рассказывал разные эпизоды. Посылка войск сюда задерживается.
Мандарины в Кантоне хотят избежать конфликта всеми способами. На них движутся тайпины – об этом упоминал сэр Джон. Но когда десантные войска из Индии прибудут и снаряжение окажется в достаточном количестве, повод будет найден, как бы «небесные» ни береглись. Это ясно и без слов. Китайцы же пойдут на службу в английские войска, и формирование батальонов «милитери сервис» начнется полным ходом. Но надо помнить: Бюжо сохранил чалму для тюркосов!
– Коса, халат и шляпа будут оставлены батальонам «милитери сервис». Пока наша подготовка происходит негласно. Она может быть закончена с величайшей быстротой и эффектом. Голодные китайцы возьмут в руки не только лопату для сооружения земляных укреплений, не только рогульку на спину для переноски военных грузов с кораблей королевского флота на берег материкового Китая...
– Но и нарезное ружье?
– Лучше не давать. Если они научатся воевать, мы сами не будем рады. Надо войска, но без оружия. И без оружия это будут отличные войска.
– Вы полагаете, что не надо срезать косы?
Не хотелось бы Майклу Сеймуру брать на суда своего флота десант из косатой морской пехоты, в халатах с лентами на груди, на которых написано по-английски и по-китайски, что королевские солдаты...
Майкл Сеймур, просматривая бумаги, обратил внимание на рапорты английских офицеров с объяснением неудачных попыток совершить в минувшую кампанию опись побережья Татарии, лежащего северней Кореи и протянувшегося до устья реки Амур. Некоторые гавани, как выяснилось во время военных действий, оказались превосходными. Они заняты небольшими отрядами войск и кораблями противника. По слухам, в южной неисследованной части Приморья также существуют превосходные бухты. В копии с рапорта капитана французского корабля «Сибилл», пересланной французским адмиралом английскому командующему, сообщается, что при описи южного берега там, где его меридиональное направление меняется на широтное у безымянного мыса, с указанием широты и долготы, французами был встречен и потоплен двумя выстрелами русский палубный бот. Команду спасти не удалось. По сведениям, собранным от китобоев и туземцев, она была смешанной и состояла из крестьян-квакеров и военных моряков. Судя по этому, можно предполагать и о продвижении противника к югу от Де-Кастри.
...Интерес к Китаю в коммерческих кругах в эти годы превосходит интерес к Индии. Там доходы от налогов. И, конечно, от торговли. Но здесь доходы еще не бывалые ни в одной колонии.
Интерес к Китаю пробуждает интерес к его флангам. Не пустынно ли в гаванях Приморского юга Татарии? А там, на флангах Китая, бухты могут оказаться такими же драгоценностями, как и на севере. Опасны не описи военных моряков, а появление крестьян-колонистов! Если это не сказка и не домысел полусумасшедших сэра Джеймса и его ныне ушедшего французского коллеги!
Адмиралы на линейных кораблях совершили к тем берегам бесполезное плавание.
– Мои офицеры, взявшие в плен команду «Дианы» и проводившие много времени с ближайшими сотрудниками Путятина в кают-компаниях, поставили меня в известность, что среди русских, находящихся ныне в Гонконге, есть участники экспедиций в южные гавани, о чем они никогда не распространялись. Они, конечно, знают больше, чем говорят. Американцы свидетельствуют, что русский адмирал в Японии похвалялся перед коммодором Адамсом своей описью залива у корейского берега, который он назвал именем русского капитана Посьета. Путятин описал другие гавани, и в одной из них, которая якобы может вместить все флоты мира, он построил крепость и ортодоксальный собор из бревен лиственницы...
Сэр Джон слышал об этом в несколько ином изложении. Сэр Майкл Сеймур докапывался до сути дела, и его версия достоверней. Адмирал Стирлинг, видимо, ничем не интересовался. Дело обратило на себя внимание сэра Майкла Сеймура. Ему стоило раз взглянуть – и он понял все...
Боуринг выслушал очень внимательно. Ведь это было как раз то, что занимало и его. Между приамурскими владениями России и Китаем, видимо, лежит область, почти не исследованная и пустынная, но находящаяся в прекрасном для европейцев умеренном климатическом поясе. Там, видимо, не знают чумы и холеры.
То, о чем предупредил губернатора японец Точибан Прибылов, было наиважнейшим. Никто не понял японца, как сэр Джон. Азиаты направляют взгляды, преисполненные надежды, на Россию! Не на Англию и не на Францию. Грубо говоря, нужно вбить клин, чтобы взгляды горячих азиатов потухли.
Прежде всего нужны добросовестные исследования. Флот готов. У Майкла Сеймура отличные винтовые корабли, есть суда малой осадки – для входа в реки, для прохода через бары. Есть опытные штурманы, совершавшие немало описей. Знаменитый master[62] Френсис Мэй. Новый командующий изучает карты. Занимая гавани Приморья, если это окажется удобным, мы усиливаем давление на «небесных».
План военной кампании 1856 года, в случае продолжения войны против России, отчетливо проступает в суждениях молодого адмирала.
Война с Китаем – дело очень трудное. Победить такую громадину невозможно. Но коммерсанты и расчетливые вымогатели уступят. Удар направить против чувствительных мест – по торговым городам. И задеть интересы, лишить правительство доходов. Пока мандарины не могут поднять на войну массы населения, так как сами опасаются своего народа.
Коммодор Чарльз Эллиот уверяет, что мандарины под предлогом сохранения военной мощи уведут войска подальше, а под огонь морской англо-французской артиллерии поставят сотни тысяч детей и не ведающих о сути событий женщин, чтобы потом вопить о зверствах рыжих варваров.
Боуринг согласен с молодым адмиралом. Надо дать дело флоту. Наши мальчики рвутся в бой, желая отличиться. Они удручены бездействием и вялостью командующего.
Майкл Сеймур упоминал об осведомленности пленных офицеров. Но кто же добудет сведения? С ними в дружбе американцы – хозяева судов, коммерсанты и банкиры.
Адмирал Путятин был откровенен с американским коммодором в Японии. Почему бы гонконгским американцам не вызвать их снова на откровенность? Сэр Майкл совершенно прав! Узнать надо все, что можно узнать!
– О-сё-фу-сан! – пылко сказал Прибылов, стоя в маленьком номере гостиницы перед Гошкевичем. – Когда я занимаюсь составлением словаря, это очень увлекает. И даже такому, как я, хочется быть порядочным человеком среди вас – моих друзей. Я готов вам признаться в том, чего никто в целом свете не знает... Кроме японского правительства! Я знаю вас и не прошу хранить тайну... Но, признавшись, я стану чист перед самим собой, но нечист в глазах людей... Я скажу вам завтра.
На другой день сидели с утра и опять занимались словарем.
За обедом Точибан сказал:
– Вчера я очень... ира-ира... Но сегодня раздумал... но... я полагаю... вы... сами догадались.
КИТАЙСКИЙ ТУЗ
Поскольку русские не вели морской торговли с Китаем, они никогда не были заинтересованы в спорах по этому вопросу, никогда не вмешивались в них в прошлом и не вмешиваются теперь; на русских не распространяется поэтому та антипатия, с какой китайцы с незапамятных времен относились ко всем иностранцам, вторгавшимся в страну с моря, смешивая их не без основания с пиратами-авантюристами.
Казармы пехотного полка помещались внутри цитадели, обнесенной невысокой каменной стеной. Это недалеко от отеля. Мусин-Пушкин с товарищами пришли пешком.
Двухэтажное здание с квартирами семейных и холостых офицеров стояло на берегу моря. По второму этажу оно обведено сплошным широким балконом, над которым натянут тент. В обширной комнате с открытыми на балкон окнами и дверьми сервирован стол.
Поначалу разговор не ладился, но понемногу все оживились – и беседа завязалась. Задавал тон сидевший во главе стола тучный, рослый майор с пышными усами.
– Три года тому назад, – продолжал он, – за этим столом мы принимали адмирала Путятина и офицеров фрегата «Паллада»... Мы рады были познакомиться со спутником и секретарем адмирала, известным писателем и прекрасным молодым джентльменом, Ива-ном Алек-сандро-ви-чем Гончаровым... Прошу вас, господа, от имени командира нашего полка и наших офицеров за этим столом, за которым так привычно принимать гостей из вашей страны, быть ежедневно нашими собеседниками и товарищами...
«...Офицеры и есть офицеры, – сказал себе Мусин-Пушкин, вспоминая прием следующим утром. – Военная косточка! Ничего не скажешь! Порядочные люди! Не чувствуешь никаких подвохов, никакого в их речах нет скрытого смысла. Они и угощали искренне. Для меня их общество самое приятное в Гонконге. Однако продолжать посещение их столовой невозможно, приглашение столоваться очень любезно отклонено, дали понять почтительно: не смеем, так как они военные и мы военные и принадлежим к сражающимся друг против друга армиям. А мне с ними спокойней всего, и чувствуешь себя в среде порядочных людей. Конечно, по некоторым физиономиям можно угадать солдафона. Да как будто у нас их мало! Может быть, как все военные, закладывают за ворот от скуки; так говорят про них американцы.
Вот так и получается, что отважные и порядочные люди должны сражаться и уничтожать друг друга. Ради... Я не уверен, что и у нас в Петербурге все благополучно... А с теми, кто мне приятен и с кем мне спокойно, я ради чести, порядка, дисциплины отказываюсь встречаться наотрез! Что же делаем сегодня?»
И, словно повторяя мысли Александра Сергеевича, этот же вопрос вслух задал юнкер Урусов, когда все собрались за завтраком и ели зеленые бананы, жаренные на бобовом масле наподобие картофеля.
– Что же сегодня? Куда?
– Да, что же, господа, куда идем сегодня?
– А вы забыли? – сказал Шиллинг. – Сегодня важное событие: мы приглашены на обед к мистеру Вунгу.
Да, он приглашал. Надо идти. А то получается, что порознь охотно с ним встречаемся, но не очень-то обнаруживаем это друг перед другом.
– Прав Николай! Надо побывать всем вместе!
– Мистеру Вунгу очень нравится, когда его называют Ванькой Каином, – заметил Прибылов и тут же поспешно пожелал, чтобы сегодняшний обед господа офицеры провели приятно. Показал вежливый японец, что он не претендует на участие и не напрашивается на китайский пир. Его и не приглашали, и нельзя. Ясно это и ему. Хотелось ему вчера очень и в казармы к офицерам местного полка картинных солдат в красных мундирах и в медвежьих шапках, какими их для японцев рисовали послы и офицеры Англии, каких мечтал повидать в жизни хоть раз каждый воинственный самурай. Да жарко в Гонконге, шапки, кажется, редко надевают: только на часах у дворца губернатора стоят солдаты во всей красе. Очень заманчиво было бы посидеть в гостях у английских офицеров во дворце-казарме с колоннадой и торжественным въездом в укрепленный двор. И хотя все солдаты там без парадных мундиров, но можно вообразить, какое множество роскошных красных гвардейских одежд войска королевы развешано и разложено в спальнях! Точно Прибылову многое неизвестно, а хотелось бы знать все. Очень обидно, что посещения официальных обедов с офицерами ему запрещены. Все ругают тех, кто тайно что-то делает. А как же жить иначе, если все запрещено, открыто делать ничего не разрешается. Приходится Точибану с обиды пропускать на чужбине рюмку виски, как матросы говорят, «по-фельдфебельски», то есть в одиночку. Тоже тайно. И полагаться на свои гениальные способности оставаться незамеченным.
– О-о! Господа! Заходите, заходите! – при виде гостей в своем саду восклицал мистер Вунг с таким же пылким радушием, как когда-то встречал он ватаги английских моряков, приходивших к нему в знаменитую кантонскую харчевку «Jolly Jack»[63] пить чудовищный напиток его собственного изобретения, смесь виски, вина, сока, настоя на любострастных кореньях, сахара, табака и чуть-чуть «чего-то» вроде опиума.
У мистера Вунга высокий богатый дом с садом. Крыша шатровых ворот с приподнятыми краями. Есть что-то знакомое, похоже на постройки в поместьях японских князей. Совершенно как у лидера клана Мидзуно!
В доме мистер Вунг снял шапочку и снял косу. Обтер голову полотенцем, которое подал бой.
– Эта глупая коса совершенно не нужна. Очень глупая! Я не могу выносить этого обычая. Великому народу шайка маньчжурских спекулянтов навязала глупый обычай унижения – носить косы. Ханьский народ обабился? Правда? У меня привязная коса. Я только на выездах надеваю косу, показывая, что все мы верны и единодушны в преданности. Да... да... Ха... ха... Как я рад! Есть ли у вашего государства обязательный обычай носить на голове какое-то свидетельство всеобщей глупости? Ха... ха... ха...
Бойки с косами засуетились, подавая плетеные стулья.
– Мистер Ред Ровер – Пиратский Флаг! – показывая себе на грудь, восклицал хозяин. – Китайская морда! – хрипло закричал он по-русски.
Он схватил руку Сибирцева, которому симпатизировал, и стал жать ее и трясти.
– У нас так: мистер By, мистер Ван, Шин... Ли, Сан, Сы, У, Лю, Тю, Па, Чи, Ши... Они же стали: Джек, Джон, Джим... Ха-ха! Все переехали из Кантона в Гонконг!
Бойки приняли от гостей пустые стаканы из-под аршада, и хозяин повел гостей по комнатам.
– Европейский стиль! Английские картины! А эта – китайский стиль...
В одной оказалась обширная библиотека китайских и английских книг.
– Благородный дом и «пахнет книгами»! – шутил мистер Вунг.
Он повел гостей дальше.
– А тут моя маленькая обсерватория! – сказал хозяин, почтительно открывая перед гостями дубовую полированную дверь.
Компасы, хронометры, навигационные приборы, подзорные трубы и бинокли, барометры и термометры. В углу стеклянный купол в потолке. Прекрасная астрономическая труба.
– Это мой Гринвич... Еще комната европейского стиля – картинная галерея, вот подарки губернатора Гонконга. Подлинный Тернер! Великие испанцы! Подарки губернатора Макао! Еще китайский музей: живопись на шелку и на бумаге... Вот водяные краски... Вы знаете этого знаменитого художника? Это очень уважаемый... Вы, конечно, знаете... Цао-сеншень...
Да, но вот тут-то мы туговаты. Шли к нему снисходительно, как к богатому киргизу... Знаем хотя бы, что сеншень – это то же, что у японцев сенсей, то есть учитель. Вежливая форма обращения к старшему, к профессору.
– Цао Бу-син! Это его «Муха»! Он жил, может быть, в таньскую эру... Создал шедевр случайно. Уронил каплю на рисунок. Император решил, что это муха, и хотел ее согнать... Ха-ха! Вы помните, конечно?
– Да, я слышал! – сказал Урусов. – Рад видеть подлинник.
– Подлинник Цао – ширма... – остро глянув, ответил Вунг. – «Человек и лошадь из Самарканда»... копия, конечно, – поспешил предварить хозяин, – в те времена... Есть вид чайной розы, которую очень трудно рисовать, это стало известно в Академии живописи, я думаю, пять веков тому назад... но, может быть, шесть?
«Он мог бы спросить: а у вас была пять веков тому назад Академия живописи? Вы рисовали тогда чайные розы? Вы слыхали о них? Мало что не было у нас Академий, а мы еще и то, что было, забываем из чисто чиновничьих, холуйских соображений, в угоду славе Петра Великого – преобразователя. А как они когда-нибудь войдут в силу да подымут все свои династии, периоды и академии? Тут трудней, куда трудней, чем у Боуринга и Джордина. А мы, оказывается, не готовы... Гошкевича нет, остался, занимается с Прибыловым. Они оба у Вунга свои люди, бывают тут запросто, всегда могут зайти. Какими тут нелепыми представляются намерения члена нескольких европейских академий сэра Джона бомбардировать Китай беспощадно...»
Вунг сказал, что один великий китайский император покровительствовал искусствам, но был взят в плен... Ха-ха... ха... какими-то народами... ха-ха-ха... Может быть, теперешними вашими инородцами: гольдами и гиляками...
«И Боурингу и Джордину, конечно, пришлось бы тут не легче, чем нам! Да, они знают край и не упадут! Стреляные воробьи!»
Вунг показал коллекцию ажурных изделий – женских украшений из яркого китайского золота. Фарфор...
– Хозяин также имеет самый большой склад «иностранной грязи»! Так народ Китая окрестил опиум. Хотя считается – не я хозяин! Два парусных корабля! И два парохода! Приписаны к Гонконгу и ходят под английским флагом! Еще один – буксирный! Капитаны и механики – англичане! Но пиратских судов уже не имеется... О-о! Эу! Ха-ха-ха! Ах, Пиратский Флаг! Ах, китайская морда! – закричал басом Вунг и поднес себе кулак к усам.
После чая Вунг провел гостей по небольшому саду с редкими миниатюрными растениями.
Персиковое дерево. Ива у пруда.
За обедом присутствовал молодой человек с умным лицом, с грустным взглядом и с сединой в усах. Он одет в черный шелковый халат. На высокой голове черная шапочка-«дынька» с крупной голубоватой жемчужиной.
– Ученый и писатель мистер Чан! – отрекомендовал его хозяин. – Автор философских книг. Бежал из своей страны от преследований. Там ему не разрешили писать сочинения против англичан! Ха-ха! В Гонконге намерен выполнять свой замысел. У него своя фанза, огород... Персиковое дерево, пересаженное из сада друзей!
На столе появилась свежая крупная садовая клубника! В разгар зимы! Мистер Чан пояснил, что это очень ценный сорт.
– Англичане взяли этот сорт у меня, – заявил Вунг, – и вывезли в Англию! Там вывели и назвали именем нашей королевы: «Виктория»! Сейчас мистер Чан пишет книгу, в которой призывает народ Китая к борьбе против британских варваров. Очень умный человек.
Вунг подмигнул Сибирцеву и добавил по-русски:
– Но... в нем – китайская важность! Ха-ха!
– Англичане знают о книгах мистера Чана? – спросил Пушкин.
– О, да, да! – воскликнул хозяин, опять принимая веселый облик. – Ха-ха-ха! Им это все равно! Их это не беспокоит!
Вунг спросил Сибирцева:
– Вы не собираетесь в Кантон?
– Нет.
– Ах так! Разве не хотелось бы посмотреть Китай?
– Хотелось бы, но невозможно.
– Да? Как жаль! Да, да! Конечно!
По лицу Джолли и по тону можно заметить, что все не так, чуть ли не вполне возможно побывать и в Кантоне. Вунг взглянул значительно.
– Вы знаете, какие новости из Севастополя? Сегодня пришел почтовый пароход.
– Пока нет... Нам еще неизвестно.
– Кажется, в Севастополе началась очень сильная бомбардировка, – делая притворно кислое лицо, сказал Вунг. – Неизвестно, к чему это приведет. Может быть, решающая атака?
«Он не знает ничего, – подумал Алексей. – Там каждый день бомбардировки!»
– Нашли прецедент в истории Китая, – рассказывал мистер Чан. – В одно далекое царствование, когда власть была сильна, один знаменитый ученый был казнен за то, что писал историю государства у себя дома. Ко мне также придрались на этом основании, хотя в своем труде я обвиняю только тех иностранцев, которые приносят Китаю вред заграничной грязью.
– В наш век, – заметил Шиллинг, – нравственная философия уступает место философии социальной.
Юнкер спросил мистера Чана, знает ли он о республиканском строе и есть ли в Китае сторонники республики.
Вунг, зная, что на глупый вопрос можно интересно ответить, выслушав Чана, добавил от себя:
– В Китае невозможно... У нас, например, существуют в городах профессии: «Ободрать Дохлую Собаку» или «Если Прицепится, То Будет Раздувать»... Когда не будет императора и дворян, то такие искусные мастера по обдиранию встанут вместо династии... И тогда они будут прицепляться не к одиноким прохожим, а к целым соседним государствам, действуя по принципу: «Если Привяжется... Будет Раздувать»... Для вас это ново? При китайских императорах по древней традиции народ так не обдирается. С народа стараются брать как можно меньше налога, чтобы у государства не было обременительных богатств и чтобы не разводить лишних чиновников и не соблазнять воров. Народ беднеет сам без помощи государя. У нас все знают и без этого, что монархи во всем мире платят дань Сыну Неба и при этом находятся на иждивении у Китая. Это очень наивно, но очень миролюбиво. Поэтому в Китае всегда будет сильная императорская власть и строгие конфуцианские законы!
О восстании тайпинов не осведомлялись.
– Я очень польщен! – прощаясь, говорил мистер Вунг. – Я мечтаю завести струг, сапоги и гребцов, чтобы стать китайским Стенькой Разиным! Так, мистер Сибирцев?
Утром от мистера Вунга в отеле получены подарки: ящик мандаринов, ящик вина и почтительное письмо-свиток... Отдельный пакет с подарками Урусову, как родственнику императора великой России...
ГОНКОНГСКИЙ ПЛЕННИК
Точибан, приодетый по моде, зашел в номер, где все офицеры были в сборе, обсуждая, как обычно, известия с театра военных действий и собственные заботы.
На этот раз на японце «грей» – серый костюм. Сел на стул, закинув ногу на ногу, и закурил сигару. Он теперь все свободное время или с состоятельными иностранцами или с офицерами и как бы сам себя считает русским офицером.
«Мои матросы на черной работе и с деньгами, а мои офицеры сидят без денег. Переводчик одевается лучше нас и меняет костюмы», – подумал Пушкин.
– Как наши дела? – небрежно спросил Прибылов.
На днях Гошкевич, хваля японца, который составляет с ним вместе первый русско-японский словарь, сказал: «К сожалению, мой Коосай начал баловаться виски!»
Александр Сергеевич оглядел Прибылова пристально.
– Ты смотри у меня, – сказал он, – не смей пить! А то я прикажу тебя выпороть!
– Да, да, – соглашался Коосай.
Юнкер Урусов подошел и хлопнул японца по плечу.
Точибан просиял. Это впервые! Если рассказать, кто товарищески хлопает его по плечу, в Японии не поверят! Какая компания! Немного сердится Пушкин. Но Коосай знал, что говорил.
Точибан переменил ноги.
– Как наши денежные дела? – спросил он, пуская дым сигары к потолку.
– Очень плохи, господин Коосай. Может быть, мы вынуждены будем посоветовать вам на некоторое время вернуться к матросскому котлу, – заметил Шиллинг.
– Тебе, Прибылов, нечего брать пример с нас. Какое тебе дело, как наши дела? – ответил Пушкин. – Ты – рядовой, и это запомни. Не выставляй нам свою подкладку с золотой короной. Ты – дикарь! Это тебе в диковинку! Мишура! Чушь! Пойми, что для нас не в этом суть! Снимай-ка с себя весь этот дурацкий костюм, не воображай себя джентльменом. Как негр, ходишь в белом воротничке... Отправляйся, любезнейший, на черную работу вместе с нижними чинами и хотя бы себя прокорми честным трудом. А то слоняешься, как приживальщик. А нам своих забот хватает. А ну, встать! Я тебе приказываю!
Пушкин заметил недовольство офицеров.
– Спасибо, – ответил Коосай, поднимаясь. – Я так и поступлю. Но мне хотелось бы быть более полезным!
Точибан залез во внутренний карман. На подкладке пиджака вышита золотая надпись: «Лучший портной колонии мистер такой-то для мистера такого-то по особому заказу». И золотая корона.
Из кармана с этой вышивкой Прибылов вынул толстую пачку бумажных долларов.
– Пожалуйста, – с низким поклоном протянул он деньги, – примите триста американских долларов для общего нашего состояния Вы знаете, китайское общество состоит тут из очень порядочных... гораздо богаче и щедрей... И они говорят, что восхищены русскими.
– Так это от китайского общества доллары? – недоумевая, спросил Пушкин.
Он очень щепетилен. Коосай все это знал.
– Нет, это мои собственные. Английское научное общество не платит за доклады. Китайское общество имеет свои правила. Еще до доклада они выдали мне авансом немного денег, и я оделся, желая быть приличным. А это для вас.
– Это нам? – спросил Пушкин.
– Да, да.
– Или взаймы?
– Да, да.
– Только взаймы.
– Да ничего... Я также оставил деньги для моих товарищей по взводу рядовых морских солдат. Кроме того, мне заказан еще один доклад. Себе я тоже оставил...
Офицеры заговорили по-французски.
– Что вы узнали про Энн Боуринг? – тихо обратился Коосай к Сибирцеву. – Она, по-моему, не является законной дочерью губернатора сэра Джона. Мне кажется, приемная. Это, может быть, неудачное предположение... Но сэр Джон любит ее больше, чем трех своих законных дочерей.
– Не отстраняйте японца, не гоните на черную работу. Положение его как переводчика весьма удобное для нас, – говорит Шиллинг.
– Да, да... – соглашается Пушкин. Он полагает, что уж лучше взять деньги в долг у Прибылова, чем у Сайлеса. – Пусть остается все по-прежнему! – решил он.
Точибан не понимал французских слов, но суть уловил. Его трость, перчатки, воротничок, галстук, конечно, останутся при нем.
Пушкин заявил, что Прибылов может продолжать работать с Осипом Антоновичем, как и прежде.
– Но мне неудобно оставаться в чине рядового матроса. Не могли бы вы произвести меня в русского офицера?
– Нет. Этого нельзя, – ответил Пушкин.
Коосай, кажется, обиделся.
– Но я назначил вас переводчиком, как гражданское лицо, с правом жить в отеле и ходить в город. Что вам еще? У нас переводчик – лицо очень уважаемое, а не шпион, как принято у вас и у китайцев. Наши переводчики на переговорах сидят рядом с высшими дипломатами, а не ползают перед начальством как черепахи. Обычно такие переводчики, как наш Осип Антонович, становятся учеными, профессорами.
– Нет, я хотел бы стать офицером.
– Какой же вы решили прочесть доклад на этот раз? – спросил Шиллинг.
Немного поговорили про китайское общество. Про название доклада Точибан ничего не сказал. Он попросил позволения еще раз поехать в Китай.
– Как в Китай? – поразился Александр Сергеевич. – Это что за новость!
– На другую сторону пролива, – сказал Прибылов.
– Зачем? – спросил Гошкевич.
– Сиритай лес... изучать!
Офицеры оживились. Все согласны, что японцу можно съездить. Тем более что он там, оказывается, уже был, уверяет, что случайно.
– Но и нам бы интересно, – сказал Сибирцев. – Я бы, например, поехал с удовольствием.
Обратились в Сити-холл. На другой день отправились на берег с разрешения властей в сопровождении молодого английского офицера и переводчика-китайца, бегло говорившего по-английски.
Офицер довел до пристани, сказал, что дальше не пойдет, тысячу раз там бывал. Проводил, чтобы видела полиция и лодочники, что поездка с разрешения властей.
– Можете нанять любую из лодок.
Китаянка стояла на корме с длинным веслом, поворачивая его как винт, и при этом как бы слегка пританцовывала, покачивая бедрами. На ней опрятный, блестевший на солнце шелковый костюм, почти белый, но с розовым прицветом, как у нежных гвоздик: кофта, штаны выше щиколоток. Ноги босы и сильны.
– Здравствуйте, душенька Лю! – ласково сказал ей Алексей. – Это знакомая. Вы помните, в день нашего прихода она была на палубе, – обратился он к товарищам.
Кажется, Сибирцев видел ее не только на корабле. Коосай недоволен, ревнует. Неужели полагает, что все женщины Японии и Китая должны быть увлечены только им?
– Мисс говорила мне о вас... Я передал вам ее привет!
Каждый раз, поворачиваясь лицом, девушка улыбалась Сибирцеву. Гребет как танцует. Чем не кабаре на бедной лодке! Скуластенькое лицо, но не скуластей, чем у европеянок. Челка на лбу и красная роза в прическе. Китаянки не шли ни в какое сравнение с японками. Те скромны, тихи, тише воды ниже травы. Тихие омуты! Многочисленные перевозчицы в Гонконге держатся так, словно чувствуют себя дочерьми великого народа. Какие все красавицы!
Когда перевоз подошел к другому берегу, Точибан вдруг сказал Алексею по-русски, что он близко знаком с младшей сестрой этой лодочницы и у него было странное чувство: в страсти он хотел зарезать ее...
Переводчик в белой шляпе, сойдя на берег, сказал:
– Пожалуйста...
Он показал на фанзы крестьян под соломенными крышами. Над ними высилась бесплодная на вид, каменистая кулунская сопка. С другой стороны по берегу – груда лачуг и такая же груда лодок. Настоящие трущобы, отплывшие от города и приставшие у другой стороны пролива.
– Идите куда хотите, – сказал переводчик.
Гошкевич с Точибаном и Сибирцев пошли в деревню. Крестьянин обедал с сыновьями и работниками на циновках под навесом из рисовой соломы. Он угостил рисом и чаем. Удивился, когда Гошкевич заговорил по-китайски. Хозяин показал свои поливные поля. Хлеб и гаолян росли на гребнях, на покатых грядках. Рис в углубленных квадратах. Работник качает журавлем воду из колодца и непрерывно сливает ее в желоб. Вода разбегается по канавкам. Тут же замешены в вонючих ямах удобрения. Китаец сказал, что раньше здесь очень страшно было жить, нападали хунхузы. Теперь пираты боятся гонконгской полиции.
На горе сорвали несколько интересных, еще невиданных цветов.
Свечерело, и деревня притихла. Что-то настороженное, таинственное, ожидание какой-то опасности почувствовалось, как будто эта маленькая деревня готова к духовному единоборству с огромным богатым городом за проливом. Видимо, весь народ у них живет в таком состоянии.
Гошкевич сказал, что мы мало знаем Китай, мало с ним соприкасаемся, что у нас нет ни одного развитого портового города на тихоокеанском побережье, откуда мы могли бы торговать, общаться с ними. В Петербурге, в Москве сколько ни рассказывал про Китай наш Иакинф Бичурин – почти без толку. Сам Гошкевич и все, кто жил в Китае в пекинской миссии, по мере сил пытаются объяснить, сделать популярным все китайское. Но такие понятия, как «китайские церемонии» или «китайская грамота», укоренились не только у нас, а и во всей Европе. Басни всяческие измышляются.
Сэр Джон всякое дело в жизни доводил до конца. Он выбрал время и почитал дочери поэмы Пушкина по-русски и сразу переводил. Ему самому понравилось. Впервые в жизни!
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.
И он промчался пред полками...
Все же английские читатели не примут! Или еще хуже:
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась...
Сейчас под Севастополем казачья конница, может быть, так же рубит. Кого же! Что же это за мотив поэзии!
На днях прочел в американской газете, что казак под Севастополем сказал про английских солдат: «Красивые ребята: рубить жалко!» Разве мы когда-нибудь жалеем гибнущих русских? Чем больше гибли и мерли, тем облегченней себя чувствовали!
Карамзин был недоволен. Узнал, что у нас считается, что войну с Наполеоном выиграли мы, а им помог мороз.
Или еще хуже:
Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя
Это про Мазепу? А Мазепа у Байрона? Там он иной!
«Кавказский пленник»! Прекрасная поэма о любви к пленнику, смысл глубок, неизбежность грядущего сближения враждующих народов... Всепобеждающее чувство любви! Гуманизм! Но тут же:
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
Нет, в свое время я был все же прав. А теперь уже поздно исправлять ошибки! Да и книга о Сиаме на мне! Европа занята новыми идеями, интересы явились к Южной Азии, к южным морям и Японии, кроме того, губернатор должен изучать, готовиться к новой войне с Китаем!
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные... –
прочитал Боуринг вслух, и окончания губы не выговорили. Ответил сам себе мысленно: «Конечно! Неужели резня лучше?..»
Энн теперь знала и другие русские стихи:
И, прежний сняв венок, другой венок, терновый,
Увитый лаврами, надели на него,
Но иглы тайные...
– Я заходил к вам, мистер Сибирцев, – воскликнул Сайлес, – но вас не было.
– Мы ездили за пролив.
– Зачем? Что вы там не видели?
– Посмотреть на Китай.
– Китай? – Сайлес пожал плечами. – Разве там Китай! Нашли что смотреть.
– Мне было интересно. Я видел поля, крестьянские дома... И сама переправа, сознание, что ступаешь за границу, на землю Китая...
– Не могу этого понять! Вы хотели видеть Китай?
– Да.
– Я вам могу показать настоящий Китай.
– Как же?
– На днях я иду на пассажирском пароходе в Кантон. Я могу взять вас с собой. Я покажу вам город Кантон. Не только так называемые «фабрики» – то есть фактории европейцев. Вы увидите застенный город, собственно китайский, куда англичан и вообще европейцев редко допускают и куда союзники не войдут без предварительного артиллерийского обстрела. Вы видите? Поняли?
– Но разве в Китай кого-то все же пускают?
– Нас пустят! Говорите прямо, едете со мной?
– Я военнопленный. Чтобы попасть в Кулун, мы просили разрешения.
– Дорогой мой! Вы друг губернатора Боуринга, он не признает вас пленниками и относится как к людям, потерпевшим катастрофу, кто вас будет держать после этого! Впрочем, формальности выполним. Я беру все на себя и получу разрешение взять вас с собой в Китай! Но вы-то сами что? Едем?
Пушкин ухватился за мысль послать в Кантон Сибирцева. «Надо съездить в Кантон, побывать, посмотреть, что там происходит! Если на самом деле удастся туда попасть. Некоторая хитрость с нашей стороны не повредит, не говоря об этом вслух». Появлялась возможность воспользоваться гостеприимством Сайлеса. «Его расположение к нам вне сомнений, хотя все любезности сопровождаются прехитрейшими улыбками».
– Александр Сергеевич! – обратился Сибирцев. – Вы разрешите мне... сегодня вечером...
– А куда же вы?
– Я еду верхом...
– Да, пожалуйста.
«Эх, гонконгский пленник», – подумал Пушкин про Алексея.
Точибан пришел печальный. Сказал Гошкевичу, что был объявлен второй его доклад под названием: «Родственные связи японского и китайского народов. Почему они отсутствуют». Была вывешена афиша. Ему заплатили аванс.
Но вчера на доклад никто не явился. Зал был пуст. Все китайцы, как оказалось, разъехались по делам, и даже Джолли Джек прислал к Точибану слугу с извинением, что его срочно вызвали в Шанхай, но поскольку все восхищены и доклад не состоялся не по вине профессора, то гонорар прилагается к письму.
Опять Точибан с деньгами! А ведь на здании китайского общественного собрания висело объявление: «Вторая лекция господина Прибылова: «Родственные связи...» и так далее. «Почему отсутствуют...»
Билеты были распроданы, но на саму лекцию никто не пришел! На дверях клуба повесили объявление: «Господа уехали». И дверь оказалась запертой.
Точибан запил. Похоже было, что в самом деле, как предупреждал Джордин, он запойный алкоголик или, во всяком случае, пьяница.
– Ну и подсунули нам японца, – воскликнул Пушкин. – Впрочем, образованность его не вызывает сомнений. Ученый из него получится!
Сибирцев пошел на ночную вахту на блокшив. На каменной набережной в сумерках у трапа сидел после трудового дня в рабочем паруснике, без синего воротника, какой-то смугловатый матросик.
– Здрав... желаю! – гаркнул он, подымаясь.
Алексей узнал Точибана.
– Здравствуйте, Прибылов. Вы уехали из гостиницы?
– Да, я подумал и решил исполнить приказание его высокоблагородия старшего лейтенанта Пушкина и вернулся в строй, о чем хочу подать рапорт с просьбой разрешить мне исправить мои ошибки.
ПОДЖИГАТЕЛЬ ИЕРУСАЛИМА
Куда ты спешишь,
Куда ты спешишь,
Мой петушок,
На заре рано?
В гости спешу,
В гости спешу,
Девушек будить
На заре рано.
«Жаль Янку! – думала Розалинда, вытягивая соски на вымени коровы. – Сказал, что у его родителей нет своей земли! А ведь кому как не ему нужна земля. Он ее так любит и так умеет обрабатывать. Это как и у нас: кто любит землю, тот ее лишен. А сколько земли не для коров и не для овец, а отведено для пустых забав – для конных скачек, для охоты богатых и для их игр! Они и на кладбищах захватывают много лишней земли. Верно говорят – честные люди несчастны. Чем честней люди, тем больше у них выдаивают, как из вымени породистой коровы! Интересно, получат ли женщины равные права с мужчинами, как писали в «Фрезерс мэгезин».
Для себя и работников Розалинда готовила обед на той же кухне, где варился корм для коров. Вернее, она распоряжается, а варит подросток-китайчонок.
– Ты больше похож на аристократа англичанина, чем сами англичане, – сказала Розалинда за обедом Янке, желая его утешить, – хотя ты не такого высокого роста, как ваши остальные летоны.
– Нет, у вас солдаты тоже красивы! – ответил Ян. Он еще не знал про ее неудавшийся роман с сержантом.
В бедности или в изгнании, но если есть дело и можешь прокормиться, красивая девушка, привлекая к себе много внимания, забывает невзгоды. Жизнь заставляла становиться немного кокеткой. За игрой увлекаешься и в коровнике чувствуешь себя не хуже, чем светская барышня в обществе среди своих поклонников – молодых джентльменов или рахитичных юнцов. Без модных нарядов те – люди света – в такой обстановке выглядели бы как вяленая треска.
– Не говори про наших солдат. Эти копченые селедки имеют мало цены в моих глазах. Они все – порочные. И трусы. Ах, мужчины часто бывают так слабы!
Янка объяснил ей, что летоны называют сами себя не так.
– Мы зовем себя латыши. У нас есть праздники – Зиемас светки, у русских – Рождество, Лиеладиенас – Пасха по-русски, а по-вашему – Кристмас и Истерхолидейс.
– Но ты христианин?
– Как же! А прежде были под Орденом и ходили воевать. У нас разные даны всем прозвища. Есть четыре главных... сорта летонов.
Все интересно, про что рассказывал Янка, но Розалинда, начав говорить про солдат, уже не могла остановиться. У здешних солдат почти у всех есть любовницы. У некоторых китаянки как жены, на все время службы. Солдату за службу платят деньги, а прокормить и одеть китаянку понарядней не очень-то дорого. У некоторых даже дети от китаянок. Двое закончили службу и остались навсегда со своими женами. Один стал шкипером на реке, а другой открыл мелочную лавочку. Их жены крестились. Повенчались и растят ребят!
Но многие – порченые, шляются по лодочницам, пьют, болеют. Особенно сержанты. А сами бьют солдат, садят в карцер. Офицеры тоже пьяницы, но у тех семьи и есть общество. Они ухаживают за женами товарищей. Но хуже всех – капралы...
– А тут театра нет?
– В театр я не любила ходить никогда. Здесь нет театра. И нечего смотреть ведьм... Моя мама пишет, что у нас место на кладбище трудно получить, стоит очень дорого, не знает, что с ней будет, она плохо чувствует себя. А как у вас с землей на кладбище?
– У нас сколько угодно умирай. Никто не мешает! Тут барон с землей не препятствует. Пастор, как и у вас, в сюртуке, и при кладбище своя кирка, но пастор всегда велит барона слушаться.
– В Гонконге бывает только кабаре. Приезжают из Европы постаревшие артистки, француженки, но также из Великобритании! Те, которые не нужны больше на старых местах, кому уже за тридцать. Выходит на сцену, и видно, что обвисли щеки.
– Ах, вот как?
– Да, когда в кабаре эти знаменитости открывают спину, то заметно, что старухи. Накрашены и, танцуя, поднимают юбки. Ведь это грех! Правда?
– Конечно! Вай-вай!
– Это, говорят, тут так и будет навсегда.
Розалинда не хотела сказать, что подумала; она чувствует себя ужасно, никому нельзя верить; ведь сюда едут отбросы общества, сброд.
После обеда, убрав посуду, Розалинда наконец-то выказала ласку: нежно погладила его волосы.
– Ты слегка рыжеватый, Янка! – теперь она вернулась к утреннему разговору. – С таким оттенком бывают лишь принцы королевской крови, говорят, их так и отличают по белокурым волосам с прорыжью, как у тебя. Такой цвет волос свойствен у нас высшей аристократии. А ты не нобль? У тебя есть что-то общее с нобльмэн, с человеком высшего круга. Скажи, может быть, у вас есть право первой ночи, как во Франции, и ты сын своего герцога?
Янка хотел ей досказать свое... Она, конечно, может быть, и права. Но вряд ли – мы знали бы. Янка мог сказать, мол, кто из латышей не нобль! Бароны, мол, делают веками с нашими мейтене все, что хотят, существует еще до сих пор это право.
Некоторые арендаторы уверяют, что ведут свой род от побочных баронских сыновей. Кто их разберет! Но не будешь же этим хвастаться. Ничего хорошего, лучше уж не быть «нобль» и помалкивать. «Напраслину на себя не понесу. Врать ей не буду, – решил Янка. – А сильные у них требования!»
Из-за ее похвал представились такие понятия, про которые он давно позабыл.
– Нет, с баронами у моих бабушек дел никаких не бывало.
Она просветлела, как пастор.
– А твои предки?
– Все крестьяне. Но раньше были круст брунениеки... это... ну... по-вашему... кросс найт.
– О-о! О-о!
– Крестоносцы. Ходили в Иерусалим. Это давно. С баронами. У нас был орден рыцарей-крестоносцев. Как самураи. Ходили в Иерусалим.
– И ты?
– Нет, не я... Я плохо говорю, но я постараюсь объяснить вам...
– Ты такой благородный, такой рыжий!
– Да. Вот-вот! Ну, конечно. Вот я говорил тебе, что у нас четыре сорта летонов. И таких рыжих... как я... Всего дано четыре разных прозвища... Зовут в деревне... дразнят...
– Ты ходил в Иерусалим?
– Нет.
– Почему?
– Они ходили с рыцарями, хотели отвоевать Иерусалим. Выбирали в поход, кто порыжей. С тех пор такие, как я, рыженькие, называются «поджигатели Иерусалима». Да, таких, как я, рыжих, с тех пор прозвали... Предки ходили в Иерусалим, они были рыцари-крестоносцы. Мои... Мои! – ударяя себя в грудь, объяснял Янка. – У кого такие волосы, – тронул он свою голову, – прозвали с тех пор «поджигатели Иерусалима».
Когда, желая похвастаться знанием иностранного языка, он говорил так свободно и быстро, то получалась белиберда. Но Розалинда поняла.
– Ты сжег святой город? – с гневом воскликнула девушка.
– Что?
Розалинда вскочила и разъярилась как фурия.
Янка перепугался. Долго пришлось объяснять ей о немцах из ордена, владевших Курляндией и Лифляндией, о рыцарях-крестоносцах, о своих предках, чтобы как-то без особого вранья и им и себе придать побольше веса.
Немцы были ей совершенно чужды и неприятны, но все остальное в его рассказах было знакомым и даже повеяло чем-то родным, чего в Гонконге не услышать никогда.
– А это не твои предки прокляты? Не о них сказано в Библии?
– Нет, что ты... – Янка совсем струхнул. Розалинда не совсем понимала, но в душе уже простила Янку. И его предков. Он стоил этого.
– Ну, ты опять задержался, – грубо сказал Мартыньш, увидя Янку в жилой палубе. Все уже развесили гамаки, до этого пели и читали, разговаривали, учились играть в китайские кости.
– А что тебе? – ответил Янка.
– Ты там задерживаешься? – с подозрением спросил Мартыньш.
Янка очень гордо вздернул нос и ничего не ответил. Его охватило чувство потаенного превосходства своего над всеми.
– Зачем ты ее портишь? – продолжал Мартыньш. – Она же хорошая девушка. И не для тебя. Куда ты лезешь?
Но Янка сделал вид, что уже спит в гамаке.
«Что он видел, что он знает, кто он! – думал Мартыньш. – Это в Японии ему удалось угодить адмиралу и выставить себя перед офицерами. Подумаешь, он молоко Евфимию Васильевичу доставал. И то японка научила! И что он сам по себе?»
Маслов замечал, что товарищи подсмеиваются над Янкой и как бы не считают его настоящим латышом.
Мартыньш, или Мартынь, как звали его унтера, огромного роста, с огромной ногой, лапа как лыжа у гиляка, широкая в кости рука.
Янка разбитной, разговорчивый, чувствительный. Янка стройней, тоньше других, марсовый удалой.
Ян Мартыньш молчаливый, зря не говорит.
Когда утром шли на работу, Берзинь, гордо попрощавшись с товарищами, пошел с Сашкой Мотыгиным на ферму.
– Янка живет для себя! – с завистью сказал Лиепа.
– Не для казны! – отчеканил Мартыньш. За последние дни он зол и мрачен.
Розалинда в Янке души не чаяла, и на работе он забывал насмешки и косые взгляды своих товарищей. При этом она не сожалела, что при первом знакомстве поставила ему синяк под глазом.
Адресовалось не столько Янке, сколько всем мужчинам, и особенно – красавчику капралу морской пехоты. «Насколько все-таки русские лучше! – думала она. – Зачем только воюют с ними! Или опять обман? Где же члены парламента? Как они решились на войну против таких честных и трудолюбивых людей? Что они думали?»
– Но ты русский, Янка? – спросила девушка.
– Да, – ответил Берзинь.
– Это хорошо!
Ему каждый день приходилось выслушивать выражения сочувствия и восхищения всем своим товарищам. Про них в Гонконге говорили только хорошее. Но Янке хотелось, чтобы Розалинда узнала кое-что позначительней. Она должна увидеть, что Янка не только скотовод – коровник и дойщик. Он рассказал, что в детстве хорошо рисовал и писал красками. Но учиться не мог, хотя и барон и пастор его работу хвалили. Отец велел ему исполнять заказы торговцев – писать вывески для лавок и складов. И для пивных. А писать пейзажи и картины запретил. За каждую вывеску, сделанную Янкой, его отцу платили три рубля. А царские серебряные рубли – очень хорошие деньги, дороже, чем мексиканские доллары и чем талеры. Три рубля – это просто бешеные деньги! В хозяйстве у нас в деревне куда больше купишь на них, чем тут за весь фунт.
В субботу Янка неожиданно для себя получил в подарок акварельные краски. В воскресенье после молитвы и уборки он отпросился в город, пришел на ферму и написал портрет Розалинды. Она поняла, что не зря поверила в него и сделала ему дорогой подарок. Сходство было явное. У всех народов Европы, как она знала, умение написать похожий портрет считается главным признаком таланта.
Старик китаец, работавший на ферме, пришел на другой день в маленькую комнату, где Розалинда ставила парное молоко, перед тем как унести его в ледник, и где накрывала стол для работавших матросов. Он долго смотрел на картину.
Китайцу понравились цвета, но исполнение, как он сказал, не совсем удачное.
Он не так понимал искусство живописи. Человека можно нарисовать без ушей, но чтобы чувствовалось, что он слышит... Без глаз, но чтобы все поняли, что он видит! Ах, это не объяснить. Это из глубины веков!
Художник пользуется водяной краской очень осторожно. Не совсем... изображение делается только намеком... Здесь, например, много светлого, голубого, нежного... Конечно, сама Розалинда очень красива. Старик наблюдал за ней, работая рядом много дней. Теперь он видел ее на картине, и она еще красивей. Хотя художник груб.
Китаец рассказал Розалинде, что один очень мудрый китайский император учил, как маленький народ должен жить в одном государстве с большим народом.
– Как?
Хотя старик был чернорабочим, но познания его обширны. Уверял, что происходит из семьи чиновника, получил образование и хорошее воспитание, но несчастье вынудило покинуть родину, пойти на работу в Гонконге к англичанину.
– Маленький народ по развитию всегда должен быть выше большого народа. Тогда большой народ будет доволен тем, что он большой, а маленький тем, что он выше по развитию!
Китаец улыбнулся.
– А вы говорите, что со временем Китай завоюет весь мир?
– Да, тогда все народы будут жить в китайском государстве.
– А как малые народы при этом? – вмешался в разговор Янка. – Те, которые будут по уму и развитию выше китайцев?
Старик чуть заметно усмехнулся. Он все знал про Янку и разговор затеял для него. Но решил умолчать.
Потом все же пояснил, что малые народы, конечно, будут выше китайцев. А китайцы будут довольны тем, что они – большой народ.
– А китайцы, как и теперь, будут рубить головы?
– Не всем. Но чтобы знали силу большого народа. Большим народам будет рубиться больше голов. А малым – меньше. Чтобы верили правильно, всем малым народам будет отрубаться лишь немного, часть голов.
– Но я не хочу быть высшей нацией в рабстве! – закричала Розалинда.
– Как ты хочешь, – ответил старый философ, – но я не смею отступить от указаний, данных на тысячелетия.
Розалинда все же не допускала, что дойдет до этого. Англия никогда не допустит. Никогда, никогда англичане не будут рабами! Янка тоже на свой счет не принимал, зная твердо, что нет такой силы на свете, чтобы с нами справиться. Россия устоит! Все-то вместе! Они, мы да еще казаки!
– Так ты, Янка, не русский? – спросил старик. – Летон?
– Да, летон, латыш.
– Китайцы, наверное, мечтают, что когда-нибудь всем приготовят ужасную судьбу, – сказала девушка, поглядывая на старика. Он был старательным... но разве мог сравниться с Янкой на работе!
– Ничего не будет, – ответил Янка. – Есть же у них умные люди. Пусть сначала со своими справятся.
– Да, я слыхал, – заговорил старик, – ваши хотят у нас отнять тот берег за проливом, где Кулун. Это ваше дело! – неодобрительно сказал он и взял лопаты.
– Мы за своего царя! – решительно заявил ему Берзинь.
Китаец ушел.
– Может быть, нам с тобой уехать в Австралию? – спросила Розалинда. – Ведь ты сказал, что хочешь жениться на мне. Но для брака нужно хозяйство, и будет семья, а без земли нельзя прожить. Без хозяйства, не трудясь, дети вырастают ворами. Подумай о наших детях.
Матрос – воин флота его императорского величества должен прежде всего быть предан, Янка клялся на присяге. И он по натуре не обманщик. И если верность императору того требует, то пусть и хозяйства не будет. Царь сам это заварит, сам и будет расхлебывать, если разведет одних воров в государстве. Но и в Австралию он не может. Он ей так и сказал. И она полагает, что он прав вполне.
«С ней бы сойтись, как с японкой!» – думал иногда Янка. Но та была уже немолодая, а эта – большое дитя, даром что кровь с молоком.
Розалинда мгновенно понимала его взоры. И ведь угадывала. Но показывала ему стойкость, выдержку и целомудрие.
– Можешь считать лицемерием! Но если ты честен, и я тоже честна! Можешь упрекать меня, сказать все, что хочешь! У нас свобода слова. Но дело от этого не меняется. Ты понял?
– Да, конечно. Понял.
– Но ты ничего не получишь до брака!
После таких внушений Янка молчал, а в работе лез из кожи вон.
Розалинда не унесла портрет к себе домой. Он висел на побеленной стене все в той же комнате, где она приготовлялась к работе, где у нее был шкафчик для платья, где стояло много всякой посуды, пахло дойкой и сливками, где и сегодня под произведением живописи выстраивался ряд ведер, как и всегда, прежде чем парное молоко поступит на ледник или на маслобойку.
Через неделю Янка написал столько ее портретов и пейзажей, что все стены были завешаны картинами.
Шотландец-приказчик, кучера и конюхи из конюшни, китайцы-рабочие заходили в молочную посмотреть картины с не меньшим интересом, чем в Лондоне господа на всемирную выставку. Всем нравились Янкины работы, так что он сам бывал смущен.
– Очень красиво! – рассматривая новые портреты, замечал старый философ. – Прекрасно! – восклицал он, не в силах больше скрыть своего раздражения. По портретам он, как следопыт, следил за отношениями автора с красавицей. В идеалы он не верил!
– Он же не знает законов написания лица! Не знает закона изображения глаз! – уверял философ девушку.
– А есть такие законы?
– Да, они очень устойчивы. Янка не знает! Я всегда верил в него а он новыми портретами разрушил мою веру. Так обидно! Очень плохи его пейзажи.
– Благодарю, – вежливо сказала девушка и пошла доить.
«Не должно быть резко подчеркнутого сходства портрета с тем, кто изображен на нем... – говорил себе, вглядываясь в работу, старый китайский джентльмен. – Если варвар из внешнего мира хотел сделать вам что-то приятное, он мог бы подарить не такую картину. Изображение двух птичек, например, очень подходящий дар для легкомысленной красотки. Одна птичка поет, а другая скромно нахохлилась, и обе очень ласковые. Сидят на романтическом сучке... цветет миндаль. Это был бы портрет счастья, пожелание... Можно подарить ей также портрет полководца или даже императора. С сильным, жестким, мужественным лицом, с большими усами, с толстыми тяжелыми щеками, злыми глазами, которых не видно из-под огромных бровей. Пусть глаз не видно, но понятно каждому, кто взглянет, что полководец все и повсюду видит! Ничего не ускользнет! Был бы для девицы очень лестный дар. Люди внешнего мира оживляют изображаемое лицо сходством и каким-нибудь чувством. Это совершенно не нужно. На голове и на груди великого изображаются очень тщательно символы заслуг и сильной власти. Каждый такой предмет означает проявление какого-то качества, оттенка воли, ума, энергии. Есть знаки отличия, в которых воплощены качества характеров. Такое усложненное изображение значительней по исполнению. А что это такое? Совсем не трудно! Грубо!»
– У нас в Гонконге есть три китайца, – обратился философ к вошедшей девушке, – они братья. Они освоили способы западной живописи и прекрасно делают картину по способу улавливания натуры аппаратом. Один производит снимок. Другой перерисовывает. Третий раскрашивает. Морякам западного флота нравится, и они заказывают и платят деньги. Три брата богатеют... Три брата готовят портреты, как пампушки.
Старик пытался доказать Розалинде, но она не понимает. Он плохо говорит на ее языке. Конечно, его речь для нее только китайская болтовня!
Увидев, что Розалинда ушла, старый философ мелкими шажками подбежал к двери, закрывшейся за девушкой, и, зажмурившись, сделал вид, что преследует и настигает. Страстно схватил руками воздух, открыл глаза, как бы удивляясь, что никого не поймал. Воскликнул: «Ах, черт возьми, опять не удалось!»
Что ж, надо идти за лопатой. Он еще раз с ревностью посмотрел на портрет, писанный не по законам эстетики. Только простолюдины и варвары не увидят, что нет школы, нет приемов, нет, нет, нет... Ничего нет! Очень слабо, пошло! Когда еще смогут варвары научиться! Только когда приемы будут для всех обязательны.
Рослые, довольные латыши – молодцы как на подбор – крупным шагом шли по городу. Опять сегодня все с деньгами. Условились, собрались, прошли по магазинам и лавкам, накупили много хороших вещей.
– А теперь зайдем на ферму, – сказал Приеде. – Посмотрим, что там за выставка у Янки. Он звал.
– Ну, ты что тут намалярил? – спросил Лиепа, заходя в молочную.
Хозяйки долго не было. Когда она появилась, все вежливо поздоровались.
– Вот моя выставка! – показал на стены Берзинь. Все сразу притихли. Никто больше не подсмеивался. Хозяйка живо накрыла на стол и предложила по кружке молока. Выпили с охотой. Руки у нее – загляденье – сами молоко! Воротничок бел, фартук бел, накрахмалено все.
Она заметила, что все они явились со множеством покупок. Значит, каждый из них о ком-то заботился, кому-то что-то хотел привезти; шелка тут хороши. Да и не только.
Но Янка-то ничего себе не покупал никогда, только сейчас она поняла: если покупал – только ей. Ах, а сам как цыган!
Розалинда просила всех в воскресенье прийти на обед. Она давно говорила и Саше Мотыгину и Янке, чтобы пригласили своих товарищей. Ей хотелось видеть свое счастье глазами его друзей.
– А что вы? – спросила она Берзиня.
– А что я?
– Что вы себе купили?
Янка замешался. Неужели сэр Джон ему не платит, а пользуется даровым трудом пленного? Нет, не может быть, он же делал ей подарки, заказал кольца!
«Да, таких колбас и я никогда не ел! – думал Мартыньш за праздничным обедом. – Вот это девушка! Но зачем же ей Янка? Это ведь все пустое!»
Мартыньш ел и смотрел на Розалинду пристально и ни слова не говорил. Она замечала, что он глаз с нее не сводит. По такому росту и комплекции ему и есть надо больше, чем другим. И она еще добавляла и добавляла...
– Ну, и что ты с ней будешь делать, когда женишься? – спросил, сидя на настиле, Ян Мартыньш у Яна Берзиня, когда все товарищи их уже залегли в свои висячие койки по всей жилой палубе.
– Возьму к себе, – разматывая портянки, отвечал матрос.
– А сам будешь жить в казарме? Ты ей врешь, чтобы воспользоваться!
– Зачем же вру! Да и службы срок сокращают...
– Тебе!
– Зачем мне? И тебе и всем. Кругосветное зачтется – и пойду домой.
– Куда?
– Как куда?
– Он же художник! – посмеялся кто-то из товарищей.
– Что же, что художник! Это все неосновательно...
– Куда ты пойдешь? Какое у тебя хозяйство? У тебя же земли нет. Ты из голодранцев. Она руки на себя наложит, когда увидит.
Мартыньш из семьи, у которой земли тоже нет. Арендаторы, но очень старательные. У родителей хорошее хозяйство. Он презирал Янку еще и за то, что он «будочник». У них вся порода такая, лодыри! Что он ей туманит голову, какая свадьба с нищим... Янка лжив, обманывает женщин.
– Зачем ты ее обижаешь? – снова укорил Мартыньш, улегшись, и смотрел, приподнявшись.
– А что я?
– А что ты! – передразнил Мартыньш. – Ты – известно кто! Тебе не впервой. Ты найди по себе! Ты же вырос в грязи! Зачем я буду тебе говорить, кто ты. Ты это сам знаешь. Я про тебя плохого не хочу говорить. Но я знаю тебя.
– Чем я ее обижаю? – вскричал Янка в отчаянии.
Мартыньш больше не говорил. Он долго еще смотрел в упор из висячей койки.
Смотрел и Янка. Вдруг он густо покраснел и ушел в угол. Повесил гамак там и долго не мог уснуть.
Он не мог бы выразить словами все, что чувствовал. До сих пор на Мартыньша внимания не обращал. Еще никогда в жизни его никто так жестоко не задел, как сегодня. Сердце заболело, и ныла вся душа от обиды. Как бы он жизнь не жил, но он – матрос и старается. Делал, что все делали. И вот однажды в жизни тронута натура. А грамотный Мартыньш словно придавил Янку сегодня как гора своими укорами. Такие попреки! За что?..
– Всем так нравится! – глядя на свой портрет, говорила Розалинда. – А китаец говорит, что плохо!
Янка присел на табуретку. Девушка взяла подойник.
– Позволь, я сегодня подою! – сказал Янка. Он пошел к коровам и взялся за дело.
«Поразительно, – думала Розалинда, – если я – милкмэйд, то он милкмэн! И еще какой!»
Янка искоса поглядывал на нее. Такая большая ростом, такие плечи, сильная, стройная, ловкая, поворотливая. Нравится всем товарищам. А Мотыгин смеется над всеми. Он хороший товарищ, скромный, никогда не мешает; иногда уйдет, как только поест.
– Конечно, у всех разные понятия, – сказал Янка, когда в дверях появился китаец. – Кто верит в будд, а кто в Магомета.
– Магомет? – спросил старый философ. – Я знаю. Он сидел у нас в Китае, в тюрьме.
– Ну вот видишь, тебе все не так!
– Да, на родине я был известен. У нас, например, разрешается покупать у бедных родителей детей... маленьких девочек...
Обедали вдвоем.
Янка выпил немного рома, обнял Розалинду и поцеловал.
– После брака мы будем хорошо жить. Ведь это такое счастье? Как прекрасно, Янис, правда?
– Да-а... – неохотно соглашался Янка.
Он впервые в жизни попал в такое положение. Именно когда нет желания обмануть, когда вся душа его стремится к этой девице; хотя слово «любовь» матросу не пристало говорить, но как тут откажешься.
Да еще в плену! Изменять товарищам тоже нехорошо. Говорят, срок службы сократят. Розалинда согласна ехать в Россию, в Курляндию. Говорит, что она слыхала от других летонов, что русский царь будет давать всем матросам и солдатам – летонам, воевавшим на войне, по две десятины земли в собственность, и дело теперь за принятием закона. При этом летоны объяснили, что у них царь заменяет парламент.
– Ах, мой милый рыцарь, прекрасный поджигатель Иерусалима!
Товарищи не верят и глумятся. Она не позволяет дотронуться до себя. А ювелир-китаец принес кольца.
– Я, так же как вы, мой Ян, не желаю ехать в Австралию! – заявила Розалинда.
Берзинь явился на блокшиве в капитанскую каюту в вахту Пушкина.
– Жениться? Да вы что! Да вы в уме, Берзинь? У меня триста человек матросов, и только подай им пример. Да все захотят жениться и на малайках, и на китайках, и на индианках. Лиха беда начать. Матросов сманивают в Канаду, в Новую Зеландию и в Индию. Всюду нужны работники. На разные острова! Наш экипаж растает из-за женщин. И наплодят детей... С кем я вернусь в Кронштадт? Нет, довольно с меня Японии! А потом: существует устав!
Пушкин обратился к Алексею Николаевичу, который при свете фонаря читал свежую газету.
– Лейтенант Сибирцев! Прежде чем собираться в Кантон, подите на ферму и объясните все этой девице. Матрос, попавший в плен, не смеет влюбляться в девушку из враждебного народа, с которым идет война.
– Какое лицемерие, Александр Сергеевич! – воскликнул, бросив газету, Сибирцев, когда Берзинь ушел. – Не вы ли только что хулили сэра Джона и защищали пушкинскую поэму о кавказском пленнике. Как будто на Кавказе нет вражды. Уж если где ее нет – так в Гонконге!
– Лейтенант Сибирцев! Поступите, как приказано! Да не принимайте, пожалуйста, моего замечания на свой счет. Я уверен, что у вас и тут, как в Японии, голова должна остаться на плечах! Фельдфебель мне уже сказал, мол, что делается с матросом Берзинем. Погулял бы, мол, с ней, а потом бросил бы ее тихо. Сослался б на устав, и все!
Сибирцев пришел с утра на ферму.
– Мисс, – сказал он Розалинде, – в военное время такой поступок императорского матроса сочтется преступлением. Берзинь честный человек. Я его знаю. Любя его, вы все поймете. Женитесь после войны. Я скажу вашему жениху, что для этого надо сделать, и помогу. Я даю вам честное слово, что это ему будет разрешено.
– Я никогда не шла против закона. Закон и справедливость! Борьба за право и равенство и за улучшение законов! Наш народ добивается свободы слова, но знаете, еще так верит в колдунов.
«Какая приятная и красивая девица!» – подумал Алексей. Она ему сразу понравилась. Очень хороша. И так умно шутит и с достоинством держится.
– Какой приятный у тебя офицер, – сказала Розалинда, обращаясь к поникшему Янке.
Он все видел и слышал, тут же был. Заметил, как она оживилась, разговаривая с лейтенантом. Понравился ей. И у лейтенанта глаза заиграли. Так же она оживлялась, когда приходили в гости мои товарищи. Ей нравятся другие!
– Тебе нравятся мужчины?
– Да! – гордо ответила она.
– Это потому, что ты не живешь со мной как с мужем. А только смотришь на меня.
– Он не барон?
– Офицеры хуже баронов!
– Я, так же как вы, Ян, мой дорогой жених, не желаю ехать ни в какую Австралию. – Она устремила глаза в пространство и продолжала тоном богослова: – Тогда мы с вами долго и терпеливо, ради нашей любви и наших будущих детей, будем вместе ждать. Так долго, как это необходимо. Сколько бы ни пришлось! Даже годы!
– Да, действительно, – печально сказал Янка. – Вы это можете.
– А вы? – вспыхнула Розалинда.
– И я! – спохватился Янка.
«Что тут поделаешь? Конечно, и ей тяжело. Но она права. Как же она детям скажет, что жила с мужем до свадьбы? Но ведь я-то – матрос! Мало ли что со мной может случиться? Ведь я-то всю жизнь не свой человек! Пока она ждет, а меня убьют... или что еще...»
ГОНКОНГ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ
...войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своею массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, – от места всего облитого кровью; от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя. ...Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.
Борта кораблей дымятся, и доносятся первые раскаты победного салюта. Отвечает крепость и форты. Весь Гонконг превращается в ряды дымящихся батарей. А восток горит зарею новой.
На трехэтажном здании торговой компании «Джордина и Матисона» над витринами в тентах сплетены огромные вензеля из красных и белых китайских роз: «V» и «А». Королева Виктория и принц Альберт!
Люди на улице с флажками в руках. Все поздравляют друг друга. Усатый джентльмен раскидывает руки, хочет обнять Алексея, обхватив, поцеловать...
– В чем дело? – яростно отвечает Сибирцев. – Я пленник этой войны!
Англичанин с недоумением смотрит в его покрасневшее лицо, разводит руками и уходит; голова над толпой китайцев долго еще видна.
Шиллинг ушел в горы. Матросы подавлены, сегодня работы прекращены. Некоторые затеяли стирку, но в большинстве лежат на своих подвешенных койках в знак молчаливого протеста или с кажущимся безразличием наблюдают, стоя на палубе. Пушкин и поручик Елкин с ними. Мичман Михайлов, юнкер Урусов и Гошкевич у себя в отеле, не хотят выходить на улицу.
Сибирцев оделся в костюм, сшитый для Кантона, и отправился в гущу толп.
Гремит оркестр, из ворот крепости марширует пехотный полк. Щетина ружей движется среди толп китайцев и массы моряков со всех кораблей мира.
Управляя оркестром, степенно шагает усатый дирижер с жезлом в руке.
Алексею вспоминается, как входили в деревню Хэда моряки погибшей «Дианы»: тоже гремел оркестр, пели трубы, били барабаны и литавры, и во главе первой роты морских гренадер маршировал он сам. Теперь великолепный экипаж разобщен, разбросан чуть ли не по всему миру, оркестра больше не существует, а половина команды в плену. Промелькнувшая страница жизни! Короткая пора дружбы с добрым и трудолюбивым деревенским народом. Что же теперь? Всякий плен позорен, а плен у достойного противника, как сегодня кажется, позорен вдвойне. Как сегодня заликовал и воодушевился Гонконг!
Слышно, кричат «хура» на кораблях, расставленных в проливе. Несутся восторженные крики из открытых карет, из которых, как из лож, солидные люди с семьями глядят на зрелище, женщины выкрикивают что-то и бросают букеты цветов. Из толпы китайцев тоже кидают цветы, кричат. Там многие с бумажными флагами, змеями, шарами, рыбами и разными фигурками, как на праздничном карнавале.
В карете с гербами медленно движется среди войск и ликующей толпы губернатор сэр Джон Боуринг. Его цилиндр, в синем и красном, обтянут победившим имперским флагом.
Губернатор подъезжает все ближе. Он в лентах через грудь, в орденах, и при виде его толпа приходит от возбуждения и восторга в неистовство. Сейчас он символизирует победу империи под Севастополем. Также и победу Гонконга.

– Хур-ра... Хур-ра... Хур... ра-а!
Как они радуются! По их восторгу можно понять, что трудно далась победа, империя напрягала силы, подняты были средства колоний.
Год готовились они и французы и все везли и везли в Крым войска и снаряжение, орудия от малых гаубиц, коронад и мортир до новых гигантских бомбовых и собирали множество кораблей. Подняли Индию – английские реджименты, подняли Турцию, Сардинию. Нанимали людей в Италии и Германии. Потребовали на поле боя своих должников. В Крым отправлялись бенгальские полки. Сформированы и прибыли в Скутари британско-швейцарские и британско-германские легионы, всего семь тысяч. Ждут отправки в Крым.
Империя ждала. Первый штурм... Второй... И вдруг наконец-то... «Малахов взят!»
Взорвав все укрепления и еще не взятый союзниками бастион, защитники Севастополя, как сообщается, подобно своим соотечественникам в 1812 году, уходили на северную сторону бухты. Командование союзников, как пишут, отдало приказ прекратить обстрел русских колонн, отступающих по понтонному мосту.
«Храброго врага не тревожить напрасной пальбой!»[64]
...Солдаты пехотного полка сменили свои белые тропические куртки на красные парадные мундиры. В бурых медвежьих шапках, со штуцерами на плечах, эти рослые и белокурые люди кажутся гигантами. Их ряды, казалось, шагают все тверже, массивней и победней.
With a Row-Dow-Dow,
запевают женские голоса.
And a Row-Dow-Dow,
восторженно подхватывают все женщины на улице, в экипажах, на балконах и сидящие верхами на скакунах. British grenadiers...
А вокруг индусы, китайцы, малайцы. Тут же чистая публика: немцы, американцы.
– Алексей! Зачем вы смотрите на все это? – услыхал Сибирцев у своего плеча женский голос.
Энн внезапно появилась из толпы.
– Энн!
– Да! Да! А вы думали, что я тоже торжествую? Да, я люблю иногда посмотреть, как маршируют наши красные мундиры. Но здесь это лишь балет. Это красиво. Не думайте, что и во мне оживает при виде такого спектакля дух древних норманнов-завоевателей. Какое мне дело до того, кто и кого победил! Ведь это величайшая глупость, и мне сегодня стыдно за отца. Он как индейский петух, у него Полосатый Джек на цилиндре! Но это не имеет никакого отношения к борьбе за права человека! Пожалуйста, не пропитывайтесь чувством оскорбленности. Уйдемте отсюда.
Салюты закончились, но продолжается непрерывная беспорядочная стрельба, англичане это называют: «барабанный огонь». Пушки лупят со всех сторон, им вторят пушки торговых кораблей, личные пушки богатых людей из дворов и пальба пистолетов и ружей. Барабанный огонь!
– Когда вы едете в Кантон?
– Предполагали ехать сегодня. Сайлес сказал, что ему было бы неприлично покинуть праздничный город. Получилась бы демонстрация. И так в газетах метрополии пишут про враждебность американцев.
– Едемте ко мне! Уйдем сегодня в море на моей маленькой яхте. Я прошу вас, не растравляйте себя ненавистью. Разве человечеству нужна ненависть? Разве ее еще мало?
«Точно так же празднуют сейчас в городах Индии, в халифатах и эмиратах на Востоке, в Стамбуле, в Вест-Индии, на Капском мысу, повсюду льется победный звук труб и внушается всем подвластным народам понятие о поражении России, о падении ее твердынь. Весь мир увидит нас побежденными и поверженными. Ликуют или будут ликовать в княжествах и ханствах, где наших пленников садят для медленной казни в клоповники... И они за цивилизацию! Все же есть, была и будет благородная цель у нашего оружия, есть смысл движения народов».
Он вспомнил про Энн. И сказал:
– Я так благодарен вам!..
Присутствие ее побуждало к трезвым мыслям. Немного наивна со своим идеализмом и борьбой за права человека. Из ее честных намерений, верно, так просто сделается другими спекуляция.
– Алексей, что с вами? – спросила Энн, когда китаец открыл подъезд и они вошли в маленький коттедж при школе. – Не придавайте значения параду. Глупость – все такие празднования!
Сегодня солнце еще жаркое. А уже скоро дождливый месяц, как уверяют.
– Алексей! Не думайте, что женщины, которые проповедуют или борются за свою эмансипацию, лишены человеческих чувств, – сказала Энн, когда Алексей, подняв еще один косой парус, миновал сторожевые корабли и скалы пролива и пошел в открытое море. – Они стремятся преодолеть... неравноправное положение... Я говорю очень быстро? Вам не трудно понимать?
– Я понимаю вас, Энн!
– А теперь расскажите мне про Японию, Алексей... Вы встречались там с японскими женщинами?
– Да.
– Часто?
– Ежедневно. Мы жили среди японцев. И сами стали почти как японцы.
– Чем же это характеризуется? – насторожилась она. – Вы переняли от них что-то?
– Мы привыкли к их обществу. Они горды, но дружелюбны.
– Да? – изумилась Энн – Какие же японки? Маленькие, в цветах и с веерами?
– Есть и рослые. Они – прекрасны!
Энн слегка зарозовела. Сильный солнечный свет резал ей глаза и оживлял лицо, привыкшее к занятиям в закрытом помещении.
– У вас была любовь в Японии, вы помните о ней?
– Да...
Энн на миг растерялась.
– Она желтая? Маленькая?
– Она тонкая, элегантная... С прекрасными ресницами.
– Она красивая?
– Очень.
– Как же вы оставили ее?
Алексей отвязал конец и привел парус к ветру.
– Какой же плод любви?
– Я не знаю.
– Так ли? Да или нет?
– Все закрылось с нашим отплытием. Я, может быть, не узнаю никогда... Японец, уехавший с нами, сказал, что... она постыдилась рассказать мне... но якобы он узнал...
– Постыдилась сказать вам? Скажите мне ее имя! А в Азии для меня нет невозможного! Где она живет, кто ее отец? Рано или поздно я найду ее, и я, Алексей, все узнаю для вас, я сообщу вам...
– Ее отец стал известным человеком, он богат и содержит князя, которому принадлежит. Она высокого роста, с нежной розовой кожей, с гибкими длинными пальцами.
– Вы так помните ее?
– Да.
– Губернатор говорит, что Япония станет нам доступной, что мы опередим янки, опираясь на Гонконг, пользуясь нашим флотом, установим прочные коммерческие связи... Я никогда не забуду вас, Алексей! Но вы ее любите?
– Не знаю.
– Что? – почти закричала Энн. – Как вы осмелились не любя? А если у вас будет сын? Или дочь? Только потому, что она японка?
Алексей не стал говорить, что все еще хуже, чем она предполагает...
– Вы могли бы жениться на мне? – спросила Энн, когда в сумерках яхта приближалась ко входу в пролив.
– Да! – Алексей почувствовал, что теперь нельзя иначе ответить. То, что произошло между ними, обязывало быть честным и прямым. Но неужели лишь играть в честность?
– Но я никогда бы не согласилась! Никогда я не уеду из Азии. Я отдаю здесь все свои силы и отдам им всю свою жизнь! – торжественно и с радостью говорила Энн. – Я никогда не сложу оружия. Но я не японка. Я буду вам писать, Алексей! С первой же миссией я буду в Японии. Я все узнаю. Я буду бороться, я найду вашего сына. Я буду писать вам, когда окончится война. Оставьте мне ваши адреса в Петербурге и в деревне... А вы не могли бы после войны приехать в Гонконг?
«Бог знает, что будет у нас после войны. Что тут ответишь? Клясться, что вернусь? Приеду в Гонконг?
В таких случаях все принято сваливать на наш деспотизм. И на царя. Вообще-то удобный предлог! Во всем у нас, мол, виновато единовластие и строгость правительства, тирания! Поэтому и с нас, офицеров, взятки гладки. Мол, все запрещено! Подло?»
Чувство горячего протеста, жажда подвига и готовность к самоотверженности зарождались в душе после этого необыкновенного дня, такого несчастного и счастливого одновременно.
НА ЖЕМЧУЖНОЙ
Я пью за наши банки...
Разговорившись с Сайлесом на пароходе, Алексей подумал уже не в первый раз, что о людях и событиях он мыслит через деньги. Сайлес, видимо, вообще мыслит деньгами.
Приходилось видеть людей, которые, получая деньги, волнуются, путаются, сбиваются со счета, а без денег хиреют, живут в тревоге о деньгах, а при случае не умеют ими распорядиться. Сайлес просто брал и просто отдавал: это еще в Японии при знакомстве замечено, когда он не скрывал, живя на американском военном судне, свои аферы с японским золотом и с долларами. Туз с размахом, не мелкий ростовщик, берущий заклады от прогулявшихся моряков.
Алексей знал, что ныне банкиры во всем мире становятся влиятельны, банки считаются двигателями промышленности и торговли, иногда бывают от них зависимы правительства.
Сайлес под хорошее настроение откровенно признался, что вкладывает деньги в разные предприятия и даже авантюры. Из каждого дела неизменно, благодаря настойчивости и умению представлять свои доходы и расходы и мыслить деньгами, извлекается прибыль.
Финансист должен хорошо знать жизнь. Каждый банкир – реалист! Как хороший, не сумасшедший художник! Нельзя сорить по одним впечатлениям, вкладывать в дело деньги или талант. Это одинаково!
Поэт денег, судя по тому, как говорит! Без денег жизнь общества застыла бы. Банки представлялись Сайлесу кроветворными органами. Чистая и здоровая кровь денег оживляла сильный организм окружающего многоязыкого общества, помогала ему избавляться от болезней и страданий. Тысячи кули с семьями, по его словам, можно посредством денег и работы превратить из голодных нищих в нормальных людей.
Сайлес знал здоровую силу денег. Он знал и преступную силу денег, подобную преступной силе власти, мог деньгами, как шаман злыми духами, заклевать человека, мог посредством денег проникать, как ему казалось, в самые интимные и потаенные уголки человеческой души. При этом считал себя гуманным, веря, что приносит пользу всем, с кем соприкасается, кого ссужает, от кого извлекает потом ссуды с выгодой и за кого думает, умело пробуждая в должниках энергию для бизнеса и самоспасения.
Сайлес уверял, что служит деньгами обществу и рано или поздно с каждым своим знакомым в каком-то виде входит в денежные отношения. В то же время чистосердечно признавался, что и он не застрахован от катастрофы. Но пока, благодаря своему сильному характеру, не беднел, хотя, рискуя, оставался временами без денег.
Сибирцев нравился ему тем, что, не избегая его общества, держался стойко и в денежные отношения не входил.
Трогательно: это единственный человек, который дружелюбен не из-за денежной корысти. Даже в плену свободен от влияния «ветра денег»! Неужели ему достаточно суконной формы с эполетами и жалованья за службу? Что он хочет, о чем думает? Это был новый для Сайлеса тип: по-своему сильный юноша. Временами при всей симпатии в отношении к нему являлись оттенки неприязни и горечи, словно бизнесмен угадывал непрактичного человека. Может быть, его капитал где-то существовал? Они живут на золотой земле. Рабочие руки у них есть, судя по отзывам Купера и других работодателей.
Сибирцев так держался, будто Сайлес имеет цену сам по себе, а не по банковскому счету. Если бы вдруг разорился и впал в ничтожество, то, может быть, остался бы для Алексея Николаевича таким же приятным. Но неужели он не понимает, что без денег и банка я не имею никакой цены и значения? Он меня ободряет и этим дорог! Если бы Сайлес все потерял? Не вижу в себе в таком случае никакого интереса! Сайлес без денег был бы как художник без души, писатель с угасшим навсегда вдохновением!
Но у Сайлеса была слабость, в которой он не стеснялся признаваться. В денежных делах он дока. Но хотелось бы стать человеком власти. Разве не мог бы?
«Как вы думаете, Алексей?»
Мало богатства и денежной славы. Разве нельзя стать консулом Соединенных Штатов? Консулом России? Он мог бы пойти далеко! Никто об этом не догадывается, приходится самому напоминать.
Как доказать государственному департаменту Америки, каким дипломатическим тактом и энергией он владеет? Где, кому показать свой государственный ум? Стать американским консулом в Гонконге! Послом в Китае! Деятелем американской администрации! Даже английской службы! Желание власти было его ахиллесовой пятой. Только бы найти подходящее государство! В своем кругу он не раз критиковал Боуринга и Стирлинга. Неумело, неискусно ведут дела! Сайлес на месте Боуринга давно бы нашел общий язык с китайцами.
Сибирцев готов предположить, что Сайлесу что-то надо от него. Что делать, раз пустился на авантюру! Не сидеть же сложа руки! Это не меняло хорошего настроения...
Тут так красиво! Над Жемчужной сияло жаркое осеннее солнце. По реке вверх и вниз шли парусные суда, лодки и плашкоуты, а на берегу толпы рабочих в лямках вели тяжелые мачтовые баржи против течения.
– Вам нравится? – заметил Сайлес.
– Да. Но почему река называется Жемчужной?
– Здесь, на этом рукаве Кантонской реки, добывали речной жемчуг. Да и сейчас... Но жемчуг не только в реке! Посмотрите! Жемчуг на полях, на реке и в воздухе! Такой торговли нет ни в одном порту Азии!
Алексей почувствовал благодарность к этому дельцу Сайлесу. Он как бы отдернул занавес и показал великолепное зрелище движения по воде между Кантоном и Гонконгом.
– Вот сюда, на эту реку, к этому острову подходили когда-то вооруженные до зубов опиоторговцы. На судах, прекрасно оснащенных, вооруженных пушками лучше, чем корабли флота Ее Величества. Это было всего лишь двадцать лет тому назад. Подходило навстречу им вооруженное китайское судно – старая лоханка с яркими тряпками на древках и с деревянной пушкой, и мандарин передавал капитану бумагу о запрете торговли опиумом. Задавался вопрос: «Есть ли у вас опиум?» – «Да». – «В таком случае покиньте наши воды под страхом потопления вашего корабля».
– Что же дальше? Товар во время этого разговора с властями перегружался на ту же джонку компрадором, а мандарин в подарок получал ящик опиума...
Алексей смотрел вдаль на низкие берега. Деревни – как груды соломы или копны сена, сады, поля, огороды с журавлями для качки воды...
– Бывали случаи, что слишком отважный шкипер, пренебрегая опасностями, приходил налегке. Китайские чиновники посылали на него пиратов и перекупали груз через компрадора или захватывали сами, даром брали. А пираты вырезали всю команду. Еще до сих пор у входа в Кантонскую реку, в островах, корабли морских разбойников следят за каждым входящим кораблем...
– Европейцы прокладывают пути для своей торговли, которая сломала все запоры. Они никогда не откажутся от выгод, извлекаемых из Китая, какие бы маньчжуры там ни сидели на троне, и пойдут на любые сделки. Не отстают и американцы. Пятьдесят американских богачей владеют фирмами в Гонконге. Уже сейчас доллар в Гонконге более ходовая монета, чем фунт. Любой китаец в лавке осведомлен, как сегодня переменить фунт на доллар, на талеры или на мексиканское серебро. Всюду меняльные конторы. А вот на этом острове когда-то китайский Дон Кихот – кантонский губернатор Ли – конфисковал на всех кораблях опиум, свез и зажег его... И что же было... Ах, что было! Война! И катастрофа для самого Ли, его сами же китайцы выдали англичанам, своим в назидание, как бы нечаянно, чтобы идеями о справедливости и заботами о народном здоровье кто-нибудь не помешал государственным аферам! Англичане увезли Ли в Индию, окружили его заботой и очень умело и как бы нечаянно уморили, как они умеют! А гроб с телом Ли доставили с почестями в Кантон!
Навстречу, дымя трубами, шел двухпалубный пароход. Сайлес сказал, что этот гигант совершает рейсы между Гонконгом и Кантоном. А еще несколько лет тому назад ни одно судно не смело войти в Жемчужную, если капитан не соглашался исполнить унизительные формальности. А теперь – регулярное сообщение! Корабль «Вилламетте». Из Гонконга в Кантон каждый понедельник и среду, а обратно по четвергам и вторникам в 11 часов дня. Прекрасный первый класс для европейцев по фунту за рейс, первый класс для китайцев – два фунта. Завтрак стоит фунт стерлингов. Берет в грузовые трюмы для перевозки – хлопок, масло, шерсть, смолу, скипидар, спирт... И все доставляет в образцовом порядке. Страховка груза.
– Кстати, вы знаете, что Пустау утвержден представителем телеграфного отделения австрийской пароходной компании «Ллойд»? Принимаются телеграфные депеши в Лондон. До Триеста сообщения идут почтовым пароходом, а оттуда в Лондон передают немедленно по новой телеграфной линии! Двадцать слов стоят 16 флоринов или 32 английских шиллинга, или, как мы тут называем, стерлинговых шиллинга, так как есть и другие шиллинги. Плюс один фунт за каждую телеграмму. Хотите что-нибудь сообщить? Я пошлю, и все будет понятно! А теперь идемте, мой дорогой!
Сайлес убежал на мостик. Алексей остался на палубе.
– Мистер Карри! – приветствуя капитана «Вилламетте», зычно закричал наверху Сайлес в рупор.
– Мистер Берроуз! – донеслось с «Вилламетте», и высокий борт встречного судна, окутываясь паром, мощно приближался к пароходу «Калифорния», выгребавшему против течения реки.
На «Калифорнии» пассажиры, пользуясь случаем и желая увидеть вблизи новинку парового флота, сбились к левому борту так, что судно дало крен.
На палубу вышла оживленная компания рослых, приличных китайцев полуевропеизированного вида.
– Мистер Вунг! Вы ли? – изумился Алексей, сталкиваясь лицом к лицу со знакомым коммерсантом.
– О, да! Ах, это вы! Здравствуйте! – весело ответил Джолли Джек. – Как я рад! Вы едете? Как прекрасно!
– Вы же хотели ехать в Шанхай? – вырвалось у Алексея. Он спохватился, да поздно, таких вопросов, видимо, не задают.
Джолли сделал скорбное лицо.
– Ах... Да знаете... Срочные дела! В Кантоне тяжело больна мама... Я немедленно выехал.
Он любезно улыбнулся, но глаза неподдельно грустны.
– Как жаль...
– Приятно, что вы едете! – сказал Вунг.
– Да. Конечно. Очень интересно!
– Ах, правда? Но жаль, если не увидите китайского города.
– Разве? Мы же едем в Кантон. Мистер Сайлес сказал, что бывал в застенном городе.
– Да, он бывал. Со мной... И один тоже... А вы хотите видеть настоящий китайский город? – горячо спросил Вунг.
Само собой разумеется, Алексей не только хотел, но и ехал для этого.
– По закону это запрещено иностранцам с Запада?
– Да! Конечно! – делая жесткое выражение лица, сказал Вунг. Но тут же смягчился. – Хотя... По знакомству все можно!
Сайлес спустился с мостика.
– Время обедать... – сказал он Алексею.
– Идемте с нами? – обратился Сибирцев к Вунгу.
– Нет, что вы! Спасибо! Я уже пообедал. Рано, по-китайски! Очень сыт.
И мистер Вунг зычно рыгнул.
Когда обе компании с взаимными вежливостями разошлись, Сайлес сказал с укоризной:
– Нашли кого приглашать!
– А что же?
– Дорогой мой! Да как бы он ни был богат и влиятелен, а ему, как китайцу, запрещен вход в кают-компанию первого класса. Пусть он европеец с ног до головы и ест, как граф. Но у них свой буфет на корме; со всеми деликатесами. Вот на «Вилламетте» впервые их пускают в первый класс. А «Калифорния» – старомодное судно.
Так вот почему Вунга не было видно ни вчера, когда на реке постояли на якоре, ни сегодня. А Сайлес знал, но не сказал.
– О нем не беспокойтесь. Он едет в отдельной каюте, в первом классе со всеми удобствами, а его компаньоны и слуги во втором классе, отдельно. Нашли, что предложить! – не мог успокоиться Сайлес. – Разве можно приглашать в кают-компанию китайца! Да это шокинг! Здесь не гонконгский суд и не китайская баня...
Разговоры идут полушутливо, вокруг все красиво и приятно, а у Алексея является такое чувство, как будто Сайлес еще только приноравливается, вот-вот начнет брать быка за рога...
Сайлес говорил много, но его болтовня была лишь ширмой. Он молчал о главном и самом важном. Он шел в Кантон не только из-за своих обширных коммерческих связей и бизнеса.
КАНТОН
Trade and Bible were allies and after them came the flag.
[Торговля и библия были союзниками, и после них пришел флаг.]
– Ax, мой дорогой! – воскликнул Сайлес. – Отбросьте свои понятия, отказывайтесь от святого аскетизма! Вспомните, что вы молодой человек! Вы хотели бы поехать в Америку? Не отвечайте! Я не дам вам открыть рта. Я скажу за вас: да! Нет человека, который не хотел бы посмотреть Америку! Так я вам сначала расскажу про моего компаньона господина Джексона...
«Если будем сидеть сложа руки, как мандарины, то и нас ожидает одна с ними судьба! Уроки для будущего! А то и за нас начнут заступаться наши «спасающие».
С Пушкиным перед отъездом так и решили. Алексей понимал, что добром его в такую авантюру никто не потянет. Он выпутается...
– ...Джексон владеет капиталами в акциях и многими предприятиями не только в Новей Англии и в Калифорнии. У него есть бизнес в Гонконге, значит, и в Китае. Он очень честный и обязательный коммерсант и промышленник. У нас выбрать в сенат могут лишь человека с безупречной репутацией.
Сибирцев еще в Японии узнал, что конек Джексона – раздувать мнимые угрозы от усиления России тихоокеанской торговле всех наций. Он во всем винит Россию, разносит ее в пух и прах перед избирателями.
– Отстаивает интересы американцев на Дальнем Западе и в Азии. Ведет торговые дела с Англией. Он друг Джона Булля! Конечно, я тоже, но... Он смертельный враг всех, кто поддерживает идею сформирования полков американских волонтеров для посылки в Крым в помощь русским. У тех – другие коньки. На митингах и в конгрессе Джексон с пылким сочувствием читает выдержки из английских газет о том, что американские друзья России находятся под влиянием царского золота. Я часто не согласен с политическими взглядами мистера Джексона. Но в делах мы компаньоны и союзники!
– А вы знакомы с Гуцлавом?
– Что-то приходилось слышать. Доктор Гуцлав – автор книг о Китае. Когда-то немецкий учитель рассказывал братьям на домашних занятиях. Вы говорите о немецком проповеднике Карле Гуцлаве?
– Здесь он не Карл, а Чарльз. Знаток Китая, его истории, языка, философии, писатель, миссионер, но не только этим знаменит. Он главный советник англичан при заключении мира с китайцами после опиумной войны, душа ученого Гонконга. Поп протестантский, но... он умер и похоронен здесь – доктор богословия! Не думайте, что существуют только англо-немецкие полки из наемников. Есть и англо-немецкие деятели и ученые. Если бы ваш покорный слуга не стал американцем, пришлось бы стать англо-немецким финансистом. В двенадцати томах Гуцлав написал об истории Китая и его современном положении. Описал свои путешествия... Он проникал в глубь страны с библией и познал китайцев, как никто другой. Вас ист эйнглише дас ист практише![65] Англичане поняли, чем ценен такой знаток, и сделали его своим дипломатическим секретарем. При этом он перевел библию на китайский, издал ее в грандиозном количестве экземпляров, стал выпускать ежемесячный журнал на китайском. Этот знаменитый проповедник пишет в своем многотомном труде, что если бы не торговля опиумом, то библия никогда не смогла бы проникнуть к народу Поднебесной. Гуцлав знал меня! Я здесь – это его рекомендация! Еще скажу вам... Англичане ищут среди американцев шпиона, который выспросил бы вас о гаванях южного Приморья. Прошу вас, будьте осторожны и никому ничего не говорите. Вы в самом деле были на описи гаваней северной Кореи?
– На описи я не был.
– Зачем вы от меня-то запираетесь? Всем известно, что адмирал Путятин назвал там гавань именем нашего общего друга Посьета. Это я слышал от него и от Посьета, и это же опубликовано.
– Но я не был там. Я пришел на «Диане», а опись гавани Посьета адмирал производил на «Палладе», когда он ушел из Японии после объявления войны.
Сайлес продолжал о Джексоне. Он разжигает в Штатах кампанию за освобождение негров. При этом учредил во всех открытых портах Китая бюро по найму китайской рабочей силы для свободной эксплуатации, вербуют кули и тысячами отправляют в Калифорнию и в Австралию – в Новую Каледонию на разные работы, особенно в шахты и на золотые прииски.
– Вы, Алексей, видный человек. Скажу вам – такие, как вы, редки! В вас есть ум! Также сила, смелость, мужество и расчетливость. Я понимаю вас. Мне кажется, что вы не для России. Вы не для нее!
«Вещуньина с похвал вскружилась голова, ворона каркнула...» Но и надуться нельзя, «как провинциальная попадья в гостях у петербургской барыни». Улыбайся, Сибирцев, держись по-американски! Усматривай в любом, кого встретишь, как бы закадычного друга!
– Вы видный молодой мужчина! Жизнь для вас должна стать прекрасной! Вы можете слушать музыку и не считать часы, в скуке ожидая чего-то особенного, какого-то чуда... Но зачем вам чудо? Если бы вы знали, как мне нужны хорошие моряки! Вы не возражайте только, выслушайте. Я вас понимаю, вы человек долга и чести. Но, поскольку вы не узник войны, а потерпевший кораблекрушение и Америка не участвует в войне, мы можем сделать бизнес... Выгодный и вам и мне. Пока идет война, не все ли вам равно, где находиться? Зачем вам жить в плохом отеле, как на гауптвахте, или прозябать на блокшиве?.. Когда кончится война – другое дело. Я все подготовлю, я уже снесусь к тому времени с вашим министром иностранных дел и канцлером Нессельроде. Я уже послал ему два письма, в которых все сообщил о вас... Джексон мой компаньон, что нужно мне – нужно и ему. Посольство Штатов в Петербурге попросит разрешить вам службу в Тихоокеанской фирме американских предпринимателей. Уверяю вас, что у вас за это ухватятся! Это в их интересах. Погодите, мой дорогой! Я хорошо заплачу вам! Я же обещаю вашему правительству помощь в развитии ваших новых портов. Я дам вашему правительству людей, которые откроют у вас доки. Во всех этих делах с Россией вы будете моим советником. Я покупаю новое большое винтовое судно. Я могу предложить вам место капитана. Для начала пять тысяч в год, и как только вы войдете в дело – десять тысяч. Это очень высокое вознаграждение, какого никто в Гонконге не получает. Никто из англичан не платит так никому из американцев или даже из британцев! Мой вам совет: рискуйте! Идите на риск! Переезжайте, Алексей, в Америку! Сэр Алекс, – вдруг вскричал Сайлес. – У вас очень тяжелая... власть... Все это царское великолепие, двор, гвардия, ваш Петербург, все хорошо на картинках. Но вам-то что?
Алексей понимал, что блеск двора – это еще не прогресс. «Но насчет нашей гвардии?»
– Вы созданы для Америки. Какую атмосферу вы бы обрели! Вы, говоря вам прямо, энергичны, я уверен, что нет дела, которое не далось бы вам. А у себя вы останетесь обреченным на бездействие на всю жизнь, вы там шагу не сможете ступить. Сколько дарований у вас погибло! У вас скорей оценят такого дельца, как я, мне откроются все двери. Но не вам! Не своему и не человеку чести и таланта! Я знаю, русские большие коммерсанты, даже мужички! Герои на войне, но ловкие, лукавые торгаши на базарах! При великих торговых способностях им хода не дают! Ведь в вашей стране мало денег, значит, и мало возможностей и нет места тому, чем одарила вас природа. В стране много золота, а нет надежных денег и слаба торговля! Видели еще где-нибудь что-то подобное? В русском обществе ценят ум, красноречие, талант – в императорском театре и в балете, а коммерческим талантам и всем другим нет хода... И вы созданы для женщин! А не для женщины. Когда вам надоест увлекаться всеми цветами кожи – мы женим вас! Женим на той, которая вам понравится, и вы возьмете большие деньги. Вы еще не знаете себя. Ах, Алекс, сэр Алекс! Мой добрый друг. Вы скажете, что я еще не знаю вас? Может быть. Но я редко обманываюсь.
Сайлес вытер клетчатым платком свой большой лоб.
– В нашей стране доход дают самые оригинальные предприятия. На судах Джексона и компании из Америки доставляют умерших китайцев на родину. Китайцы преданы своей стране и не хотят быть похороненными в чужой земле. Их, умерших, везут в ледниках, в гробы сыплют соль, чтобы покойник был доставлен на родину в целости. Там, где живут десятки тысяч китайских рабочих, как в Калифорнии, немедленно появляются китайцы-эксплуататоры. Среди умирающих есть богатые китайцы. Их родственники платят огромные деньги, лишь бы опустить прах скончавшихся на чужбине в родную землю. Уполномоченный Джексона в Гонконге мистер Ладзимэн открыл бюро с отделениями во многих городах. Прекрасно поставил предприятия по доставке умерших китайцев. Вы думаете, из Гонконга их не развозят по портам Китая? Да у нас больше китайских богачей, чем где-либо. Ладзимэн через свои конторы ведет учет всех состоятельных китайцев, живущих в Америке. Он буквально ждет смерти своих друзей – китайских бизнесменов. Поддерживает знакомство с их родней, конфуцианскими монахами, со священниками.
Сайлес признался, что из-за предрассудков англичан пришлось переписать это предприятие на Джексона, но не на самого, а на его брата. Считается, что главная контора в Сан-Франциско, а тут филиал и Сайлес не имеет к нему отношения. А часть дохода приходится отдавать Джексону...
– На эти деньги он ведет кампанию за освобождение черных от рабства! На многочисленных митингах своим громовым голосом и внушительным видом он снискал огромную популярность на севере Штатов!
Так вот почему наши матросы дразнят китайских торговцев: «соли надо?» – и те приходят в бешенство!
– Возить китайских эмигрантов в Америку! Вы – гуманный человек; зная ваши убеждения, я найму врача для китайцев. Он же будет помощником капитана, у меня есть прекрасный моряк. Он врач и хирург – из американских спаниардов[66].
«И соленых покойников с ним возить из Калифорнии!» – подумал Алеша.
– Я поддерживаю всякие другие неожиданно новые операции коммерческого человеколюбия, даю помощь для соблюдения обществами религиозных обычаев и во всем другом, в чем устои азиатов крепки, благородны и ради чего они щедры... Скоро Кантон! – спохватился Сайлес.
Пароход загудел, разгоняя лодчонки пригородных рыбаков. За мысом открывалось море крыш, низкая площадь, застроенная лачугами. А выше них, довольно далеко, – стена и город; из-за стен видны богатые строения на холмах, высокие гнутые крыши ямыней[67] в черепице и с головами зверей на коньках. Городские башни, как у нашего Китай-города. Но это довольно далеко. А на самом берегу – что-то вроде слободы, пригород...
– Вам нравится? – спросил Сайлес.
Значит, не все китайцы живут в стенах города. Этот пригород вне стен.
– Да. А мы увидим настоящий китайский город и китайскую жизнь?
– Конечно...
– А где же те европейские фабрики, на которые мы направляемся?
– Дальше... За этим пригородом на почтительном отдалении, окруженные чистым полем. Но вы не думайте, что там есть какие-то фабрики! Никаких фабрик нет, ни заводов, ни труб. Просто небольшие кварталы жилых домов, лавок и оптовых складов, принадлежащих иностранцам. По кварталу на каждую нацию. Квартал – французская фабрика. Английская – тоже квартал. Впрочем, они прибрали к своим рукам еще несколько блоков. Есть и американская фабрика, там и мой блок, и мы там с вами остановимся.
«А застенный город?» – хотел было опять спросить Алексей.
– О! Господин Вунг! Вы ли? – воскликнул Сайлес.
– О, да! Здравствуйте. Как понравилось, стояли ночью на якоре? Ах мои тяжелые, срочные дела... Знакомьтесь, пожалуйста, мистер Сибирцев. Мой друг мистер Чжан. Господин Сибирцев из дружественной России.
– Я думаю, все будет благополучно! – обратился Вунг к Сайлесу.
– Мистер Берроуз! А вы разрешите показать мистеру Сибирцеву застенный город? Бутылочный город моряков покажете вы, – китаец засмеялся, – с бывшим моим отелем! А я – застенный. Ах, запрещенный город, как в Пекине! Так мы не говорим, так не называем, но так кажется европейцам.
– Мистеру Сибирцеву хотелось бы побывать только в Америке!
– Ах так? Я вам покажу, мистер Сибирцев, то, что мистер Сайлес не покажет. Совершенно бескорыстно, как верный друг!
«Разве Сайлес с корыстью?» – подумал Сибирцев.
– Я, Вунг, покажу застенный город. Вы не боитесь?
– Нет, – спокойно ответил Сибирцев. Всех их он считал порядочными людьми.
– Один очень важный мой друг, – засмеялся Вунг, – он содействует. Помните, как я хотел пригласить вас в Кантон? И как странно... Вот и сбылось. Случайно совпало... Мистер Чжан свободно говорит по-английски. Он получил образование в Индии.
Алексей утром заметил, проходя мимо буфета, что европеизированный молодой китаец ест вилкой и ножом, безукоризненно держится, пользуется салфеткой, стрижен, плечист, атлетическая фигура.
А город совсем рядом, мимо борта проплывают пристани, похожие на амбары, построенные на сваях с широкими воротами на реку. Соединены длинными мостками с берегом. Вернее, берега и не видно, мостки тянутся куда-то далеко, среди полукруглых и серых крыш. Где суша, где вода? Неясно. Одинаковые лачуги и на суше и на лодках. Целое море жилищ.
«Смотрите, Сибирцев, не будет ли там подвоха, – говорил, прощаясь, Пушкин. – Как вы сами полагаете, зачем зовут вас? Не за красивые же глаза? Впрочем, вы молодой, да ранний. Да и что они с вас могут взять!» – «Если зарежут только», – сказал Урусов. «До этого дело не дойдет!» – заносчиво ответил Сибирцев.
– Вот и наша пристань, – сказал Сайлес. – Но когда же вы сами займете свое Приморье на берегах Татарии, когда? – с горькой досадой воскликнул он, резко поворачиваясь к Алексею.
– Как только будет возможность, – горячо ответил Сибирцев.
– А вы знаете, что там?
– Конечно.
– Что? Где же будут ваши города? Вы сумеете построить такой же город, как Гонконг? Я бы помог вам! Я хотел бы быть там, хотел бы!
Причал уже у борта. Стукнулись о дерево. Тут все деревянное, рогожное, из рисовой соломы.
Алексей что-то еще сказал, более из желания сохранить престиж. Он сам не знал толком, как идут наши дела в Приморье. Чувствуется, что здесь этим интересовались.
Сайлес вдруг сказал о потоплении французским крейсером в одной из приморских гаваней русского военного бота. На нем были военные моряки и с ними сектанты, что-то вроде квакеров или пуритан.
– Значит, занято вами? Туда уже тянутся те, кого у вас объявили еретиками. А что на Амуре? Там гигантская плодородная равнина. Ну, что же, ну? Тогда надо продолжать строить там города, доки!
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
...жизнь юноши в России резко отличается от западно-европейской. У нас юноша в университете или же в военной школе живо интересуется вопросами социальными, политическими и философскими.
– Кантон – рубеж наших прав, – продолжал свои рассказы Сайлес. – Мы стоим прочно, как и в Шанхае. Но по эту сторону стены. Надо получить право иметь посольства всех стран в Пекине. И право торговли в городах внутреннего Китая. Ну, смотрите, спектакль начинается!
Поодаль от пристани, построенные за городской стеной, стояли на поле особняки, некоторые с садами.
На рейде – винтовой клипер, военный колесный пароход и фрегат. Английские и французские суда стояли поодаль друг от друга в море и по всей реке, их видели пассажиры «Калифорнии» на протяжении всего пути от Гонконга.
– Когда-то здесь – я вам говорил, и вы знаете – существовали «фабрики»: испанская, шведская, португальская... Теперь многие участки старых фабрик перешли к новым хозяевам. Шведы и испанцы вылетели. Большинство старых зданий пошло на слом!
У Сайлеса свой магазин, склады, а в небольшом доме с решетками – отделение банка. Знакомый бенгалец в чалме, приходивший с Сайлесом в Японию на американском пароходе, и тут сидел с ружьем у входа.
В конторе хозяина встретил высокий клерк-голландец с помятым лицом. Двое китайчат с записками и визитными карточками Сайлеса были посланы по адресам.
Отправились на «конг» – так называл Сайлес управление корпорацией компрадоров. В большом дворе деревянные навесы амбаров, под ними ящики, тюки, мешки. Тут же телеги, запряженные лошадьми и ослами. Походит на большой купеческий склад где-нибудь у Макария[68].
Толстейший и на вид добродушнейший китаец обнял Сайлеса. Банкир тут же сказал, что прибыл не только по своим делам, но он теперь человек государственный, консул республики Новая Гренада. Вручил визитную карточку на китайском. Сайлес называл толстяка Хоппо. Этот китаец, кажется, и возглавлял корпорацию компрадоров. Поздравил Сайлеса с высокой дипломатической должностью.
Хозяин угостил чаем и предложил Сибирцеву посмотреть склады корпорации в сопровождении приказчика.
Разговор происходил в обширной конторе Хоппо.
Алексей догадывался, что это тот финансовый и коммерческий делец, который, по словам Сайлеса, платил государственных налогов и давал взяток мандаринам вдвое больше, чем Вунг, – почти полмиллиона.
– Наши сердца всегда были едины! Наш ум един, – говорил Хоппо банкиру, когда Сибирцев возвратился после поучительной экскурсии, насмотревшись на ящики с опиумом и на тюки всевозможных товаров, какие ввозились и вывозились из Кантона. Чего тут только не было: дамские кружевные платки десятками тысяч, пестрые ткани, металлические изделия, ласточкины гнезда как деликатесы. Опиум, оказывается, не был главным товаром, как говорили сами китайцы, а ежегодно ввозится в страну все больше и больше полезных изделий из Европы.
– Дело беспокоит меня, – уверял Сайлес. – Вы знаете, чем все это может грозить коммерсанту, торгующему с иностранцами? В прошлые годы статут, утвержденный правительством, не спасал многих из вас...
Китаец посмотрел пристально и сказал, что уверен, мистер Сайлес все хорошо обдумал.
– Мы, американцы, не вмешиваемся, но я не могу, как ваш друг, не обнаружить беспокойства.
Шли домой на американскую «фабрику» на шлюпке с местными гребцами.
– Да, они опять возьмутся за старое, – сказал Сайлес, видимо имея в виду мандаринов.
Алексей смотрел, как плывет какой-то большой пестрый сверток. Китаец зацепил его багром с причала, подвел к берегу, вытащил и развернул цветное лоскутное стеганое одеяло. Оказался покойник. Китаец свалил тело обратно в реку, а одеяло разглядел, сложил и забрал себе.
Дома Сайлес сказал:
– Завтра поедем в город, посмотрим, что делается, как идет розничная торговля.
Утром заехал Вунг и предложил Сибирцеву поехать в Кантон.
– Я приглашал вас. Мне разрешили... Один, очень важный... Мой приятель...
Сибирцев уже знал, кто имеется в виду.
– Вы его увидите.
Сайлес был готов. Сибирцев взял сумку с альбомом для рисования.
Мистер Вунг наклонился к уху Сибирцева:
– Генерал-губернатор Кантона и командующий войсками. Он хочет с вами познакомиться. Знаете, приглашал меня с вами на загородную виллу. У нас это называется по-английски: банкет.
– Я обещал ехать с мистером Сайлесом.
– Конечно! И мистер Сайлес приглашен!
– Вы знаете, когда в Китай пришло известие о разгроме англичан и французов на Камчатке, – вылезая из паланкина у башни с воротами в город, заговорил Вунг, – то китайское правительство, очень ободренное, согласилось на добрососедскую просьбу русского правительства о разграничении по Амуру. До сих пор ваша страна была единственная, которая нанесла поражение англичанам. Никто не мог противостоять их империи! Кроме одного княжества в Индии.
«Что же, – сказал себе Сибирцев, – дальше в лес – больше дров! Риск – благородное дело, не зарежут же они! Вот каковы мои благородные понятия, а на деле сплошные предрассудки!»
Сердце замирает, как входишь в незнакомый город, где ни единого европейца, даже нет сопровождающего бенгальца с ружьем.
Вошли в застенный город через ворота в башне. Да это как ворота нашего Китай-города, не отсюда ли и название? Гошкевич уверяет, будто Бичурин выкопал, что у Кублай Хана[69] при монгольской династии Юань в Пекине была гвардия из русских. Это, кажется, XIII век, пора монгольских завоеваний? Подвластные Юаням орды хлынули на запад, захватывали пленных на Руси, за рост, вид и мужество, выказанное в боях, отправляли их на показ Кублаю, а тот дал им оружие и сделал телохранителями.
А город какой-то знакомый: дома каменные, порядочные, смахивают на наше Замоскворечье, на Якиманку, Полянку, Ордынку, на Толмачевские переулки; с такими же каменными воротами и высокими окнами в толстых стенах.
– Это все живут торговцы?
– Да. Это же город! Все торгуют.
Сайлес распростился, сказал, что скоро будет, найдет сам, чтобы о нем не беспокоились. Нанял хороший паланкин и удалился на плечах четырех носильщиков.
– Мистер Берроуз сегодня очень занят, – пояснил Вунг. – Он... может быть... у губернатора Кантона.
– Как? Сайлес?
– Да, он христианский проповедник, очень рьяный. Разве вы не знаете? И по делам... распространения христианства прибыл на переговоры с его превосходительством. Ревностный миссионер!
Зашли в два древних храма. Потом свернули с многолюдной улицы во двор и в дом, минуя помещение, где множество бухгалтеров за столами быстро щелкали на счетах. Прошли в какую-то контору. Вунг, улыбаясь, объяснялся со служащим, который очень заволновался. Упоминались какие-то пираты.
Сибирцев понял по-китайски, но не все, речь шла про какие-то огромные ящики с французскими тяжестями. Но что с ними случилось и где они – не понял. Обедали в китайском ресторане. Туда же приехал Сайлес. Охотно ели вкусных креветок, ласточкины гнезда и разную снедь. Был и прекрасный суп, и опять мясо в самоваре.
Под вечер шли пешком по узкой нарядной улочке без деревца и без куста, с дырявыми деревянными тротуарами. По обе стороны – еще не зажженные фонари с длинными красными лентами до земли, вместо вывесок означающими рестораны.
Вунг показал, куда идти. Открыл дверь. Зазвенел колокольчик, как у нас в бакалейной лавочке. С поклоном встретили пятеро молодцов в шапочках и халатах. Джолли Джек подал знак своему переводчику, которого взял с собой на прогулку, как англичанин, тот что-то пояснил одному из китайцев, который обрадовался и исчез за занавеской, прикрывающей дверь внутрь дома. Возвратился с хозяином в седых усах, который низко и почтительно кланялся и смотрел на Вунга с подобострастием. Хозяин очень щуплый, сухой, быстрый в движениях и в речи.
Прошли во внутреннее помещение. В отдельной комнате гостям подали трубки. Опытные руки хозяина вложили в них разогретые шарики... Трубки закурились. Сайлес потянул разок-другой, не вдыхая, и отложил трубку.
– Идемте дальше, – сказал он, – показывайте магазин!
Хозяева засуетились и повели гостей по коридору. Во всех комнатах сидели, лежали и курили люди. Это были и старики, и молодые, а кое-где и курящие женщины. Пожилая и, видимо, богатая дама полулежала на роскошном диване в отдельной комнате с красивой металлической чашей на столе и курила. На коленях перед ней стояла служанка.
– Тут что-то вроде ресторана с отдельными кабинетами, – сказал Сибирцев.
– Опиокурилка! – ответил по-русски Вунг и добавил по-английски: – Не первого разряда, но есть богатые люди, которым тут нравится.
В другой комнате курильщики громко спорили. Где-то пели женщины.
Сайлес еще чего-то потребовал. Открыли низкую дверь, и через дверь вошли в похожее на конюшню, узкое, уходящее в темноту помещение. На камышовых подстилках группами лежали завзятые курильщики. Всюду высохшие полуголые тела с ребрами наружу. Острые, торчащие скулы, остекленевшие или опьяневшие взгляды. Кожа на старике, как пергамент, желта, темна. Он кажется уже полумертвым. Это склад умирающих от курения, целые шеренги гибнущих. Невозможно что-то рассмотреть в этой полутьме.
Хозяин водил оптовых поставщиков опиума по всем закоулкам своего разнообразного предприятия – компаунда. Старался обрадовать их всем, что тут происходило. Два богатейших коммерсанта решили в кои-то веки взглянуть на ход своих дел!
– Опиум какого сорта ценится более всего? – безразлично осведомился Сайлес.
Алексею показалось, что вопрос задан явно для него.
Китайцы, сопровождавшие хозяина, с живостью заговорили про сорта опиума и какой как действует.

Хозяин, молитвенно возведя к Вунгу сухое аскетическое лицо, сказал, что два лучших сорта опиума – это индийские, оба фирмы Железноголовой Крысы.
– Это они Джордина так прозвали! – сказал Сайлес, выходя на воздух. – Его китайцы иначе не зовут, как Железноголовая Старая Крыса. И сорта опиума так у них и называются! А розничная торговля, как вы видели, идет прекрасно! Ученые и гуманисты Китая доказывают, что опиум не нужен. Но у нас в Гонконге все в один голос говорят, что это лишь первая капля в море тех возможностей, которые представляет собой Китай для торговли. Но что для этого нужна еще одна война, с чем я совершенно не согласен. Но я боюсь, что наши компрадоры ждут, что не проиграют в новой войне, а только выиграют.
Вунг молчал, как бы ничего не слыша.
Алексей помнил разговор в конторе о большие ящиках, которые куда-то шли; кажется, упоминались какие-то порты. Во всяком случае, говорили не об опиуме. Алексей с детства приучен не подслушивать чужих разговоров, отойти на улице от разговаривающих, чтобы не мешать им и чтобы соблюдать свое достоинство. Так он и на этот раз не вникал... Китайский язык он изучал добросовестно, подолгу, в отеле и на блокшиве, сам, благо у пленного много свободного времени. Учил и с Гошкевичем, а разговорный – на лодках, на улицах и магазинах. Невольно понимал иногда, о чем говорят окружающие, так как говор кантонский брал не из учебников, а из живой толпы.
Наняли паланкины, расселись по ним и отправились в центр. Над крышами вечернего Кантона стояла сырая мгла, и Алексею казалось, что это дым множества опиокурилок сливается в сплошное облако над процветающим городом.
Ехала на ярмарка
Ухарь купеза... –
запел в переднем паланкине мистер Вунг.
Ночевали в гостинице, в отдельных номерах. При отеле – ресторан и своя опиокурилка в задних комнатах, очень роскошная, с коврами, диванами, зеркалами, затейливой посудой. Посетители в красивых шелковых одеждах. Вунг предупредил, что если кто захочет покурить, то может заказать у слуги – подадут в комнату со всеми приборами вместе.
– Полштофки хлебного вина тут уж не закажешь? – спросил Алексей.
– Русской казенной водки в Китае нет, – ответил Вунг, – но есть виски и есть ханьшин хороших генеральских сортов. Есть настойка на тигровых кистях. Есть сладкие вина ста марок. Вы хотели бы рассеяться? Подождите, завтра еще не то увидите!
Китайский командующий принял Сайлеса и Сибирцева без церемоний, у стола с картами, где собирались его генералы.
Тучный, еще не старый, громадного роста, с очень сумрачным выражением лица, он тускло щурился, глаз не видно. Одет в голубоватую, отделанную мехом выдры курму[70] с желтыми петлями на ажурных серебряных шариках. На груди нашивки. На шапке шарик. Разговаривал без поклонов и без улыбки. Почувствовался человек военного долга в час испытания.
Говорили недолго и любезно. Гости получили приглашение на вечер в загородный дом.
Выслушав, что толковал через переводчика Сайлес, командующий с интересом посмотрел на Алексея, но заниматься с ним не стал.
– Вы хотите рисовать? – спросил он. – Сейчас я скажу, и вас отведут на executing place[71]. Пожалуйста! Обычно ни одному иностранцу мы этого не разрешаем.
У Алексея душа обмерла. Что еще? Куда его сосватали? Но надо держаться. Сайлес, видно, решил показать, что для него невозможного не существует.
Тихо вошел высокий китаец. Глаза его как бы выражают готовность к непрерывному отражению опасностей. Движения гибки и быстры.
– Наш главный исполнитель! – представил его один из генералов. – Доверьтесь ему, он покажет вам все. Для какого европейского журнала рисунки?
– Пока для собственного альбома.
– Пожалуйста!
Китаец с «отражающими» глазами попросил немного подождать. Алексей стал невольным свидетелем разговора Сайлеса с генералами.
Алеше показалось, что если начнется война, то китайцы будут сопротивляться долго и упорно. Генералы, находившиеся перед ним, – слуги самого деспотичного режима в мире, враги тайпинов и христианства. Но как энергичны и строги лица. Значит, и у загнивающей династии и у классов, идущих к упадку, бывают сильные и талантливые сторонники. Люди долга и чести!
– В Кантоне – гнездо самых верных слуг императорского Китая, – пояснил Сайлес.
Алексей понял, какую опасность приходится непрерывно отражать глазам его спутника, офицера, исполняющего приговоры.
Шли вдвоем улицей, во всю ширину которой сидели еще молодые и сильные на вид китайцы, в колодках на шеях, связанные друг с другом косами, некоторые со связанными руками, многие с гноящимися ранами на головах и на теле. Очередь, как видно, шла медленно.
Головы рубили на небольшой площадке, каменистая почва которой была красной, как для игры в мяч с ракеткой. Пять домиков, слепыми стенами выходивших друг из-за друга, обступили пустырь. С другой стороны какой-то склад, его задняя стена. Небольшая площадка среди тесно строенных зданий, у которых нет выходящих сюда окон.
Алексей вспомнил рассказы, что тела казненных съедают собаки и свиньи. Но нельзя найти столько животных, чтобы съесть всех тут казненных. Существует якобы особая башня, куда складываются покойники, а потом вывозят всех сразу.
Пятерых мужчин и одну женщину поставили на колени. Мужчины опустили головы, чтобы срубали скорей, женщина держала свою высоко – видимо, молилась или вдохновенно думала о ком-то, может быть о семье. «Исполняющий» офицер, задерживая казнь, приказал подать художнику стул.
Вокруг лениво стояли маньчжурские солдаты охраны с допотопными секирами. Вдруг один из них как бы раздвоился. Из-за его спины вышел и неслышно стал подходить рослый, плечистый человек с приопущенной головой и, как показалось Сибирцеву, с немного смущенной улыбкой, словно чувствовал, что его застают при кривом тяжелом мече палача. Шел так же легко и тихо. Внезапно он поднял голову и молниеносно взмахнул мечом...
– Вы слышите эту песню? – спросил Сайлес, когда возвращались поздно ночью после приема в загородном дворце губернатора, который дан был, по всей видимости, в честь него.
Теперь «фабрики» начинают называть «концешен» – кажется, в переводе означает: уступка.
Сибирцев и Берроуз вылезли и шли пешком за носильщиками с пустыми паланкинами.
В темноте раздавались пьяные крики.
– Вы понимаете слова?
– Немного.
– Я вам тысячу раз говорил, что англичане – пьяницы и они пропьют империю! Согласны на что угодно, спят с китаянками и негритянками и женятся на них, лишь бы вино! Больше им ничего не надо. На алкоголе мы создали из колонии мировую державу. Я говорю «мы», но к ним не имею никакого отношения! Все герои их – пьяницы. Вся их народная поэзия – поэзия пьянчужек и нищих бродяг. Создали флот, и на службе их хотя бы одевают, а то ходят оборванцами. Сколько их мрет в метрополии от голода! Пьют и не хотят работать!
Сайлес подвыпил и в мрачном ударе!
– И еще одна способность у этого народа: исполнять строгие законы. Дисциплина отрезвляет даже пропившихся, чего не могут сделать жена и правительство. Народ горьких пьяниц, обреченный на вымирание! Вы думаете, их парламент не такой? И в парламенте все пьяницы... Как бы ни задирали нос! Пьянице легче быть завоевателем, он не думает о семье.
I cannot eat
But little meat,
My stomach is not good.
But sure I thinke,
That I can drinke,
With him that wears a hood.
Алексей не впервой слышал эту страшную дринкинг баллад – пьяную песню. Заходил к Янке и Мотыгину на ферму, где всегда предлагали парного молока, и там девица, не позабывшая на чужбине оттенков родного языка, растолковала, что под словом «hood» – капюшон – может быть, подразумевается духовное лицо, монах, видимо. Но, может быть, не монах, а приговоренный к смерти? В старину, кажется, вели на виселицу и надевали на осужденного какой-то черный колпак, капюшон. Алексей сам готов был заорать благим матом что-то вроде:
Я есть не могу,
Кроме малости мяса,
Мой желудок совсем плох,
Уверен – пить смогу,
Даже с тем, кто носит hood.
«Еды и у меня душа не принимает, кусок в рот не идет. С души рвет! А они все орут и орут на пустыре».
And Tib, my wife.
That as her life...
Тиб, моя жена.
Уж такова ее жизнь...
«Не знаю, верно ли слышу и понимаю, но песня очень бередит, лучше бы я не учил язык так старательно. Слушал бы не разбирая».
I stuff my skin,
So full within,
Of jolly good ale and old...
Я набил всю свою шкуру,
Так полно,
Веселым элем хорошим и старым...
«Довольно, господа, – оправдывался Алексей мысленно перед товарищами, лежа после этого тяжелого дня в бессонную ночь в номере подворья на американской концессии. – Идет генеральная рубка голов тысячам захваченных в плен тайпинов. Одних стреляют, другим рубят головы. Тела складывают в глухую башню с отверстием под крышей, похожей на гигантский скворечник».
На банкете, видя, что молодой гость расстроен, один из присутствовавших, рослый генерал с белокурыми усами, видно из той породы маньчжур, каких видел Невельской на Амуре, тихо сказал по-китайски Алексею на ухо: «Что жалеть! Ведь это только китайцы... Не первый раз нам приходится слышать от маньчжур эту фразу.
Алексей понял и печально приопустил голову.
– А вы полагаете, что тайпины не рубят голов? – продолжал маньчжур на этот раз с помощью гонконгского переводчика. – У них такие же казни и такие же деревянные пушки с обручами, как на ваших бочках с элем. Они уничтожают нас вместе с семьями, вырезают детей.
Сайлес в эту ночь тоже не спал, он был возбужден своим успехом. Сказал командующему, что надо избежать войны с Англией и Францией во что бы то ни стало. Привел доводы! Нужны уступки. Он выполнил дипломатическую миссию. Сказал про неизбежный закон развития... Много объяснял. Как друг Китая и китайцев, зная, что атмосфера накалена, что искренне подает совет. Что он не англичанин. Он банкир, у него компаньоны и друзья китайцы... Сказал, что нельзя прибегать к разжиганию черни, за это ухватятся.
Утром командующий, сутуло сидя за тем же рабочим столом в своем штабе, задумался над картой, вычерченной для него французскими инженерами. Они под видом священников побывали в расположении мятежных войск, нанесли на бумагу лагеря и укрепления.
«Дороги и мосты изображены гораздо точней, чем на наших собственных картах. Высоты, низины, болота, поля, городки и деревни: с примечаниями, сколько в них жителей, заметки о колодцах с питьевой водой, о речках и каналах. Не очень долго они пробыли, но добросовестно все сделали.
Китай и китайцы попали впросак. Могучая, процветающая нация возгордилась, залюбовалась собой, отгородившись от всего мира. И вот что получилось. Теперь говорят, что виноваты маньчжуры, то есть иностранцы, люди другого народа, захватившие трон и государство. Но грядущая беда настигает нас всех, пользуясь нашими раздорами.
Создав цивилизацию, книгопечатанье, порох, осуществив удивительные изобретения, проведя каналы, мы, китайцы, когда-то всех превзошли. Мы стали углубляться в самих себя, погружаться в чувства любви к родине, к своим семьям. Великие вопросы жизни, смерти, государства, народа, как нам казалось, решены были правильно, раз и навсегда.
Мы накопили за многие сотни лет груз поэтических предрассудков, выражающих наши вечные опасения за сохранность наших семей и нас самих. Мы боялись опасностей придуманных, не видя истинных опасностей.
Когда династия теряет силу, нечестны чиновники, разваливается управление, – народ должен свергать династию! Это согласно учению Кон Фу-цзи. Тайпины восстали, они желают сбросить маньчжурскую династию Цинов.
Но теперь уж дело не в династиях! В машинах, в огнедышащих самоходных судах, в пушках, бомбах, ружьях, штыках. При этом я должен верить и верю, что не это главное и что у нас все лучше, чем у европейцев, иначе я не смогу командовать войсками. Я верю, что тот, кто перед боем съест священную бумажку с иероглифами счастья и храбрости, тот совершит подвиг и победит врага! Мой солдат с косой и фитильным ружьем хорошо подготовлен, если наелся воодушевляющих листовок с отпущением грехов.
Подвоз тюков таких бумажек важней пушек и ядер. Можно поразить врага! Я сказал на военном совете, что наши деревянные пушки с железными обручами – отличны, готовы к стрельбе. Я доверенный государя, я – военачальник, я не варвар. Я должен оправдать себя в глазах доверивших. Я могу учить подчиненных только так. А рано или поздно начнется битва с внешними варварами. Я также заявлю перед ней, что мы победим! Но я-то знаю, что одних заученных уроков послушания недостаточно.
А я стою сам в длинном, неудобном халате, совсем не в такой одежде, в какую англичане одели людей, привезенных из Индии. Европейцы объединяются против нас в войне, к которой готовятся. И только при помощи гонконгских коммерсантов удалось мне договориться с французами.
Теперь легче и удобней... Но разрешат ли мне подготовиться к сражениям, как я хочу? Пока мы и тайпины, два войска в халатах, будем бить, бить, бить друг друга из деревянных пушек.
А как говорит народная мудрость: настоящая победа бывает тогда, когда нет побежденных!
На свой риск и страх я получил новейшие пушки, не понадеявшись на бумажные индульгенции. Доставили, наконец, в Кантон французские нарезные орудия. Первый шаг в новом направлении. Прибыл инженер, получивший английское образование; на свой риск и страх они действовали.
Теперь боюсь не тайпинов, а за себя... От нашей роскошной жизни с нашими семьями в прекрасных дворцах и усадьбах, со множеством наследственных драгоценностей и с роскошными библиотеками стремлюсь в мир стали и машин.
Сколько же поколений ждать, уничтожая миллионы мятежников – своих же сограждан, которые сами не знают верного пути?»
В одиннадцать «Вилламетте» уходил в Гонконг. С утра все было готово и уложено, вещи унесли на пароход, а банкир и Алеша зашли на склады к Вунгу.
Выпили легкого вина перед дорогой. Джолли Джек, как всегда, шутил, смеялся. Но, когда прощались, Алексей заметил, что Вунг на миг взглянул на Сайлеса таким темным и тяжелым взглядом, словно закрывал за ним крышку гроба.
Алеша даже обомлел. Неужели что-то произошло? Какие-то дела у них тут. Алексей признался себе, что заметил, но распутывать не берется. Для познания противников нужны особые гениальные люди.
«Странно простился Вунг!» – думал Алексей, глядя с верхней палубы новейшего парохода на отплывающий Кантон. А жалко стало покидать этот мир. На прощанье еще Вунг сказал Сибирцеву: «Мы знаем, что маньчжуры говорят про нас: что их жалеть, ведь это только китайцы! Очень бесчеловечно! Ха-ха-ха... Но китайцы сами говорят: «Наша люди много, наша люди не жалей!» Какая же разница?
Новости ждали Алешу дома, в отеле. Получены французские, английские и американские газеты. Опубликовано изложение диспозиции, составленной союзным командующим перед решительным штурмом Севастополя: французы штурмуют Малахов, англичане штурмуют Редан.
В решающей битве нельзя обойтись англо-сардинскими, англо-немецкими, англо-индийскими реджиментами. Приходилось пускать в бой цвет армии: англичан и шотландцев.
Французы взяли Малахов. На кургане взвилось французское знамя. Это сигнал к атаке. Англичане ринулись смело. Их встретили ужасающей стрельбой, несколько раз волнами шли и шли вперед британцы. За день легло 2240 солдат. Убиты два полковника и пятьдесят офицеров. Редан взять не удалось.
Как пишут газеты, в ночь русские стали уходить на северную сторону, взрывая еще не взятые у них укрепления. Союзное командование отдало приказ: не стрелять по отступающим. Благородному противнику не стреляют в спину!
А в Гонконг только что прибыл новый посол Соединенных Штатов в Китае мистер Паркер.
Пятьдесят американских коммерсантов, живущих в Гонконге и ведущих в Китае дела, пригласили его на обед, предполагая в будущем действовать заодно, побольше узнать и побольше представить из своих рук разных сведений и советов. Паркер отказался присутствовать на обеде, сославшись на занятость. Дано понять, что представитель Соединенных Штатов не является представителем пятидесяти авантюристов из Гонконга. Хотя он, как видно, впечатлен, что американская колония в Виктории составляет такой могущественный ансамбль банков и торговых домов. Может быть, началось энергичное утеснение Юнион Джека[72]? Но мистер Паркер не имеет к этому отношения. Есть иные, серьезные цели.
Гонконг открытый город. Ничего нельзя запретить тут американцам. Они готовятся к действиям, которые пойдут вразрез с интересами Великобритании. Объединяться с ними на глазах у хозяев колонии посол Штатов не намерен.
Возвратившись в Гонконг, Сайлес в тот же день подъехал в цилиндре и сюртуке к дому губернатора.
Его приняли. Банкир сказал Боурингу, что поручение выполнил, и, кажется, успешно. Разговаривал с вице-губернатором Кантона и с виднейшими коммерсантами. Китайцы выслушали благожелательно и уверили, что они также желали бы жить в мире и готовы к уступкам... Однако невозможно сказать, насколько это искренне и все ли так, как они обещают.
Боуринг поблагодарил, сказал, что всегда считал Сайлеса Берроуза одним из самых трудолюбивых жителей колонии и одним из лучших знатоков Китая и что, будучи нейтральным американцем, ему удобно было говорить о том, чего нельзя поручить никому другому.
АФЕРА
...зачем русский путешественник, без мундира, на французском пароходе... Какую отрасль человеческой деятельности может представлять он, если не дипломатическую или шпионскую?
Сибирцева допрашивал капитан Смит. Алексей и прежде видел мистера Смита, и в форме, и в штатском. Гонконг невелик, несколько тысяч англичан на 60 тысяч цветных Европейцы все на виду друг у друга.
Впервые заметил тонкого и элегантного джентльмена на докладе Гошкевича в Клубе наций, спасающих Китай. Положение у Смита особое: по должности что-то вроде офицера генерального штаба по сбору военной информации о силах противника. Говорят, владеет китайским и русским. Однако еще не слыхали от него ни слова по-русски. Тем загадочней и опасней. У французов при генеральном штабе есть должности для разведывания тайн противника и засылки лазутчиков. У англичан, кажется, нет генерального штаба, все входит в министерство, и они делают вид, что подобных должностей у них нет, хотя всему миру известно, что по части сбора милитери интеллидженс, то есть военной информации, они на первом месте в мире.
Евфимий Васильевич сам мастак по части добывания военной информации, но он на почетной должности этим не занимался, был русским военно-морским представителем в Англии. Военный дипломат для того и командирован в другую страну и для того ею принят как почетная персона, чтобы поучаться всему, чего там достигли, призаниматься опытом и делиться своим. Совершает все открыто, а когда, наверно, и прикупит чужих секретов! Он и рассказал, что англичане сбором информации занимаются все без исключения, живущие в других странах и колониях. Мол, даже те, кто на пенсии, регулярно из года в год пишут подробные, добросовестно составленные отчеты о том, что у них на глазах произошло или что удалось узнать из достоверных источников. Служащие учреждений и фирм изучают язык тех народов, среди которых находятся. Успех сбора ими сведений есть результат их трудолюбия, они и на такой ниве старательные пахари. Занимаются этим не в помеху главному своему делу, чем и ценимы.
В те времена стыдились шпионов, доблестями их не похвалялись и про них помалкивали. Ни один король или его премьер-министр или республиканский президент еще не додумались заявлять, что, мол, наша шпионская служба в вашей стране доставила нам такие-то и такие сведения про вас и на этом основании мы вам заявляем протест или озабоченность или обсуждаем ваши дела в своей палате или парламенте. Сведения от шпионов это все же что-то тайное.
В Древней Руси доносы не поощрялись; была даже пословица: «Доносчику – первый кнут». Удар кнута полагался при наказании преступника тому, кто на него донес.
Теперь англичане подавали пример обновления не только в паровых машинах и в ткацком деле. Таковы слухи. Значит, времена понемногу менялись.
– Вы проникали во время войны в Англию. Пришли на пароходе «Валенсия» из Лиссабона вместе с вашим посланником. Оба с фальшивыми паспортами. Ваш – на имя крещеного португальского еврея Ильи Жермудского.
– Я никогда не был в Лиссабоне и никогда не принимал на себя чужого имени.
– Вы сопровождали русского посланника в Португалии господина Ломоносова, который до того дважды с начала войны появлялся в Лондоне, имея австрийский паспорт.
Алексей сидел утром в номере за столом у окошка на «пожарную» глухую стену и учился писать иероглифы. Пушкин, офицеры и юнкер ушли чуть свет посмотреть, как ведут себя матросы. На них есть жалобы, на блокшив приходили врач и полицейский офицер. Пушкин объяснялся. Теперь там разбор дел, поставлена охрана.
В дверь постучали. Вошел полицейский капрал, афганец в чалме, поздоровался с улыбкой и подал бумагу. Написано, что лейтенант Сибирцев приглашается «into custody». Под арест? На гауптвахту?
Афганец, видя, что бумага прочитана, поклонился вежливо и вышел.
Алексей встал, прошелся по комнате, сел за стол и написал Пушкину записку. В коридоре ждали капрал и двое сипаев.
Китайцы на улице обратили внимание, что Сибирцева ведут под охраной. Ввели во двор, где находятся казармы. У дома, которого раньше Алексей не замечал, несколько окон зарешечено. Может быть, военная тюрьма. Алексея попросили пройти в помещение, тщательно закрывая за ним двери.
Оказался в одиночестве, в комнате с решеткой. На оборотной стороне двери нарисована виселица, а на стене кто-то написал от руки целый столбец под заголовком: «Правила повешения». Алексей не стал читать. Ходить по комнате неудобно, как ни шагай, последнего шага не получается. Но делать больше нечего.
– Мистер Сибирцев, мы вынуждены арестовать вас.
– Вы, мне кажется, не можете арестовать меня. Я и так арестован как военнопленный.
Смит молчал, как бы вглядываясь и вслушиваясь и что-то изучая. «Какие у них способы по этой части? Смолчу и я». Алексей отродясь не бывал под арестом, и новизна положения пока еще забавляла его.
Как ни странно, но Алеша ждал чего-то подобного. Нельзя просидеть в плену несколько месяцев и выслушивать лишь любезности леди и джентльменов, жить как в гостях, делать, что вздумается и не навлечь подозрений. Равновесие должно быть восстановлено. И он входил в положение строгих властей военного времени. За последние дни что-то носилось в воздухе, отношения менялись. Лодочница-китаянка еще вчера сказала, что надо бояться, очень страшно.
Вошел полковник с бесформенными клоками усов под исчерна-смуглым носом и, не глядя на Алексея, что-то сказал Смиту. С ним офицер-индус, очень молодой, в чине майора. Видимо, сынок какого-то знатного князька или короля, получил, может быть, воспитание в Англии в военном колледже. И у нас в Главном штабе и при дворе тоже есть высшие офицеры из князей татар, кавказцев, киргизов, калмыков, получивших образование в Петербурге, из крещеных и некрещеных. Это, не считая грузин и армян, которые, как православные, пользуются полным доверием, считаются русскими, дослуживаются до генеральских чинов. А князья Гантимуровы – потомки маньчжура, говорят, живут в Забайкалье деревнями в количестве десяти тысяч, пашут и пастушат.
– Извините, – капитан поднялся и вышел проводить пожилого полковника.
Вернулся вместе с блондином в штатском и в черных очках. У него бумаги в руке.
– Вы подозреваетесь в шпионаже, – резко сказал блондин в черных очках, выдвигая нижнюю челюсть.
Алексей понял, что нельзя выказать благодушия или растерянности. Собрал всю силу воли, стараясь не упустить ни единого шанса для защиты.
– Вы расспрашивали, когда основан Гонконг и сколько здесь населения?
– Да, спрашивал.
– Зачем?
– Это естественный интерес. Я живу здесь, среди вас. Я много слышал о Гонконге, и меня, конечно, интересует английская жизнь в Гонконге.
– Вы не писатель?
– Нет.
– Тогда зачем вам эти сведения?
– Прошу вас объяснить причину задержания, – сказал Сибирцев.
– Обвинение будет предъявлено в течение нескольких часов. Военный суд судит через два дня. И сразу исполняется приговор. Отвечайте на вопрос.
– Сведения об основании Гонконга и о количестве жителей я могу получить в любом порядочном справочнике или в энциклопедии.
– Но вы не из энциклопедии старались сведения получить! Какое вам дело, когда и как основана колония, сколько кого здесь живет. Вы в плену.
– Я не в плену! – резко сказал Алексей, зная, что только что сам утверждал обратное, и от этого раздражаясь – Вы знаете, что мы захвачены незаконно, что по международным правилам не можем быть пленными.
– Но вы прибыли сюда не для исследований... Все русские офицеры говорят по-французски и по-немецки. Почему вы говорите по-английски?
Сибирцев не стал отвечать, как и почему он учил в детстве язык.
– Так вы подтверждаете, что были в Англии? – спросил Смит, когда блондин в очках ушел.
– Да-а, – мрачно ответил Алексей, когда-то увезший из Англии самые наилучшие впечатления. – Я сказал вам, что не был в Португалии, никогда не принимал на себя ничьего имени и никогда в глаза не видел ни одного еврея из Лиссабона... Я был в Англии до войны, на корабле «Диана».
– Зная китайский язык, вы участвуете в афере вместе с китайскими преступниками как опытный военный?
А ведь действительно, речь в Кантоне шла о каких-то тяжелых ящиках, доставленных Вунгом. Но про Кантон Смит ни словом не обмолвился. Что же тогда с Вунгом?
Продержали до полудня. Потом Смит поблагодарил, извинился и сказал, что мистер Сибирцев свободен.
– Пора обедать, – добавил он, глядя на часы. – Благодарю вас за беседу, – сказал, подымаясь.
Можно обалдеть от такой неожиданности. А он-то собрался с духом для длительной, ужасной борьбы. А ему: «Пожалуйста, мистер Сибирцев, благодарим вас. Приятно было познакомиться!» Вот это урок!
– А вы знаете, что император Китая объявляет войну России и заключает союз с Великобританией? – товарищеским тоном говорил Смит, провожая Сибирцева.
– Богдыхану, мне кажется, нет причин воевать с нами.
– Сами китайцы забыли, что по Амуру их законная земля. У них все в запустении, они ничего не помнят. Но мы им напомнили. Мы им это объяснили. Адмирал Стирлинг отбыл в Лондон по вызову адмиралтейства рассмотреть его план о действиях совместно с силами Китая.
Алексей вышел на жгучее солнце и зашагал степенно, чтобы не выдать радости, не помчаться не чуя под собой ног.
– Я получил официальное уведомление военного командования, – сказал Пушкин, встречая в отеле Алексея и, кажется, не удивляясь его появлению, – что часть наших офицеров и команды, во главе со мной, отправляется в ближайшие дни в Англию. Список будет дан мне. Завтра меня вызывают. Почему так срочно высылается часть пленных?
– Трудно сказать. У них эскадра уходит в метрополию, на замену идут более новые, может быть.
– Что за странную записку вы мне оставили? А как же расположение сэра Джона к нам?
– Сэр Джон, видимо, не вмешивается в дела военных.
Выслушав рассказ Сибирцева о том, что с ним произошло, старший офицер не пал духом.
– Зубастой щуке в ум пришло за кошечье приняться ремесло! – с укором сказал Александр Сергеевич. – И крысы хвост у ней отъели!
Сам Пушкин и не ждал хорошего. Он тут никому не доверялся и никем не обольщался, и не с чего ему огорчаться. Жди худшего. Враг есть враг. Этим законом он жил. И высылка его не огорчает. Даже, может быть, лучше: будем ближе к Кронштадту.
– Кто же все это знал! – ответил Алексей.
За обедом Алексей почувствовал, что аппетит у него отбит. Неприятно самому и особенно неприятно за Пушкина и за товарищей. Целый день жили под впечатлением происшедшего, обменивались мнениями нехотя, но вечером разговорились откровенней.
– Дорогой мой! – воскликнул Пушкин. – В команде матрос заболел венерой! Двое запьянствовали, поколотили кого-то, потом их. Говорят, беда одна не ходит.
Сибирцев вроде и не был арестован, хотя китайцы на улице видели его под конвоем. Разнесут об этом по городу. На самом деле его вызывали для допроса, к обеду отпустили. Хотя за решеткой посидеть успел!
– Они вам, Сибирцев, на прощанье решили все вспомнить! Но опять предъявили не те обвинения, которые следовало бы, говорили с вами не о том, что им показалось подозрительным и что их, видно, давно тревожит, чтобы не компрометировать своих и не впутывать имени Берроуза.
«Казалось бы, несли чушь. Но знают, что делают! Мой офицер скомпрометирован. Заодно и мы все. Но в чем все-таки дело – неизвестно. Суть не ясна!»
Сибирцева припугнули!
«Хотя бы кто-то прибрал его к рукам. Пока все ему сходило! Но англичанка не японка, да еще дочь посла! Эта вам свой характер покажет...»
Боуринг может вылететь в трубу. Впрочем, они сумеют сделать вид, что ничего не произошло.
«Вот мы всегда ждем, что с англичанами удастся сговориться. Может быть, со временем они согласятся с нашими интересами на Дальнем Востоке. Мы признаем достоинства англичан даже во время войны. Но Англия, как и Китай, ни в чьей постоянной поддержке не нуждается, равных союзников для нее нет на свете и быть не может. Это не только эгоизм, но и здравый смысл, так как бескорыстных союзников не существует, и они это знают, как и китайцы. Многие народы, восторгаясь англичанами, искали дружбы с Великобританией, но всегда встречали холодность, и их распростертые объятия схватывали лишь воздух».
Пушкин ушел утром и вернулся в отель на исходе дня.
– В метрополию отправляется двести человек матросов, – сказал он Сибирцеву. – Из офицеров – вы, я и Шиллинг. Списки составили. Был у морского командования. Людей распределили на уходящие суда. Эскадра выслужила свой срок.
Пушкина, оказывается, поздравляли, что идет в Европу, покидает с товарищами нездоровую колонию, и под конец – что из адмиралтейства есть распоряжение не считать моряков погибшей «Дианы» пленниками.
«Но отправить, как пленных?!» – подумал Александр Сергеевич. Он все же приободрен. Еще вчера, получив известие о предстоящей отправке, подумал, что, может быть, и к лучшему. По всем признакам, войне конец; кажется, уже начались переговоры.
Сайлес пришел, сел на стул посреди номера, кинул шляпу в угол. На нем лица нет.
– Произошло несчастье! – заявил он. – Я разорен!
Гошкевич вскочил от неожиданности и что-то закричал и замахал руками.
– Да, да! У меня больше ничего нет! Пожалуйста, не беспокойтесь. А что у вас? – обратился он к Сибирцеву. – Вас вызывали в военную полицию?
– Да, я посидел под арестом.
– Я вам скажу, почему они вас арестовали. Вунг у нас с вами под носом провез в Китай современную нарезную артиллерию. Везли пираты, а он все это смастерил и сам все проверял. Говорят хуже: он провез пушки, а кантонскому губернатору Двух Гунов передал только часть. У англичан всюду шпионы среди китайцев, и они все узнают. Вунг молчит, а подозрение пало на вас, что вы имеете отношение ко всему этому. Или им надо сделать вид, что тут нечисто дело и вы не зря ездили. Не хотят лишиться своей части с этой аферы и не хотят подвести своего ставленника – мистера Вунга, даже когда он их же предает! Англичане не такие простаки, чтобы поверить, что вы купили нарезные пушки и послали в Китай. Хотя они спят и видят найти во всяком сопротивлении Небесных и в их успехах руку русских шпионов, но все же знают меру. Что вы ездили в качестве советчика – это им еще могло прийти в голову. Даже если не так, и то могут быть очень недовольны, что при таком щекотливом деле присутствовал русский офицер. Это скорей всего! Под арест вас! И потом все скажут: вы его не знаете? Он же сидел в тюрьме в Гонконге! После этого и рассказы ваши про нарезную артиллерию будут выглядеть вашей фантазией, точнее – враньем! Каков Вунг, как он мило услужил мне и взял на себя заботу о вас! Но дело не в нем! Я про вас все знаю! Есть новости похуже! Вы не поверите. У меня больше нет ничего, а если бы еще что-то осталось, все быстро исчезает... Что вы, господа, на это скажете? И вы знаете, кто виноват? Китайцы! Китайцы разорили меня в несколько дней. Когда я ехал в Кантон, я взял поручение правительства колонии. Мне казалось – мало быть консулом. Мне говорили приятели: что вам далась эта Новая Гренада! Сегодня это государство существует, а завтра исчезнет бесследно. Я взялся за дело, о котором давно мечтал. Американец из Штатов, консул республики Новая Гренада, уважаемый всеми банкир и негоциант, заявил себя посредником между англичанами и китайцами. Кто подбил меня на это? Моя спесь, алчность, жажда власти и славы! И хитрый английский поп – сэр Джон Боуринг. И я теперь думаю, где гарантия, что это не хитрость святоши, лицемера и рыцаря, что он не задумал, мне льстя и меня возвышая, переломать мне ноги. Ах, эти свободолюбивые – самые ужасные тираны! Но я ему отомщу! Я теперь никто, но я силен ненавистью. Я буду помнить и завещаю мстить ему до седьмого колена. Но это только предисловие к роману о том, кто, как, почему и за что меня разорил! Ах, сэру Джону я давно как бельмо на глазу... Но не будем об этом! Конечно, я сам виноват, я перестарался, я возомнил себя большим судьей Англии и Китая и сам не заметил, как на приеме у китайского вице-короля «поскользнулся языком»! Ах, ну это лишь формальная придирка, повод, китайская казуистика!
У командующего войсками, губернатора Двух Гунов, то есть южных богатейших областей Гуан-Дун и Гуан-Си, или, как еще называли его иностранцы, вице-короля, наместника и так далее и так далее, Сайлес говорил совсем не о распространении христианства в Китае американскими миссионерами. Он объяснял, доказывал, убеждал очень искренне, что хочет спасти Китай, и теперь клял себя, что забыл вечную истину: Китай ни в каком спасении не нуждается и никогда не будет нуждаться. Еще сказал об уступках, которые Китай неизбежно должен сделать и сделает в торговле и в отношениях с иностранцами.
По привычке иметь дела со множеством людей, втягивать их в разные предприятия и говорить от их имени, выдавая их интересы за свои, Сайлес сослался на самих китайцев. Сказал вице-королю: все ваши денежные люди мои друзья, и я знаю их мнение. Он имел в виду компрадоров, что и они согласны.
А командующий и губернатор Двух Гунов от компрадоров зависел, он жил на их взятки. Существовать генералу с семьей на жалованье невозможно, и нужна поддержка честных и состоятельных лиц, такова традиция. Намекать на это при решении государственных дел – большая дерзость, непростительная даже нейтральному Берроузу.
Командующий все время держался гордо, был любезен и немногословен. Кстати, он мог казнить любого из компрадоров, если надо будет. Это знают все купцы Двух Гунов.
Китаец поблагодарил, пригласил к себе вместе с молодым русским офицером в загородный дом, вечером был очень радушен и весел, словно в руки ему попала хорошая карта.
Но еще сильней его обиделись и струсили компрадоры, как только узнали, что произошло.
Сайлесу теперь казалось, что его не так поняли. Он доказывал лишь, как расцветет Китайская империя в новых условиях. Люди у Китая есть!
Нет, у них всегда все по-своему!
Когда Сайлес уехал на «Вилламетте», в Кантоне сгорел его склад с опиумом и товарами.
С быстротой молнии среди китайских банкиров, компрадоров и хозяев фирм распространились сведения, что после разговора Сайлеса с генерал-губернатором в глазах князя недостойной выглядит позиция деловых кругов Кантона. Получилось, по словам Сайлеса, что компрадоры как бы подчиняют свои убеждения коммерческим интересам и сетуют на существующий порядок и что губернатор, как живущий на их средства, обязан с этим считаться.
Деловые китайцы решили дать бой ради своих правил и понятий. Следовало проучить любого, кто сунется туда, куда не просят. Китайские купцы все знают без посредников. Никто и никогда не должен становиться между обществами коммерсантов и китайским правительством. Тут сами комплименты и похвалы иностранца могут породить недоразумения. В них не нуждаются. Они оскорбительны для глубокого и потаенного чувства достоинства и гордости. Если ты честный делец, заслужил доверенность китайских коммерсантов – не лезь не в свое дело, не касайся правительства. Деятельность Сайлеса по поручению властей выглядит перед чистым бизнесом как политическая спекуляция на дружбе. Все понимают, что без правительства и взяток нельзя. Но кто знает, тот молчит. У нас не похваляются мнением друзей. Правительство всегда враждебно коммерсантам. Искусный западный делец Сайлес преступил священный закон, нарушил неписаную заповедь торгового коллективизма и попытался именем коммерсантов оказать давление на политику.
Немедленно были поданы к учету и оплате все векселя Сайлеса. Все доставленные им товары и в прошлом и теперь объявлены фирмами негодными, забракованными, испорченными. Все новые заказы аннулированы. Все рабочие и служащие ушли от Сайлеса. Остался один пьяный голландец.
Бойкот перекинулся в Гонконг, и в несколько дней, по словам Берроуза, все было закончено...
Боуринг просил Сайлеса выспросить у русских друзей о Приморье! «Имею я право это сделать или нет? – размышлял Сайлес, лежа ночью на своей широкой семейной кровати в одиночестве. – В том положении, в котором я теперь? Кто они мне?
Но они, кажется, сами знают немного. Впрочем, могут хитрить. Хотя некоторые сведения для адмирала Сеймура важны. Пока, кажется, я не принес вреда людям, которым покровительствовал!»
Сайлес узнал как бы случайно, но больше чем все «интеллидженс», вместе взятые. «Я узнал не из выгоды, а по привычке узнавать все и, конечно, совершенно не желая делать это лично для сэра Джона. Но пока я еще не решился на большее.
Но вот катастрофа со мной! Бог меня наказывает за то, что я полез не в свое дело! Я так для них старался, я им предлагал все, что мог, лез ради них из кожи. И что же? Мне не за что быть им уж так раболепски преданным. И к тому же, я не был бы самим собой, если б, имея этот последний шанс на спасение, не воспользовался им! Но шанс ли это? В то же время было бы неестественно, если бы я оказался таким голубеньким херувимчиком, когда дело идет мне в руки. Я не был бы собой, господа, я не был бы цельным характером! Так что я имею право, кажется. Но... все же... Я еще подумаю! Может, быть честным выгодней?
Я американец, ставший консулом Новой Гренады, захотел быть английским дипломатом и разрешить вековой конфликт между Великобританией и Китаем! Хитрый поп устроил мне ловушку!
Эти лицемеры и святоши умеют защитить свои преимущества! В самом главном они всегда подведут! Ну, погодите!
Просил как о любезности узнать все о Приморье! Но что же делать теперь? Неужели? Впрочем, я могу себе сказать: в жизни и так приходится!
Но я еще подумаю!
Говорят, надо с человеком съесть пуд соли, прежде чем его узнаешь. Я, Сайлес Берроуз, наказан за то, что действовал слишком самоуверенно!»
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
Первый удар, который был нанесен французской монархии, исходил от дворянства, а не от крестьян. Восстание в Индии начали не измученные, униженные и обобранные до нитки англичанами райяты, а одетые, сытые, выхоленные, откормленные и избалованные англичанами сипаи.
– Останься здесь со мной, – говорила Розалинда, – не уезжай! Ты такой молочный мастер. У меня есть деньги. Купим пять коров и откроем свою ферму. Ты так любишь землю! Ты же садовник, Янка, теперь ухаживаешь за банановыми и апельсиновыми деревьями, как у себя на родине за капустой и яблоками. Разве тебе здесь не нравится? Ведь у нас нет заморозков!
– Да, это хорошо, – отвечал Янка. – Остаться не могу.
Он постигал уход и за банановыми кустами, и за персиками, и абрикосами.
– Почему не можешь?
– Служба.
– У всех служба, во всех флотах. Но если выгодно, рвут контракт, откупаются или просто...
– Дезертируют? Нет, я на это не пойду!
– Но почему?
Янка не мог объяснить. Об этом надо спрашивать не его.
– Вот окончу службу. Тогда.
– Тогда как ты хочешь? Как ты решил окончательно? Я поеду к тебе или ты ко мне? У тебя так красиво и хорошо, растет лук и сосны! Много селедки? И трески? Там тоже можно жить.
«Тебе к нам ехать? – думал Янка. После остережений и грубых упреков Мартыньша он стал колебаться. – В самом деле, дома бедность, ей может не понравиться. Ведь у нее дома вроде хутор свой был и ферма у матери».
– К нам, наверно, можно, – молвил матрос неуверенно. – У нас, если жениться, то новый царь, говорят, не сделает помех.
– Пойми, ведь у нас один бог!
Берзинь сделал серьезное лицо.
– Бог у всех один, – поучительно заметил он.
– А на сколько у тебя контракт с капитаном?
– У меня?
– Да.
– На двадцать пять лет.
– Янка! Ты в уме? Двадцать пять! Так ты богатый, где ты хранишь аванс за двадцать пять лет? Ведь мне сказали, что в награду вам год плавания засчитывается за пять лет.
– Аванс храню вот здесь, за щекой! – сказал Берзинь и достал изо рта шестипенсовик. – Вот мой аванс.
– А сколько же ты служил?
– Восемь лет.
– Почему нельзя разорвать контракт?
– Идет война. До конца войны нельзя уйти. А после войны, как ты сказала, срок службы у нас отрубят.
– А с кем у вас война?
– С кем? – Янка остолбенел. Уж такого вопроса он никак не ждал. Неужели она все перепутала и не знает, с кем у них война? – И я не знаю... А у вас ни с кем нет войны?
– У нас всегда война. Как же нет! Есть. Много!
– С китайцами?
– О-о! Мой милый! Да, да, с китайцами!
Они обручились, обменялись кольцами из яркого китайского золота перед долгой разлукой, и она сказала перед уходом Яна на корабль:
– Кто бы ни победил, я буду ждать конца войны. Я буду ждать царского манифеста о сокращении сроков контрактов с матросами. Я очень сильная, Ян. Я буду ждать тебя всегда. И ходить в церковь. А может быть, ты поехал бы со мной в Австралию? Там так все хорошо растет.
Берзинь нахмурился, и деликатный ум ее постиг, что он никуда ехать не согласится.
– А ты так любишь своего царя?
– Да, мне приказано.
– О, Янки, Янки! Ты сам как царь! Мой царь! – воскликнула она и обняла его на прощанье.
Хотя бы слезу обронила! Янка удивлялся, как можно так верить и надеяться на другого человека! Он в душе поклялся, что постарается ее не обмануть.
Впереди ничего хорошего. Опять жить по Фаренгейту. Неужели опять на половинной порции сухарей из кукурузной муки с горохом и на полпорции солянки? Погонят на реи – и будем мокнуть целыми днями.
Не успели прийти на пароход и сложить вещи, как пленных поставили на самые грязные работы.
Экипаж чуть не наполовину из ласкаров. Это наемники из Индии. Ласкары в английском флоте то же, что сипаи в сухопутных войсках. Выбраны здоровенные детины, раскормились на казенных харчах, наели рожи. Их держат на грязных работах.
Увидя пленных, ласкары стали смеяться над ними, почувствовали себя господами. Младший унтер из ласкаров показал Берзиню, как надо чистить гальюн, объяснил, что поопрятней надо. Янка взялся за дело. Ласкар стоял над ним и выругался. Янка с досады размахнулся и стукнул его по уху. Тот сразу ушел.
Тихого и невысокого Вяамээ назначили чистить гальюн в лазарете, а там, наверно, холерные больные, холера здесь на кораблях не переводится.
Британцы, казалось, не видят, что пригнали пленных. Думают о чем-то своем, работают или глядят на берег. Делай что хочешь, только не мешай. Поздороваешься – ответят. А ласкары такие же сволочи, как сипаи на берегу.

Вечером было тихо. По берегу и на лодках под борта подходили китаянки и переговаривались с уходящими матросами экипажа и с пленными.
Луна взошла в пятне, «сырая» – к перемене погоды. На другой день подуло с моря, в проливе начался сквозняк. Лодки с китайскими семьями бросало на берег и било друг о друга. Воздух не бушует, а сотрясается ужасными ударами, как при землетрясении в Японии содрогается земля. И так же воздух здесь – словно рушится пластами на город. Повалило сигнальную мачту в укрепленном дворе у казармы. Сносит вывески с китайских магазинов и мчит над крышами тяжкое железо с надписью «Склад фирмы «Джордин и Матисон». Несет листья, ветви, сучья. Жилые плавучие кварталы ушли отстаиваться куда-то под ветер. Пролив осиротел, опустел. Качаются, рвутся с якорей корабли. Некоторые суда ушли в море. Как всегда, эскадра готова к любой опасности.
Тайфун разразился ливнем. Повсюду на улицах полицейские в клеенчатых плащах. Улицы пусты, и воет ветер.
Энн в непромокаемом пальто с капюшоном появилась в условленный час Она и Алексей разговаривали под зонтиками и обливавшимися водой деревьями.
– Хорошо, – сказала Энн, все выслушав. – Это лучше, чем вам ехать в Петербург через Сибирь. Вас заранее отправляют в Лондон. Вы будете вблизи своих.
На корабле, уходившем в Европу, отправляют не двести, а только шестьдесят матросов. Уже погрузились. С ними пойдут офицеры: Мусин-Пушкин, Шиллинг, Сибирцев и еще Елкин. Уходит также Гошкевич и с ним Точибан Коосай. Было предложение, что Сибирцева могут оставить. Но с ним все по-прежнему. Да он и не просил. С матросами перерешили в предпоследний день. Посчитались с недовольством Купера и других капиталистов. В Гонконге нужна рабочая сила, а с уходом такого количества пленных предприятия лишаются рук.
Немедленно хозяева заявили командованию о своих претензиях.
У командования свои соображения. Многие пленные, работая в Гонконге, сделали себе громоздкие покупки, с которыми всех и невозможно отправить в Портсмут. Но... Частная собственность. На судах места не хватит. Решили отправить при случае на судне в Де-Кастри, а может быть, и русское судно к тому времени за ними явится.
– Энн! – горячо воскликнул Алексей.
– Но почему из России затруднительно поехать за границу? – тоном, требующим самого откровенного ответа, спросила Энн. Ветер хлестал под зонтик и заливал дождем ее лицо. – Это действительно так?
Она выслушала ответ и возвела на него свои чистые глаза, словно спрашивала: «Это правда?»
В последнюю ночь в отеле после жженки и «Вещего Олега», когда все улеглись, Пушкин поворочался, а потом сказал:
– Вот, будете знать, как вести дела с китайцами. Из-за вас поплывем теперь вокруг Африки!
Алексей Сергеевич более уж не утешает себя.
– Не учите, дорогой мой, англичан! Они пророчат вам будущее. Но в их дела не лезьте. Они знают, что делают! Они прекрасно знают, что не вы продавали винтовые орудия и что все мы тут ни при чем! И китайцы все знают. Да и сэру Джону надоело возвращаться мысленно к Карамзину и началу века.
Мистер Вунг, которому накануне нанесли визит, принял прекрасно, опять мечтал вслух о карьере Стеньки Разина. Прислал в гостиницу подарки на дорогу: мандарины в ящиках, живых индеек особого откорма, для аристократического стола.
Ночью дождь стих. Тайфун миновал, как вылизал улицы, город и горы.
Пароход – фрегат «Нью-Винчестер» – уходил в Англию из Гонконга при большом стечении народа.
Сайлес, прощаясь, говорил, что с окончанием войны хотел бы стать здесь русским консулом, что все связи у него остаются и он еще выбьется.
– И не бойтесь, не избегайте дельцов и хищников, – говорил он, стоя на пристани и пожимая руки русским офицерам. – Не бойтесь их предпринимательства, не расслабляйте свой народ опекой. Вы погубите и его и себя, ведь вы не идете ни на одну сделку, что я вам предлагал, вы не смогли принять ничего ни сейчас, ни на будущее...
– Ну, гонконгский пленник, как вы? – спросил остающийся в Виктории мичман Михайлов.
– Вы о чем?
– Как ваше прощание?
– С кем?
– С... «черкешенкой»!
Все перецеловались и пошли по трапу. Отвечать некогда. Провожающие уже спустились.
Алексей почувствовал, что ему жаль покидать Гонконг, несмотря на все обиды и оскорбления, которые тут перенес. Чего же жаль? Сознания нашей отсталости? Своего ареста? Нет, чего-то значительно большего, что оставлял он в этой кутерьме, в этой европейско-китайской мешанине.
Судно отошло. Стал виден зеленый холм и на нем белый губернаторский дворец.
«А вон и она!» На балконе с колоннадой, на фоне стены из вьющейся зелени, Энн в красном жакете, как белокурая королева на параде в гвардейском мундире.
Она почувствовала миг и махнула рукой отходящим кораблям.
На рейде один за другим паровые суда снимались с якоря и отходили с гудками. Эскадра покидала Гонконг.
В красном жакете Энн долго еще стояла на балконе, отчетливо видимая с парохода. Белый платок у нее в руке.
На пристани провожающим видна теперь лишь корма судна. Мистер Вунг на гребной джонке мчится мимо массы жилых лодок. На высокой корме с раскрашенными балясинами он подпрыгнул, как бы от восторга, и весело закричал, показывая вдаль на уходящий корабль:
– Наш зять уезжает на огнедышащем драконе! К себе, в прекрасную, болотистую и холодную, дождливую страну внешних варваров!
Как по команде, масса лодочников и лодочниц поднялась на крыши и у бортов своих нищих жилищ, махая Сибирцеву руками и шляпами, а некоторые девицы с «цветочных лодок» визжали от восторга, как американки. Махали и кричали не только Сибирцеву. На драконе многие зятья уходили в страны королевы Виктории и ее противника царя.
За кормой утонули в сырой и мглистой тропической дали вершины гор на острове и на материке.
Алексею хотелось верить, что все это не зря, не зря судьба открыла то, что не видел никто другой, словно ему предназначен далекий и тяжкий жизненный путь, к которому он должен быть готов. Ему задана теперь задача, которая еще не понята, но которая, как тяжелая ноша, уже довлела.
«Мне только двадцать три года! – думал Сибирцев. – Наш путь мы должны угадывать сами, если уроки не пройдут даром!»
Ночью тайфун стал возвращаться. Опять поднятые наверх пленные матросы и офицеры показали умение обращаться с парусами.
На пароходе лазарет полон. Туда попали уже и наши. С каждым днем все жарче и жарче. Штормы измучивают до изнеможения, хорошей погоды еще не было.
По выходу из Сингапура умер матрос-ласкар. «Индианмэн», – сказал британец, спустивший в море его тело в мешке с грузом.
Умер Вяамзэ, из родных мест Шиллинга. Николай пришел, сказал, что перед смертью все звал товарищей. Последнюю волю сказал на эстонском. Шиллинг понял и записал.
Алексей и Мартыньш по очереди просиживали у изголовья больного Берзиня. Янка впадал в беспамятство, бредил и второй день не приходил в себя. Губы его были бледны, как бумага. Иногда он присаживался и отдавал честь.
Ночью Янка стих; казалось, уснул. Вдруг приподнялся и крикнул:
– Букреев! Я сейчас приду!
Лег и стал отходить, вздрагивая всем телом.
Алексей вышел на палубу. Ночь, звезды, море стихает. Худший мрак был в душе. Столько смертей насмотрелся, что уже не мог плакать. Если бы на карте изобразить все могилы матросов нашей экспедиции и поставить отметки, где в волны, под чтение военного пастора, уходили тела умерших, то получилась бы пунктирная линия вокруг света. А когда еще серым днем, за серым морем завидятся крутые красные крыши домов и церквей Портсмута!
– Поднялся, сел, отдал честь и откинулся... – рассказывал Мартыньш. – Ваську звал.
– У него был товарищ, в Японии отравился ягодой и помер, – объясняли матросам «Нью-Винчестера». – Он тогда плакал.
– Оставил двести рублей и велел передать сестрам, – говорил товарищам Мартыньш.
– А Ябадоо теперь молоке пьет и детей поит, – вспомнил Лиепа.
Алексей плохо чувствовал себя. Пропал аппетит, все время мутило. Неужели стал хуже переносить качку? Никогда не бывало. Неужели вырвет?
Глядя в море с правого борта, подумал, что Индия где-то близко: может быть, на траверзе. Нос Индостанского полуострова свисает с севера в океан. Проходим неподалеку.
Офицеры жили в каютах. В кают-компании они на равных правах с офицерами корабля.
Толковали между собой о восстании в Индии. Там уже не первый год шли тяжелые бои, а восстание сипаев против англичан становилось народным, об этом рассказывали сами англичане. На подавление восставших и на штурм их крепостей опять посылались сипаи вперемежку с английскими войсками.
Шиллинг рассказал, что в Гонконге формируются войска из китайцев для войны против Китая.
– Научат их всех англичане на свою же шею!
– Вам-то какое дело! – ответил Александр Сергеевич. – Вот только бы мы с вами на свою шею не обучили кого-нибудь!
Как он сказал перед смертью: «Мартыньш, ты женись на ней. Не обижай ее. Напиши ей!»
– Эх, Янка, Янка! – у Мартыня слезы на глазах.
Янка Берзинь остепенился, это она его вышколила, выучила и сделала человеком.
Янку опустили с грузом в море. С Капского мыса Мартынь пошлет письмо Розалинде.
Извинится, что пишет с ошибками. Сообщит о кончине Янки от холеры, о его похоронах и как Янка сказал, что любит ее, просил, умирая, написать Розалинде и сказал Мартыню, чтобы женился на ней и ее не обижал. Если она не против, то он, Мартынь, готов это исполнить честно, он всегда видел, что она очень хорошая девушка, и даже упрекал Янку. И смотрел на нее, когда она угощала обедом. Сообщил, что скоро конец войны и ему будет увольнение со службы и что у него хорошее хозяйство, у отца пятнадцать коров и арендуем землю. Он просит Розалинду написать в Петербург по прилагаемому адресу в пивную, которую содержит его дядя, и тот передаст. Ждет, сколько бы война еще ни продолжилась.
Алексею в бреду представлялся фонарь с изображением осенней травы, женские карты со стихами. Три герба с изображением ростков имбиря. В темноте, с опущенными камышовыми шторами. Рукав пахнет фиалками. Согреть дыханием тушь... Итегаси – девичья прическа. Женская, женская, с золотыми шпильками в волосах.
Лежал с закрытыми глазами, иссохший, пожелтевший как мумия. Услыхал, что заговорили о нем. Испугался, хотел что-то ответить.
...Прощание с коровой. «Возьмите ее, Евфимий Васильевич!» – «Нет, места мало!»
– Этот до вечера не доживет.
Разговаривают санитар и фельдшер. К губам приложили примочку.
Алексей очнулся и поднял свои руки. Живой скелет. Когда-то сказал так в насмешку над Иосидой. Теперь сам такой же.
Губы иссохли, сед, скуласт.
Есть китайская пословица: «Сколько еще умрет прежде тебя тех, кто приходил к тебе, когда ты был болен!» Вы помните Оюки?
Английский врач пришел и сказал что-то.
– Он понимает по-английски, – предупредил другой голос.
– Он уже ничего не понимает. Приготовьте все. Он исповедовался?
Но Алексей все слышал. Он хотел сказать. Одеревеневшие губы бормотали: «А... сей... Си... би... цев...» – и снова, и снова он повторял свое имя, как бы вызванный на перекличку.
Сейчас его выбросят в море с грузом, привязанным к ногам, и, боясь, что чужие люди не дадут ему умереть до этого, он хотел им сказать, что еще жив, и в полубреду все повторял и повторял свое имя.
«Эх, Алексей Николаевич, Алексей Николаевич!» – думал Пушкин, стоя у его койки на коленях.
ШХУНА «ХЭДА» СНОВА ПРИШЛА В ЯПОНИЮ
Черед был... за Америкой и Россией. Обе страны переизбыточествуют силами, пластицизмом, духом организации, настойчивостью – незнающей препятствия... обе расплываются на бесконечных долинах, отыскивая свои границы, обе с разных сторон доходят через страшные пространства, помечая везде свой путь городами, селами, колониями – до берегов Тихого Океана, этого «Средиземного моря будущего» (как мы раз назвали его и потом с радостью видели, что американские журналы много раз повторяли это).
Once again, farewell to New York... Fort Hamilton which our imagination compares with Sevastopol...
[И снова прощай Нью-Йорк... и форт Гамильтон, который наше воображение сравнивает с Севастополем. (Генри Хьюскен, запись от 25 октября 1855 г.).]
– Китайцам выгодней иметь нас своим союзником и – с оговорками – должником, вместо того чтобы наносить нам вред или стать орудием наших противников, наемным пушечным мясом. В интересах Китая иметь под боком сильных и незлобивых соседей. И не держать камня за пазухой.
Такой сентенцией в плаванье, среди теперь уже мирного и успокоившегося после штормов моря, огорошил всех с утра в кают-компании на «Оливуце» командир корвета капитан второго ранга Воин Андреевич Римский-Корсаков.
В Приамурье он встречался с маньчжурами и китайцами, присутствовал при многих предварительных переговорах с ними, познакомился с их купцами. Воин Андреевич китайцев не называет иначе как гордой нацией, расположен к ним, предсказывает им будущее во всех отношениях и дружбу с Россией. По словам его, казаки и крестьяне Забайкалья, ведущие повседневные дела с китайским простонародьем, говорят, что это люди честные и простые. Хотя надо иметь в виду, что слабых инородцев Амурского края они уничтожают беспощадно, вымаривают их, спаивают и эксплуатируют. Слабых китайцы вообще не щадят.
Молодой капитан успел обойти вокруг света, командуя паровой шхуной «Восток». Пришел на Дальний Восток под командованием Путятина, был в Японии, несколько раз плавал оттуда с поручениями адмирала на Амур и в Китай. В войну провел годы на Амуре, и каждое лето, командуя судами, бывал в самом пекле военных действий на море, совершая опасные рейсы.
Молодцеватый и молодой, он зимами на берегу всегда выступал в лучших ролях в любительских спектаклях, куда дамы вовлекали его непременно...
Отовсюду посылал он своему брату Коле письма с описаниями событий, в которых участвовал, и стран, где приходилось бывать. Полагал, что так и надо систематически воспитывать мальчика, пробуждать в нем интерес к миру, морям, в которых жемчугам несть числа, и каменным алмазным пещерам.
Война закончилась, эскадры англичан и французов удалились из Охотского и Японского морей. Флот наш вышел из устья Амура.
Корвет «Оливуца» и шхуна «Хэда» идут в Японию. Оттуда «Оливуца» пойдет в Кронштадт.
Капитан первого ранга Константин Николаевич Посьет и командир шхуны лейтенант Александр Александрович Колокольцов, выехавшие в начале лета из Петербурга после заключения мира, рассказывают Воину Андреевичу и его офицерам про необычайный подъем во всей России. Всюду толкуют и спорят о будущем. Россия почувствовала себя так, словно война выиграна нами, а не проиграна, что в конечном счете одержана величайшая победа. На востоке страны Муравьев развивает титаническую деятельность. Договора с Китаем еще нет, новая граница пока не утверждена, наш выход в океан не подкреплен дипломатическими документами, все гадают, как и какие группировки в Китае примут нашу сторону и как китайцы войдут с нами в новые отношения. Сибирское и московское купечество ждут, что не только Кяхта станет местом торговли между двумя странами, но и вся граница откроется. Много говорят о том, что на Востоке мы должны равняться на Америку. А она на нас. Особенно после войны в Крыму. Пишут: «События показали сильный зародыш». «Слабые народы так не дерутся». Только когда пал Севастополь и война закончилась, мы осознали свою силу.
В плаванье взят Корсаковым на «Оливуцу» мичман Николай Ельчанинов, родной брат Кати Невельской.
На пути с устья Амура входили в Императорскую гавань, откуда за три недели до того ушла английская описная эскадра.
«Произвели славное дело», по выражению Коли Ельчанинова. Сожгли все дома и остатки горелых бревен разбросали по берегу.
Со слезами на глазах начальник поста лейтенант Кузнецов показывал места, где стояли здания.
«Все, что осталось от прежнего жилья – кресты над прахом умерших», с его слов записал Ельчанинов.
В этом «славном деле» отличился командир фрегата «Пик» Никольсен. Воин Андреевич забрал в голову крепкую думу...
Хотя, как говорят, после драки кулаками не машут!
У капитана есть бретерский замысел. Предстоит зайти в Гонконг. Корсаков надеется встретиться с Фредериком Никольсеном, которого давно ищет. Желал бы каптэйна вызвать на дуэль!
Скандал будет. Карьера рухнет! Корсакову во время войны приходилось бывать на Камчатке, на Курилах, на Татарском и Охотском побережьях и всюду, где побывал Никольсен, оставил он те же следы, как в Императорской, уже после заключения мира.
Долго в Японском море дули ветра и стоял холод... Коля Ельчанинов держался молодцом, хотя и жаловался на «невыносимую качку» и что ветер так режет, что кожа на лице не выносит.
...Наверху заходили – видно, паруса стали наполняться, дрейф закончился. После тяжелых непрерывных штормов, которые вытерпели, теперь тепло. Туман поднялся, погоды наступают ясные.
Чуть подуло – Александр Александрович Колокольцов распростился и поехал к себе на шхуну «Хэда».
«Любо-дорого посмотреть, как он парусами управляется!» – подумал Корсаков, стоя на юте и глядя, как уходит Колокольцов на корме шлюпки, скользящей по тихой поверхности моря. Видна школа! Евфимий Васильевич требует от офицера: молиться богу, знать иностранные языки, управлять парусами шлюпок, уметь плавать не хуже матроса. Кричал: «Позор! Русские офицеры, катаясь в иностранном порту, перевернулись на шлюпке, потопили троих лучших матросов! Да, да, был и такой случай, господа! Не у меня, но был!»
В бинокль видно, как Колокольцов поднялся по штормтрапу на борт шхуны. «Хэда» пошла, оставляя за собой корвет «Оливуцу», набирая ходу при попутном, как гоночная яхта, и вскоре далекий парус ее чуть виднелся, как перышко, воткнутое стоймя в легкие волны.
А фрегат «Аврора» с устья Амура отправился на юг, торжественно помчался в кругосветное плавание. Домой! В Кронштадт! С заходом в Гонконг, в Сингапур, на мыс Доброй Надежды. «Оливуца» должна зайти в эти порты, но позже.
Фрегат «Аврора» первым из нашей эскадры возвращается в Балтийское море. Овеянный славой! Долго искали его союзники по всему океану, даже в Америке. Коммодор Чарльз Эллиот всех китобоев и купцов опрашивал. В Татарском проливе, когда на шхуне «Хэда» мы шли из Японии, окликнули: «Не видели русский фрегат «Аврора»?» Мы выдали себя тогда во тьме и тумане за янки-котиколова.
В Хакодате простояли 4 дня. Посьет встречался с губернатором. Все побывали в городе. Шхуна и корвет вышли в море. Но опять «Хэда» ушла вперед. Корвет потерял ее из вида.
Ночью на «Хэде» стреляли из пушек и жгли фальшфейеры, но нигде ни отклика.
А следующей ночью Колокольцов, спустившись по трапу, произнес громким голосом:
– Вставайте, господа! Симода!
Жаль расставаться со шхуной «Хэда», уже чувствуешь ее не своей. А ведь сам ее строил, сжился с ней. Сжился из-за нее с японцами, обучал их всему, что сам знал. Подрядчик Ябадоо уговорил переехать к нему на квартиру из казармы и держал Александра как зятя.
Тускло, мутно, сонно. Еще ночь. Город Симода спит. И не чуют, какой им приготовлен сюрприз.
При луне видно, как проплыли скалистые островки с тропической растительностью в вершинах и с соснами в виде зонтиков.
Со сторожевой халки окликнули по-английски, кто идет.
– Орося ни фунэ дес[73]... – ответил Колокольцов по-японски.
На рассвете заметили, что в городе выросло большое новое здание. Это, верно, и есть Управление западных приемов, которое японцы начали возводить к сроку открытия порта для иностранных кораблей, когда мы еще тут были.
Штурман Семенов, оглядевший в трубу знакомые места на окружности побережий, заметил какую-то странность. За бухтой, у деревни Какосаки, на крыше храма Гекусенди что-то установлено вроде флага. Но тихо, в безветрие нельзя разглядеть.
– Дорогой Уэкава-сама! Рады вас видеть! – любезно встретил знакомого чиновника Александр Александрович.
Уэкава-сан явился в синем мундире европейского образца с квадратными желтыми погонами поперек плеч, в форменной фуражке, в больших американских башмаках и крахмальных льняных самурайских шароварах, какие в Японии носят исстари. В лучах солнца, восходящего из моря, он очень эффектен и довольно приличен.
«Недурна форма, – подумал Александр. – В тропиках и я охотно надел бы такие!»
Переводчик Татноске – старый приятель, немало получил от нас наград и подарков, немало услуг оказывал явных и тайных. Когда были американцы, он познакомился с банкиром Сайлесом, продавал ему японские золотые монеты бу. Американцы знали, что у японцев цены на золото ниже, чем в Европе, и воспользовались этим.
Татноске сейчас холодно вежлив и нижайше почтителен, воплощенный долг, верный исполнитель кодекса буси[74]!
– Мы прибыли в Японию по повелению молодого государя России и привели шхуну «Хэда», которая построена здесь, в подарок императору Японии.
– О-о! – Уэкава почтительно поблагодарил и многократно поклонился.
Осведомились друг у друга о здоровье государей. Уэкава спросил о здоровье Путятина. Колокольцов – о Кавадзи. Также про здоровье Накамуры Тамея. Он по-прежнему губернатор города Симода. Старый знакомый адмирала. Да, оказалось, что Накамура здоров и при деле – как и был.
– Как Посэто-сама?
– Вполне здоров. Скоро его увидите.
– Адмирал Путятин будет ли у нас?
– Адмирал Путятин не может оставить Петербурга. Он возведен в графское достоинство и отправляется по дипломатическим поручениям в Европу.
– О-о!
Уэкава осторожно хотел бы спросить, на чем же отправится Кокоро-сан обратно в Россию?
Гостей пригласили к завтраку.
– За мной идет корвет «Оливуца». На нем следует в Японию знакомый вам знаменитый дипломат, капитан первого ранга Константин Николаевич Посьет. Четыре дня мы простояли в вашем порту Хакодате.
– Там была хорошая погода? Доволен ли был Посэто-сама?
– Да, очень доволен. Погода была хорошая, дождь. И прием был любезный. Теперь «Оливуца» скоро будет здесь. Она идет следом за «Хэдой».
– Спасибо, спасибо.
– Капитан Посьет идет с очень важным поручением нашего государя.
– О-о... – цедя в себя воздух через зубы, протянул Уэкава и стал кланяться. Ясно, все ясно. Поручение такое важное, что Колокольцов так и не сказал в продолжение завтрака, в чем оно, даже не смеет объявить. Уэкава догадывался, что это за поручение. Иначе и быть не могло.
Оба молодых человека чувствовали себя как бы наиважнейшими представителями, решающими сейчас судьбу двух государств. Приятно все же быть дипломатом! Хотя бы самому себе показаться таким на время.
Пока суть да дело да придет «Оливуца», нужны дрова, вода, продукты.
– Яйца можно ли достать, как прежде? Мяса хорошо бы?
Колокольцов еще хотел спросить кое о чем...
Уэкава все обещал прислать и сказал, что для «Оливуцы» также подготовят воду, дрова, свежие фрукты, овощи, рыбу, птицу, мясо. Ясно, что Посьет послал вперед шхуну «Хэда» с предупреждением, как принято, чтобы известить о своем приходе заранее и дать подготовиться.
Уэкава-сан, избегая дальнейших объяснений, откланялся и отправился на берег с докладом губернатору.
В три часа дня в бухту вошел корвет «Оливуца» и бросил якорь. На судно явилась делегация японских чиновников во главе с городским головой Симоды. С ним Хамада Иохэй – еще молодой человек, но старый приятель – чиновный староста деревни Какисаки, где в храме Гекусенди жил Путятин, где когда-то давали бал американцам и много что еще происходило.
Посьет не объявлял о сути поручения. Надо видеть губернатора Накамуру Тамея. С этим все согласны. Это само собой разумеется.
Посьет объявит только ему, что прибыли с копией договора между Россией и Японией, который заключен в прошлом году здесь, в Симоде, адмиралом Путятиным и Кавадзи Саэмоном но джо. Трактат утвержден в Петербурге. Прибыли для обмена ратификациями.
Приехал Уэкава. Он правильно обо всем догадался.
– Губернатор Накамура-сама очень хочет видеть вас, Посэто-сама. Сегодня он еще... не мог приехать сюда для встречи.
– Не беспокойтесь, пожалуйста, я сам явлюсь к губернатору.
Договорились, когда, кто и куда отправится. Беседа приняла частный и дружественный оттенок.
– Мы с Александром Колокольцовым очень любим город Симоду, – сказал Константин Николаевич. – Всегда помним вас, Хамада Иохэй-сан, знаем, что вы летописец всех великих событий. Наши офицеры также описали в книгах и журналах катастрофу, пережитую здесь, как и всю нашу жизнь в Японии. Теперь в Петербурге все знают этот город. Можайский показывает свои рисунки храмов, портреты японцев, также пейзажи вашей страны, выполненные им здесь с натуры. Все, кто видел, были в восхищении. Эпопея о том, как строилась шхуна «Хэда», стала известна во всей России; наши публикации об этом переведены в Европе и Америке. Теперь нет войны с Англией и Францией и у нас самые лучшие отношения со всеми государствами. Мы просим вас, Уэкава-сан, и вас, городской голова Иноуэ-сан, пока мы будем передавать в дар Японии шхуну «Хэда» в знак нашего почтительного уважения, пока будут вестись переговоры и завершаться дела, зная, что у вас все сразу не делается, радуясь, что снова пришли в ваш прекрасный город и стоим в бухте Симода... на это время опять, как встарь, в знак нашей крепнущей дружбы, нам на радость и удовольствие, мы просим отвести нам для жилья на берегу, в деревне Какисаки, милый нашему сердцу храм Гекусенди, в котором уже происходили важные переговоры и совершались исторические события. Уж так повелось, что мы первые из иностранцев жили в Японии на берегу именно в этом храме.
Уэкава-сан очень тронут, почти плачет, корректно отвечает по-русски:
– К сожалению, теперь это невозможно!
– Почему же? – поразился Константин Николаевич. – Разве мы уже забыты?
– Нет. Никогда. Японское сердце никогда не забудет.
– Так в чем загадка? Разве храм сгорел?
– Очень большое несчастье.
Да вон же он виден, как и стоял... У деревни Какосаки, за бухтой. Может быть, занят важной персоной из Эдо?
– Достопочтенный капитан и дипломат Посэто-сама! В храме Гекусенди живет... – Уэкава сузил глаза и покачал головой. – Мистер Харрис, приехавший из Америки. Очень солидный американский дипломат. Первый американский консул в Японии. Его консульство занимает храм Гекусенди.
– Так ведь там уйма комнат, – не выказывая признаков удивления, возразил Посьет. Известно, что он не полезет в карман за словом.
– Мистер Харрис и штат консульства занимают весь храм.
– Да сколько же служащих в консульстве?
– Там мистер Харрис.
– И кто еще? Какой же штат? С ним семья?
– Нет, он одинок. Еще не разрешено женщинам приезжать в Японию. Поэтому американцы прислали холостяка. У мистера Харриса и в Америке нет жены.
– Так сколько же с ним служащих посольства?
– Один. Это-о... Переводчик мистер Хьюскен. Еще очень молодой человек. Молодой холостяк, голландец, но из Америки и он же – американец, есть слуги-китайцы, но они в храме не живут.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вдвоем занимают все комнаты. Однако наше дело, уж если на то пошло, не житье на берегу. Мы обязаны, соблюдая достоинство при любых обстоятельствах, выказать благодарность японцам, соблюсти свою честь и уважение здешним властям от императора до старосты-летописца Иохэя, отдать должное американцам и полное проявление нелюбезностей вольных или невольных не должно нас касаться. Мы обязаны сделать вид, что не замечаем перемены».
В Петербурге обсуждали, кому дарить шхуну «Хэда» – сиогуну или тенно. Государь принял мнение Путятина – подарить тенно! Законному императору. Путятин доказывал, что в Японии неизбежны перемены в государственном строе, свержение сиогуна и реставрация тенно во всех правах. Он еще со времен похода в Осака старался подсказать японцам, где только мог, словом и делом, что пора тенно признать единственным законным владыкой, а фамилию узурпаторов вежливо отстранить. Он и в беседах с американскими коммодорами тоже доказывал, но тем до этого дела нет пока.
Александр Колокольцов сам не свой. Что-то ему очень обидными показались ответы Уэкава. Предполагалось, что японцы помнят, что это он, Колокольцов, строил шхуну «Хэда», поэтому и назначен командиром.
Первый европейский корабль им спущен на воду в Японии! Он оставил все чертежи и все объяснял по приказанию Евфимия Васильевича. Он помог японцам заложить еще две таких же шхуны. Готовы ли они? Может быть, от Колокольцова, как от начала начал, пойдет новое японское судостроение? А ему нет квартиры в Гекусенди и другой не предлагают. А ведь мы знаем, что в Симоде много храмов и в каждом можно дать приют уважаемому гостю. Так бывало, когда сюда наезжали вельможи и дипломаты из Эдо во главе с Кавадзи.
Впрочем, для обиды и волнений Александра Колокольцова могут быть иные, более глубокие причины. Он улавливает перемену отношения, что-то предугадывает, чувства его обострены. Он когда шел сюда, то боялся всего этого. Ясно, он хотел бы в Хэду, под предлогом осмотра – как там продолжаются работы на начатой верфи? – посмотреть что-то иное, повидать ее! Узнать о ее судьбе. Как же она? Жив ли ребенок, его участь.
Но, видно, Уэкава-сама не в чести, не может пока помочь. Что-то произошло и с ним. Час от часу не легче. Был представителем бакуфу, то есть высшего правительства на постройке западного корабля. Это очень большая должность, туз первой величины. Пугало всех чиновников.
– Консулу из Америки будет сообщено, что прибыл посланник императора в ранге, гораздо более высоком, чем консул республики Штатов. Он сразу явится. Он большой ростом и толстый, но очень суетливый. И у него высокая грудь, как будто он ее все время выпячивает, чтобы все видели, какой он сильный. Это, конечно, американский богатырь!
– А самураи, – ответил Посьет, – выращивают для важности брюхо. Как и китайские мандарины?
– Хи-хи! – согласился Уэкава.
Сегодня он рассказывал, как ласково и почтительно проводил в позапрошлом году из Хэды последнюю партию в триста моряков во главе с Мусиным-Пушкиным. Лагерь сдавал и морское войско из Японии повел по улице Сибирцев. Населению Хэды и всем чиновникам жаль было прощаться. Даже сказали Сибирцеву: «Вы, пожалуйста, не думайте, что надоели нам и что мы очень рады, что вы уходите. Это совершенно не так».
Несколько раз Уэкава поминал сегодня Сибирцева.
А теперь Уэкава морской офицер в европеизированном мундире, который он сам при нас изобретал как образец для будущего японского флота, еще когда все мы жили в деревне Хэда. Уэкава явно не на высокой должности. А ведь шел вверх быстро.
Что-то, видно, произошло. Значит, Колокольцова не допустят в Хэду. Да, перемены чувствуются! На берегу в Симоде и то жилья не дают.
Как же быть? А все же хотелось узнать, что там. Из Японии доходили ужасные слухи. Не был никогда Колокольцов хитрецом, да нужда заставляет.
– Скажите, Уэкава-сан, а доится ли корова у Ябадоо? – спросил Колокольцов, выходя с японцем на палубу.
Уэкава мгновенно все сообразил. Для осведомления Кокоро-сан избрал идеальную форму. Ах так? Ясно!
– Знаете, доится! – уверенно отвечал Уэкава, и глаза его стали теплей и добрей. Он радовался: не неся ответственности, мог проявить человечность, которой не полагается по закону.
Уэкава прекрасно понимал, о чем речь. Если ребенок русский, то его и кормят по-русски, молоком. Но Ябадоо никогда в этом не признается, ведь был издан закон: убить всех детей, родившихся от иностранцев. Ябадоо этот закон обошел. Но уж теперь должен держаться крепко и не признаваться, что в семье Ябадоо у его дочери Сайо ребенок родился от Кокоро-сан, с которым она долго жила, все это знают, и Ябадоо ребенка очень любит и кормит молоком, но никогда не признается и никому не отдаст ребенка. Он уже все доказал и деревне, и правительству, и князю, что ребенок – чистокровный японец, и все верят, хотя все знают, что Ябадоо обманывает, но не верить нельзя, это бесчеловечно.
Японцы уехали.
Легок на помине!
На борт «Оливуцы» поднялся мистер Харрис, никто другой тут и не мог быть. Высок ростом, плотен, осанист, быстр, с одутловатым загорелым лицом, верно его Уэкава охарактеризовал, с приятными глазами. «Похож на питерского купца, одетого с иголочки под барина, – подумал Колокольцов. – Буржуа девяносто шестой пробы».
От американца попахивает виски. Прибыл на японской лодчонке, как на корыте, с полуголыми гребцами. Видно, от Управления приемов казенную лодку ему не дают; значит, теснят его господа японцы, это они умеют.
Посьет сказал, что вне себя от восторга.
Римский-Корсаков сказал, что очень рад.
Колокольцов и мичман Коля Ельчанинов также пожали руку консулу.
– А где же мистер Рид? – спросил Посьет в салоне.
Пили довольно много, не желая уступить первенство гостю.
– Рид? – удивился американец. – Кто такой Рид?
– Мистер Рид был назначен первым американским консулом в Японию в прошлом году и жил в городе Симода как гость адмирала Путятина.
– На берегу?
– Да, в храме Гекусенди!
– Вы здесь жили? Здесь? В Японии?
– Мы здесь жили полгода.
– В этом городе? – изумился Харрис.
– Да, неподалеку отсюда мы построили шхуну.
– Какую шхуну? – насторожился Харрис.
– Вот ту самую, которая пришла с корветом вместе.
«Не может быть? Не верится? Потом от японцев узнаете, мой дорогой!» – подумал Посьет.
– Рид не консул. Рид – самозванец, – вскричал Харрис.
– Прекрасный человек, – ответил Посьет.
– Настоящий джентльмен, – подлил масла в огонь Колокольцов.
Римский-Корсаков молчал.
Посьет сказал, что шхуну «Хэда», построенную в Японии, привели теперь в подарок императору микадо в знак расположения нашего государя, благодарности и дружбы.
Харрис стал доказывать, что консул он, единственный. Вся Америка провожала его с восторгом, о нем писали газеты, напутствовал его сам государственный секретарь, поручил заключить трактат с Сиамом от имени Америки. Рассказал, как принял его сам секретарь флота.
Харрис шел через Атлантику, был в Париже, и там произвело фурор его появление. Япония уступила. В Европе никто не ждал, что туда едет посол Америки. Харрис пил и в Париже, появлялся в красной тоге посла в ресторанах с дамами. Всюду хвастался, что едет в Японию.
Он действительно впоследствии был в Сиаме, заключил американо-сиамский договор.
Консул? Нет! Посол Америки! Таунсенда Харриса никто никогда не называл в Париже консулом, он – посол, а не консул, что по сути так и есть.
Харрис стал жаловаться, как ему тяжело в Японии, какое ужасное питание. Нет молока.
Посьет взял тон откровения и держался на дружеской ноге. Сказал, что привез ратификацию русско-японского трактата, заключенного в Симоде.
Харрис попросил снять для него копию трактата, сказал, что капитан Посьет его премного обяжет и что он в долгу не останется.
– Я могу предложить вам самую последнюю новинку – копию договора, который я заключил как посол Соединенных Штатов в Бангкоке с королем Сиама. В придачу – копию американо-японского трактата. И еще копию японо-голландского договора, который только что заключен.
Экземпляр у Харриса есть. Снимет копию для посла Посьета. Новейшие сведения! Прекрасный обмен.
Харрис пожаловался: обхождение японцев доводит до раздражения: переводчика Хьюскена, еще молодого человека, – почти до отчаяния.
Харрису временами казалось, что здесь живет без толку. Посьет ободрил, сказал, что как другу даст полезные советы. И снимет копию договора.
Первое дело, которое Харрис исполнит для государственного департамента, живя в Японии.
Обед продлился с шести до девяти вечера. Для «променажа» съездили на шхуну, и после осмотра Таунсенд Харрис сказал, что восхищен. Было уже поздно, когда он отправился на корветской шлюпке с гребцами и мичманом Ельчаниновым у руля по черной воде к огням храма Гекусенди.
В своем обширном консулате, состоявшем из кабинета, спален и столовой, разделенных анфиладами полупустых комнат, Харрис со счастливым смехом, хваля новых знакомых, рассказывал своему переводчику Генри Хьюскену о приеме на пришедших кораблях.
– Какие приятные и, я бы сказал, воспитанные молодые люди, особенно командир корвета Римский-Корсаков.
Хьюскен – молодой человек из голландской семьи в Штатах. Как голландский переводчик охотно отправился в Японию с первым консулом. В Симоде дел мало, Хьюскен изучал французский и японский, читал привезенную литературу: Кампфера, Зибольта, Гуцлава, вел записки, а иногда скучал, валялся на диванах, закидывая свои длинные ноги на низенькие японские столики.
– Русские уверяют, что японцы притворяются, показывая, что говорят только по-голландски. Я пожаловался, что с нами они только по-голландски разговаривают и признака не подают, что знают другие языки. Посьет расхохотался и стал уверять, что они до поры и с русскими такими же были.
Слуга-японец зажег свечи в кабинете и встретил Харриса с поклоном.
Усевшись за стол, который когда-то сделан был для русского адмирала, Харрис взял перо и, подвинув тяжелую чернильницу с тушью, записал в своем дневнике:
«Сегодня в Симоду пришли русские корабли: корвет и шхуна. Ездил на корвет. Меня приветствовали офицеры рангов: капитан Посьет и командир корвета Воин Римский-Корсаков... «Very agreeable persons and very friendly»[75]. Корвет очень беден, стар по возрасту и устаревшей конструкции. Вооружен старомодными карронадами... Шхуна «Хэда» хорошая, имеет прекрасную кабину, красиво меблирована, обшита полированным деревом, coilcloth[76] на полу, столы красного дерева и обои и занавеси из шелкового темно-голубого вельвета...»
Александр Колокольцов долго ходил вечером по палубе своей шхуны, останавливался, смотрел на огни Симоды, на знакомые островки, проливы. Светлая вода при луне выделяла черноту скал. Колокольцов знал здесь все наизусть. Теперь ему все это запретно! Он никогда не пойдет в деревню Хэда! Или, может быть, все же, удастся?
Утром, когда съезжали на берег, лейтенант рассказал Константину Николаевичу, что корова, раздоенная Берзинем, еще дает молоко, что Уэкава по секрету признался.
– Я скажу об этом американцу, – сказал Посьет.
Знакомыми улицами прошли через весь город.
В новом здании Управления западных приемов встретил старый приятель Путятина и Посьета – коренастый богатырь с огромной головой – губернатор Симоды бугё Накамура Тамея.
Посьет торжественно объявил о главной цели приезда. Доставлена ратификация. Государь утвердил трактат. Шхуна «Хэда» передается Японии как подарок императору – тенно. Привезли тринадцать тысяч золотом – долг наш. Все орудия корабля «Диана», оставленные в Японии на сохранение, преподносятся в дар японскому правительству.
Губернатор благодарит и кланяется. Кланяются все чиновники.
Накамура предупредил, что пошлет немедленно доклад в столицу на быстрой лошади. Ясно, что не скоро они все решат. Накамура заметил: «Дела потребуют времени». Как всегда они медлят; Посьет и его спутники готовы к этому.
За обедом разговорам не было конца. Тамея-сама спросил, куда пойдет корвет из Японии. Узнав, что в Гонконг, казалось, опечалился. Осведомился, известно ли Посьету, что англичане начали войну с Китаем, из Гонконга посланы войска и флот в реку, на которой стоит Кантон. Сведения от голландцев из Нагасаки и от судов, приходящих в Симоду, и от самих китайцев. Ведь вы знаете, что в Нагасаки имеется с древних времен китайская торговая фактория.
Тут же сидел второй губернатор, вице-губернатор, его превосходительство Вакано Меосиро.
– Ох, Посьет-сама. Да, я теперь бугё, губернатор! И все было бы хорошо, – подвыпив, тихо говорил Накамура, – если бы на меня не навязался американец. Очень тяжелый человек. Один он доставляет хлопот больше, чем все американские семьи с корабля «Кэролайн», когда они жили в том же храме.
Накамура слов на ветер не бросает. Он остерегает. Но странно, чем ему мог так не понравиться Харрис?
Накамура рассказывал подробности, как парусник «Грета», взяв на борт 300 русских моряков, еще остававшихся после ухода шхуны «Хэда» в Японии, уходил из деревни Хэда. Рассказал про Сибирцева и добавил, что очень жаль его.
Посьет, Корсаков и Колокольцов о судьбе своих товарищей знали только, что «Грету» захватили англичане и увели в Гонконг, оттуда были письма от американцев. Но почему Накамуре жаль Сибирцева?
После губернаторского обеда все пешком, в сопровождении знакомых чиновников, переводчиков и стражи, пошли на берег. Здоровались и кланялись со встречающимися многочисленными знакомыми. На шлюпках ушли на суда, переоделись и под вечер в штатском на тех же шлюпках отправились к Харрису в храм Гекусенди, куда он вчера усиленно приглашал.
ПИСЬМО
...написанное тем женским языком, в котором каждый слог является смиренной лаской...
– Пока придет ратификация из Эдо, простоять придется не меньше месяца, – говорил Константин Николаевич Посьет, сидя за знакомым столом в Гекусенди.
Американцу рассказал о передаче шхуны «Хэда», о платеже, о ратификации и об одарении японского правительства корабельной артиллерией.
Римский-Корсаков помалкивает, держится в стороне, наблюдает, слушает с интересом. Харрис тоже следит за ним внимательными взглядами.
– А-а, Мориама Эйноске! – воскликнул Посьет.
Все невольно встали, завидя знакомого японца. Лучший переводчик и величайший дипломат. Так вот кому препоручили вести дела с американцами! Тут мистеру Харрису нелегко придется: коса найдет на камень.
Элегантен, строен, мужествен. Мориама-сан немолод, но моложав, гладок, выхолен, как знатная персона, плечи и кулаки как у боксера. Легок на ногу, гибок и телом и умом. Такие крепкие, пожилые люди опасней всего в делах. «Кто сказал, не Конфуций ли, – старался вспомнить Посьет, – что в борьбе молодого со старым всегда побеждает старое! Жаль, Гошкевича нет, он знает все эти заповеди. Но и Харрис немолод, такой же породы, только европейской школы, говорил, что в Париже часто бывал и там свой человек. Кого только судьба не заносит в Японию!»
Корсаков знал Мориаму по первым встречам в Нагасаки. Тогда он по обязанности простачком прикидывался, ползал или лежал между договаривающимися делегациями плашмя на полу, не смея глаз поднять на свое высокое начальство.
Харрис без всяких церемоний сказал Мориаме, что в услугах его сегодня не нуждается.
– Нам сегодня переводчики не требуются! – пояснил Хьюскен, сидевший развалясь, и расхохотался, дружески кивая японцу.
– Корпус переводчиков отдыхает, – пояснил Посьет.
– Шпионы на каждом шагу! – сказал Харрис. Он вернулся к столу и принялся открывать бутылку.
О войне англичан с Китаем у консула не было никаких сведений. Удивился, что губернатор рассказал коммодору и капитану политические новости. Интересно. К этому шло, но оскорбительно! Почему скрывается от Харриса? Почему предпочтение тем, кто явно хочет тут выставить себя соперниками Америки? Японцы раздувают их значение в своих целях!
– А нам предстоит зайти в Гонконг! – пожаловался Посьет.
Харрис расхвастался, что в Гонконге у него прекрасные знакомые, с которыми и деловые и приятельские отношения. Известные Армстронг и Лоуренс его поверенные.
– У вас, вероятно, знакомые и в Макао? – спросил Римский-Корсаков.
– Да, конечно! Всюду американцы, и всё свои люди. К английской агрессии не имеют никакого отношения. Некоторые американские фирмы предпочитают вести дела с Китаем, находясь не в Гонконге, а в условиях большей независимости; в Макао. Снимают под свои конторы и склады роскошные дворцы обедневших португальских грандов. В Макао у меня друзья, крупный делец Дринкер мой приятель, я в переписке с ним. И даже, ха-ха-ха-ха-ха... в интимной переписке с их милейшей дочкой, пятнадцатилетней красавицей Катти. Ах, что за милые послания шлет она с описанием всех мелочей жизни. Это целые отчеты! Но, к сожалению, почта приходит очень поздно. Ее письма для меня интересней гонконгской периодической прессы... Капитан Корсаков, не вздумайте увлечься Катти! При этом непременном условии я дам рекомендательные письма к ее отцу. Но... вы... Вы слишком good-looking[77].
Казалось бы, распоясался, в то же время очень радушен. Но дело и свои цели эти люди помнят всегда в любом состоянии.
– Мой коммодор! За ваше здоровье! За здоровье коммодора, господа...
Посьет возразил, что такого чина у нас нет.
– Я знаю! У вас нет чина коммодора! Но все же вы – коммодор! Вы командуете эскадрой, исполняя дипломатическое поручение, какие у нас возлагали на коммодора Адамса! Мой коммодор!
Посьет дал характеристики губернатору, знакомым чиновникам и переводчикам, в том числе и Мориаме.
«Зачем он так откровенен с этим господином? Верный ли тон взят?» – озаботился Римский-Корсаков.
Харрис не нравился Воину Андреевичу, не вполне нравился ему и Посьет. «Казалось бы, умный и дельный. Облечен величайшим доверием. Откуда выскочил, грубо говоря? Где откопал его Путятин и за какие качества приблизил и возвысил? Назвал его именем самую лучшую гавань Приморья – мира будущего. На англичанина смахивает, и этого уже достаточно Евфимию Васильевичу. Обязателен, знает языки и уже коммодор – по сути дела, американец не ошибся. Ведет переговоры с Японией и Америкой от имени России. Тысячу раз прав Гончаров. Разве в петербургском самовластье дело? Да у нас на эскадре у Евфимия Васильевича в десять раз худшее самовластие и тирания! И самодурство! И никто не пикнул. При этом авантюристов и проходимцев у нас и в правительстве, и около правительства не меньше, чем в Америке. А вот говорят, что у них все стоит на предприимчивых личностях! Это еще вопрос, кто кого по этой части за пояс заткнет».
Воин Андреевич не завидовал, в дипломаты не собирался, Константин Николаевич дорогу ему не переходит, держится просто, естественно, мнения окружающих выслушивает и, если стоит, принимает.
Когда возвращались на суда, Колокольцов сказал:
– Зачем, Константин Николаевич, так выкладываете ему все? Мне кажется, что этот американец порядочный пройдоха.
Колокольцов спутник и друг Посьета, много плавал с ним и жил в Японии.
– Ну, может быть, не так строго! – отозвался Константин Николаевич.
«И мне кажется, лучше бы держать язык за зубами! » – полагал Корсаков.
Он сам смеялся сегодня и шутил и в карты играл. Говорили про Крымскую войну, и Воин Андреевич заявил, что если английского солдата лишить привычного рациона и комфорта, то он потеряет боеспособность. Под Севастополем британцы не отличались, чего нельзя сказать про французов, которые смелы и отважны в любых условиях.
Надо знать, в чем быть откровенным и радушным, чтобы самим не попасть впросак!
– Мой дорогой! – обратился Посьет к своему молодому другу и неизменному спутнику. – Мне нужны рекомендательные письма в Гонконг. Придется попросить Харриса одолжить деньги. У нас гроши остались с Воином Андреевичем до Гонконга. Как бы японцы нас ни одаряли, а надо еще покупать сувениры...
Эта мысль Посьета пришлась по душе Римскому-Корсакову, согласна с его желанием.
– А борзые щенки? А коллекции фамильных драгоценностей? – вмешался он в разговор.
Векселя были на банки, но наличных денег почти нет. А Харрис сам сказал, что деньги у него есть.
Утром в назначенный час занятий Харрис, преоборя похмелье прогулкой и купаньем, записал в своем дневнике:
«Посьет сказал, что желает, чтобы наши визиты друг к другу происходили бы запросто, без церемоний, как между друзьями, и что я могу чувствовать у него себя как дома, как и он у меня».
– Как вы обходились в Японии без женщин? – за обедом на «Оливуце» обратился к Посьету подвыпивший американец. – Как вообще у них по этой части?
Харрис смотрел настороженно.
– Посол Японии на переговорах с Путятиным – очень образованный и светский японец – не раз беседовал со мной откровенно. Однажды я задал ему такой вопрос.
Харрис восторженно вскинул обе руки и фальшиво расхохотался. Он усматривал своего человека в Константине Николаевиче.
– Ну и что же он?
– Ответил, что у них это доступно для знатного путешествующего вельможи там, где бывает его ночлег. И если князь или чиновник по делам службы живет в храме, то всегда есть приятная служанка или, может быть, привезенная для этого племянница бонзы или какая-то другая юная девица, родственница или знакомая хозяина храма.
– Ах, так! А они меня уверяют, что никогда и ни в коем случае не может японка сходиться с иностранцем.
Теперь Посьет цинично расхохотался.
– Ах, дорогой мой! А где бы вы хотели услышать иной ответ от представителей власти!
– Разве у вас были случаи?
– Когда-нибудь я вам расскажу об этом более подробно.
– Почему же не сейчас? – обиженно спросил изрядно выпивший Таунсенд.
На «Оливуце» принимали японского губернатора. Накамура-сама сказал, что из Эдо прибыло важное распоряжение. Поручена приемка «Хэды», как и предложил Посьет. Это будет происходить одновременно с обменом ратификациями. Уэкава-сан назначается капитаном шхуны.
– Команда для корабля уже составлена и обучена на подобном же судне... На другом корабле такого же типа. С благоговением примется драгоценный для Японии подарок императора России...
Посьет сказал, что «Оливуце» предстоит кругосветный переход. Накамура ответил, что все будет сделано, чтобы снарядить русский корабль в далекое плавание.
– Уэкава-сама, – увлекая японца к себе в каюту после отъезда губернатора, заговорил Посьет, – что вы там говорили Харрису про женщин? Он холостой человек, приехал сюда из Америки. Не следует ли подумать, чтобы с ним была приятная девица. Это вам, как мне кажется, даже важней, чем Америке. Правда, он человек пожилой, но еще достаточно здоровый, и эта забота сидит у него в голове. Он все время возвращается к разговору о женщинах.
– Знаете, Посэто-сама, посол Путятин был очень крепкий человек, он совсем не был стар. Моложе Харриса, но никогда не позволил себе ничего подобного.
«Я тоже не позволил себе никаких связей! Но при чем тут Путятин?» – мог сказать Константин Николаевич.
«А при том, – мог бы сказать Уэкава, – что Путятин прожил в Хэде и Симоде и никогда не потребовал женщины!»
– Посол и адмирал Путятин очень сильный человек, но очень сдержанный. И это восторгало японцев. Родственница священника в Хосенди всегда за ним ухаживала, помогала и могла исполнить любое поручение правительства. Но Путятин всегда молился много и никогда не позволил себе ничего унизительного. Поэтому, – сказал Уэкава, – все решили, судя по поведению посла Путятина, а также посла Перри, что официальные лица высших рангов из стран Запада не позволяют себе ничего подобного. Поэтому женщин им не предлагают. Харрис, конечно, очень умный человек. Иногда это заметно. Он спрашивал про женщин сразу, как приехал. Но так сразу – нельзя. Это американская невежливость. Япония не публичный дом. Ответили, что невозможно и не бывает никогда. Даже, если точнее сказать, ответили не так. Сказали: «Вам это не нужно». – «Как не нужно?» Вежливо кланялись и отмалчивались. Решили, что Харрис, конечно, понял и дела не касался после этого. Тогда все решили, что он обходится сам или привез очень молодого голландца-переводчика. Так бывает у японских князей на войне. Но теперь если он так горько чувствует одиночество, то это удивительно! Это все я сказал вам откровенно, как другу Посэто-сама, и прошу вас не понять меня неверно.
На другой день Харрис принимал Посьета и Корсакова в Гекусенди. Опять пили виски. О женщинах не говорили.
– Помогите мне, коммодор, объяснить японцам, что я не могу жить без молока, – просил Харрис. – Я непрерывно мучаюсь от разных недугов. Я не так молод, чтобы обходиться без молочных продуктов. У меня тяжелые запоры.
– Мой дорогой посланник! Живя в Японии, мы раздоили несколько коров. У господина Колокольцова осталась дойная корова в том доме, где он жил. В одной из соседних деревень. И она доится. И мы можем попросить японцев одолжить ее вам – и вы будете с молоком.
– Как я был бы рад! – пришел Харрис в пьяный восторг. – А то ведь я чувствую себя как в блокаде. Меня морят, заставляют есть пищу, к которой я не привык, обрекают на воздержание, и при этом вокруг цветы, роскошь, благоухание, экзотические пейзажи. Но без японочки мне эти пейзажи не нужны. Ах, если бы японочку, этакую с зонтиком, каких они изображают стоящими на мостике: как рисуют! И пригласить ее. Но чтобы не убегала, а чтобы ей был дан строгий приказ правительства – не отказывать ни в чем послу Америки? А? И про молоко также!
«Экая пьяная морда, пьет и не просыхает! – подумал Воин Андреевич. – Видно, никто порядочный не захотел в Японию ехать без семьи. Впрочем, дело не мое!»
В бухту города Симода вошла парусная шхуна под японским флагом, точная копия «Хэды».
– Это же «Камидзава»! – вскричал Колокольцов. – Вторая наша шхуна. Я ее закладывал сам в Хэде.
Уэкава с сияющей улыбкой явился на «Хэду».
– И третья такая же. Спущена там же на воду, – рассказывал он. – В Ущелье Быка.
Посьет съездил к губернатору, от него заехал к американцу.
Харрис сказал, что обеспокоен: в залив вошло европейское судно, но он не может поехать, у него нет лодки.
– Это японское судно, под японским флагом, построенное нами же, в той же деревне Хэда, что и наша шхуна, мы сами ее закладывали.
– Они закончили без вас?
– Едемте, мистер Харрис! Там они вам сами все расскажут. Берите Хьюскена и Мориаму. Мы покажем вам еще одно наше произведение! Японцы приглашают всех на корабль для угощения европейского образца в салон командира!
– А как же, господа, ваши главные дела?
– Ждем ратификации...
По утрам на «Хэду» являлись сорок японцев. Колокольцов проверял их познания и обучал эту новую команду.
На корме в европейском платье Уэкава-сан подавал команды в рупор. Японские матросы в грубых белых костюмах из материи, похожей на толстую парусину, подымали якорь. Взбегали на мачты, ставили и убирали паруса, спускали шлюпки, буксировали судно.
Вечер. Якорь брошен. Кормовой флаг спущен, спешить некуда. Японская команда съехала на берег. Больше не надо никого учить и проверять. Ночь наступает.
Александр и Деничиро в салоне, где когда-то тесной семьей, выйдя из Японии, офицеры поутру увидели через портики первые снега и льды родины. А теперь уж скоро: «Ну вот и все! Прощай шхуна «Хэда»! Но не ее судьба тревожит Александра Колокольцова.
– Я вам все расскажу, – сказал Уэкава Деничиро. – Сайо беременна.
– Как беременна? Опять?
– Нет, впервые.
– Как это может быть? До сих пор? Так долго?
– Нет. Она естественная и здоровая, молодая, очень красивая женщина. Она замужем. Очень счастлива и ждет ребенка. Но она очень любит своего маленького брата, который родился через полгода после вашего отбытия из Хэды. Александр-сама, он очень похож на вас!
– Брата?
– Да, это просто удивительно. Ябадоо-сан говорил: «У меня жена старая, а родила мне хорошего сына». И он очень любит маленького мальчика. Говорит, что я горжусь, это будет мой наследник! Вы должны меня понять, Кокоро-сан, когда издали приказ об убийстве всех детей, родившихся от иностранцев, то к Ябадоо-сан явились и спросили. Не тронули мальчика, узнав, что он рожден старой женой Ябадоо...
– Убить детей? Такой приказ? А как же судьба других? Всех убили?
– У нас закон очень строгий. Власть требует – и все сразу исполняется. Но все-таки, кажется, все, кто родился, остались живы. Кажется, кто-то вмешался в Эдо, я уверен, что это не Кавадзи-сама, хотя об этом все догадываются.
Она замужем! Сын – наследник Ябадоо. Шхуна «Хэда» под командованием Уэкава-сама. В храме Гекусенди живет американский консул!
– Вы знаете, я совсем забыл... У меня есть для вас письмо.
– Письмо? Откуда? Кто мог мне написать?
Душа похолодела у Александра, когда Уэкава открыл плетеный ящик, вроде портфеля, достал небольшой конверт и подал его в почтительном поклоне. Адрес по-русски:
«Господин лейтенант Сибирцев».
– Это Алексею! Это не мне. Боже мой...
«От госпожи Оюки Ямада». Пахнет фиалками, ее любимый запах.
– Получите, пожалуйста!
– Это Сибирцеву, а не мне.
– Просили передать вам.
– Я даже не знаю, где теперь Алексей Сибирцев.
– Он, кажется, уже... – тихо произнес Уэкава, – погиб.
– Что? – вздрогнул Колокольцов. – Погиб?
– Надеюсь, что известие неточно.
– Откуда у вас сведения?
– Это было предсказано гадальщицей в Хэде. Оюки-сан плакала и не хотела верить. Ему наворожили, что он встретит в море врагов и... погибнет. Но японскому Управлению западных приемов ничего не известно. В деревне Хэда очень хорошие предсказатели.
«Ну, предсказания – это еще ничего не значит!» – с облегчением подумал Колокольцов.
– Мы знаем, что он был взят в плен вместе со всем отрядом. Известие мы получили уже из Гонконга.
– Вы знаете, что в Китае война и была сильная стрельба по Кантону?
– Да, губернатор сказал нам, что война начинается. Откуда у вас известны подробности?
– Переводчики узнают через голландскую факторию. Иногда получают газеты.
– С губернатором сэром Джоном Боурингом мы стали близкими приятелями, – рассказывал у Посьета в гостях Таунсенд Харрис. – Нашему сближению немало способствовал американский посол в Китае мистер Паркер. Также колония американских негоциантов. Я тогда еще понял, что у англичан с Китаем завяжется война.
Гуляя с Посьетом по палубе, Таунсенд сказал:
– Мне пришлось лично от Боуринга услышать кое-что... что может заинтересовать и вас! Скажу вам, как другу: вы говорите, что адмирал Путятин занял на юге Приморья гавань, названную вашим именем? Гавань коммодора Посьета?
– Да.
– Англичане старательно изучают Китай и Маньчжурию. В разгаре войны и у них будут все возможности, флот готов на все. Боуринг сказал мне лично, что, по его предположениям, согласно сведениям, доставленным ему военными кораблями, от границы Кореи к северу есть отличные гавани и они ничьи И как только начнется война, туда пойдут эскадры и что там интересы Великобритании. Это касается и гавани Посьета? Как вы думаете? Если, как сказал сэр Джон, гавани китайские, он займет их, пользуясь войной? Но он опасается, что китайцев там и духу нет. Боуринг и Сеймур хотят перенести Гонконг в более умеренный и здоровый пояс. Уверяют, что климат Приморья хорош. Англичане в бешенстве от Муравьева. Они так же ненавидят русских, как мы, американцы, симпатизируем вам.
Посьет не ждал ничего подобного. На первых порах он даже обомлел.
– Но там гавани наши!
– И я уверен в этом!
На другой день Посьет пришел с офицерами и гребцами на двух шлюпках в Гекусенди.
– Услуга за услугу! – сказал он многозначительно. – В знак благодарности за ту помощь, которую коммодор Адамс оказал в этом городе экипажу и офицерам погибшей «Дианы», будучи здесь на военном корабле «Поухаттан», а также в знак нашей дружбы к Соединенным Штатам мы доставили вам в подарок, мистер Харрис, одну из наших шлюпок. Идемте на берег принимать.
– Мой дорогой Посьет!
Харрис горячо и от души обнял Константина Николаевича.
– Я не могу оставить вам при ней гребцов, – сказал Римский-Корсаков, – но японцы всегда найдут для вас людей в Симоде.
– Без шлюпки для разъездов тут как без рук. Это то же, что своя карета в Париже!
Все засмеялись.
– Ах, как я вам благодарен!
Открыто привезенное с «Оливуцы» шампанское. Суетятся знакомые японцы. Священник Бимо и его жена то и дело пробегают и кланяются. Все их распоряжения исполняют слуги.
– Тут всюду заливы, бухты, река, каналы, и вы на шлюпке пройдете всюду, как в Венеции.
Харрис увел Посьета в свой кабинет и хотя выпил, но очень трезво стал рассказывать о Джоне Боуринге. Существует секретный план овладения северным японским островом Хоккайдо. Англичане утверждают, что на японских картах этот остров обозначен названием Эссо, так же как и все земли и острова других стран, населенных охотничьими народами и не входящих в состав Японии.
– Так сами японцы не считали Хоккайдо своей землей. Не хотят ли Боуринг и Майкл Сеймур этим воспользоваться и опередить вас? Хотя, как я понял, у России нет никаких намерений в отношении Хоккайдо. Этим островом интересуются послы и адмиралы Соединенного Королевства. Но для этого им нужен я, моя помощь и сочувствие, чтобы все было сделано, не задевая интересов Америки. Они уверяют, что тут цели Штатов и Великобритании одни и мы должны их поддержать. Они открыли мне все карты, дорогой Посьет! Вот слушайте, они стремятся после Севастополя изолировать вас. И Японию отгородить от России прочно и навсегда своею колонией. Слушайте, дорогой...
«Наш прекрасный сад, – подумал Колокольцов, глядя на грядки цветущего адисая во дворе перед храмом. – Эти удивительные японские гортензии меняют цвет за лето трижды, цветут красным, синим и белым. Где же красные Map де Пацифико?»
Хьюскен рассказал Ельчанинову, как учит французский, показал книги. Сказал, что ведет на французском свой дневник, чтобы японцам неповадно было заглядывать.
Начались рассказы о Макао и о городе Виктории.
– Ах, эти Елисейские поля Гонконга! – восклицал Харрис, вспоминая увеселительные прогулки. – А называются: Хеппи Уэлли – Счастливая Долина!
Утром Харрис сидел за своим дневником. Что-то пора написать и о русском подарке, доставленном для японского императора. В конце концов, никто не упрекнет. Я мог так понять. Я так и напишу.
«Шхуна «Хэда» легка и устойчива на ходу. Русские моряки, как я понял, построили ее на реке Амур и прекрасно отделали. Шхуна приведена в Симоду как подарок японскому правительству...
Как я убеждаюсь, Россия тащится в хвосте других стран, посылающих свои суда в Японию. Это началось, еще когда Россия обратилась к Америке с просьбой об отправлении экспедиции в Японию, желая вместе с американцами послать и свои корабли в залив «Эдо».
Как уверен Харрис и как ему это объясняли в Вашингтоне, коммодор Перри категорически им отказал, отверг предложения Нессельроде. Он даже Зибольду отказал за то, что тот ездил в Петербург, считая его шпионом! «Да, шхуна «Хэда» – мелочь и не может иметь никакого значения. Но все же лучше не упоминать, что ее построили в Японии. Здесь все начинают только американцы, и никто другой. А из американцев я первый после Перри! Японцам внушается мной, что им надо создать паровой флот. Но флота и машин они даром не получат!»
ГЛУБИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
Целое племя, многочисленное и даровитое, но долго отделенное от остального мира положением своей страны и государственными уставами, примкнуло к торжественному ходу передовых народов земли...
– Вы желали узнать о Сибирцеве? – спросил переводчик Татноске-сан. – О нем что-то было известно. А, я вспомнил! Он был болен поносом. Как всегда, я могу быть вам полезен, Александр-сан.
Татноске улыбнулся так ласково, что за дальнейшие сведения придется деньги платить. А Харрис еще удивляется, зачем нам деньги, мол, живем не по средствам.
– Да-а, конечно... Алексей-сан на переходе из Гонконга в Африку был очень болен. Могло быть, что он...
Ужасная судьба! Как блестяще он начал – и такой тяжкий конец.
– Почему вы спрашивали? Да, я знаю: вы были близким другом... А вы знаете, что в Гонконге Сибирцева-сан задержали англичане за предоставление артиллерии Китаю.
«Что за чушь! Как это может быть?»
– А потом его выслали из Гонконга в числе других пленных в Англию. На переходе началась эпидемия, и он заболел холерой. Многие умерли. Я так думаю... Я узнал случайно от других. Приезжала с английской эскадрой англичанка из Гонконга, очень знатная, и искала его сына. Я удивился... Я совершенно не знал... и был поражен... Разве у Сибирцева был сын? Я до сих пор ничего не знал.
– Она нашла его сына?
– Да, она была очень настойчивая. Но японскому управлению ничего не известно.
«Так у Алексея Николаевича все же сын! А где же он сам? Жив ли?»
– А что это была за англичанка?
– Говорят, она в христианской миссии в Китае учит девочек.
– Старая? Как ее фамильное имя?
– Очень молодая и красивая. Ее зовут Энн, и больше мы не узнали. Вернее, я не слышал.
– Кто из переводчиков с ней встречался?
– Мориама-сан.
А Мориама, улыбаясь, стоял рядом и все слушал.
– Мориама, вы видели приезжавшую из Гонконга англичанку?
– Да, я помогал ей. Очень молодая и приятная. Когда она упоминала имя Сибирцев а, то краснела, и я решил, что она сестра Ареса-сан... Или... жена! Он ей не безразличен. Она очень хотела видеть его сына и готова была поднять на ноги всю японскую полицию и призвать западную религию и флот королевы. Она так и заявила, что имеет право говорить от имени королевы и что королева Виктория имеет много детей и всех сама кормит грудью и не отдает их нянькам. У королевы прекрасный муж, но не имеет власти. Кое-что мисс Энн удалось узнать. Я помог ей...
– Так что же она? Говорила об Алексее?
– Ареса-сан был якобы арестован в Гонконге английской полицией за перевозку самых современных артиллерийских орудий в Кантон. Но на самом деле это сделал не он, а какая-то шайка спекулянтов. Мисс Энн известила, что распространялись слухи, будто бы на переходе в Индийском океане Сибирцев заболел холерой, после высылки из Гонконга. Он был брошен в мешке в воду. Англичане якобы хотели его судить за доставление артиллерии Китаю.
Уэкава с сияющей физиономией взошел по трапу и кланялся встречающим офицерам. Сказал вахтенному офицеру, что желает видеть капитана господина Римского-Корсакова и обрадовать важным и приятным известием.
Посьет опять у Таунсенда Харриса в Гекусенди, а Хьюскен вместе с Колокольцовым сегодня на «Оливуце». Римский-Корсаков поспешно вышел на палубу. С Уэкава прибыла целая свита чиновников. Внесли на руках что-то вроде плетеного сундука.
«Что там?» – подумал Воин Андреевич, заметив таинственный багаж.
– Вот! Прибыло. Для вас! – улыбался Уэкава. «Можно с ума сойти. Неужели ратификация? Впрочем, быть не может!»
– Это из Эдо?
– Из Нагасаки... Это-о письма. – Любезно сказал и щелкнул каблуками Уэкава. – Из России, господам офицерам и матросам.
Чиновники достали из корзины настоящий почтовый мешок из грубой ткани, какие введены всюду для перевозки почты в Европе и Америке на пароходах и по железной дороге.
– Очень большая тайна! Охрана частной переписки. Спасибо! Получите... – сказал Уэкава-сан.
Ушли в салон и разобрали. Писем множество – и офицерам, и нижним чинам. Матросские отдали сразу же унтерам для раздачи.
Но у всех писем сургучные печати сломаны и письма открыты. Ельчанинову письмо от сестры Екатерины Ивановны Невельской. Они уже в Петербурге и собираются поехать в поместья в Смоленск и в Кострому. Еще письмо от сестры Саши из Красноярска.
На всех письмах штампы: Петербург, Амстердам... И японская печать тоже... Как они вперед шагают.
– Бог с ними, со сломанными печатями, – сказал Римский-Корсаков, передавая возвратившемуся Посьету целую пачку пакетов.
– Слава богу, что пришло. И незагрязненное и ненадорванное.
Хьюскен, гостивший на «Оливуце», развалясь на диване, хохотал до упаду, глядя, как офицеры, перечитав письмо, огорченно осматривают сорванные печати и как японцы извиняются за плохую работу голландской почты, которая так долго задержала корреспонденцию.
Вечером молодой американец записал в дневнике: «Русские офицеры получили письма через Нагасаки, и японское правительство не поколебалось вскрыть каждое из них, что доказывает, что не одни лишь европейские правительства виновны в такой недостойности».
Приехал Мориама Эйноске с пачкой газет под мышкой. Сказал, что подписался на гонконгские еженедельники и сегодня получил очередные номера через Нагасаки. Это ему разрешается.
Война в Китае в полном разгаре. Видимо, будет сильная бомбардировка Кантона. Слухи, о которых сообщал Уэкава, подтверждались.
Началось из-за лорчи[78] «Арроу». Ее хозяева гонконгские китайцы подняли британский флаг и пришли в Кантон. Там полиция опознала в команде беглых преступников из Кантона. Власти Кантона их задержали. К этому придрались англичане, объявили действия кантонских властей оскорблением флага – и пошло и поехало. Китайский вице-король извинился. Но не тут-то было.
– Ужасно, если в Японии появятся такие же представители. Поэтому приходится следить... – сказал Мориама.
– За нами!
– Да, да... пожалуйста. Газеты можете оставить себе. Конфиденциально... Посэто-сама, могу сообщить... что мистер Харрис с этой же почтой получил американские и французские газеты, но ему писем не было.
«Это в крови у них – хоть на кого-нибудь надо доложить «конфиденциально». Если не про нас, так нам про американцев. А то и про своих донесут что-нибудь да нужное! Не сидеть без дела, как их приучило их же собственное правительство из самых возвышенных побуждений».
– Кажется, в Кантоне англичане устроили резню, – добавил Мориама печально. – Это нельзя узнать из прессы Гонконга. А вы знаете, что американский молодой переводчик каждое утро... в саду скачет, как козел. Очень удивительно! Ему некуда девать силы.
На корвет приехал вице-губернатор с сообщением, что прибыла ратификация из Эдо.
– Мы на днях уходим. Завтра решим, когда обмен ратификациями. Что еще сделать для вас, Таунсенд? На прощание? Что бы вы хотели? – спрашивал Константин Николаевич, заехав в храм на берегу.
– Молока! Мне нужны молочные продукты, – вскричал пьяный Харрис. – Я в отчаянье! Я жить без них не могу. Я просил, но меня не понимают.
– Уверяю вас, что молоко будет, – ответил Посьет, – я же сказал японцам.
– Ничего не сделано до сих пор.
Харрис заговорил про Боуринга, что с ним самые лучшие отношения. Достал из стола его письма и прочитал отрывки. Действительно, тон дружеский.
– Но, дорогой коммодор! На все свои причины! Сэр Джон несколько раз говорил со мной, о чем я вас предупредил. Он хочет занять японский остров Хоккайдо и этим прочно изолировать Японию от России. Уверяет, что это в наших общих интересах. Базы английского флота вблизи берегов развивающейся Сибири! Он желал знать, каким будет отношение к этому Америки... и просил меня... о содействии. Их озаботил Севастополь.
Посьет поехал из Гекусенди обратно к губернаторам.
– Что же с доставкой коровы? Разве больше не доится в Хэде адмиральская корова?
– Корова? О-о, корова! – закачал головой Накамура-сама. – Нет, кажется, не доится. Оттуда сообщили, что она погибла.
– Почему?
– Она очень распухла. Выменем. Поэтому болела. А потом, может быть, сломала ноги – и ее прирезали.
– Почему у нее могло распухнуть вымя? Разве некому было доить?
– Да. Так.
– Но там оставалась жена у нашего скотника Берзиня. Она отлично доила.
– А-а! О-о! – Накамура смешался. – Знаете, это действительно так, но... Бакуфу приказало уничтожить всякие следы близких сношений с иностранцами. И Ябадоо-сан, вероятно, сразу выполнил.
Убить корову за связь с иностранцами! Ну, до этого еще никто и нигде пока не додумался.
– Знаете, господа, – сказал Константин Николаевич, – видно, без американцев вам не обойтись в вашей истории. Если добром нельзя, то они заставят.
Накамура слушал печально и кивал головой. Как Посэто-сама не видит, что его самого обманывают?
К Ябадоо в деревню Хэда явились чиновники от губернатора. Старого самурая требовали к ответу. Прибыл русский корабль, и срочно требуется по распоряжению правительства получить от Ябадоо сведения для Америки. Прибыли Посьет и Кокоро-сан. По этому случаю все пути в Симоду из Хэды перекрыты, охраняются, нет прохода и судам и людям. Никого и никуда не пускают, но почему – об этом никому не говорят. Знать запрещено.
У старика душа замерла. Но самурай – это воин. Никогда не боится, смело идет вперед. Кокоро-сан! О-о! Неужели начнется розыск снова? Ужасное положение! Неужели? Нет, не может быть. Кокоро-сан горд и молчалив, как воин, он все знает. А кто знает – тот молчит. Если он заявит, что у него тут должен быть сын, то на этот раз не вывернешься.
Ябадоо боевым маршем самурая повел чиновников к себе домой.
– У вас корова доится?
– Нет, нет... Уже давно не доится.
– Почему?
– Да незачем. Некому есть молоко. Это противная варварская еда.
– Жаль. Нужно адмиральское молоко для американца – приказано корову послать в Симоду.
«Корову я бы отдал. Но если отдать корову и окажется, что она доится, то дать повод к обвинению в политических ошибках и розыску» – так подумал Ябадоо.
Выяснилось, что для американского консула правительство ищет дойную корову, американец старый, хотя нахал и бабник и хорошо танцует, а как известно, если старый человек хорошо танцует, это негодяй. А он – негодяй. Но без молока у него кишки плохо работают, и может быть конфликт с Америкой, у которой десять тысяч военных судов.
– Нужна дойная корова. У правительства все надежды только на Ябадоо-сан. Посьет, который тут жил и сейчас в Симоде и собирается сюда приехать вместе с Харрисом, сказал американцу, что есть у вас дойная корова.
– О-о! – Ябадоо переменился. Уже не в первый раз правительство не могло без него обойтись. Да, он поможет.
Ябадоо сказал, что старая корова зарезана, как имевшая сношения с иностранцами. Но есть еще две коровы, которые доятся. Они отелились. У них есть молоко. Я сам их раздою. Умею! Для правительства я готов.
Но на самом деле Ябадоо не убил корову, которую доил Янка Берзинь. Он очень любил это животное. Молоком этой коровы кормили любимого в семье мальчика. Это еще важней, чем западный флот и стальные машины. Если все семьи выродятся, то кто будет плавать на западных кораблях? А Япония населится корейцами и китайцами. Сам тенно поплывет! Его семья – божественного происхождения и выродиться не может.
– Также есть другие коровы. Беременные. Родятся телята, я сам раздою их для Америки. А сейчас одну подарю правительству, не жалея, для Соединенных Штатов.
– А когда это будет, как она пойдет в Симоду?
– Пока дорога перекрыта, можно дать Америке слабительного отвара из кореньев. А через два дня после отплытия Кокора-сан корова будет в Симоде. А зачем пришел Посьет?
– Нет, мы возьмем корову на наш корабль!
Ябадоо сказано под величайшим секретом!
В Симоду из России пришла шхуна «Хэда», которую строили в этой деревне. Русский император прислал в подарок тенно, сиогуну и Японии. Дар этот уже передан в Симоду. Приезжала из Эдо особая комиссия. Кавадзи к русским больше не подпускали. Никому из тех, кто с русскими знаком или встречался, к ним не разрешено даже приближаться. Даже полицейских переменили. Уэкава назначен капитаном западного корабля. «Хэда» уже стала японская. Уэкава-сан очень умело управляет и командует. Готов экипаж из молодых японцев. Все в парусине. Кокора-сан и его экипаж перейдут на другой русский корабль «Оливуца» и уходят в Китай и в Англию. Война у них закончилась, и секреты не разглашаются.
Но Ябадоо уже слыхал все это. Вся деревня знает все то, о чем велено молчать, храня секрет.
Ябадоо поклялся свято сохранять тайну. Он и корову свою отстоял, и любимого мальчика-внука не выдал и спас. Такой милый, хороший мальчик с синими глазами. В этом нет ничего плохого. А соседка-старуха стыдила и пугала хэдских девиц, показывая на морских солдат, когда они входили в деревню с пением и говорила: какая беда скоро всем девицам будет; ведь пришли морские солдаты с синими глазами.
– Какой хороший ребенок! – сказал старший губернаторский уполномоченный, увидя мальчика на руках у няньки.
– Да, это моя жена родила мне сына, – отвечал Ябадоо, подливая сакэ в чашки и подкладывая огромного живого морского рака в чашку гостя. – Уже старые мы, а какой ребенок родился! В этот год я ел морских раков, живых... Если я умру, то моего сына обещал вырастить мой третий зять Уэда Таракити, он западный инженер и герой труда на кораблестроении. Его знают в Эдо.
– А как живет Ота-сан? – спрашивал Колокольцов на закате, задержавшись с Корсаковым и переводчиком под сенью лавровишневых гигантов. Солнце садилось за холмы.
– Очень хорошо, – отвечал Мориама. – Он переехал в Эдо и открыл банк. Отделение в Осака. У него анонимные совладельцы.
– Кто же?
Мориама дернул головой кверху, улыбнулся.
Ота-сан хотел бы растить внука... Но отец ребенка очень его любит и решает воспитывать сам. У семьи богатый новый дом в Эдо. Построен для дочери Ота-сан любящим супругом.
– Для...
– Для Оюки.
– Она счастлива?
– Очень. Уже ждет второго ребенка.
– Кто же муж?
– Капитан-инженер флота Ямаока-сан. Или... Ах, кажется, я ошибся... кажется, Ямадо-сан.
В Японии очень ценятся дети. Ота-сан любит внука и говорит, что он самый лучший ребенок в Эдо; когда вырастет, то пригодится Японии. Ота-сан не уступает Ябадоо-сан в глубине человеческих чувств!
Колокольцов отправился на корвет, куда матросы только что перевезли его вещи с «Хэды». Александру Александровичу надо осмотреться, прежде чем завтра после сдачи «Хэды» переселяться совсем. Он без интереса раскрыл бумаги, разложил некоторые книги.
В дверь постучали.
– Ну что же, завтра обмен ратификаций? – спросил Римский-Корсаков. – Итак мы с вами, Александр Александрович, опять в дальнее плавание! Как говорится: два брата на медведя...
А ДВА СВОЯКА – ЗА КИСЕЛЬ
«В исходе 11 часа свезли с корвета „Оливуца“ ратификацию японских трактатов, причем салютовали 13 выстрелами.
В 1/2 1 часа в момент размена ратификаций на берегу подняли на мачте русский и японский национальные флаги, с корабля салютовано 21 выстрелом.
В 1/2 3 часа прибыли на шхуну вице-губернатор города Вакано Меосиро и командир шхуны – офицер Уэкава Деничиро, которым, по приказанию кап. I ранга Посьета, сдана шхуна.
В 5 часу прибыла японская команда на шхуну.
В 6 часов по спуске флага командир шхуны лейтенант 23 флотского экипажа Колокольцов, 4-го флотского экипажа мичман Казин и нижние чины – 1 фельдшер, 2 квартирмейстера и 16 рядовых – перешли на корвет «Оливуца».
Харрис записал в дневнике: «...Мне доставили корову, и пожилая японка доит ее после нескольких преподанных мной уроков. Вчера и сегодня я с молоком и чувствую себя гораздо лучше. Показывал японцам, как пьется молоко, и объяснил, какие молочные продукты из него вырабатываются. Они были поражены и сказали, что это для них целое открытие, что я первый в истории Японии знакомлю их с пользой молока и мои уроки не забудутся никогда, вечно будут помниться, пока сохранится любовь к Америке».
Харрис велел приготовить тогу посланника, желая сделать сегодня официальный прием.
...Римский-Корсаков искренне рад. Постоянно встречаешься, и невольно является дружеское расположение.
У Харриса пухлое, мягкое лицо с высоким лбом, с пышными, словно взбитыми усами и бакенбардами, придающими ему выражение сытости и довольства. Персона солидная, ничего не скажешь! Но и остер, умен, да и дело знает. Пухленький подбородок, красивые маленькие губы и гордый взгляд. До старости миловиден и, конечно, заботится о себе весьма. Про таких, как он, провинциальные дамы у нас говорят: «душка», «пумпончик», «котик». Он и есть котик. Но не котик, а сытый кот, котище, довольный собой, раскормленный, у него сладкий взгляд. И эти щеки в пышных, словно взбитых бакенбардах что-то уж очень знакомое по нашим министерствам.
Откуда он выброшен сюда, из каких недр, таящих многочисленные компании прожигателей жизни? Сам говорит, что из Европы в Америку и обратно переплывал Атлантический океан много раз, жил в Англии и Франции.
Выражение лица его часто меняется. Он вдруг бывает обидчив и тогда словно хочет сказать: «Что? Как это вы обо мне понимаете, па-азвольте?» Глаза принимают злое выражение. Начинает нервно, брюзжа, но не теряя важности, доказывать, что-то, вроде того, что он посланник, а не консул, но что японские крючкотворы стоят на букве, уверяют, что по договору, заключенному Перри, обязались принимать только консулов, а не послов. Но обычно Харрис приветлив и любезничает, любит кутежи, смех, анекдоты, а тучная осанистая фигура трясется от восторга и самодовольства. При этом он все слышит и замечает, и, когда надо, они с Посьетом умеют сообщать друг другу что-то важное. Харрис бывает так мил, весел, радушен, что веришь, что он в Париже в самых дорогих ресторанах ходил в таком же расположении духа, в тоге посланника, от столика к столику, обнимая и целуя женщин и приводя в восторг публику.
Все бумаги были составлены и переданы друг другу. Письма написаны. Все проверено, и обо всем уговорились. Посьет сказал, что сегодня японцы прислали на корвет еще восемь ящиков подарков для Петербурга.
На прощанье Таунсенд Харрис сказал Воину Андреевичу:
– Так дайте мне слово не стать в Макао моим соперником, мой good-looking captain? Ха-ха-ха-ха-ха!.. Только при этом условии я даю вам мои наилучшие рекомендации.
Жали руки и обнимались.
– А вы со своим консулом в Хакодате оберегайте остров Хоккайдо от диких претензий гонконгских агрессоров! – говорил американец Посьету и попросил позволения на прощание поцеловать его.
Вечером Римский-Корсаков проверял записи в своем журнале, как в дар переданы орудия погибшего фрегата «Диана» японскому правительству.
«...Из них весной прошлого года шесть пушек взяли на шхуну «Хэда», когда она уходила из Японии на Камчатку. Вся остальная артиллерия сложена была рядами близ берега реки. Выстроены два караула, наш и японский. При передаче сказали несколько торжественных слов, подняли на мачтах флаги: наш и японский.
Пушки теперь принадлежат Японии. Они понимают, что орудия не новейшие, но еще не снятые с вооружения на всех западных флотах. Им все хорошо известно. Они очень нужны им».
Утро. Ветер свежий, с сильными порывами, малооблачно. Температура +10. На рейде рядом с «Оливуцей» японские военные корабли: «Хэда» и «Камидзаваката». В начале девятого часа поднят якорь, и на буксире японских лодок корвет стал выходить из бухты Симода.
Александр Колокольцов теперь уже не командует судном. Смотрит на знакомую крышу храма Гекусенди, как при свежем ветре с моря на ней заполаскивало огромное звездное полотнище. Опять думалось, что он не командир шхуны, оставил тут «Хэду», которую любил, которую строил, и вообще простился со всем и всеми навеки, навсегда...
...По раздумью, на досуге, Накамура глубоко опечалился. «С американцами будет еще хуже, чем с русскими. Неужели нам со временем придется готовиться к беспощадной войне с Россией, если даже этого не хотим? Опять учить детей бесстрашию, заставлять мальчиков смотреть на казни, а потом дома давать им вишневый густой напиток цвета крови, чтобы не боялись убивать и рубить головы. Трудно будет внушить японцам, что Путятин и Яся были ему врагами! Но ведь это знают лишь в Хэде и Симоде. Ну, может быть, еще узнают через Нарояма и Матсузаки, в Хэду Посьет пешком ходил через горы вместе с Харрисом. Посьет показал американцу корову, которую доили матросы Путятина. Знают в соседних селениях. А вся огромная Япония не знает! Ее нельзя превратить во французскую армию, которая сражается под Малаховым за Англию. Посьет и американец хотели посмотреть доки в Хэде, но их отвлекли...»
Мориама Эйноске стал сам американцем. Он согласен с правительством: будущее Японии в дружбе с Америкой. Действовать как американцы! Жить сытно, красиво. Но американцы имеют рабов – негров, как рабочий скот. И русские еще хуже, держат в рабстве свой народ. А сами у нас такие хорошие! Американцы достигают прогресса, уничтожая китайцев! Это деловое развитие – уничтожить народ, который жил прежде на хорошей земле. Если не уничтожать людей, то и нет прогресса! Так уверяет Мориама. Вот что думает японец, познакомившийся с западными представлениями!
Мориама явился и доложил, что Харрис опять требует себе в жены девушку Кити из бедной семьи. Он ее видел два раза. Он пьет молоко и от этого чувствует себя опять молодым, крепче. Она была неосторожна, улыбнулась ему в ответ на его улыбку. Теперь он требует – дайте мне Кити!
– Это мое право! – кричал Харрис, расхаживая по террасе храма Гекусенди. Чиновники города Симода слушали его почтительно. – Посьет мне все открыл!
«Но Посьет никогда и ничего не говорил прямо, – подумал молодой Хьюскен, переводя требования консула, – хотя коммодор нечисто говорил о женщинах».
– Я еще исправлю договор Перри! Я дополню его особым соглашением!
– У нее есть жених! – возразил сельский голова Иохэй.
– Пусть! Какое мне дело? Для Америки все можно!
– Она очень бедна, но нужно согласие матери.
– Тем более если бедна, то легко ее заставить. Это будет благотворительность.
Долго шли споры. Поговорив между собой, японцы решили уступить. За счет городского управления девушку одели почище. Ее жениху, плотнику, полицейские сказали, чтобы не смел подходить к невесте и забыл про нее.
Кити стали звать Окити. В паланкине ее отнесли в храм Гекусенди.
«Она! Она моя! – Харрис был в восторге. – Как рабыня!» Он поторопился это доказать... Вперед, Америка! Жених у нее плотник? Нищий мальчик? Не он ли в числе хэдских плотников строил шхуну Колокольцова? Ах, говорят, что во время цунами Окити унесла свою мать на спине в горы, чтобы спасти от гибели. Но зато у нее будут деньги! Ей не придется делать тяжелую работу.
– Ты полюбишь меня? Да? Деньги? Любовь? Я?
– Да, да! – с покорной улыбкой отвечала Окити и кланялась.
«Чем я сейчас занимаюсь? Я не только консул Америки, но и представитель Парижа, где я смолоду, еще имея торговый дом, бывал часто и там же лечился. И теперь можно проверить, здоров ли. Поэтому у меня нет семьи и детей».
Через два дня Окити уходила, почтительно кланяясь. Ей от городского управления подан паланкин. Чиновники немедленно послали за доктором.
Харрис козырем ходил по террасе.
– Америка – богатая и сильная. Не такая богатая, как Англия, но будет еще богаче, – твердил Харрис, беседуя с Накамурой в Управлении. – И что вы? Что Россия? Вы видели, как они испугались. Я потребовал с них шлюпку – и сразу отдали.
«Американцы когда-нибудь на всей Японии оставят такие же ссадины и царапины, как на теле Окити», – печально думал Накамура, узнав от врача нездоровье девушки.
– Заходите, Эйноске-сан, заходите, заходите. Всегда рады вас видеть!
Эйноске теперь в чине. Он один из важных мецке[79]. Старый переводчик, похожий на боксера, смолоду участник пыток европейцев, попадавших в Японию. Теперь Мориама Эйноске любит виски. Пришедшие с ним городские чиновники сегодня принимают благодарность от Харриса.
– Вы знаете, я вспомнил, – заговорил Мориама, – что русские, когда жили здесь, то пекли хлеб. Вы могли бы делать то же сами. Вам надо постараться, мистер Харрис, и научить Японию употреблять хлеб. Вы могли бы этим прославиться.
Мориама свободно говорит по-английски.
– Я не пеку хлеб.
– Но у вас на кухне китайцы делают западные булки, сладкие и... и... наверно, кислые, как русские тоже...
– Да, да! И кислые!
– Мы полюбили Америку! – говорил пришедший с переводчиком сельский староста Хамада Иохэй.
– А вы объявите об этом в Америке? Да, да! Вы, пожалуйста, помните, что мы подали первый пример употребления молока.
– Да. Мы поставим памятник в знак благодарности вам и этого события в жизни нашей страны! – нашелся Мориама Эйноске. – Нам нравится, что американцы очень смелые...
«Все равно все начинания в Японии будут мои!» – подумал Харрис, уходя во внутренние комнаты, чтобы что-то записать, и оставляя Хюскена с гостями.
Компания чиновников и переводчиков, подвыпив в Гекусенди, отправилась восвояси[80].
В городе Симода есть публичные дома. Временные связи моряков с женщинами известны и обычны. Так велось издревле. Но все говорят, что Харрис груб. Русские с женщинами были деликатны. Американец делает все нахрапом.
– Каждый русский матрос был более светским человеком, чем консул Америки мистер Харрис, – обращаясь к своим товарищам, стал объяснять Мориама. – Вся Симода говорит об этом.
– Ведь русские были молодыми, – сказал сельский голова.
– Я узнавал у советника Управления западных приемов! – со смехом продолжал пьяный Мориама. – То есть у содержательницы публичного дома.
– Что она сказала?
– Что японские старики такие же.
Городской голова смутился. А пьяные чиновники хохотали громче, стараясь походить на американцев.
Харрис теперь спокойней. Он много думает о государственных делах. Со временем Америке предстоит встреча с опасным противником на Тихом океане. Он записал:
«В будущем здесь в конфликт придут между собой две величайшие силы в мире: демократизм и американское свободолюбие столкнутся с русской тиранией...»[81]
На «Оливуце», шедшей при ровном пассате к югу в Китайском море, тоже говорили в этот вечер о демократии и тирании.
Колокольцов дал понять Константину Николаевичу, что Харрис все же не производит приятного впечатления и полного доверия не заслуживает.
– Мы не в первый раз встречаем американцев и много видели прекрасных людей. В Европе считается, что в Америке самый справедливый демократический строй, лучшие умы Европы видят в заокеанской стране новый мир во всех отношениях, при такой демократической форме правления, когда каждая деревушка сама решает все свои дела и сама выбирает себе власть, а не прозябает согбенная перед столицей, перед полицией и помещиком с розгами. Почему же являются тогда личности, спекулирующие демократизмом, приспособившиеся к нему хищники?
– Харрис свое дело делает. Они практики. У них нельзя учиться, но их надо знать, – отвечал Посьет.
Воин Андреевич полагал, что все зависит от личности, и стал развивать свои мысли о воспитании. Он воспитывал брата Колю письмами. Матросов и молодых офицеров примером. Он гневен и готов к дуэли с Никольсеном и готов держать за это ответ, согласен рискнуть всей своей карьерой.
Колокольцов напомнил про Сибирцева, как он заметил однажды, что истинные христиане не в Ватикане и не в Испании, а в таких странах, как Япония и Китай, где христианство карается.
– Точно так же демократы являются там, где идеи демократии запрещены, отрицаются, где самовластье грозно давит на личность. Поэтому очень часто мы видим неприятное удивление американцев, когда наши офицеры и матросы выглядят благородней, честней и образованней.
Константин Николаевич полагал, что дело не в устройстве общества, а в породе человека. Есть люди, которые всегда благородны, умелы, им все дается. Они и воины, инженеры, мыслители. Они до конца доводят всякое дело. И не обязательно такие люди должны быть аристократами. Они есть и в простом народе. Таким может быть пахарь, матрос, рабочий, пригоден ко всему и всегда ценен.
После этой войны и тяжелых плаваний все офицеры, возвратившись в Петербург, конечно, выйдут в люди. Колокольцову быть на доках, на заводе и не последней спицей в колеснице. Римский думает о других больше, чем о себе. Ему учить флотских офицеров. Дорога будет открыта перед каждым. И каждый из них много еще свершит и в тяжелых условиях. А мы уступили во многом Харрису. Он присвоит теперь все, что мы начали. Но у нас дела другие. Их по горло. Надо строить железную дорогу через Сибирь.
Посьет раскусил Таунсенда Харриса. Платил ему полезными сведениями. И шлюпку подарил. Подарил корову.
Колокольцову хотелось бы оставить его без шлюпки и без коровы. Как бы он выглядел? Смешно и жалко! Но в представителе Штатов хотел бы Посьет видеть надежного союзника. Если не Харрис, то кто-нибудь другой! А пока Харрис будет хвалить нас, как людей воспитанных, которых он вокруг носа обвел!
РЕКА ПЕРЛОВ
Потомок завоевателей проповедует мир, в то время как член Общества мира проповедует стрельбу калеными ядрами; Дерби клеймит действия британского флота, как «позорные поступки» и «бесславные операции», между тем как Боуринг по случаю этого трусливого насилья, не встретившего никакого сопротивления, поздравляет флот с «его блестящими достижениями, беспримерной храбростью и превосходным соединением военного искусства с доблестью». Эти контрасты представляли собой тем более острую сатиру, чем менее граф Дерби, казалось, сознавал их... Во всей парламентской истории Англии, пожалуй, никогда еще не было примера подобной интеллектуальной победы аристократа над выскочкой... ...Я привожу слова самого лорда: «Я не хочу говорить что-либо неуважительное о д-ре Боуринге. Возможно, что он человек с большими достоинствами; но мне кажется, что вопрос о допущении его в Кантон стал у него буквально манией. (Возгласы одобрения и смех.) Я уверен, что он и во сне и наяву видит свое вступление в Кантон...
...Кроме опубликованных документов, должны существовать секретные документы и секретные инструкции, которые могли бы показать, что если д-р Боуринг и был одержим «манией» вступления в Кантон, то за его спиной стоял хладнокровный глава Уайтхолла, поощрявший эту манию и в своих собственных целях раздувший ее из уголька во всепожирающее пламя.
В Гонконге, где все привыкли к картинной красоте своих солдат и моряков, с транспортных кораблей в тяжелый, сумрачный день с дождем и ветром сходили колонны бесцветных бородатых солдат. Это труженики войны – севастопольские братья. После окончания войны из Крыма их отправляли в Китай. Заросшие еще в Балаклаве, в длинных шинелях, полы которых подоткнуты по-русски за ремни. Понюхали пороха и побывали в рукопашных, постоянно рыли могилы и работали, проводя железную дорогу от Балаклавы почти до самого рокового Редана. Товарищей хоронили не столько от пуль и бомб, сколько от чумы, холеры, дизентерии, привезенных на позиции турками. Все узнали за годы войны, что такое полевые военные госпитали. Они, наемники, не требовали излишнего комфорта или развлечений. Они и не знают, что за прелесть китайские деликатесы и потехи, но к их услугам в городе открыт солдатский клуб, который по имени старинной игры в шары назван поистине народным названием Pall Mall.
Так Гонконг представал перед ними в ветрах и туманах, в осенней холодной сырости. Встречавший молоденький долговязый и жизнерадостный военный корреспондент газеты «Таймс» даже сказал весело: «Не правда ли, стоило ли ради того же самого плыть за десять тысяч миль!»
По набережной Гонконга, держа ногу, прошел батальон в конических шляпах и крепких дабовых[82] штанах и халатах, в ремнях и с золочеными надписями на широких лентах во всю грудь наискось: «милитери сервис». У некоторых из них есть ружья. Эти «военнослужащие» предназначены для перетаскивания тяжестей, рытья укреплений, для подноски еды для солдат, патронов, ядер и бомб для пушек и для всех тяжелых работ. Между собой офицеры их называют «кули». Через несколько дней их грузили на суда вперемешку с морской пехотой, с артиллерией, с севастопольскими братьями и сипаями из Индии и с афганцами. На пароходы, на парусные корабли, на баржи, которые тянулись за дымящимися буксирами. Пошли китайские джонки под оранжевыми и желтыми парусами с изображениями иероглифов победы и драконов, с огромными глазами рыб и морских чудовищ на носах и кормах, и с британскими флагами на мачтах. С командами из китайцев под начальством ласкаров и британцев.
Вся эта масса кораблей, выйдя из извилистого пролива, служившего отличной бухтой Гонконгу, направилась, минуя несколько мелких островков, через огромное, подобное морскому заливу устье реки Сицзян, или Кантон-ривер. На морской карте расходящиеся берега этого устья, или лимана, удивительно похожи на гигантскую, оскаленную в ярости пасть тигра. Этот китайский тигр извечно хочет загрызть и поглотить флоты морских пришельцев. Португальцы, первые объявившие миру о том, что они тут, так и назвали этот залив: Восса tigris – Пасть тигра. На оконечности правого берега, или верхней челюсти этой пасти, как украшение, воткнутое в губу, поместился Макао. А на нижней челюсти, тоже у самого кончика, – остров Гонконг.
Гонконг и Макао вместе стремились создать невидимый бугель, которому не страшны волны и скалистые зубы Восса tigris. Этим бугелем зажаты, как наборные части мачты, все многочисленные входы и выходы в протоки Кантонской реки.
Флот двинулся в реку Жемчужную – левую протоку реки Сицзян. Жемчужная глубоководна, широка, знаменита тем, что на ней издревле происходили все стычки и сражения с пришельцами из-за морей, начинались и продолжаются до сих пор международные торговые отношения. Кантон известная приманка для всех купцов и морских разбойников. А за последние годы иностранцы так укоренились по островам и на реке, что напротив Кантона, пониже по течению, ими построен глубоководный порт и даже доки в местечке Вампоа, которое разрослось и обстроилось прочными и красивыми на вид, всегда хорошо покрашенными, новенькими, как на картинках, зданиями европейского типа. Жемчужной название дано тружениками реки, ищущими в ее русле раковины с драгоценными наростами, идущими на украшения костюмов, шапочек-«дынек» и на наряды женщин. Европейцы понимают в ином, более близком для них значении название Pearl river – Река перлов.
Они расширяли и углубляли, нагружали все больше эту главную и драгоценную артерию торговли и экзотики, на которой теперь происходило небывалое столкновение.
Любознательные, практичные китайцы искренне, постоянно с внешним спокойствием и пренебрежением, но жадно стремились узнать, что произведено в западных странах. Перлы со всего мира шли по Жемчужной вверх, а вниз по этой же великой артерии – богатства Китая, его всевозможные изделия, а не только шелка, фарфор и ажурное золото растекались по всему миру, пробуждая в народах всех стран не меньшее, чем у китайцев, любопытство к новинкам. Гонконг и Макао стали двумя тяжкими кольцами на губах Тигровой пасти. Но ее нельзя было застегнуть замком. Река так и не смогла оказаться зажатой западным бугелем бизнеса. Не было и нет сил на свете, в том числе и в самой столице Китая, как и на «снежной голове» Гонконга, которые смогли бы приглушить движение жизнеспособного и деятельного народа Поднебесной. Но европейцы и американцы не менее жизнеспособны и деятельны. Аппетиты росли с обеих сторон, и те, кто больше всего преуспевал, больше всего стремились к конфликту и к пролитию крови, как бы веря, что защищают справедливость.
...Пальба с парохода «Барракута» по Кантону была зажигающей и разрушительной, но это лишь первые сигналы к началу общих действий.
Флоты мелкосидящих судов местной постройки тянулись на буксирах за речными пароходами или подходили на парусах и скапливались массой с разноцветными десантами всех родов войск.
Вспыхнули борта стоящих в отдалении больших кораблей, начался барабанный огонь фрегата «Пик», как всегда, под командованием Никольсена. Пальба слышна на реке ниже Кантона.
Коммодор Чарльз Эллиот с отрядом винтовых судов, вернувшихся из Сибири, бомбардирует в упор каменные и глинобитные форты китайской крепости, построенной под крутым обрывом высокой каменной сопки на том же левом берегу, что и Кантон. Капитан Каллаган прекрасно действует на фрегате «Сибилл».
Китайские купцы превратили свои магазины в больших городах Китая в райские уголки, изобилующие самыми прекрасными произведениями, привезенными из стран варваров. Но реку охраняли все те же старосветские полутысячелетней давности форты, издали похожие на длинные двухэтажные и одноэтажные казармы, протянутые под скалами по узкой полосе берега и вооруженные не только чугунными, но и деревянными пушками, которые дают сокрушительнейший выстрел, но единственный, так как сами от него рвут обручи на своих стволах и приходят в негодность.
Защитникам такого форта под градом бомб и ядер деться некуда. Они поставлены, чтобы обнаружить стойкость и готовность умереть. Их узкая старомодная крепость между водой и высочайшим обрывом как бы нарочно для того, чтобы был расстрелян ее гарнизон; никому и некуда спастись.
Бьют корабли «Сибилл», «Винчестер», «Медуза», «Монарх». Множество труб и мачт.
В минувшее лето пароход «Барракута» был с эскадрой на описи побережья Амура. Начали с северных гаваней. «Барракута» на буксире ввела фрегат «Пик» в Императорскую гавань.
Десантные партии собирали ревень. Матросы чистили и ели его тут же, вспоминая абрикосы, бананы и виноград. К их удивлению, в лесу рос и виноград. Странное место!
Говорят, что каким бы созидателем ни был человек, но он особенно любит разрушать. Поджигали факелами. Деревянные дома и казармы загорелись. Фрегат «Паллада» затоплен был самими русскими тут же, в главной гавани, вблизи входа. Шлюпки ходили на опись. Нанесли на карту и промерили все пять бухт Императорской гавани и переименовали ее в залив Барракута.
...До корейской границы от устья Амура в эту навигацию все описано. Лучшая из гаваней найдена не на юге, а на севере и названа порт Сеймур, по имени командующего эскадрой, принимавшего участие в этом деле. Имена многих офицеров, в том числе и штурмана, даны другим бухтам...
...С рейда длинные орудия «Барракуты» бьют уже в застенный Кантон, зажигая город бомбами и калеными ядрами. В этом людском муравейнике все приходит в движение. Повалил дым, как при лесном пожаре. Плавучий город рыбаков, перевозчиков и нищих расплылся во все стороны еще за несколько дней до начала битвы. Берега и пристани на виду, обнажены, на них с бортов пароходов и лодок уже перекинуты трапы и неторопливо сходят заросшие бородами крымские солдаты с отличиями на одежде. Сходят и белокурые молодцы в красных мундирах. Сходят и снова возвращаются и снова сходят проворные «милитери сервис», перенося на берег тяжелые грузы на плечах. Тут же чалмы афганцев. Тут же картинные ласкары и сипаи.
Грохот артиллерийской канонады удваивается. Пальбу поддерживает французская эскадра: «Сибилл» – тоже винтовой, «Константин» и «Облигадо».
По трапам на берег Китая идут французские стрелки из Алжира и стрелки из Крыма, герои Малахова кургана. Они в кепи и голубых шинелях, все с усами и бородами а-ля император.
Кантон горит.
Но иногда со стен города раздаются сильные выстрелы из современных орудий и бомбы, настоящие бомбы, какие у Свеаборга и Кронштадта летели на суда к Дундасу и Сеймуру, прилетают и здесь на борта кораблей союзников. Это перлы не китайского происхождения. Но вскоре стрельба из современных нарезных орудий прекратилась. Можно понять, что китайцы их, как заграничную драгоценность, постарались увезти куда-то далеко, предвидя падение города или просто жалели стрелять из хороших пушек.
Артиллерия союзников заканчивает уничтожение всех фортов противника, выдвинутых вперед на подходах к Кантону на обоих берегах реки. Их стены в брешах, легли грудами камни и глина.
Майкл Сеймур, сумрачный, как всегда, сходит в черной повязке и плаще с огромного военного парохода «Калькутта» на плоскодонное винтовое судно.
Идет в пекло морского боя.
На мачтах судов появились новые сигналы. Сотни пушек заговорили теперь во всю глотку. Все корабли дружно переносят огонь на цели в застенном городе.
Красные ряды морской пехоты, голубые ряды французов тронулись. Бесстрашные севастопольцы идут впереди. В рядах, с ними вперемешку, услужливые трудящиеся наемники «милитери сервис». Атака начинается. Посмотрим, как встретят ее маньчжурские и монгольские воины богдыхана!
...В июле и августе Майкл Сеймур побывал на описи Приморья, куда стремились еще Стирлинг и французский адмирал.
Надо решать, что делать дальше. Если Боурингу разрешать занять северный остров Японии, то порт Сеймур и Хакодате сохранят морские пути торговых держав в неприкосновенности. Дела подобного рода решаются в Лондоне. После тяжкой войны и такой кровью достигнутой победы могущественный Пальмерстон осторожен. Начинать новую войну с Россией для Англии равнозначно потере второго глаза для сэра Майкла.
Обдумать и представить замечания и документы он обязан. Сеймур остается сторонником оттеснения казаков, закрытия им выходов, занятия гаваней, хотя бы самых северных. Именно поэтому Сеймур согласился назвать самую нужную, по его мнению, гавань Приморья своим именем. Выдвинутая на север, она будет форпостом против тиранических казаков. Этим она удобна. В то же время очень хороша как гавань. Казаки зовут ее «Ольга».
В сентябре флот вернулся в Гонконг. Южные гавани на прибрежье Приморья пока не имеют цены для Сеймура, он полагает, что флоту нужна база северней для сдерживания потенциального неприятеля.
Но в октябре произошел инцидент с лорчей «Арроу», ставший известным во всем мире, и сейчас уже не до Приморья и не до открытий на берегах Сибири. При всем военном бессилье, Китай всегда останется опасным противником, и спокойной может оставаться около него лишь такая страна, которая сохранит многолюдье, подобное Китаю, и разовьет в своем народе практицизм, подобный китайскому.
К войне с Китаем шло давно. Глупо винить лишь англичан за раздувание инцидента с лорчей «Арроу». Китайцы сами подали повод и первый знак ненависти в феврале, убив католического миссионера. И уже тогда были посланы в Париж и Лондон просьбы о присылке в китайские моря героев Редана и Малахова.
Адмиралу понравился залив из двух уходящих в горы бухт, соединенных узким глубоководным проливом. Сравнительно небольшие бухты. Сначала входишь с моря в одну, а потом оказывается, что между холмов в лесах скрывается другая. Решили, что это лучшая гавань на побережье Приморья. Ее-то и назвали порт Сеймур. Но смеем ли мы ввязываться в войну, подобную Севастопольской? Даже могущественная колониальная держава ради своего будущего и большой политики должна уметь уступать. При всем умении и быстроте, с каким совершена опись Приморья, нанесены на карту роскошные архипелаги принца Альберта и императрицы Евгении, заливы Виктории и Наполеона III, все это вряд ли поведет к чему-то решающему. Вряд ли там будет колония в климате, напоминающем родную и милую европейскую природу. Но с гораздо большей роскошью растительного мира.
Русским помогли жертвы, которые приносят сейчас китайцы под потоками наших бомб и ядер. Китайцы, кажется, нелепо жертвуя, защищают невольно их интересы, отвлекая нас. Известно, что в Китае выражалось чувство глубокой благодарности Муравьеву после того, как произошла битва на Камчатке.
Сеймур – воин, видел кровь, бывал в боях. Он продиктует свои условия кантонскому вице-королю, маршалу Е. Он, сидя в храме за столом, беспощадным взглядом укажет прибывшей с повинной китайской делегации место и ее униженное положение. Дело есть дело.
Но Сеймуру в глубине души не очень-то нравится после Свеаборга, Севастополя и Кронштадта сражение хорошего современного флота против беззащитного города, где детей и женщин в десятки раз больше, чем солдат и в десятки тысяч раз больше, чем палачей и мандаринов.
Но не только англичане повинны в ужасных зверствах. Чарльз Эллиот прав, когда утверждает, что мандарины, избегая боя и спасая себя и свою политическую опору в лице единственно надежных маньчжурских войск, уходят, а под пули, бомбы с наших кораблей и под штыки озверевших и теряющих человеческий облик героев Севастополя ставят невинное, мирное население с женщинами и детьми, не имеющее никакого отношения к политике маньчжур и проклинающее их иго.
ПРОЩАНИЕ С МАКАО
Я люблю остатки красоты больше, чем саму красоту...
Решено не идти в Гонконг. Зайти нейтральному судну в порт воюющей державы не возбраняется, но все же лучше подальше от них. Да и при встрече с Никольсеном, как еще надеется капитан корвета «Оливуца» Воин Андреевич Римский-Корсаков, если решаться на скандал и ломку карьеры, свободней будешь себя чувствовать.
Все же надо признаться, что без ремонта в Гонконге или Вампоа перед дальним плаванием не обойдешься. Но, кроме того, дел тысяча, деньги надо в банке получать и деньги надо уплатить поверенным Харриса, в контору Армстронга и Лоуренса.
Посьет решает при первой возможности срочно отправляться с почтовым пароходом в Европу. Плавание на «Оливуце» для него заканчивается. Он должен будет в Макао «подготовить почву» для приезда в будущем году нашего посланника Евфимия Васильевича Путятина, которого назначают, по всем признакам, уполномоченным в Китай для ведения переговоров обо всех делах, в том числе и о границе. Если весной китайцы не пропустят из Иркутска через Монголию в Пекин, то придется ему плыть.
Теперь у Муравьева в Николаевске-на-Амуре есть превосходный пароход «Америка», купленный, точнее заказанный, Казакевичем в Штатах и пришедший в его распоряжение. Петр Васильевич Казакевич, возвратившись из Америки, назначен губернатором Амурского края в Николаевск, где ему придется продолжать все дела, начатые с американцами в их стране, и полученными от них судами распоряжаться и командовать эскадрой.
Пароход «Америка» хорош, машина новая и сильная. При ней нанятые в Штатах два механика-американца, хотя и не гарантия все это! Харрис рассказывал Посьету, какие безобразия в американском флоте, как машины плохи. Он сам плыл в Сиам на американском винтовом пароходе «Сан Яцинто». Уверял, что это первый винтовой пароход, как он называет: с «пропеллером», то есть с винтом, для плаваний через океан, построенный в Америке. И что он первый, кто на такой новинке проплыл Атлантический, Индийский океаны, Китайское и другие моря. А наша «Америка» колесное судно и сошла со стапелей раньше, чем «Сан Яцинто». Но дело не в том, кто первый на заокеанских доках заказал новинку. А в том, что Харрис ругается, вспоминая, что за проклятая машина у этого «Сан Яцинто», сколько раз она ломалась. И в Сиаме, и в Китае. И в Японию опоздали. Все время ее чинили и дошли под парусами. А исправляли ее не в Гонконге, а в Китае, в Вампоа – глубоководном порту Кантона, где, видно, хорош док. Что же нам все свое бранить, будто мы машины делать не умеем. «Аргунь», построенная в Забайкалье, не может в большую воду выгрести против течения в верховья Амура. А у «Надежды» машина испортилась, и мы вели ее как бурлаки, с лямками шли по берегу, затягивая «Дубинушку», чтобы не стосковаться. Машина есть машина! Зачем же самих себя унижать, будто ничего не умеем. Надо будет – и проведем железную дорогу через всю Сибирь!
Надо в Макао так устроить дела, чтобы Путятин, если явится, почувствовал бы себя удобно. У Посьета в Макао приятели и знакомые. Письмами Харриса придется воспользоваться.
Посьет спешит в Россию. Надо Горчакова поставить в известность о том, что намереваются предпринять Боуринг и Сеймур в отношении Хоккайдо и Приморья. Жаль, что трудно, верно, будет узнать подробности описей бухт Приморья, совершенных их флотом. Но попытаться надо, хотя времени нет. И нет офицера, которого можно было бы тут оставить. Все рвутся домой.
Но главное, с чем надо спешить в Петербург, – ратификация. И, конечно, надоело тут все до невероятия, до смерти, пора домой, в Европу! Только при обязательности Посьета и при качествах его характера, при его выучке, он все исполнил точно, терпеливо и не торопясь. Но и опротивело все!
В первую очередь письма к американцам Дринкеру в Макао и Армстронгу в Гонконге. Посьет, как и Корсаков, надеется также на португальцев, говорят, новый их губернатор, назначенный из Лиссабона, хочет восстановить престиж и значение колонии, будто бы привлекая американцев. Португальцы сами одряхлели будто бы, частью вымерли или смешались с китайцами. Хьюскен уверяет, что почти все население Макао состоит из метисов, малайцев и китайцев и от обоих народов от предков не унаследовали достоинств, а только пороки. Но, как знал Посьет, португальцы весьма честны и порядочны, а главное, как и американцы, не любят хозяев Гонконга. У янки даже есть заповедь: «Верить в бога и ненавидеть Англию». Путятину лучше будет в Макао не из английских рук смотреть на Китай.
«А что ждет нас в Петербурге? – думал тем временем грустный Колокольцов. – Согласятся ли там исполнять то, что нам надо на Тихом океане? Обрадуются ли нашим успехам? Горчаков человек дела, друг Пушкина и когда-то его единомышленник. А остальные? Еще нельзя отделаться от наших сытых, блудливых старичков, «играющих в ордена, ленты и звезды». Правительства так и не удается обновить. Все еще не могут освободить крестьян, хотя уж и сами «блудливые старички» понимают, что избежать этого не удастся. И теперь уж только хотят при реформе урвать себе выгод побольше!» С такими новостями уехал Александр Колокольцов из Петербурга и теперь к ним же возвратится. Хотя еще не скоро все это будет и если дойдут благополучно.
Воин Андреевич Римский-Корсаков думает о своем: «Макао от Гонконга близко, сорок миль через Бокка Тигрис, узнаем все, где, почему и какие события. У Константина Николаевича голова уже в Европе. А нам – на ремонт. Закупки делать. Списки составлены, дорого все или дешево, а денег уйдет тут много. Обращаться придется к американским фирмам. В Гонконге все это проще было бы на судно доставлять. Но в Макао нам лучше. Никому глаза не мозолить и о наших делах в Японии не докладывать.
Но каковы японцы! Закрытая страна была, когда три с половиной года тому назад впервые увидели ее берега, явившись на эскадре Путятина. А теперь раньше нас узнают о событиях в мире. Следят за тем, что происходит в Китае, их беспокоит, не хотят себе такой же судьбы, как у Поднебесной».
Макао открылось. Торжественно смотрят ввысь сдвоенные стрельчатые башни старинных католических соборов. Видны крепостные стены, форты... Каменное распятие у входа в гавань.
Посьет живо снесся с Дринкерами, а через два часа, после того как бросили якорь, съехал на берег.
...Римский-Корсаков уже забывает о Никольсене. Не удержался, от чего его полушутя предостерегал Харрис.
Какая прелесть эта Катти Дринкер!
Когда ей представили Воина Андреевича, спросила с удивлением, как бы не расслышав имени:
– Вы не брат Сибирцева?
– Я – Римский-Корсаков!
– Вы... не Сибирцев?
Предложила сыграть в шахматы. Обыграла Корсакова. Сказала, что в Гонконге все знают Сибирцева Его любят там. Вы понимаете? Алексей Сибирцев, you see?[83] Желала бы его видеть! Тяжко заболел в плавании, был при смерти, он поправился на Капском мысу, стал еще мужественней и красивей. Слухи о его гибели ложны.
И это девочка в 15 лет! Впрочем, кажется, ей уже 16. В этом возрасте и в Америке, и у нас замуж выдают.
Португальский губернатор в прекрасном дворце с тенистыми деревьями вокруг принял Посьета, Корсакова и офицеров в зале с красными занавесами, с колоннадой и полами из розового мрамора.
Узнав, что «Оливуцу» желательно исправлять не на английских доках, предложили сделать ремонт на соседнем островке, входящем в состав территории Макао. Там есть умелые рабочие и все нужные приспособления.
Макао и Гонконг это больше не кролик и удав. Прежние португальские губернаторы, как загипнотизированные, смотрели на своего соседа на другой стороне Пасти Тигра. Дон Хуан Антонио де Кастелинно намерен все привести в порядок в колонии, для этого привлекает не только оставшихся у дел португальцев, но и американцев. Сэндвич Дринкер – его лучший друг и частый гость.
Бал во дворце в честь русских гостей с испанским блеском. Воин танцевал с Катти. Рано развившаяся, выросшая в португальской колонии...
В Гонконг утром уходили на шлюпке, приготовясь с вечера, как к дальнему вояжу.
Были в банке. Армстронгу отдали долг. Заказали у него же все, что надо для плавания.
Армстронг закажет каюту для Посьета на почтовый пароход, идущий в Египет, с оплатой проезда через пустыни и города – в порт Сайд и оттуда в Неаполь через Средиземное море. Каюта будет, Посьет может сесть в Гонконге. Но еще проще – в Макао. Все почтовые пароходы отдают честь португальскому флагу и бросают якорь на рейде Макао.
В Гонконге узнали, что Сибирцев ходил в Кантон с разрешения губернатора. Что он принят был в доме сэра Джона Боуринга. Что Гошкевич читал англичанам доклад во время войны. За поездку в Кантон Сибирцев попал под арест. Как и все его товарищи, был в хороших отношениях с американским банкиром Сайлесом, у которого дела недавно пошатнулись. Сайлес знает о Сибирцеве все подробности, и с ним советовали увидеться, но банкир в отлучке, ушел в Нагасаки.
Когда-нибудь еще увидимся, полагал Посьет. Корсаков и Ельчанинов решили сходить на пароходе в Кантон. Дринкер предложил им свои услуги. У Дринкера три прекрасных паровых пассажирских парохода опять ходят по Кантонской реке. Рейсы возобновлены.
Римский-Корсаков явно влюблен в Катти Дринкер. И она, кажется, увлечена. Воин Андреевич больше уже не упоминает Фредерика Никольсена, забыл про свое желание вызвать его на дуэль. Вот как изменяются благородные намерения, когда молодой блестящий моряк испытывает увлечение.
Странно, что в Гонконге все помнят Сибирцева, спрашивают о нем и рассказывают. Чем он на себя внимание обратил? Неглуп и практичен, как американец.
Посьет простился с доном Хуаном де Кастелинно, с Дринкерами.
Хьюскен называл Макао – «tomb», то есть гробница, надгробный памятник. Говорил, что тут все в разрухе, все валится.
Правда, чувствуется некоторый застой в торговле. Многих товаров нет. Нельзя сухарей и риса запасти. Римский-Корсаков заказал в Гонконге.
Гонконг перебивал торговлю у португальцев, но еще не съел Макао, хотя, видимо, много соков высосал. Великий торговый путь идет теперь не через Макао. Новый губернатор все это понимает. Португальцы хотят взяться за дело, идет постройка новых складов. Макао далеко не «томб», а прекрасный, удивительный городок. Гостеприимные дома, любезные хозяева, никаких следов былой португальской колониальной свирепости. Хотя солдаты – негры и колониальная держава еще чувствуется.
Прелесть набережная Прайя-Гранде; вдоль всего восточного побережья; с дворцом губернатора, с большими, старинной постройки особняками грандов и зданиями торговых компаний. Собор с фресками.
Хьюскену не понравилась картина в соборе. Изображено, как Иоанн Креститель отражает в XVI веке голландское нападение с моря на Макао, командуя португальцами. Но тут у Хьюскена задета голландская гордость!
Римский-Корсаков ежедневно ездил на берег один или со своими офицерами то в гости, то по делам, и очень нравилось ему пройтись по великолепной Прайя-Гранде, где вечером, сидя на скамейках у каменистого парапета или прогуливаясь, любезничают парочки разнаряженно европеизированной до мозга костей молодежи.
– Ах, разве вы не знаете, почему на самом деле Сибирцева отправили из Гонконга? – с недоумением воскликнула Катти. Она приняла вопрос Римского-Корсакова как наивность.
Мисс Катти расхохоталась звонко и раскатисто. Милое дитя, прелестное создание! Она уверена, что Сибирцев не пропадет. Слышала о нем. Желала бы познакомиться.
Посьет прошел на шлюпке мимо «Оливуцы» к пароходу, ожидавшему на рейде. Помахал рукой.
И «Оливуца» скоро уходит, исправления сделаны. Судно перешло от островка к городу. Из Гонконга буксир привел баржу с рисом, мукой, маслом и всем остальным, что заказывали. Корсаков и Ельчанинов съездили в Кантон, но неудачно. Их отравили китайцы хлебом, приняли за англичан. Теперь оба поправились, разгуливают по палубе.
Посьет уже на пароходе, прощается с Макао, чего давно желал. Вскоре исчезло двухтрубное судно, оставив над морем в тихом воздухе черные полосы дыма.
«Скоро и мы пойдем. А что-то у нас на Амуре?» – вдруг вспоминает Римский-Корсаков. Разве дело в мести Никольсену!
«АВРОРА» СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ
...Романская богиня рассвета... она была матерью ветров... и звезд.
На корабле «Аврора» не знали о происшедших событиях, как и о тех дальнейших действиях, которые предполагались союзниками в Китае. «Аврора», выйдя из гаваней северного Приморья, не заходила ни в один порт по пути в Гонконг. Но если бы и знали о войне с Китаем, все равно бы зашли в Гонконг. Фрегату нужен ремонт.
Взяв лоцмана, который рассказал новости, пошли в пролив. При полной парусности, во всем устаревающем великолепии, так трогающем еще до сих пор сердца моряков всего света, с резной богиней на носу. Заслышались команды на русском языке.
На судах и на берегу множество людей смотрело на корабль из страны, которая так долго считалась неприятельской.
Убрали паруса и на буксире шлюпок поползли среди множества торговых и военных судов, стоявших на якорях и у причалов или двигавшихся по проливу, похожему на реку.
– Э-э, господа, а здесь не на шутку война! – сказал капитан Изылметьев, вытирая лысину платком. У старого вояки глаз наметан, понял, что означает погрузка войск, китайские джонки под британским флагом с пушками на носу и на корме, небольшие госпитальные суда.
Ничего не знали, но все узнавали быстро. Шлюпка сходила на берег. «Будут ли ответные салюты?» Ответ доброжелательный.
Раздался гром русских орудий в Гонконге. Ну что же! Салюты славному флагу владычицы морей! Флагу губернатора и посла! Неприступной крепости Гонконг. Докам Купера и прославленной британской промышленности.
Орудия крепости отвечали выстрелом на выстрел.
Хотя войска грузились, но война на Кантонской реке, видимо, утихла. В газетах описываются схватки на воде под заголовком: «Охота за джонками».
Простым глазом видно, на противоположном берегу пролива возведены укрепления из мешков с песком, над ними поднят Юнион Джек на мачте и прохаживается британский часовой с ружьем. Ну, видно, англичане осуществили свою мечту – заняли материковый берег пролива.
Госпитальные суда не уходят. Раненых и убитых, как рассказывают портовые служащие, мало, гибли массой китайцы, бессильные против современной артиллерии. В городе все, с кем пришлось встречаться, даже американцы и немцы, склонны полагать, что иначе и быть не могло, всякому терпению есть предел, что, несмотря на жертвы, понесенные Китаем, этого урока еще мало, мандарины упрямствуют.
Изылметьев сидит за огромным столом на обеде, который задают гостям английские офицеры кораблей, не вовлеченных в военные действия. Добрый, усатый, боевой капитан с толстым носом, рыхловатый на вид, он одержал победу? Как это могло быть? На него украдкой поглядывают молодые англичане, полагая, что не столько он победил, сколько мы оплошали. Вообще старшие чины русских толстоваты, и лица у них некрасивые, не производят впечатления.
Разговоры, как в Кантон вошли английские и французские войска. Союзники, видно, впитались в Китай. На Кантонской реке опять начались перевозки и уже пошли пассажирские суда. Военный флот несет службу на всем пути до Кантона, и корабли готовы к отражению новых нападений. Все почти как в мирное время.
Англичане смеясь рассказывали, что в городе всем известно, что неуловимый фрегат «Аврора» пришел с самыми прекрасными намерениями, и все хотят видеть загадочный корабль бывших противников.
Уже пили за здоровье королевы и за здоровье молодого императора России.
Лейтенант Фесун стал рассказывать, как ночью в Татарском проливе адмирал Путятин на шхуне «Хэда», идя из Японии, проскользнул под кормой английского крейсера ночью и ушел в Амур.
– Черт побери! – вскричал молоденький лейтенант Каллаган, сын известного Каллагана. – Это была моя вахта!
...В эту ночь вечный труженик моря коммодор Чарльз Эллиот стоял с непотушенными огнями на своем винтовом пароходе-корвете на реке Жемчужной у острова Дент, где когда-то в годы молодости он сражался с китайцами. Войну, какую теперь начал Пальмерстон, смело и без объявления, затеял тогда сам Эллиот.
Дул холодный ветер с дождем. И в такую погоду наблюдать за рекой приходится. Форты у входа в реку разрушены. Но с верховьев время от времени появляются вооруженные мелкосидящие суда и совершают ночные нападения. Мандаринская джонка или просто лодка неслышно подойдет к военному кораблю и взорвет его вместе с собой.
Над рекой Жемчужной черная зимняя ночь, ни зги не видно. Исчезли во тьме близкие острова с плодородными низинами и берега с дамбами и журавлями для качания воды. На баржах, шедших с грузами из Кантона и вставших на ночь на якорь вблизи военного судна, огни тоже не погашены.
Компрадоры уже ведут операции: прием грузов опиума и других товаров. Возобновлены и перевозки в занятый англичанами Кантон.
Снизу, звонко шлепая плицами, идет небольшой колесный пароход. В этом нет ничего удивительного. Пароход как пароход, не может принадлежать мандаринам. Гонконгские шкипера отлично знают реку, она промерена, обставлена знаками, и кое-где впервые горят сигнальные огни, поставленные после победы англичанами.
– Коммодор Чарльз Эллиот!.. – кричат с парохода в трубу, равняясь с военным кораблем. – Его превосходительство коммодор Эллиот!
– Что вам надо?
– Срочно нужен коммодор Чарльз Эллиот.
– Зачем вам?
– Передать срочное сообщение из Гонконга, – продолжал голос с американским акцентом.
– Где это сообщение? Подайте сюда!
Видимо, какой-то коммерсант идет в Кантон за баржами с шелком и фарфором на своем быстроходном пароходике с новой машиной. Возможно, что с ним кто-то из офицеров с пакетом для коммодора. Или, может быть, что-то надо передать. Американец не соглашался говорить ни с кем, кроме коммодора.
В трубу ответили, что коммодор сейчас будет.
За Эллиотом сходили вниз.
– Коммодор Чарльз Эллиот слушает! – раздался над ночной рекой голос, который знали на всех морях и побережьях.
– Коммодор Чарльз Эллиот? – переспросил американец.
Это был Сайлес Берроуз. Он начинал восставать из нищеты и ничтожества. Сначала мистер Вунг частично покрыл его долги и тайно одолжил сумму денег. После разгрома мандаринов купцы стали возобновлять сделки с Берроузом. «Боуринг меня подвел и разорил. И Боуринг, сам того не желая, выручил. Он воевал для бизнеса, значит, и для меня!» Сейчас, ночью на реке, Сайлес чувствовал, что снова становится человеком.
– Да, да. Я – Чарльз Эллиот. Что у вас за сообщение?
– Это вы?
– Это я! Коммодор Чарльз Эллиот!
– Слушайте меня! Русский фрегат «Аврора», который вы искали по всему океану, пришел в Гонконг и ищет вас! – раздалось с парохода.
– А черт тебя побери! – в бешенстве зарычал Эллиот и пригрозил во тьму кулаком. – Негодяй! За этим вы меня разбудили! Чем у нас заряжено кормовое орудие? – обратился коммодор к вахтенному офицеру.
– Ядром, ваше... – отвечал вахтенный лейтенант.
– Выпалите по этому янки. Пусть заткнет свою глотку! Эй, прощайся с жизнью!
Замашки старых времен! Приказ не сразу выполняется. Когда раздается выстрел, пароход уже далеко, но еще слышно, как он шлепает по ночной воде плицами и доносится хохот американца. В рупор откуда-то издалека опять кричат:
– Коммодор Чарльз Эллиот... ха-ха-ха!.. «Аврора», которую вы искали, пришла в Гонконг и ищет вас!..
1
Китайское парусное судно.
2
Трехпалубных.
3
Нос к носу.
4
Канонерок.
5
Шегун, или сиогун (в точном переводе «военачальник для подавления варваров»), фактический наследственный правитель Японии, считался европейцами светским императором. А «микадо», или «тенно», – духовным императором.
6
Правительство феодальной Японии. Точный перевод: «Палаточная стоянка».
7
Какое вам дело? Это были письма его возлюбленной.
8
За отсутствующих друзей.
9
Хорошо, сэр, я вижу, вы не верите всему, что я говорю; в противном случае, должен вам сказать, у вас завидное пищеварение.
10
Ревень.
11
Город, построенный на острове Гонконг, был назван именем королевы Виктории. Теперь город Гонконг состоит из островной части, которая называется по-прежнему «Виктория», и материковой части – «Кулуна» и так называемой «Новой Территории».
12
Китайских повстанцев, сражавшихся за свержение маньчжурской династии.
13
Да.
14
Но ни единого в помощь «пушечному помощнику» – то есть артиллерийскому.
15
Полным ходом.
16
Военнопленные.
17
В этом случае – «имеющий склонность к умственной активности».
18
Буквально: я говорю (в смысле: «Эй, послушай!»).
19
Овсянкой.
20
Вы летон? (латышск.). В те времена в Европе латышей называли «летон».
21
Какое вам дело до этого?
22
фунт хлеба.
23
Обстенить все паруса!
24
Бухта Уня называется теперь Золотой Рог. На ее берегах построен город Владивосток.
25
Расскажи это морякам! (Здесь в смысле: болтай, трави!)
26
Глиняной лежанке.
27
Увидеть вас снова! (То есть – до свидания.)
28
Японские туфли.
29
Меры длины.
30
Князьям (япон.).
31
Мытье, стирка.
32
Ваше имя?
33
Кушали ли вы сегодня? – приветствие; имеет значение как и здравствуйте (искаженное китайское).
34
Китайские парусные суда.
35
Плохо! (китайское искаженное).
36
Мальчики!
37
Много!
38
Буквально: красная тесьма (которой скрепляют казенные бумаги), т. е. бюрократ.
39
«Почта Китая» (буквальное название газеты, в переводе).
40
Служба по сбору военной информации о противнике.
41
Немного.
42
Вы видите? (То есть – вы понимаете?)
43
Рабов.
44
Повесой.
45
Эпоха Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) считается временем расцвета культуры и экономики Китая.
46
Статья писалась для американской газеты «Нью-Йорк дейли трибюн».
47
«Звезда Китая».
48
Внутренние дворики.
49
Через (морской термин).
50
Плохая работа.
51
Нет, не плохая работа! Плохая еда!
52
Забастовка!
53
Сколько стоит?
54
Это очень дорого для вас.
55
Хорошая работа!
56
Сделано по особому заказу для мистера Точибана Прибылова. Лучший портной колонии Фун-Тин-Ши.
57
Волнение, нервозность (япон.).
58
Красивый мальчик!
59
Японское название англичан.
60
Варваров (так называли японцы европейцев).
61
Сипай.
62
Штурман военного корабля (англ. устаревшее).
63
«Веселый Джек».
64
Впоследствии в парламенте требовали предать суду командующего английскими войсками в Крыму за это приказание.
65
Что английское, то практичное (немецкая пословица).
66
Выходцев из Испании.
67
Правительственных зданий.
68
Нижегородская ярмарка.
69
В 1271 году Хубилай дал своей династии китайское название Юань. Он возглавлял Империю монгольских феодалов со столицей в Пекине. Сибирцев называет его, как тогда было принято, Кублай Ханом.
70
Особую китайскую куртку.
71
Место исполнения приговоров.
72
Государственного флага Соединенного Королевства Великобритании.
73
Русское судно.
74
Воина, рыцаря.
75
Очень благожелательные и дружественные.
76
Плетеное покрытие.
77
Приятной внешности.
78
Большая палубная парусная лодка.
79
Полицейский наблюдатель.
80
Во дворе храма Гекусенди в 1969 году я видел так называемый «памятник коровы». Это большая и высокая мраморная плита, поставленная в знак благодарности первому консулу США Т. Харрису, научившему японцев пить молоко. На памятнике значится, что воздвигнут он после второй мировой войны японской монополией, торгующей молочными продуктами. – Примеч. автора.
81
В 1972 году на кладбище в городе Симода я был у могилы Окити. Первая любовница Харриса впоследствии спилась и покончила жизнь самоубийством. У ее могилы всегда множество японской молодежи. У ворот кладбища целая вереница туристских автобусов. Многие женщины и девушки жгут душистые палочки и молятся, опускаясь на колени. Молодые люди тут же раздают листовки. Я привез с собой одну из них. В ней написано: «Девушки Японии, когда вы знакомитесь с американскими военными, помните судьбу Окити!»
82
Даба – издревле вырабатываемая в Китае крепкая хлопчатобумажная материя, обычно для рабочей одежды, типа современной джинсовой.
83
Вы понимаете?