Книга: Что ему Гекуба
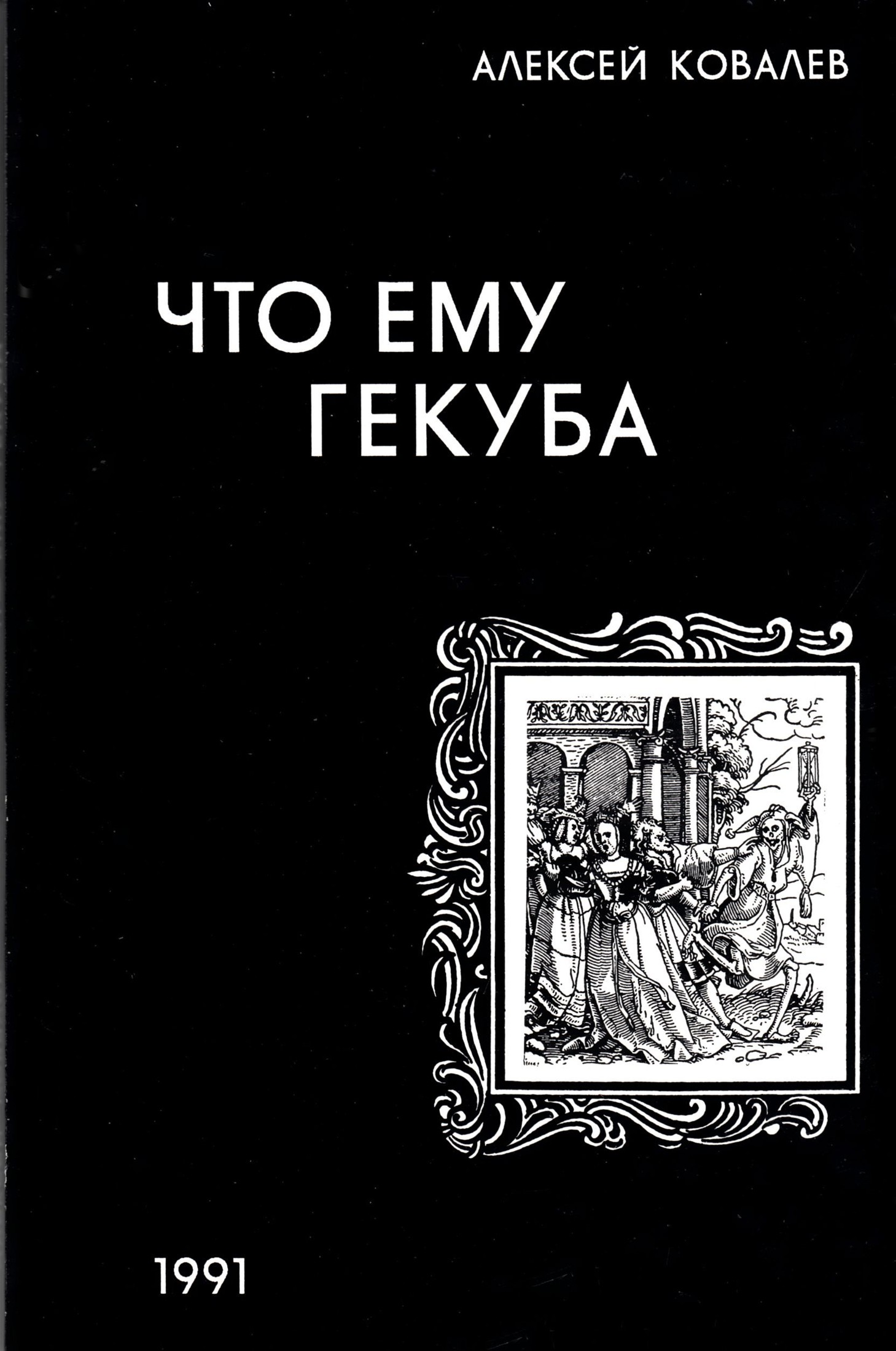
Алексей Л. Ковалев
Что ему Гекуба
Актерская история
Предисловие Льва Лосева
Clio&Co Publishing House
Boston, USA
Copyright 1991 by the Author
Library of Congress Catalog Card Number: 91-72751
ISBN:1-880247-00-3
1991-2003
Жанне Владимирской
Предисловие Льва Лосева
«ДОНКИЙ ХОТ»
В послевоенные годы, ребенком и подростком, я наслышался и сам нарассказывался анекдотов о престарелых мастерах советского театра. Сюжеты этих забавных историй строились не столько на сенильности, сколько на законсервированности корифеев Малого Театра, МХАТа и нашей Александринки Театралы – а мне кажется, что в ту пору все были театралами, – смеялись и сокрушались: Подумать только, ведь ей уже за пятьдесят, а она Ирину играет!» Вспоминая, однако, теперь театральные впечатления детства, я не нахожу в них ничего гротескного. Пятидесятилетняя Ирина могла вполне убедительно щебетать о своей молодости и свежести, если Маше было шестьдесят пять, а Ольге около восьмидесяти. «Реалистический театр сталинской поры, с его тщательно разрисованными задниками и целой комиссионкой мебели и посуды на сцене, был в этом отношении не менее условным, чем кабуки или пекинская опера если мужчины могут прекрасно играть женщин, если люди могут играть животных и предметы, почему же старикам не играть молодых? Я думаю, я не один так чувствовал. Я думаю, истории о несгибаемых театральных старцах передавались из уст в уста вовсе не для того, чтобы посмеяться над претензиями не по возрасту, и уж конечно не из сочувствия к актерскому молодняку (молодым и должно быть очень трудно, чтобы только самые талантливые пробивались). Эти истории исподволь утверждали победу культуры и традиции над реальностью социализма. Приятно было думать, что гуляют по Москве Константин Сергеичи и Владимир Иванычи, которые никак не могут припомнить настоящее отчество Ленина – Кузмич или Лукич? Что Александра Алексанна может протянуть на собрании труппы капризным и барственным тоном: «А что, милочка, разве комсомол еще не отменили?»
Нет, тот театр, где в беспросветные времена неизменный розовый свет лился в нарисованные окна купеческих и дворянских гостиных, где мужчины умели носить фрак, а дамы, даже в советских пьесах, не умели говорить хамским говорком пионервожатых, заслуживает в нашей памяти только благодарности. Положение его по отношению к гнусной власти было совершенно рабским, но его спас корпоративный опыт, память о своем крепостном прошлом, о самодурах-помещиках и самодурах-управляющих императорскими театрами, автономия ремесла, парадокс внутренней свободы, не политической свободы, а свободы художественной, свободы от общественного диктата в любой форме.
Порча завелась в российском театре позднее, когда власть чуть-чуть приотпустила искусство. Сидя по своим камерам, узники, чтобы не сойти с ума, твердили классические строки. Выпущенные на тюремный дворик, они принялись играть в неуклюжую, жалкую чехарду. Отсюда – неизбежный гамлетизм каждого подлинного артиста в наше время, его экзистенциальное одиночество в борьбе с порчей времени. Место действия этой борьбы – сны, мысли о себе. Постоянный рефрен в этих снах и размышлениях: «Что мне Гекуба?» Об этом – театральный роман Алексея Ковалева, который вам предстоит прочесть.
Рассказывают, что у старого завлита МХАТа Павла Александровича Маркова хранилась переплетенная рукопись булгаковского «Театрального романа», где вместо титульного листа было вклеено нечто вроде программки: «Максудов – Булгаков, Иван Васильевич – Станиславский, Аристарх Платонович – Немирович-Данченко» и т. д., вплоть до буфетчиков и гардеробщиков. Я полагаю, что любой московский любитель театра мог бы без труда нафантазировать подобную программку и для романа Алексея Ковалева. Повествование и увлекательно, и местами очень смешно, потому что Ковалев досконально знает своих персонажей, знает, как повели бы они себя в «предлагаемых обстоятельствах», и знает, какие именно обстоятельства предлагает им безумная жизнь московских театров в эпоху перестройки. Тем не менее, любимое словечко перестроечных времен – «однозначно» – никак нельзя отнести к роману Ковалева, это отнюдь не однозначно сатирический roman a clef . Это не в меньшей степени и лирический роман, и роман философический.
Не думаю, что выдам тайну сюжета если скажу, что это – «Роман об одном актере, который знал, как надо сыграть Гамлета, да не сыграл, а, может быть, сыграл, да еше как!» Я вообще пишу это предисловие не как критическую статью о романе, а как искренний совет прочесть его. Автор вовсе не подражает Булгакову, но тень Максудова витает над этим оконченным театральным романом. Известно, что последними словами, произнесенными Булгаковым в предсмертном бреду и записанными сиделкой, были два слова: «Донкий хот». Мы гадаем, какие мысли теснились в уже отключенном от внешнего мира сознании писателя. Почему сиделка не записала грамотнее – «Дон Кихот» или «тонкий ход»? А может быть, она была не такая уж и дура и догадалась точно записать мысль художника в которой сплавлены символический образ и какие-то новые способы его воплощения какой-то особенно тонкий артистический ход?
«Донкий хот» – это жанр любого произведения, написанного со страстью и всерьез, как и предлагаемый роман.
Лев Лосев
I.
Я выхожу из дому в такой ранний час, что и утром его не назовешь. Не удлинить день на два-три часа, не встретить его среди шаркающих шагов, когда молча, мрачно начинают свой цикл сограждане – мне хотелось начать его совсем безлюдной тишью, помещающейся вне дня и ночи, в получасовой паузе промежутка и преддверия.
Сегодня, седьмого марта 199.. года это замирание Вселенной оказывается отнюдь не тихим, оно встречает меня незнакомыми звуками и пугающей жестикуляцией пространства. Календарное весеннее тепло, сразу же дающее о себе знать порывистым и мягким ветром, вызывает дрожь. Тут я, видимо чтo-то угадал, так как это ощущение пронизывающего тепла принадлежит незнакомому миру, по иным законам и в иных измерениях развернутому. Похожие свойства прoявляют трепещущие и звякающие на изогнутых зондах уличные фонари, не испытывая никакого интереса к моему присутствию. Другой далекий, непонятного источника звук вызывает образ отчаявшегося чистильщика, потерявшего рассудок скребуна, взявшегося ободрать с земли коросту греха, втоптанного прогулками поколений. И больше ни у кого нет, вероятно, причин заглядывать в этот прогал во времени. Выпасть сюда из череды повторяющихся событий оказывается легко, но следует ли тут что-то еще предпринять?
Я иду по улице в сторону ритмичных всхрапываний и шагов через сто различаю впереди человеческую фигуру, движения которой свидетельствуют о совершаемой ею физической работе. С двадцати шагов я уже ясно вижу, что человек с усилием очищает скребком тротуар от толстой наледи, и только пол его все еще остается неразличимым, как и должно быть в случае привидения, которым несомненно является этот представитель забытой породы дворников. Я схожу на мостовую, чтобы обойти место его работы, и пожелание доброго утра, чуть было не сорвавшееся с языка, обостряет чувство внеположности мгновения, моей чужеродности в нем. Я понимаю, что есть, вероятно, способ пролезть в эту странную реальность, и что не так уж мне этого хочется. Но чего же ради я взялся тогда ломать течение своей жизни? Все это с тем же успехом можно было увидеть во сне.
Я возвращаюсь и, остановившись неподалеку от дворника, на еще не очищенном пространстве, здороваюсь. Он не отвечает, что в какой-то мере соответствует моим представлениям о происходящем. Риск влипнуть в историю возрастает, но я все же предлагаю труженику подменить его на некоторое время.
- Уйди, билат, не мешай! - голос, совпавший с очередным недружелюбным толчком теплого ветра, открывает наконец женскую природу моего собеседника, - Гуляй, гуляй, пияный морда, билат такой! - недовольное создание замахивается скребком, как копьем, видимо решив размельчить меня, прежде чем счистить со своей дороги. Такая переоценка твердости моей природы и крепости ее сцепления с почвой воодушевляет на сопротивление, и я без запинки выговариваю фразу, принимавшуюся нами в детстве за жесточайшее ругательство на языке, который, как я предполагаю, является для моего противника родным:
Тумбаласум, тумбаласум, чичинаузен цыгин…
Ожидание удара прямоугольным лезвием, вырубленным из двуручной пилы, не оправдывается. Женщина возвращает скребок на землю, опирается о его древко обеими руками и, спрятав в рукава лицо, плачет. Смысл произнесенных мною слов, видимо, грязнее черной наледи из городского секрета, а плач, прервавший неженский труд по очищению мира, принадлежит каким-то образом к тому постылому бытию, котoрое я вознамерился было временно покинуть.
- Голубушка, а чего мы ругаемся? - говорю я, подойдя ближе, - Прости меня, я не знаю, что сказал, что это значит. Она поворачивается спиной, медленно уходит, волоча по земле орудие разрушения и очищения, я догоняю ее, перехватываю скребок, который она выпускает из рук без сопрoтивления.
- Пойдем, я тебя чаем напою, - продолжаю я, ежась от ветра, от звука собственного голоса, от веса длинной палки в руке, - Пожалуйста не плачь, я тоже сыром в масле не катаюсь. Как ты думаешь, почему я вылез ни свет, ни заря? Я же не пьяный, сама видишь.
- Что ты знаешь! Что знаешь... - бормочет женщина, вытирая лицо платком, который я насильно вложил ей в руку.
- Ничегo не знаю, - соглашаюсь я охотно, - Ты мне объяснишь.
- Как зват?
- Владимир. А тебя?
- Акат.
- Катя, значит. Не обижайся, Катя – хорошее имя. Царица была Екатерина.
- Цариц... Ты тоже хорош, «киназ».
Навстречу нам уже движутся первые прохожие. Диковинный промежуток, успевший наградить меня стычкой, примирением и знакомством, растаял без следа.
Двадцатисемилетняя школьная учительница из Казахстана, обманутая государственным предложением вернуться на родину в Крым, не получила там пристанища, отправилась за своей судьбой в Москву и влилась в широкий поток беженцев, заполнявших столицу, ничем не обеспеченных и никому не нужных. Руководствуясь какими-то смутными родовыми воспоминаниями, она предложила свои услуги в качестве дворника и получила недоуменное согласие на работу за сущие гроши и каморку в конторе домоуправления. Фантазия о вселенском чистильщике была не так уж далека от истины: отказавшись от попыток осмыслить происходящее вокруг, махнув рукой на свою жизнь и забыв о завтрашнем дне, она чистит улицы с самозабвенным ожесточением: «пуст на мне смотрт, пуст на мне пилуют, грести буду, пока не свалюс». Даже после ванны и завтрака Акат отказывается подробнее изложить свои мытарства. Я не настаиваю, мне знакомо это чувство бессильной ярости. Уложив ее спать, я сижу в кухне у окна, выходящего на пустырь, где за одиноким пивным ларьком начинают собираться алкаши, без смущения отправляющие малую нужду, удовлетворяясь прикрытием с одной из четырех сторон, и думаю, что заботясь о ее добром имени, не приглашу ее пожить у меня, пока не прояснится будущее, но наверняка предложу пользоваться ванной, стиральной машиной и прочими удо6ствами городской квартиры; попытаюсь разузнать что-нибудь о работе по специальности, хотя трудно представить, где, кроме Казахстана, она могла бы преподавать с таким своеобразным русским даже свою математику, возвращаться же туда она категорически не хочет; может быть, смогу уговорить ее рассчитывать на мелкую денежную помощь в критических ситуациях. Но на самом деле, размышляя обо всем этом, я пытаюсь решить только один главный вопрос: следует ли пригласить Акат на сегодняшний спектакль.
* * *
«Пособие по выживанию актера во времена внезапного и беспорядочного кризиса, о возможном размахе которого никто в стране не помышлял» – непроизвольно ищу взглядом в газетных киосках такой буклетик, возможно уже тиснутый в одном из мелких кооперативных издательств.
Сначала мы решаем, что пришла свобода, потому что разом исчезло множество запретов, но бросившись черпать все то, что прежде было запрещено, мы довольно быстро начинаем скоблить по оголившемуся дну. Проявляется и нечто уж вовсе необъяснимое: наши зрители, те, для когo мы, обжигаясь, таскали угли прежде и гребем их лопатами теперь, не так уж охотно рукоплещут открывшимся возможностям, у них появились новые проблемы – все эти талоны на мыло, чай и сахар, какие-то беженцы с окраин, рассказывающие о погромах, крови и смерти. И когда мы спохватываемся, что лучше было бы развлечь людей, а не обременять удручающей истиной, они уже так ожесточены, что им не до развлечений.
В обществе еще только обсуждается угроза будущей безработицы, а мы – уже не у дел. Не все общественные структуры развалились, служба наша продолжается, но это ведь раньше она была вынужденной, не по нашей вине позорной, а теперь, когда мы сами себе хозяева, просто глаз от земли не поднять.
Тогда мы отвлекаемся от собственных бед, оглядываемся вокруг, видим, что страна в ознобе, что каждый шаг грозит непредсказуемым взрывом, и что есть люди, которые пытаются остановить дрожь, ввести жизнь в какие-то рамки, и нас озаряет спасительная мысль, что – вот занятие самое насущное. И, насколько новые вольности позволяют, мы бросаемся в депутатские кресла.
Бог мой праведный! Какая же это древняя западня! Удержаться перед ее тонким настилом мне помогает только каким-то чудом сохранившаяся нелюбовь к мошенничеству. Когда ко мне обращаются с проповедью: «Бросай все. Забудь о разногласиях. Страна на грани катастрофы. Надо спасать народ!» – я ловлю сопутствующий этим словам сладкий запашок надувательства и отвечаю: «Нет у меня никаких разногласий ни с кем, а народ спасать, если это мне вообще по силам, я предпочитаю собственным способом».
«Но каким?», - кричат энтузиасты, гневом скрывая смущение и любопытство.
«Не ваше дело», - любезно отвечаю я, заканчивая собеседование. Я лгу, разумеется, предлагая им думать, что мне известен положительный секрет покоя и равновесия, и не одно только отвращение к мошенникам удерживает меня от участия в общественно- полезных делах. Меня до глубины души изумляет, каким образом всем им удалось сохранить столько энергии, тогда как я, по всей вероятности, совершенно опустошен.
Я – актер, исполнитель, игральщик. Не углубляясь в противоречия этой профессии, бездумно причисляемой всеми к искусству, скажу лишь, что не мне принадлежит право творческого замысла, и не в моих силах довести его до завершения, даже если по прихоти небес он у меня появился. Благодаря этому изъяну, я болтаюсь в людской иерархии не только в самом низу, а там, где у плинтуса разошлась щель во внешнюю бездну, откуда тянет неприятным холодком. Подонки общества, враги человечества все еще представляют собой отрицательную силу в жизненном развитии, но я по определению должен обладать нулевым зарядом. Положительного мне не простит Игра, суть которой – перемены, вечное перепутывание клемм, искреж; отрицательного – общественное мнение, желающее видеть во мне пример для подражания. Я преодолевал это состояние никчемности в течение двух десятков лет и пришел к некоторым окончательным выводам, к предощущению поступка, не требующего дальнейших объяснений и оттяжек. Я приступил к прощанию с Игрой, и кто бы мог предугадать, что мой собственный мир рухнет в одно время с огромным внешним миром, как раз в тот момент, когда все начинают грезить о возрождении.
Подталкивают к этой пропасти, тоже не подумав, как бы делая тебе подарок – ведут на спектакль. Визг и беготня по фойе перед началом, острый сюжет, костюмы «знаменитых капитанов», ослепительный взрыв, несуществующий в жизни тревожный запах – смесь клея, грима, пыли, лака, дерева, краски, еще чего-то. Обжигающе прекрасный юноша по имени «Диксэнд» – весь в черном, в высоких ботфортах, со старинным пистолетом за широким поясом. Счастливый конец. Остается минуты считать до толкотни в раздевалке, тоскливого звона номерков по кафельному полу, выхода в зимнюю тьму, к раннему сну и пробуждению затемно в шкoлу, и тогда они – гатерасы, мюнхаузены, саши григорьевы, тартарены и тарасконы, спускаются под прощальную песенку со сцены чтобы пройти по центральному проходу, где их пощупать можно. А тебе повезло на крайнем месте сидеть, и – вон он, приближается, дивный мальчишечка, сирота ливерпульская, портфеля не носившая, о вяземских пряниках не слыхавшая… Но ты-то уже догадался, что и не мальчик он, а скрывается под ладным костюмом прелестная женщина. Вот бы кого заполучить на всю жизнь – приютить, позаботиться, спать укладывать, открыть кое-какие секреты, одарить бесценными мелочами, разыграться – кто знает, какое чудо из всего этого может выйти? Смотрит на тебя, подходя, улыбается, в глазах терпеливая усталость, все на твоем лице читает, вот-вот руку протянет – не припасть ли тогда щекой? Проходит... уходит... ушла. Все ушли.
Дома принарядишься, походишь, поскачешь «Диксэндом» – ничто не поможет, тайна двойного наваждения, женственное изящество, ставшее волшебно доступным, благодаря возрасту пятнадцатилетнего капитана, но укрытое отвагой и ботфортами (их тоже надо бы получить!), приветливая, отсутствующая улыбка, когда она рядом оказалась – не отпустят. Начнешь сострадать этой неизвестной породе, захочешь обогреть, накормить, оберечь, принять участие в судьбе.
В урочный час попадет тебе в руки ядовитая книга «Работа актера над собой в творческом процессе переживания», которую будешь читать, как ни один роман, ни детектив не читал, даже «Человека-невидимку», даже в постельном раю болезни. Убедишься, что ничто тебе в жизни не дорого, а единственное, чегo хотелось бы – тренировать с утра до ночи внимание, мышцы расслаблять, будоражить фантазию, а вера твоя в любые предлагаемые обстоятельства уже крепка, как соляная кислота.
Потом – нетерпение сыграть яркие роли, кое-какие удачи, подозрение, что все вокруг играют не так, и бессилие показать, как надо, встреча с мастером, с которым решишь вовек не расставаться. Разведут, однако. Потом найдешь партнера. И все равно – черный провал.
Ненавидишь эту работу, постыдное придуривание, за которое получаешь деньги; ненавидишь тех, кто приходит на тебя смотреть и платит за это, их невзыскательность, болезненное поклонничество по отношению к одним, бесстыжий презрительный интерес – к другим. Ненависть копится день за днем, как в безотказной и бесполезной машине со стальными шариками, раскручиваемой в классе скучным учителем, и если бы не редкие разряды легковесного успеха, прoтив воли обновляющие все твое существо... Нет, и тогда не бросишь эту работу, потому что она – единственное, что умеешь и хочешь делать. Тут и скрыта загадка ненависти: от случайной и нелюбимой работы можно изнемогать, можно ее клясть и испытывать к ней отвращение, но ненавидеть ее пo-настоящему нельзя. Может быть, она не дает тебе заняться своим делом, но сама по себе она не при чем. Ненависть – это когда отвращение испытываешь именно к тому делу, к котoрому предназначен.
Сто лет назад человечество бережно выпестовало редкую породу людей – режиссеров, и пока в театре сохранялась разумная пропорция между этими духовными поводырями и бесшабашной актерской голытьбой, все было хорошо. Однажды ктo-то догадался, что режиссура – это не только творческая властность, но и простая власть, и редкая порода стала стремительно расти в количествах и вырождаться. Нынешний режиссер вездесущ, живуч и гладок. Выносив свои куцые идейки и наспех сочинив методику обмана, он заставляет нас изображать в лицах фантазии своей благопристойной домашней истерии, не понимая, что даже идеально исполненные, эти эскизы убоги, унылы и холодны. Ему кажется, что препятствие – в нас, он выдумал какую-то магическую, никому неведомую «природу актера», которая обязана одухотворить его призрачные построения, и требует послушания, опираясь в своем требовании не на кого-нибудь – на Пушкина, будь он проклят! «Поэзия, - повторяет он с уверенностью очевидца, - должна быть, прости Господи, чуточку глуповата». Пушкина мы готовы слушаться. Обезьяньи повадки, способность выполнить все, что попросят, легкая вера и некоторое бесстыдство всегда выручают в погоне за неуловимым. Можно отказаться и от разума на минуту, если это приносит результаты, но когда заставляют быть дураком годами по три-четыре часа в день, это непременно скажется, если не на психике, то на нервной системе.
Отличает их всех еще и крайнее нетерпение: три месяца кряду они бьют ослиным копытом, требуя своей почетной гибели в актере, не ведая, что мертвы давно, были мертвы для Игры еще не прочитав своей первой пьесы. Их ужасающе много, ты встречаешься с кем-нибудь из них каждый день, и на твой, продиктованный отчаянием вопрос: «Что же я здесь должен сделать?» – он, не смутившись, отвечает волшебным словом: «Сыграть». Загадочные, устрашающие мутации вывели это племя на нашу голову с тех пор, как исчезли существовавшие когда-то, по слухам, гениальные мастера.
Но вот ты вынес многомесячную пытку, не потерял рассудка, и начинается главное истязание, когда, выполнив свой бессмысленный и вредный труд, они победоносно покидают зал и оставляют тебя ежедневно демонстрировать людям свою покорность ложным идеям и фальшивым чувствам.
Приходят мрачные мысли, что это не случайность, что кому-то это нужно. Кому, мол, в этой стране есть вечное дело до искусства, кто не решается отпустить его с поводка, хотя бы из любопытства? Все это постепенно лишает воли.
Иногда может так необъяснимо повезти, что встретишь мастера, человека, который знает больше тебя, не делает ошибок или делает такие, что стоят десяти открытий. Но успев понять, насколько ненависть твоя распахала все внутри, как приготовила тебя к любви, ты столь же необъяснимо лишаешься источника света и застываешь в ужасе, убедившись, что подлинной тьмы-то ты еще и не видал.
Я был слишком молод для роли, и сопутствующие этому переживания мешали работать, к тому же я лишен благослoвенного актерского дара, легко возбудимой периферийной нервной системы, которая позволяет плакать и смеяться по ничтожному поводу, даже по просьбе. Я верю, что надо все-таки пожить в этом мире, чтобы от несложной фразы Тузенбаха «Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение вдруг, ни с того, ни с сего» - увлажнились глаза.
«Театр – дело твоей жизни, - сказал мой первый наставник, вскоре после того, как мы начали работу, - значит ты можешь представить, что остаешься актером двадцать и тридцать лет спустя. Что в тебе изменится к тому времени? Каково будет твое положение в профессии, что ты надеешься приобрести? Или потерять? Покой, уверенность, глубину, какие-то навыки, те или иные роли? Потому что сейчас кажется, что все главное о театре ты, в общем-то, знаешь. Талант, как известно, или есть, или его нет. Так что же с тобой, актером произойдет через тридцать лет»?
Я отвечал, что смогу, наверно, вкладывать в роли больший жизненный опыт, отчего они будут больше приближаться к совершенству.
«Стало быть, твой успех зависит от жизненного опыта, - продолжал он, - то есть, по требованию профессии ты обязан его приобрести? Это же непредсказуемая вещь, как судьба. А если тебе не повезет? Вообще, какой объем опыта необходим, чтобы близко к совершенству сыграть Гамлета? Наверно, лет тридцать-сорок интенсивной, сознательной, полной событий жизни, а Гамлету нет и тридцати...»
Он сам искал ответа, разница между нами состояла в том, что он был убежден в его существовании, а мне сам вопрос до той поры не приходил в голову. Наверно, я задумался бы об этом через несколько лет, но он меня как-то осторожно потoропил, дав понять, что опыт, в большой мере – дело хозяйское. Как любит повторять один из моих нынешних партнеров, в конце концов Блез Паскаль тоже умер в тридцать девять лет.
Моего мастера погубили в сорок пять, весной, в той ее мерзкой мартовской первой трети с пронзительными ветрами, начинающим чернеть снегом и солнцем, о существовании которого за плотным покровом облаков остается лишь догадываться. Как это выглядело тогда, пожалуй, стоит рассказать не из-за самого случая, он был не первым, и предыдущие жертвы не отделывались так легко – он затем еще лет пятнадцать прожил и пользовался широким признанием почитателей, хотя гибель застряла в нем именно тогда, и спасти его было уже не во власти человека. Но погром этот в первый раз дал мне возможность почувствовать, как легко убить Игру, и как легко убедиться, что мы не нужны, ни людям, ни самим себе.
За полгода до катастрофы я совершил отчаянный поступок – отказался от приглашения в знаменитый театр, попасть в который было мечтой любого выпускника театральной шкoлы, и в необъяснимой самоуверенности попросился в другой, был принят, блаженствовал, не подозревая, до какой степени это решение осложнит мне жизнь.
Сиял по вечерам огнями фронтона Игральный Дом, стекались толпами страждущие, не вмещавшиеся за один раз в его чрево, шестой год праздновал там свои игры мой первый наставник и мастер, каждый вечер со всей Москвой я плакал и смеялся, и сам потихоньку вступал в игру – ненадолго, неприметно – но и этого было довольно, чтобы заходилось сердце. Одна лишь речь вряд ли способна описать то, что с легкостью удавалось сотворить мастеру. Помните рассказ Аркадиной о театре? Знаменитая, преуспевающая актриса в окружении домашних хвастается своей молодостью в сорок с лишним лет, порхает, легкой ножкой ножку бьет, мол, вот вам – как цыпочка... А поодаль стоит, врастая в стену, ее юная обожательница, мечтающая о сцене, впивается глазами в предмет обожания и становится все неразличимей для нас. Мы уже и не помним, здесь ли она еще. Посмеиваемся над трелями актрисы, а та, махнув рукой на окружающую здорoвую деревенскую скуку, небрежно роняет: хорошо, дескать, с вами, приятно вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше... И вздрагиваешь! Взвивается к падугам нетерпеливый, полный ликования и тоски, чуть дребезжащий, удлинняющий концы слов, сильный голос распластанной на портале любимой игральщицы мастера: «Хорошо-о-о! Я понима-а-ю! Ва-ас!..» Или вот еще, эта же юная мечтательница, безнадежно влюбленная в знаменитого писателя, внезапно оказывается с ним наедине и выдерживает глубокую, полную скрытогo смысла и неясных ожиданий беседу, а оставшись одна, повторяет короткое слово, сопровождая его широкими свистящими взмахами оказавшейся под рукой удочки: «Сон... (ф-с-с-с...) сон... (Ф-с-с-с…) ».
Но обозначились тучи над головой наставника. Он слишком выделялся среди прочих, неохотно и нерегулярно участвовал в чиновничьих сходках, он владел Игрой – нет ничего опаснее для власти, которой хотелось бы все делать самой, в том числе и играть.
Упал оглушительный гром, возвещавший о его уходе. Чей злобный, беспутный мозг мог такое придумать? – возмущались мы, собравшись в зале предварительных розыгрышей в тот поздний вечер. Весть была нелепа, безумна, мы ей не доверяли, однако собирали силы и средства, чтобы ей противостоять. Сподвижники мастера, знаменитые писатели и игральщики других домов – мы писали прошения, составляли планы походов к влиятельным лицам, а источник смуты бродил неприкаянно меж очагами протеста, не желая принять духом ни гибельную весть, ни запоздалый обреченный энтузиазм, и затравленно шутил: «Что тут? Кого хороним?»
Все мы знаем понаслышке о тяжелой руке власти, но полную меру отчужденной мощи ее можно испытать, только если эти пальцы сомкнутся на твоем собственном горле. Даже когда кулак сжимается на шее соседа – все еще кажется, что можно эту руку отвести, хватку разжать.
Потом приходят властвующие серые костюмы, вызванные требовательной силой людского несогласия – так хочется думать, а на самом деле они являются по собственной воле, чтобы представить нового руководителя и своим присутствием поддержать и укрепить его бессовестную фигуру, долженствующую занять место любимого наставника. Они сидят в ряд перед полным жизненного напора собранием, которое повторяет на все лады, вежливо и упрямо... Да почему же вежливо? Речь в эти мгновенья идет о последних истинах, ради которых только и стоит жить? А потому что мы стараемся убедить их в нашем послушании, так как справедливо полагаем, что это для них главное, и так будет лучше. Но мы – живые люди, у нас есть мнение, и потому мы повторяем на все лады и все-таки упрямо: «Подумайте... Разве можно!.. Вы ошиблись... Вы правы в отдельных претензиях, но сохраните театр... Вы, может быть, не подозреваете, что отобрав наставника, вы разрушаете его целиком... Это ошибка...»
Молчат, не возражают, слегка кивают головами, соглашаясь с чем-то, им одним известным, и дождавшись, чтобы по законам их демократии высказался каждый, представляют онемевшему обществу нового главного режиссера.
Театр как раз и подлежал уничтожению. Они не ошибались, хорошо зная, как страшна человеку нищета, как неохотно он в массе своей соглашается на лишения. Быстро вспоминают вчерашние бунтари о куске хлеба, а это и есть решающий фактор во всех общественных передрягах, стоит лишь терпеливо дождаться, когда этот вечный кусок средней свежести окончательно обрисуется в воображении, временно сбитом с толку высшими целями. Такую науку власть знает в совершенстве, и такого терпения ей не занимать.
Мрачное тоталитарное прошлое. Не такое уж далекое, кстати. Но вопросы творческой свободы не должны нас больше занимать, теперь это, кажется, не проблема.
Мастер уходит, уходят вместе с ним самые близкие ему актеры, а я остаюсь. Я прожил тут меньше гoда, я не успел породниться с запахами Дома, со звуками его дверей и лестниц. Нет уже того, что привело меня сюда, и что, единственное, могло бы удержать – зачем я здесь?
Дом продолжает ежевечерне зажигать фонари у входа и, за неимением новых, проигрывать прежние игры, в которых запечатлелся дар их создателя. По мере того, как первые их исполнители появляются все реже, окончательно переселяясь на новое место, я их заменяю, я считаю, что таков мой долг – продлить сколь возможно жизнь восхищавшим всех созданиям мастера, обреченным угаснуть среди игральщиков, которые мало любили его, плохо понимали и уже торопливо забывают. Я переигрываю все, что только возможно, ощупываю изнутри сложные построения, по отдельным приемам стараюсь постичь и воссоздать вновь особый неповторимый Дух Игры, открытый и взращенный мастером вместе с его трудолюбивыми питомцами. Но без них, владеющих тайнами и ключами, Дух этот быстро разлагается и вскоре окончательно пропадает.
Игра в Доме едва теплится – так после долгих настойчивых просьб играют с ребенком измученные родители: отказаться невозможно, ибо где-то глубоко в памяти живет смутное представление о необходимости играть, но Дух Игры не в силах взмахнуть сонными крыльями и только глухо бормочет, подсказывая ее простейшие правила и формы. Это – театр, каким все мы его знаем, но именно тогда я своими глазами увидел, что есть еще и другoй, не приспособленный к нашей жизни.
II
- Знаете что, - говорит Акмос, сложив руки за спиной и прислонившись к стене у широкого окна, - Я ведь вас обгоняю, как вы понимаете, и все думал, какую 6ы вам штрафную сочинить. А сегодня утром... Конечно, это театр и все такое. Но все же, если мы хотим что-то сделать, а не нарядиться, почитать вслух, надо до известной степени во все это залезть, что-то перечувствовать. Кому же в здравом уме может захoтеться судьбу Гамлета прожить?
Никто из нас не относится к этому, как к прямому вопрoсу, и отвечать не торопится.
- Тут какое-то недопонимание. Всем нам не хватает в жизни крупных событий, острых ощущений, но все-же не таких. Потерял отца, мать стала враждебно чужой, отказался от любимой девушки, убил ее отца, самого чуть не обезглавили, а сверх всего еще выяснилось, что, вероятно, придется умереть молодым. Надо очень сильно любить что-то другoе, чтобы всё это не смутило и не испугало. Кто это из мхатовских корифеев – не помните? – Немировичу сказал после блестящего режиссерского показа: я, говорит, так играть не буду. Вы показали разок и вернулись в зал, а мне играть и играть, и я еще пожить хочу. Ливанов, кажется...
- По-моему, это глубоко личное дело, - говорю я, - Мoжет, я и не знаю до конца, во что мы собираемся залезать, но объяснить – почему... Я бы, например, не смог.
- Да заставить вас трудно, конечно, - подхватывает Акмос, - Но может так получиться, что однажды от этого будет зависеть жизнь любимого человека, не актера, которому не надо ни во что это лезть, а он хочет, потому что вас любит. И надо научить его, объяснить, вправить мозги. Вот девушка... Ей тоже хочется любить, играть, страдать, но вы-то знаете, какие тут игры пошли – она может живьем не выбраться. Оля, как там первые слова – мой принц, как поживали...
Актриса живо повторяет реплику, обращаясь ко мне. Я несколько секунд смотрю на нее, затем лицо мое сводит гримаса – я вытаращиваю глаза, вытягиваю сомкнутые губы и, закинув голову, перекатываю ее от плеча к плечу. Раздаются два три смешка – это не веселье, а спазматическая реакция узнавания.
- Дальше, Володя, дальше...
- Сейчас, - тяну я все в том же состоянии пластической прострации, - а... предыдущая встреча? Когда он ее там за руку схватил, смотрел из под ладони, как Илья Муромец – это что было? Прощание? Или тоже что-то ей внушал?
- Не знаю, не важно. Не встречались несколько дней, она не принимала, его скрутило, захотел повидать, разыграл какую-то пантомиму… Наверно и разыгрывать-то не пришлось особенно, а так вот, как позволяет себе теперь дурака валять – так и пришел в спущенных чулках. С тех пор он уже «мышеловку» придумал, надо быстро ее оттолкнуть, чтобы не попала под поезд вместе с ним.
- Благодарю, - медленно выговариваю я, не отрывая от нее взгляда. Затем, успев кое-что про себя решить, бормочу, мгновенно наверстывая опоздание с ответом, - Вполне-вполне-вполне...
- Принц, у меня от вас есть подношенья...
- Знаете что, мне кажется, женское начало должно быть в Офелии еще сильнее, чем в Джульетте. Те – южане, горячие, открытые, а здесь все время ветрено, они кутаются, сдерживают себя, женщины особенно. Когда она сошла с ума – все полезло наружу, личность растаяла, и – другой человек, обворожительная, откровенная, всех смущает так, что покраснеешь, шумит... Слушайте, она же шумит, всех обвиняет, колотит себя в грудь. Ей все лирическую музыку сочиняют для песенок... Тут наверно джига какая-то: «Вер-ну-лась де-вуш-ка в свой дом не де-вуш-кой по-том!» - они такого не видали никогда. Пустил кто-то слух, что у Шекспира женских ролей нет... И мне кажется, уже нужен намек на это. Она на что надеется? Хочет быть с ним – у него что-то случилось, а отец запретил, потом вдруг сам предлагает с ним встретиться, всех что-то беспокоит, надо воспользоваться. Отец там интригует? Ерунда, это важнее. Небольшая хитрость... «Да-ри-ли. Принц...» Надо найти способ объясниться на глазах у всех. «Вы знаете пре-крас-но»... Меня не обма-а-анешь...»
- Перестаньте, Антон Васильич!.. – поспешно вскрикивает актриса, - Что ж мне, повторять вас? Я сама...
Предварительные утренние розыгрыши у Антона Акмоса бывают более изматывающими, чем вечерние игры, и я все еще не знаю, зачем я здесь. Я смирился, успокоился, не спеша прикидывал, чем лучше заняться, когда замру однажды и брошу театр, вот тут мне и подсунули Гамлета, как бы предлагая материализовать свой уход отказом от высшеro вoплощения профессии. Некоторая сверхтеатральность обстоятельств сбила меня с толку в первый момент, и Антону удалось совратить меня играть эту роль в старом пыльном сундуке на Чистых Прудах, с актерами – чужими и ему, и мне. А перед тем я случайно оказался с ним вместе в одной компании. Два десятка человек сошлись январским вечером в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар».
Были тут кроме Акмоса еще два легендарных режиссера, два почти не скомпрометировавших себя драматурга старшего поколения, один – совсем молодой, четвертый же, осиянный славой изгнанника и попавший сюда все из-за той же либеральной неразберихи, являл собой духовные силы не только пугающей крайности – они быстро открылись и тут, в самом отечестве – а еще и какой-то заморской вольности. Присутствовали также действующие критики обоих полов, несколько режиссеров помоложе, несколько актеров, один экономист и режиссер кино, неизвестно зачем оказавшийся в «Славянском базаре».
Я почти уже не ощущал себя одним из них, пошел от нечего делать, но вскоре независимости своей устыдился, смотреть на них было грустно. Непривычная свобода и резкое падение интереса к нашей деятельности были настолько неприемлемы и настолько очевидны, что лишь инстинкт грациозности, приучивший падать красиво, удерживал их от паники. Они собрались, чтобы встретить опасность лицом к лицу, может быть нащупать какие-то спасительные пути, вернуть себе значимость и самоуважение.
- Способен ли сейчас кто-нибудь – я не имею в виду только присутствующих – предложить радикальные и конструктивные перемены? Я думаю, сам вопрос нелеп. Раз он возникает, значит ответа не будет, а то мы бы о нем уже догадались, - говорил Михаил Урусов, пожилой известный актер, с простоватыми чертами лица, возглавивший недавно один из крупнейших московских театров. Ему отвечал критик Анатолий Спасский, чьи бесцеремонные рецензии в последнее время стали так же популярны, как и повальные разоблачения в публицистике:
- А может не упираться? В том виде, в каком театр существует, упразднить его, подождать, пока определится явный и массовый спрос, и тогда попробовать на него ответить.
- А если он не определится? Кто вообще способен его определить?
- Прекрасно! Значит, тем более я прав. Туда нам и дoрога.
- Речь идет о сотнях тысяч людей.
- Капля в море. Если 6ы одной этой жертвы оказалось достаточно, можно считать, что мы легко отделались. Не забывайте, на нас много грехов висит.
Остальные задумчиво слушали, с разной степенью самоуверенности откинувшись на спинки стульев. Я наблюдал за высокой с неподвижным лицом актрисой, в отношение которой стали недавно звучать характеристики «великая, трагическая», в соответствии с чем она в свою очередь уже не сбрасывала облик скорбного величия, сложный составной образ Ахматовой, Федры и Нефертити. В обмен мнениями тем временем вступил Виктор Сергеевич Раздетый, острыми пьесами которого были заполнены театры всего каких-нибудь двадцать лет назад.
- Мы что-то снова много на себя берем. Разве пристало нам такие вещи решать? Не оставить ли все, как есть? В конце концов, лучший путь – естественный.
- И я абсолютно с Виктором Сергеичем согласен, - продолжал Урусов, - только один момент. Может кто-то из нас здесь, сейчас до конца откровенно сказать, что занимается достойным и полезным делом? Вот что, собственно, всех нас волнует, как я понимаю. Какова в нашей ежедневной деятельности доля правды и какова доля неосмысленной инерции и житейских привычек?
- Я, - раздался высокий, нервный голос молодого режиссера Сергея Малюка, - Я могу сказать откровенно. Житейских привычек у меня нет. То есть, те привычки, которые составляют мое житие, вряд ли кто счел бы для себя подходящими. И я считаю, что область, в которой помещаются все мои помыслы и стремления, достойна и даже необходима для человека. Дела на самом деле гораздо хуже. В каком соотношении то, что я делаю, находится с жизнью в стране? Сотрясается земля, а я сотрясаю воздух, что может и естественно в иные времена, но сейчас – как-то даже не по себе бывает... Я, например, могу себе представить, что вот от этого, любимого и единственно важного для меня дела отказываюсь, жертвую им, если кто-нибудь сумеет мне толково объяснить – во имя чего.
Собравшиеся явно предполагали, что весомое слово скажет наконец Георгий Иванович Калугин, вернувшийся недавно после недолгого вынужденного скитания по загранице. Бурная схватка с властями и триумфальное возвращение как будто наделяли его несравненным авторитетом. Но разговор пока продолжал его коллега, режиссер прочного положения и умеренной известности Вениамин Раевский:
- Да, времена занятные... Я вот что еще заметил. Новые формы всегда находятся в резонансе с общественным энтузиазмом – любого толка. Ныне же как будто источники воодушевления в обществе иссякли. Может быть, от этого и нас уныние охватывает? А организационная проблема сама по себе не так уж сложна, я думаю. Если бы только в этом дело было. Партийную элиту никто ведь не собирается казнить или лишать минимальных удобств. А уж ее-то грехи всем очевидны. Даже если согласиться, что наша вина не меньше – что, я бы сказал, дело спорное – можно обеспечить всю театральную армию приемлемыми средствами, пока она не рассосется, не рассеется по другим сферам деятельности. Нужно только перестать выбиваться из сил, искусственно поддерживать творческую, так сказать, активность.
- Я 6ы все-таки вернулся к вопросу о спросе, - подал голос знаменитый изгнанник Венедикт Парамонов, - прошу прощения за каламбур. Что же получается: если нас просят – мы работаем, если нет – дожидаемся, когда попросят? Это как раз и есть старые позорные дела, господа. Заказ никогда не был источником творчества. Он стимулировал, да, помогал с голоду не подохнуть, но само творчество никогда им не определялось. Если мы не в состоянии придумать ничего лучшего, чем остановить работу в ожидании спроса, то, разумеется, надо все бросить и молча разойтись. Но не забывайте, что, бросив зрителей и дав отстояться этому массовому спросу, вы потом будете удовлетворять такие заказы, о которых сейчас без стыда и помыслить не можете. У меня вот такое предложение возникло неожиданно. Вы уж не осудите, я прямо, по-французски... у кёр дю сюжэ, так сказать. Есть тут у меня пьеска. Написана она не сегодня, но, как и многое другое, до прямого своего назначения допущена не была. Я вам сейчас прочту одну, может быть, две сцены, и разговор наш станет более конкретным. Пьеска, на мой взгляд, не простая. И если определить, почему она оказалась под запретом, может нам всем яснее будет – до чего у нас все это время руки не доходили. Там, ждут от нас чего-то или не ждут... А вот что нами не доделано, это-то надо уж во всяком случае доделать, не так ли?
Минут двадцать он читал фрагменты, из которых можно было понять, что речь идет о каком-то современном парафразе «Слуги двух господ».
- Ну, пожалуй и хватит, господа, примерно в этом духе.
Толя Спасский вежливо и доброжелательно помог оторвавшемуся от родины талантливому сыну яснее осознать ситуацию:
- Венедикт Ильич, это все, конечно, очень хорошо, и, я думаю, у каждого из нас есть кое-что в столе. Но сегодня мы несколько иначе хотим подойти к проблеме. Мы, видите ли, оказались в неожиданном, совершенно невозможном положении, когда под вопрос поставлена сама необходимость нашего существования. И давайте уж постараемся быть последовательными. Речь идет не о, собственно, пьесах – хороших или плохих, а о том, что каждый из нас чувствует свою личную вину за то, что происходило и происходит, некую тяжесть, мешающую нам всем распрямиться. И должен быть, вероятно, какой-то общий для всех исход, развязка, так сказать.
Вслед за критиком друга поправил киношник Катаев:
- Веня, ты прости, старик, не такое сейчас время, чтобы личными обидами заниматься. К чему ты, а? Ну, хорошая пьеса. Но ей уж лет пятнадцать, если не больше? Я честно тебе скажу, мне сейчас никто не запретит ее снять. И имя твое – хороший мазок для титров. Но я 6ы не стал, ей богу. Пятнадцать лет, старик, подумай! Да ты сам уже сейчас так не напишешь.
Следующее заявление молодого режиссера давало, пожалуй самое точное представление о том, в какой бедлам превратилась плотная, дышащая здоровьем театральная жизнь столицы. Малюк даже встал, что можно было рассматривать, как готовность немедленно уйти.
- Если мы будем продолжать это сюсюканье, никакого смысла во встрече нет. Пьеса – барахло. Древнее, путаное, пустое барахло. Ее и пятнадцать лет назад не надо было ставить. Я не верю, что мы до такой степени оглохли, что не можем отличить приличного материала от авторского зуда везде поспеть.
- Я вас что-то не припоминаю, - миролюбиво отвечал Веня Парамонов, - Вы из самых новых, видимо? А позвольте вас спросить, сударь мой, вы вообще-то кто будете? Брук? Барро? Форман? Стреллер?
- Да я – никто... так, сухая кака толченая... Но вот вам-то почему охота пришла о театр свой язык чесать? Извините, я по-русски...
- Да дело-то не в этом, вы мало знаете мир. Европейские студенты...
Обострение было прервано метрдотелем, который уже несколько минут дожидался в дверях, когда на него обратят внимание. Кампания охотно отвлеклась от ссоры.
- Я извиняюсь, - сказал метр, - Люди узнали, что здесь Георгий Иваныч. Я пробовал объяснить, что вы тут не отдыхаете, но они просят с большим почтением. Очень хотят.
- Чего хотят-то? - буркнул седой, самый старший из всех режиссер, так и не произнесший еще своего весомого слова.
- Брежнева и Сталина, если можно.
- Извинитесь, скажите, что занят. В другой раз.
- А почему, Георгий? - сказал, улыбаясь, Антон Акмос, - Ты же любишь, я знаю. Это ведь ненадолго. Мы подождем.
Калугин кряхтя поднялся из-за стола и ушел вслед за метрдотелем, бормоча на ходу: «Вот и Лаурентий всигда так... Никак не хочишь мучишь народ, а Лаурентий гаварит: нада, Коба, ти жи любишь...»
- Антон Васильич, что вы обо всем этом думаете? - спросил Акмоса Урусов после короткого, но все же разрядившего обстановку смеха.
- Не знаю, как сказать, чтобы не обидно было. Не сердитесь, если вам покажется диким мой вопрос. Кому-нибудь хочется – я имею в виду отчетливое, срочное желание – что-то поставить, сыграть? Не из стратегических соображений, а вот прямо завтра с утра начать репетиции?
- Это не вопрос! - взвизгнул вдруг моложавый хромой театровед Владлен Сизов, за которым по непонятной причине закрепилось прозвище «Риголетто», - Мы собрались сегодня именно потому, что общее положение вышло за рамки отдельных идей. Все мы чувствуем, что барахтаемся в пустоте.
- Это ведь хорошо должно быть – пустота... Такие условия у кого были-то, подумайте. Никто ничего не требует, не будет потом искушения оправдаться, что кто-то нажимал...
- Антон Васильевич! Не надо нас творческой потенцией к стенке припирать! - не унимался Риголетто, - Эта пустота не на пустом месте возникла. И никто из нас тут не ангел! За прошлое следует ответить – это требование, по крайней мере, неотменимо. 3а общую дикость, за убогий эстетический уровень людей, за разрушение культуры, которое отозвалось непомерно разросшимся авторитаризмом, гибелью художников, нашим собственным участием в их преследовании – за все это придется отвечать. И время пришло. Вот это осознание и собрало нас здесь сегодня, как я понимаю. Зачем же делать вид, что мы начинаем с чистого листа? Опять врать? Мы не имеем права себе этого позволить! Мы не имеем права забывать, что полки в магазинах пусты и по нашей вине.
- Нет, нет – забудьте!.. Забудьте обо всем! Забудьте о пустых полках и очередях, о национальных раздорах и о вашем депутате, забудьте о неконвертируемости рубля и разгуле преступлений, о руководящей роли партии и антисемитизме, о водке, о вате, о мыле, о батарейках и туалетной бумаге. Забудьте о низкой зарплате и кооперативных ценах, о немцах Поволжья, о яростной прессе, о сталинских и ленинских преступлениях, об инвалидах, о гордых прибалтах, о пакте Молотова-Риббентропа, да и о самом воссоединении Германии; забудьте о запрещенных и разрешенных книгах, о Ростроповиче и Солженицыне, о потерявшем стыд кинематографе, о коллективизации, о социализме - и о том, и о другом, и о третьем, о памяти и о «Памяти» забудьте ради всего святого! О краже колес с автомобиля, о краже няньками продуктов в детских садах, обо всех кражах и о ваших собственных в том числе. Забудьте о независимых профсоюзах, о поездках заграницу, о церкви, о рынке, о китайцах, о тысячелетии крещения Руси, о рыбьем жире, о «Голосе Америки», о карточках, о стукачах, о детях своих забудьте; об охране окружающей среды, о стариках, об атомной войне вы уже забыли, я надеюсь. Забудьте о копировальных машинах, о проституции, о западной технологии, о Галилее, о возникновении Вселенной. Забудьте о телевизионной психотерапии, о летающих тарелках, о бриллиантах, о музыке забудьте вообще! Забудьте об асфальте улиц и о вишневых садах, о еврейском геноциде, о наркотиках, о Байкале, о раке, о времени, о больницах, сберкассах и банях. Забудьте о демонстрациях, о лотереях и голодовках протеста, о живописи, об эмиграции, о первой любви! Забудьте о солнечных затмениях, о кофе, об электрических проводах, о скорости забудьте навсегда. О чернилах, о крушениях поездов и самолетов, о черносливе, о ветре, о перелетных птицах, об экзаменах - о них особенно! О новом патриархе тоже забудьте. Забудьте о фотографии, о домашних животных, о письмах, об анекдотах, о наградах, о галстуках, о боли, о воде. Забудьте о мертвых. Забудьте числа. Забудьте о колючей проволоке, о спичках и о временах года. Забудьте о пророчествах, о постельном белье, о слякоти, о пиве. Постарайтесь забыть о друзьях. О звуках, о фруктах, о велосипедных прогулках, о деньгах, о запахе сена, о Кремле, о детстве, о Дальнем Востоке, о сновидениях, о Чуке и Геке. О спорте тоже надо забыть, о красном и зеленом свете, о морозе, о хищниках, об отметках... Все, что я еще не назвал, забудьте сразу, единым махом. И только тогда взгляните на себя в зеркало, о котором мы с вами забыли с самого начала... Так даже спектакль можно, наверно, поставить. Человек смотрит на самого себя. Ничто не отвлекает... Увидеть, стать на мгновенье самим собой – неряшливым, злобным, обуянным завистью и похотью, жестоким и изощренным в своей жестокости существом... Чем мы отличаемся от скотов? Может, с этого начать? Вероятно, вот этим человеческим взглядом в зеркало, позволяющим оценить себя в таких категориях, в полной мере. Жуткая возможность, да? Непосильная для нас, мы к ней не готовы, и все-таки решаем общие вопросы... «Тартюфа» с таким зеркалом поставить... Как один – так все любуется собой, прихорашивается, одним профилем повернется, другим: «А! Хорош, сукин сын!» Наискосок от левого портала – в глубину, чтобы часть зрителей могла себя видеть... А потом в какой-то момент он их в зеркале увидел, сравнивает с живыми за рампой... Ну ладно. Так что мы решили?
Молча переваривало собрание неожиданную вспышку Акмоса. Молчал нахохлившийся, как больной щегол, Риголетто; молча поигрывал чайной ложечкой его соратник по критическому перу Толя Спасский; замер, зажав подбородок в кулак, мужиковатый художник Михаил Урусов; еще неподвижнее стало красивое лицо актрисы; оба драматурга погрузились в глубокое раздумье и не замечали, что руки их со сцепленными пальцами лежат на столе в совершенно одинаковом положении. Еще я успел увидеть, как мелькнула на портьере занавешивавшей дверь рука вернувшегося Калугина с металлической цепочкой на запястьи и скрылась, не обнаружив владельца. Тишину нарушил Сережа Малюк.
- Колоссально мозги прочищает... Конечно так – грешили сообща, а расплачиваться каждый будет в одиночку. Одно, по крайней мере, ясно: кампании отменяются. Можно было бы и самим допереть. Так что, жертвуйте кто чем может...
Удивительным образом обнаруживался какой-то общий надлом воли. Хулигана Малюка-то еще можно было вообще не принимать в рассчет, но и в развернутой филиппике Акмоса никто из присутствовавших не нашел, за что зацепиться, чтобы вернуть на ясную дорогу понесшуюся куда-то напролом и без разбору беседу.
Пренебрегая общим замешательством, Вениамин Парамонов пересел к Акмосу и спросил, не хочет ли тот попробовать свои силы в каком-нибудь западном театре, как бы намекая на квалифицированное содействие. Акмос вежливо и без каких-либо объяснений отказался.
Уходили неудовлетворенными, обескураженными. Предназначенная стать исторической, встреча в «Славянском базаре», с небольшим расхождением дат ознаменовавшая столетие той, первой, дивиденды которой стремительно истощались, облегчения не принесла.
Дня через три Акмос попросил меня с ним повидаться. Работа, которую, как я полагал, он предложит, меня не интересовала, но его порыв произвел впечатление, интересно было еще что-нибудь от него услышать.
На крутом Рождественском бульваре мы сели на спинку скамейки, сиденье которой покрывал снег, и он сказал:
- Я собираюсь поставить «Гамлета», хочу вам предложить сыграть.
- Почему?
- Ну, почему вообще спектакли нужны? Чтобы у людей было о чем думать. Нельзя же все время думать о правительстве, лучше пусть думают о смерти, о судьбе. Я увидел вас в этой роли, а вам, мне кажется, пора ее сыграть.
- Я давно уже не работаю по-настоящему, честно говоря, боюсь, что разучился.
- Если говорить о технике, то сейчас почти никто работать не умеет, да это не так важно. А насчет всего остального, вы на себя наговариваете, по-моему.
- Ладно, я притворяться не хочу, конечно все внутри у меня подпрыгнуло, и вряд ли я наберусь наглости, чтобы отказаться, но должен вас предупредить, что я сейчас не в самой лучшей форме.
- Я знаю.
- Подождите, Антон Васильич, что вы знаете?
- Я за вами наблюдал в ресторане и, кажется, догадываюсь, о чем вы размышляете. Бросить театр хотите?
- Черт! Неужели это можно заметить?
- Нельзя, нельзя. Мы, видимо, одинаково думаем о некоторых вещах, и я догадался. А если это так, то тем более, вот вам прекрасный случай – попробуйте себя в такой сильной роли, мне кажется, что у вас получится, а тогда с чистым сердцем можете сказать: сделал все, что мог.
- Ну вы и искуситель.
- Да я шучу. Как я могу быть уверен, что не провалимся? Тогда вам, конечно, тяжелее будет уйти, все решат, что это из-за неудачи. Но с другой стороны, разве это имеет какое-то значение?
- Никакого.
- Ну, видите.
- А если получится, появится новый соблазн.
- Вот и проверьте себя окончательно. Но я не понимаю, о каком соблазне вы говорите. Играть захочется? А что в этом плохого?
- Вы сказали, что мы одинаково думаем. Так вы, значит, считаете, что играть можно?
- Когда хочется.
- Нет, я не так об этом думаю.
- Ну, вы подумайте еще пару дней. Давить на вас я, конечно, не стану. А если захотите попробовать, то приходите. Я сейчас работаю на Чистых Прудах.
- Еще не легче! Туда-то вас как занесло? Хотя, какая разница, действительно.
- Приходите, Володя, в любом случае. Перед тем, как окончательно бросить, взгляните еще разок на то, с чем расстаетесь.
Я знал о нем мало, видел один его спектакль очень давно и не запомнил. Он сразу же уехал в провинцию и с тех пор в столице не появлялся. Доходили слухи о каких-то его удачах, но какое Москве дело до периферии.
* * *
Город покрылся испариной ужаса от предстоящей расправы. Вину свою он толком не осознает, хотя чувствует, что провинился страшно, смертельно. Представить не может, что с ним за это сделают, но знает, что будет немыслимая, раздирающая казнь. И сам он сейчас опаснее, чем когда-либо прежде, он способен от отчаяния на что угодно, на любую мерзость и жестокость, последнюю жилу свою будет защищать свирепо – пусть с него кожу с мясом будут драть, пусть вытекут глаза и расщепятся кости, этого он, может быть, даже не почувствует, так как знает, что надвигается последний час, что в этот раз от него не отступятся, будут добираться до главной жилы, чтобы порвать ее, закончить его затянувшееся, позорное существование. И в предчувствии этой последней драки он покрывается испариной ужаса.
Лиловатый туман его нечистого дыхания меняет цвета фонарей, вечерних окон, реклам и их отражений в мокрых улицах. Нет в нем ни дома без ущерба, ни камня без выбоины, ни мостовой без трещины. Лоснятся черные, избыточно искривленные ветви лип, они тускло блестят круглые сутки от пропитавшей все тяжелой влаги, и впрямь похожей на пот загула и греха, слишком густой, чтобы собираться в капли, рожденный не мудрой освободительной работой организма в ответ на внешний труд, а оборонительным свойством кожи, от которого нелегко избавиться, даже вернув себе достоинство трезвости и покой целомудрия.
И через этот, насыщенный сыростью, припаленный цветными дымами, готовый соскользнуть в ужасающее небытие научной фантастики город я бегу сломя голову, чтобы не опоздать на встречу. О ней условились еще за тем невероятным столом на восемнадцать персон в гулкой комнате, где сидели вчетвером – брат с сестрой, их неразговорчивый отец и я, чужеродный бесправный гость. Это дочь – высокое, неописуемой красоты создание – была причиной и основанием для моего присутствия. Ну и брат, с которым у нее абсолютный резонанс. Старик всего этого не одобрял, и надо было находить язык какого-то размашистого аристократизма, чтобы, касаясь под столом отзывчивой руки, мириться с надменностью отца и нагло заявлять: «У вас замечательные дети...»
Я выбегаю на верхнюю площадку бесконечно длинной парковой лестницы и, не помешкав, устремляюсь вниз – что, конечно, чистое самоубийство, я сам не верю, что эти неравномерные скачки по мокрым ступеням донесут меня невредимым. Падение, однако, не приводит к гибели. Кто-то помогает, перевязывает разбитые колени и ребра, и в порванной одежде я все же долетаю до места. Там нет ничего – замкнутый кирпичный забор с натянутой поверху колючей проволокой. Необъяснимая уверенность заставляет меня взобраться на стену, и сверху, выпутываясь из колючек, я вижу на дне каменного колодца, среди грязного и вонючего запустения ее брата, который тоже оборван и полугол, но не смущен ни собственным видом, ни грязью и запахом разорения. Стремительно катящийся к катастрофе город для них, избранников – всего лишь забава.
- Ты опоздал, - говорит брат, отмечая очевидность, да еще, может быть, собственное игровое преимущество оказаться на месте во-время.
- Да, но что творится! Я бежал по лестнице и упал...
- Правильно, когда опаздываешь, приходится бежать, - соглашается он. Это квинтэссенция особого, присущего им обоим юмора. Высота голой стены, за которую они неизвестно как попали – прямое олицетворение пропасти, отделяющей меня от брата и сестры. Тут все невозможно изначально. Однако, встречаемся же мы, где-то вне родовых пространств, в мрачном и смрадном тупике взмокшего от ужаса города. За эту мысль я и держусь. И все образуется само собой, как дыхание. Необычайно трудно удержаться от слов любви, oт гимна радости. Но вот этого-то как раз и не следует делать, ибо я не Уитмен, чтобы петь гимны дыханию, и не Китс, чтобы коснуться такой боли, как отношения брата и сестры. Они почти не говорят, но тщетно пытаться в этом мире их разъять. Само единство – трепетно живое, устойчивее лжи и для других непроницаемое. Этот рай мне надлежит утратить, может быть забыть со временем. Причуды сна! В них кроется, однако, разрешенье одной загадки. Ночь, поторопись! Терпи, душа! Мы пробуравим дно, чтобы узнать, что там погребено...
III.
Уже минуты две длится тишина – не та, расслабляющая, сладостная непробужденному сознанию участников утреннего розыгрыша, предшествующая обычно длинному вступительному объяснению - сейчас всем уже хочется размяться, повторить чтo-нибудь знакомое, побыстрее продвинуться к концу сегодняшней работы.
- Вопрос такой, - говорит Акмос сухо, чуть не враждебно, - Если 6ы Гамлет убил короля сразу, меньше было бы смертей. Ночью, на молитве, еще до разговора с матерью, до Полония. Полоний жив, Офелия, мать, кто там еще? Розенкранц и Гильденстерн живы, Лаэрт. Шесть человек. И вот вопрос - лучше было бы?
О, это позорное дремотное состояние мозга по утрам! Ясно, что он к чему-то клонит, что тут есть какая-то суть, важная для каждоro, и ясно, что мы не способны приступить к ее разгадке, и что нельзя в этом признаться, потому что - зачем же мы тогда пришли? У всех прикушены языки, гoтoвые мямлить о жанре трагедии, о высших целях, о том, что ученый Аникст запретил такие вопросы Шекспиру задавать.
- Ну, вы почему застряли-то? По нашим обычным меркам - лучше? - настаивает Акмос.
- Антон Васильич, - вступается за всех на правах вечно любимого шутника крупный, вальяжный Алик Вайсфельд, - кончайте нас мордой по асфальту возить.
- Это вы сами выбрали, так вам захотелось - быть возимыми мордой по асфальту. Мне это чувство жжения в лице тоже знакомо. Что лучше - убить одного плохого или одного плохого, трех хороших и трех - так себе? Слушайте, если мы этого не знаем, значит пьеса никуда не годится. Как объяснить, зачем дожидаться шести смертей, чтобы получилось правильно?
- Ему же надо не просто убить, не отомстить, а чтобы всем стало ясно, что справедливость восстановлена, - неохотно предлагает Лева-большой.
- Да, да, убить-то все равно придется. Убить человека - очень, очень трудно. Даже когда у нас есть все основания. То есть - кажется, что есть. Нужно исхитриться, пойти против своей природы, обмануть ее, уговорить или изменить, это дело не простое. Что бы мы о людях ни думали, человеческая природа невероятно сильна, иначе не создалась бы цивилизация - я уж не говорю о культуре, искусстве, гениях, религии - это ведь все не умом делается, а человеческой природой. Он - тоже человек, ни больше, ни меньше, и на других должен смотреть, как на людей, не идеализируя их, зная за ними слабости, коварство, но мир должен воспринимать, как мы - как здоровое начало, не райское, а здoровое, способное развиваться, доходить до крайностей. И вдруг, внезапно и бесповоротно ему открывается собственное предназначение, настолько неожиданное, настолько проще и ниже всех мыслимых вариантов, что он действительно грoмом поражен. Учишься, раздумываешь о будущем, о призвании ученого, учителя, врача, и однажды высшим и безусловным озарением тебе сообщают, что ничего этого не надо, что цель твоего земного существования... ну, чтo-нибудь такое, понуро бездарное... продавать билеты на каток, или коньки выдавать напрокат... Как-то все на зимний пейзаж тянет сегодня... Ну, чтo-то невероятно и бесконечно тупое. И это бы еще ничего, это можно еще как-то руками совершить, но и жить после этого нельзя. Так что, знак очень определенный: жизнь прожита, конец. Вот он никому этого не может объяснить, даже девушке своей. Когда не выдерживает, пытается как-то ей это передать, язык не слушается, получается ерунда: «иди в монастырь», «знаю я ваши художества», «выходи за глупого» - это очень бездарно, пошло. Для меня всегда загадкой было, как Офелия отвечает. Есть, кажется, еще какое-то детективное решение, мол, не смогла скрыть от Гамлета, что отец с корoлем в засаде, и теперь его выгораживает перед ними, как бы подыгрывает его сумасшествию. Она вдруг потеряла его и как-то стонет, пo-моему: «Ой, что с ним сделали! Ой, он губу до крови раскусил! Да как же! Да разве есть на свете лучше него человек!» - увидела его буйно сумасшедшим, это такое жуткое зрелище, такое потрясение, что собственное безумие где-то рядом пролетело. Несколько минут продержалась, и тронулась потихоньку. Посмотрите, какая она дурочка там дальше, в «Мышеловке»… Все, что ему осталось сделать - научиться убить, лишить человека жизни, как это делается практически и психологически. То есть, как-то так исковеркать самого себя, свою природу, чтобы оказаться на это способным. Если он преуспеет в этом странном труде, он наверно должен к концу погрубеть и поглупеть, в сцене с могильщиками, скажем, или - подрался с Лаэртом, а как потом объясняет, когда извиняется? Это, мол, не я, а моя болезнь. Слушайте, это же гнусно. Или действительно повиниться, или не захотеть, а это какое-то современное прохиндейство, из Чернышевского и Плевако. Хорошо бы сделать ему двадцать-тридцать костюмов одинаковых, чтобы каждый следующий был чуть-чуть серее. Сначала он черный, а с Лаэртом в мoгиле дерется уже серый. А потом в поединке - опять черный, или черным плащом его Горацио укутывает, когда его колoтун бьет перед смертью. Ну, это, наверно, чушь... Для кино, может быть… Но не возмездие, не справедливость, а вот эта возможность Провидения взять и сломать судьбу, какое-го отрицательное избранничество. Этим он и привлекателен, тут не психология, а ближе к откровению. Я говорю это вам всем, пoтому что каждый на секунду должен ощутить дуновение чегo-то необъяснимого. Надо поискать. Вдруг Клавдий забеспoкоился без причины, заметался - не обязательно в «Мышеловке», там это для него, может быть, просто гнев, защита, не знаю… Есть, кстати, современная английская пьеса. Там изображено вот одно такое развернутое мгновение для Розенкранца и Гильденстерна. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» называется. Там это потрясающе разработано. Они не понимают, что происходит, вдруг замечают, что перестали действовать простые законы природы. Играют в орла и решку, и в девяностый раз подряд выпадает решка. Они главные герои там, где-то с краю появляются король с королевой, Гамлет. Здесь это ощущение возникает всего на мгновенье. Про Офелию я уже сказал, она более всех открыта к нему - ей всего сильнее и достается, даже у Полония это должно быть. Сегодня возьмем самое начало.
* * *
Соотечественники проявляют небывалую способность к быстрому формированию новых человеческих разновидностей. Два типа особенно стремительно размножились и стали наиболее заметны - журналисты и бизнесмены. Вообще говоря, появление и тех, и других заслуживает всяческих похвал, но его внезапность и гипертрофия их профессиoнальных замашек создают впечатление какой-то мрачной хлестаковщины.
Две молодые, бойкие журналистки пообещали, что разговор будет неформальный, и начали с взрывного вопроса: что вызывает у меня наибольшее отвращение - наверно, изучали какое-то западное пособие по журналистике. Обе они вызывали у меня сильные отрицательные чувства, но отвращение было все-таки чрезмерным словом, и мне не хотелось их огорчать. Я отклонил вопрос и предложил рассказать о недавнем прошлом, предупредил, что мы будем иметь дело с Игрой, посетовав на трудность определения этого феномена и призывая их по возможности забыть все дополнительные значения слова. Допустим, мы заговорим о трубе, пояснил я, и не сможем продолжать, пока не определим, идет ли речь о водопроводе, о похоронах Сталина, или о Диззи Гиллеспи. Но это просто. В случае Игры приходится использовать одни отрицания, почти как в Нагорной проповеди. Итак, мы говoрим не о проклятой Богом игре, где выигрывают и проигрывают, где ставки поддаются пересчету; и не о той, что похожа на войну, кончаясь иногда гибелью игроков; даже не о более достойном испытании человеческого естества, которое уместнее называть соревнованием. Все это суета, поучал я их, и нельзя сбиваться мыслью к суете, если речь идет об Игре, Игральном Доме, Игральщиках и Игральщицах.
Им понравилось. Подстраховывая свой заграничный магнитофон, они переписали все эти словечки от руки, и в промежуточном обмене репликами я уловил, что подлинный смысл слова «труба» в связи со смертью Сталина им неизвестен, их удовлетворяло жаргонное толкование, вроде того что, мол, дело было - керосин, швах, труба.
Раздумав их поправлять, я приступил к истории своего первого разочарования, которую уже вспоминал выше. Они даже не очень старались скрыть, насколько им скучно. То время, совсем недавнее, внезапно ушло для всех без следа. Его назвали подходящим словом и отвернулись.
- Теперь я, пожалуй, мог бы ответить на ваш предыдущий вопрос об отвращении, но не отвечу, - сказал я неожиданно для самоro себя и сорвался, - Спасибо за внимание, девушки. Я согласился, потому что мне хотелось узнать, что интересует вас, вы, как-никак - представители неисчислимого большинства.
Они еще немного упирались, уговаривали меня попробoвать. Я сказал:
- Вы смеетесь надо мной? Нет, вы, конечно, не смеетесь, это видно по вашим глазам, вы меня презираете, я поломал вам планы, испортил важное дело. Ничего, может впредь будете осторожнее. Такой мы народ - с нами опасно иметь дело. Вы даже сейчас не понимаете, что я имею в виду.
И они разозлились не на шутку.
Пока они ругались, я думал: слушайте, вам это ни к чему, зачем заглядывать с моей стороны? Для этого придется пoнять степень отчаяния, при которой человеку может захотеться играть, не испытывая при этом чувства стыда, при которой позор публичного ломанья не то что уравновешен, а с избытком перетянут знанием студеного ужаса бытия, лишенного игривости… Уходите прочь, мне, на вас глядя, плакать хoчется.
Что меня озадачивает, это что прежде, во времена молчания, достойнее всего было кричать, а ныне, посреди наперегонки орущих и вопрошающих правильнее, вероятно, было бы умолкнуть, и сделать это совсем не трудно, но есть тут какая-то дьявольская издевка, потому что молчание ничем тебе не грозит. «3лоупотребление мыслью», - сказал бы Стасик Волчаков.
* * *
Зимой, спустя два года после расставания с мастером, толчки сердца, ставшие снова различимыми, пошевелившие кровоток, проявившие слабое желание рук и мозга работать, явились следствием отчетливого, вновь испытанного сострадания. Нищий моего детства, сидевший на ступенях овощного магазина, ритмом существования резко отличавшийся от оживленных строителей послевоенного мира, внезапной вспышкой острого сочувствия вызывавший слезы на глазах, ком в горле и скорбную ненависть к обеспеченным, и все последующие воплощения обездоленности любого рода действовали подобно тому, как слабый электрический ток действует на вялые мышцы препарированного зверька.
Я и был раздавлен и препарирован, с явной сноровкой и максимальной пользой я мог в то время заниматься только одним - спать.
Днем обязательно надо поспать, это всякому известно, но если всякое утро принимаешь участие в так называемой репетиции - бесполезном предварительном розыгрыше, никуда не ведущем и никому не интересном, первая мысль по приходе домой: ложись, заспи это дело. Спать, однако, можно не сколько влезет, в семь часов надо выходить на сцену. В театр положено явиться за полчаса, добраться до театра - еще полчаса, перед выходом из дома надо кофе выпить, пoтому что иначе придется до первого антракта ходить по гримуборным и конфетки просить, а в антракт столько народу в буфет набьется, что до звонка не успеешь обернуться. К концу спектакля все магазины закрыты, дома тоже может ничего не оказаться, а с утра опять надо тащиться на рoзыгрыш - не просыпаться же на час раньше, чтобы за пoкупками сходить. Если же после утренней позорной работы едой заниматься, можно поспать не успеть, а поспать надо, вы сами говорите. Каков же этот сон? А таков, что еле прoдрав глаза, помощи от кофе не получив, бежишь к метро. Удобный выход в этот час пик, естественно, закрыт, потому что тех, кто валит по домам, в сорок две с половиной тысячи раз больше, чем нас - бестолочи, несущей им в ладонях, расплескивая в толчее и спешке, разумное и вечное. Приходится бежать кругом, ноги слушаются плохо. Понятно, что, скорее всего опоздаешь, так как зарабатываешь ты вoсемьдесят пять рублей в месяц, и денег на такси может не оказаться.
Оно не так уж страшно. Вообще, если в здоровом располoжении духа находиться, можно спокойно позвонить и сказать, что, мол, задерживаешься и будешь к началу. Но если задерживаешься часто, как-то сам себе становишься негож. Кроме того, можно и не дозвониться - много нас таких сообразительных. И, наконец, что это за диковина такая - здоровое расположение духа? Заморское чтo-то, вроде ЛСД.
В тот раз ничего такого не случилось, пробежек я не сoвершал, кофе был свежим, даже пряники дома оказались - обычный день, когда так и подмывает обратиться к Творцу с просьбой подвернуть тебе ногу на переходе через улицу, бросить тебя под троллейбус.
«Вечер добрый», - отвечала мне, картавя на английский лад одевальщица Рива Борисовна. Обычный день был и у нее, добродушной, жалостливой брюнетки, неудержимо плывущей к пенсии, привычно упускающей из виду свое членство в коммунистической партии страны. Бывали другие дни, когда пошатнувшись в ее сторону из-за несвоевременной выпивки, ты мог нарваться на принципиальную околесицу, защищающую идеологический фронт от бесстыжего и недoстойного тебя. Зачем тебе это надо, Ривушка? Может быть, затем, что начальницей твоей по костюмному хозяйству была типичная Наталья Степановна, у которой по злому умыслу судьбы детишки с балконов падали, и хоть живы-здоровы остались, но продолжали жить с оттенком этой обидной неудачи в начале пути, а она так переболела за них, что несколько озлобилась, и если не противопоставить ее членству свое членство, пожалуй, жить не дала бы, сгноила по мелoчам. Ты и так, я замечал, плакала иногда от ее дотошного руководства, но зато там, на ваших бюро могла свободно и наотмашь ответить, как член члену.
Мы помещались в гримёрной вчетвером. Четыре характера, четыре честолюбия, четыре пути к Игре и диван, на который пока претендовал я один. Они еще держались на ногах и между выходами на площадку пытались читать, травить небылицы, сплетничать или играть в одну из суетных игр, в тот день это были кости. Я в эти промежутки дремал, что наловчился проделывать в любое время суток, в любом положении, в одиночестве и в присутствии посторонних, в тишине и шуме, при свете и в темноте.
Каково бы было мастеру, случайно заглянувшему туда во время спектакля и заставшему игральщика спящим? Ему нельзя было бы объяснить то, в чем я с таким успехом убеждал себя: что Игра умерла, что здесь поселилась Суета, что тем, кто не выносит ее оживленного топота, стука кубиков с крапинами, плеска ладоней по гримёрным столам и зычных команд «гоп-доп!» - тем остается сделать вид, что не слышишь ничего вокруг, и удалиться в смежные области воспоминаний, запойного чтения и просто запоев, либо на самом деле отказаться слышать и при первом удобном случае - а тут-то и выясняется какое их великое множество - впадать в дремоту.
Мастер не понял бы, чего мы дожидались.
Рива сетует, что я лежу в костюме. И то правда, они стараются, держат в образцовом порядке все - от белья и носков, до пальто и шляп, чистят, стирают и гладят каждый день, и я благодарен им, потому что несказанно приятно облачаться в свежий игральный костюм. Сквозь суету и дрему он шуршит что-то о6 исключительности Игры. Бодрствовать мне невмoготу, Рива, голубушка…
Я сплю, я никого не просил разбудить меня к сроку. Рискованно полагаться на других. И не потому, что они способны на коварство - они способны, но скорее всего они просто позабудут о просьбе. Мерно журчит в трансляционном динамике речь действующих лиц со сцены, повторяющиеся слова, давно оттиснутые в профессиональной памяти. По какому-то чудному свойству подсознания я просыпаюсь на том самом слове, которое означает, что через три минуты мне надлежит быть внизу. Через три минуты мой голос точно так же зажурчит в гримёрных и будет служить сигналом для других участников того непотребства, которое мы, за неимением выбора, вынуждены именовать Игрой.
Отговорив две свои сцены, я переоделся и решил заглянуть в Дом Актера. Их было несколько в Москве, этих отстойников культуры, носивших, в соответствии с родом деятельности завсегдатаев, названия дома Художников, Писателей, Композиторов, Архитекторов. В них хозяйничали те, кто по тем или иным причинам не склонен был более заниматься музыкой или архитектурой, но желал оставаться в лоне профессии и пользоваться ее правами и привилегиями.
Изредка надо было создавать видимость живой связи с текущим творчеством, и тогда там устраивались концерты, выставки и прочие рецидивы потенции. Нет ничего страшнее публики в этих домах. Это не народ, в его малообразованной и все же драгоценной непосредственности, не тонкие ценители, избегающие приходить в творческие дома, не естественные поклонники, отобранные заразительным талантом. Это - косная и безъязыкая масса, переполненная желчной завистью, протравленная трепотней за столиками внутренних ресторанов, куда человеку с улицы не попасть. Подлинная цель их присутствия в зале проста: «Ни для кого не секрет, что музыка (живопись, литература...) иссякла, но если вам нравится заблуждаться и корчиться в бесплодных усилиях ее возродить - валяйте, а мы лишний раз убедимся, до какой степени пал высший, прежний, наш уровень, и ваша очевидная беспомощность поможет нам еще ярче вспомнить былые, не оцененные в должной мере успехи и неосуществленные надежды. Но цель эта слишком жестока в своей наготе, и мы - люди тонкие, воспитанные - спрячем ее поглубже и молча посидим, устремив взгляд в спинку переднего кресла, посередине между тем, что нам предлагают, и своими воспоминаниями, и вежливо разойдемся».
Подобными формами чрезвычайной активности Дома Актера были вечера знакомства с молодыми игральщиками и вечера несыгранных ролей.
Несмотря на ужасающую ноябрьскую слякоть, я не успел, пересекая Пушкинскую площадь, даже промочить ноги и, сидя в удобном кресле, обитом красивой синей тканью, глядя по неписаному закону зала не на площадку, а на стены вокруг, где помещались крупные барельефы знаменитых игральщиков прошлых лет и веков, чувствовал, что мной овладевает забвение. Какая-то гоффмановская абсурдность этого места делала его нереальным, и этого было достаточно, чтобы я отрешился от глупости и стыда. Рельефные портреты на стенах дружно выделялись мощными двойными подбородками, как будто главной заботой игральщиков тех лет было не упустить чего-нибудь из богатой и разнообразной кухни, которой кроме всего прочего отличалась их эпоха от настоящей.
Отхлопали молодым, без особых претензий танцовщикам, ведущий уже вкрадчиво знакомил публику с Сашенькой Хазаровой, недавно благополучно доведшей до петли свою Софью Перовскую в одноименном фильме. «Каковы же теперь ваши планы?»
Вдруг перемещение теней исказило лица корифеев на стенах, ропоток пробежал по креслам и умолк, споткнувшись о тихий властный голос, быстро заполнявший зал. Я прослушал беседу с Сашенькой и следующее объявление и теперь не отрывал глаз от серо-зеленой фигурки в ременных сандалиях, торопливо вспоминая, что сказал о ней ведущий, и какие-то прежние обрывки сведений. Слышал же я, говорили, что в одном из игральных домов появилось необычайное. Нет, я не помнил... Не помнил, шла ли речь о какой-то роли или о целом спектакле, это было неважно, потому что ни то, ни другое не представлялось вероятным. Голос лился и креп, быстро избавляя от умиротворившего было забытья. Я не испытывал такой радостной тревоги со времени первых работ с мастером. Тут просходило чтo-то иное, но это несомненно была подлинная Игра. Может быть, ей нехватало завершенности. Крупный светловолосый антагонист колхидской царевны обвинял, но гнев его был выдуманным, пустяшным, ей даже не надо было отвечать, чтобы все явственнее утверждалось ее превосходство. Она была права. Все во мне рванулось навстречу этой, данной от века правоте и дрожало от предчувствия: а что если эта, до сей поры не нуждавшаяся в сильных проявлениях правота будет побуждаема к тому осмысленным и достоверным противостоянием другой воли?
Углубившись в себя, мужественно укрепив душу, сотрясенную известием об измене, царевна взбиралась по крутым ступеням вопросов, они становились развернутыми, вычищая случайности, отбрасывая ничтожные возможности, могущие показаться причиной - что заставило его так перемениться, вывернуться наизнанку? Нет, - отвечал он, подтверждая ожидания царевны, - не это. И снова - нет. И опять. Тяжелое движение вырастало в махе и ритме и наконец отлилось в раскаленное, брызжущее искрами требование: «ЧТО ЖЕ ТОГДА?» Оно нуждалось в таком же жарком и тяжелом ответе: «Ты-ы-ы-(м-м)! Сама-а-а-(р-р)!»
Но не было соответствия в Игре, и вместо этого, уже выстраданного разрешения нас ткнули в жалкую смысловую копию. Как удар без внутреннего размаха, как пуля, которую беспомощно роняет на землю слишком укороченый ствол, с глухим стуком упали на деревянные подмостки слова «Ты-(к). Сама-(п)». Скорбная царевна! Впустую истрачены усилия, нет помощи в Игре, нет сострадания, ей приходилось вновь отправляться в изнурительный подъем по шаткой лестнице неравного партнерства. Я завороженно смотрел на смуглые лодыжки и худые щиколотки, схваченные ремнями, на летающие руки, тщившиеся из воздуха создать достаточную и достойную преграду, одоление которой могло бы вести ко все новым и новым взлетам Игры. Мысленно я уже находился там, на площадке и подыгрывал ей, подставлял плечи и грудь, оттолкнувшись от которых она смогла бы взлететь. Я видел не только то, что происходило в эти минуты, но и то, что должно было бы быть, что явилось испытать мою засыпающую веру в возможность игрового счастья.
Вежливо похлопав со всеми, как бы оставляя за собой право отдать полную дань благодарности потом, вне бесстыжего панибратства, без особых стараний скрывающего отрыжку зубриком, я спустился вниз и оделся. Шел, глядя под ноги, не подставляясь под взгляды знакомых. Я не надеялся встретить ее тут же, еще сегодня и не заботился об этом, существовало много способов довести до конца, завершить эту важную встречу. Она стояла в вестибюле, уже в пальто, с цветами в руках и, вероятно, когo-то ждала. Никогда прежде я не вступал в благодарственные отношения с коллегами, как обыкновенный зритель, неловкость всегда была сильнее чувства благодарности. Сняв шапку, я подошел, решительно протянул руку и сказал:
- Простите, я работаю на Малой Дмитровке, если это имеет какое-то значение для вас. Я потрясен тем, что вы делаете и хочу поблагодарить вас от всего сердца. Это замечательно. Спасибо вам.
Я поцеловал руку, которую она не совсем уверенно, но все же подала. Она нетерпеливо оглядывалась - ей не нравилось стоять здесь на виду у всех, выдерживая липкие взгляды - и так же нетерпеливо, с какими-то намеками на поклоны отвечала:
- Спасибо... Очень рада... Спасибо...
Домой я пошел пешком, по привычке начал спускаться к метро по шумной Тверской - бывшей тогда еще улицей Горького, однако, еще раньше побывавшей уже и Тверской - мимо Камергерского переулка, где помещалась студия, в которой когда-то учился, но, дойдя до метро, свернул налево и продолжал свой путь по грязному, раскисшему снегу под медленно слетавшими с неба крупными белыми хлопьями.
IV
Мальчик-с-пальчик, чудный ребенок погибает от неведомой болезни, истаивает на глазах. Беспомощные врачи огромной, запущенной больницы махнули рукой и, идя навстречу матери, допускают любое знахарство со стороны. Сейчас это компрессы из мочи, особым образом приготовленной. Будучи единственным донором, регулярно навещаю малыша, пройдя через всю пустынную клинику и сдав по пути снадобье в какой-то лаборатории.
Мальчик, отрешившись от близких, ждет и надеется. Матери его тоже ничего не остается, но она враждебна ко мне, раздражается, хоть и старается не подать виду.
Прихожу в очередной раз. Врачи с вялыми намеками приподнимают со столика на колесах белую простыню – на стеклянной поверхности лежат несколько желтоватых полупрозрачных неровных камешков разной величины, похожих на нешлифованный янтарь, это все что осталось, но что-то в нем еще теплится. Осторожно приникаю к камешкам щекой. - Слышишь меня?
- Слышу, - отвечает едва различимый голосок, в котором терпение, покорность, смиренное ожидание.
- Ты держись. Видишь, я пришел...
- Я держусь. Только мама обижается. Говорит, ты все опаздываешь...
- Это неправда. Я ведь по дороге должен в то место зайти каждый раз. Я лекарство тебе приношу, ты же знаешь.
- Я знаю. Я не жалуюсь. Только говорю. Я не могу ее утешать, объяснять ей...
- Тебе и не надо. Ты не беспокойся. Береги силы. Все будет хорошо. Надо, чтобы ты сам верил.
- Я верю тебе.
- Вот и хорошо. А я тебя не брошу.
От камешков исходит едва заметное тепло. Там держится в какой-то невероятной форме жизнь. Я прикладываю к камешкам серые фланелевые мешочки, заполненные влажным песком. И этот запах!..
После провала времени узнаю, что малец жив и здоров, и даже вижу его издалека играющим на детской площадке. Общения меж нами больше нет, лишь внутренняя связь еще тревожит. Мне кажется - и он подозревает, что я не постороннее лицо, что с жизнию и смертию играли мы с ним совсем недавно. Как сказать? «Тебя шершавым янтарем я помню»? «Смотри-ка, как спасительна моча»? «Поговорим в молчании, как прежде»? Нелепые, безумные слова... Но и его, я чувствую, смущает ненужная привязанность ко мне. Нельзя уйти, не оборвав все нити, не вытравив из памяти ребенка наш общий, наш кошмарный, дикий сон. Ко мне подходит. Как я поживаю? Спасибо, детка, чудно, чудно, чудно...
* * *
Еще не дав окончательного согласия Акмосу, я ждал сцены с Призраком, которая могла сама по себе определить наши отношения. Я помнил все спектакли, которые пришлось увидеть, и тот, в котором мне чуть не пришлось однажды сыграть, когда забитые актеры всего минуту спустя после открытия занавеса честно пытались изобразить ужас перед сверхъестественным явлением, все устрашающие образы Тени созданные с помощью дыма, записанного с эхом голоса, плаща, поднимаемого ветродуем - все эти сказки братьев Гримм.
Одна мысль о том, что меня могут заставить ни с того, ни с сего играть какой-то неведомый страх, и еще будут оценивать его масштабы и степень достоверности, заволакивала все вокруг дымной красной пеленой. Здесь находилось средoточие моей веры.
- ...Эта преисподняя или тот свет, или антимир, или что оно там есть тут как-то вмешивается, эти неведомые нам измерения - в наши знакомые три. Надо немножко оступиться, вляпаться одной ногой туда, продолжая обычные действия, только они на время станут нелогичными по нашим меркам. Пространство искривляется, время скачет - вперед, назад. Вот если очнувшись, поймать себя на том, что почесываешь пальцем ноги собственный затылок. Это в мышцах должно остаться: призрак появляется - ломается пространство, все трое видят его в разных местах, теряют правильное представление о том, где партнер, но действовать продолжают: следят за ним, держатся за землю, чтобы их туда не утащило - не руками, я имею в виду, это не ураган, а мысленно: «Меня зовут Бернардо... мне двадцать пять лет... пол у меня под ногами каменный, шершавый, удобный... где-то тут справа лежит алебарда... чуть позади мой друг Марцелл... кончится эта бодяга - мы с ним выпьем как следует...»
Призрак уходит - они замечают, что смотрят все в разные стороны, а один вообще сидит на земле, в камешки играет - вот этот ужас еще можно понять: что с нами делают! И все их разговоры - попытка наладить то, что разомкнулось, объяснить свою слабость, помочь друг другу, снять неловкость, быстро найти какую-то опору, чтобы в следующий раз еще хуже не получилось, не намочили штаны непроизвольно.
Слушайте, они даже острят. Допустим, Марцелл сидит на полу задумавшись, песочек пересыпает из руки в руку и бормочет сам с собой: «А с королем как схож!» Горацио и Бернардо переглядываются - это как лунатика на крыше разбудить. Горацио осторожно шутит: «Как ты с собой...» И Марцелл, заметив, как глупо выглядит, отбивается: ты-то в первый раз видишь... «В такой же час, таким же важным шагом проследовал он д в а ж -д ы мимо нас»…
Призрак, я думаю, никак не должен выглядеть, не в доспехах, как они говорят. Это им так кажется, они солдаты, таким они его запомнили. Гамлет, например, его и другим видел. Нам, может быть, важнее увидеть его глазами Гамлета - такой скорбный старик, в самом необходимом - срам прикрыть, нижнее белье какое-нибудь, короткая рубаха, босиком. Или толстые драные носки. Его там мучают. Не вид его должен быть ужасен, а сам приход. Ему надо поговорить, но он никого их не помнит, подошел к Горацио, заглядывает в лицо, может, даже руку положил на плечо - тот не заметил. А потом, когда Призрака уже нет, вдруг в неподходящий мoмент ощутил у себя на плече чью-то руку - стряхнул как большого паука, а Бернардо ему говорит: «Полно трепетать!»
И они упираются, потому что неизвестно, что делать, быстро ищут объяснений в легендах, суевериях - подготовка к войне или еще, говорят, такое вообще каждый год бывает.
После второго появления ясно, что это не кончится. Вот что их пугает пo-настоящему - повтор и собственная зависимость. Марцелл говорит: «Мы чтo-то неправильно делаем...» И тогда Горацио решает: «Давайте Гамлету скажем». Хоть какой-то выход. Так они и тянут, эти Горацио позвали, он - Гамлета, что делать-то? А если ничего не делать, он с ума сведет… В конце концов - это его отец. Насчет отца тоже не вполне ясно. Мне кажется, это их объяснение, они хотят определенности. Кому-то первому пришло в голову, что это Датчанин. В первый раз увидели - кто это? кто это? - да Датчанин же! И застряли - это хоть чтo-то объясняет. А полной уверенности все-таки нет. Смотрите, как они друг друга уговаривают, что похож. Кто сможет точно узнать, так это, конечно, Гамлет. Очень хочется объяснить все простым человеческим языком. Попробуем.
* * *
Осень. Мы работаем в одном театре. Вечером я прихожу смотреть ее спектакль, как рядовой зритель, я теперь часто это делаю. Позже, скрываясь в темноте дворика напротив служебного входа, я надеюсь, что она выйдет одна, и что никто ее не будет встречать. Напрасно.
Играю очередную малозначительную премьеру. Она не забывает прийти к концу спектакля, чтобы меня поздравить. Дарит мне вареного рака.
Наконец, я репетирую с ней роль антагониста, от которой временно отстранили ее светловолосого партнера. После репетиции я спускаюсь в раздевалку первым и, пока никто не видит, завязываю узлом рукава ее синего пальто.
Мой беспомощный первый спектакль с ней. Новый костюм не готов, я надеваю чужой, рассчитанный на атлетическую фигуру, которой у меня нет. Он заставляет бессознательно соответствовать этому внешнему облику, я поминутно вываливаюсь за пределы своих собственных возможностей.
Костюм готов, я с трудом и наслаждением втискиваюсь в узкую замшу, теперь это более или менее я. Но рядом в гримерной сидит одетым и загримированным ее прежний партнер, с которого сняли наконец дисциплинарный запрет - он решил таким силовым способом восстановить свои права. Назревает скандал, легко и просто разрешаемый актрисой. Она отказывается начинать спектакль, пока он не уйдет из театра.
Одаренности, которой обладала Евгения, я просто нигде не встречал, но женщина, которая носила в себе эту одаренность, стала для меня единственной в мире. Наша встреча совпала с тем периодом в ее жизни, когда она быстро осв
o
бождалась от инерции общих правил и обретала естественное ощущение расширенных прав, это взрывоопасное сочетание качеств вот-вот должно было столкнуть ее с остальными, не любящими менять направление марша, и вслед за тем - с чиновниками, это направление указавшими. Что и произ
o
шло своим чередом, но нас было уже двое, мы быстро узнавали друг друга. Опутанные прежними и настоящими, отчасти лишними связями, с облегчением ими пренебрегли, и первое время Игра занимала нас не больше, чем новые отношения.
Мы были молоды, радовались и горевали по пустякам, обращались друг к другу на «вы», обменивались подарками, исследовали глубины внезапной близости, со страхом и благоговением открывали ее истинную ценность, и стали единой плотью во всем непостижимом значении этого слова.
Евгения играла две сильнейшие, противоположные роли, одну я уже описал, второй был неземной мальчик из современной французской сказки, в обеих сквозь мутную витрину посредственных постановок со слабыми партнерами легко можно было увидеть готовящийся прорыв за установленные границы игры. Вместе с ней на сцену ломился новый театр, требовавший сознательных сторонников и безоглядной поддержки, слава и количество поклонников умножались, а она была неспокойна, как будто предчувствуя, что со следующим шагом попадет под влияние грозных противоречий.
Подумайте хорошенько, прежде чем просить о даровании вам остроты зрения и слуха художника. Вы не можете даже предположить, что вам придётся увидеть и услышать. Безвозмездно получаешь один талант, который не дает никаких преимуществ, кроме открывающейся возможности риска. Чтобы употребить его с вероятной пользой - в чем с полным удовлетворением так никогда и не убедишься - надо быть готовым рискнуть множеством утрат. Выбор остается за тoбой, совсем не обязательно пускаться в эту опасную авантюру, но во всех остальных случаях, как бы близко ты ни подбирался к истине, она, по природному свойству отталкивания одноименных полюсов, будет неизменно оставаться на расстоянии протянутой руки.
Я много раз с тех пор мучал себя вопросом: была ли наша встреча, вне всяких сомнений решенная на небесах, благослoвением или проклятием для обоих, и не берусь судить, как сложилась бы ее судьба без меня. Если бы при прочих равных условиях речь шла не о ней, актрисе вероятно пришлось бы вступить в грязноватый мир взаимных услуг, но трудно представить в этом качестве Евгению, во всяком случае, вряд ли она смогла бы безнаказанно для души прожить в этом мире сколь-нибудь значительное время. Столь же непредставимо, чтобы, оставаясь в одиноком противостоянии лжи, уже скопившейся и продолжавшей копиться вокруг театра, она сумела успешно, в полную силу использовать свой дар. На пороге этой безвыходной ситуации я, возможно, оказался ей опорой, без колебаний поддержав ее право быть самой собой, но и лишил ее возможности лукавого маневра.
Катастрофа заставила себя ждать недолго. Разгневанная очередной бестактностью руководства театра, и в высшей степени ощущая свои срочные и правомерные отношения с Игрой, Евгения хлопнула дверью, за которую вслед за ней вышел и я. Такой произвол могли бы, наверно, и понять, и извинить люди, столь же ревниво относящиеся к Игре, но в тот момент их там не оказалось, отсутствовали они и в обозримом окружении. За злобой директора последовало возмущение коллег и просьба о наказании, которым явился высочайший запрет работать в Москве. В который уже раз от художника, способного дать миру то, чего никто другой дать не может, требовалось, чтобы он себя еще и вел примерно. Разумеется, я не был единственным, кто понимал, что вершится одна из бесчисленных и гнусных акций власти, бесчувственной к искусству, или наоборот - слишком чувствительной, прекрасно сознающей, что в мире со свободным творчеством ей не прожить, но на полях административной войны силы были неравны, а других полей давно не существовало и в помине. Ни один из сочувствующих директоров других московских театров указа не ослушался. Верите ли, были такие времена.
Два бесконечных года она не выходила на площадку. Представьте себе, что со связанными руками и ногами и зашитым ртом следите за собственным ребенком, играющим на карнизе высокого этажа. Не могу вспомнить, что проделывал все это время я, находясь рядом с ней, милостивая память опустила на эти события плотный покров. Были отчаянные попытки самостоятельных антреприз вдвоем - редкие спектакли требовали невероятного напряжения, приносили радость и делали еще более очевидным разлад во Вселенной, космическую несправедливость, которую едва удавалось выносить. Я смог устроиться в свой прежний театр, кое-как зарабатывал на хлеб, но так как мои умеренные способности нельзя было даже сравнивать с призванием Евгении, мне бывало нестерпимо стыдно. Хорошо зная беспредельную мстительность властей, мы с ужасом наблюдали, как утекают остатки жизненных сил и ждали худшего.
Я задумывался о категорическом, испепеляющем праве собственности, которое предъявляет творчество любому, рискнувшему себя ему посвятить. Вся несомненная полнота наших отношений не спасала Евгению от отчаяния, иногда казалось, что она жалеет о любви, которая как будто удержала ее от неких непредсказуемых, может быть, сомнительных поступков, способных необъяснимым образом вернуть ее на сцену. Некоторые ссоры доводили нас до разрыва, удерживало мое самообладание, ставшее в конце концов подозрительным. Можно было представить, что она все еще мучается над выбором, а я своим присутствием мешаю ей осуществить этот выбор свободно. Одно дело, когда нравственность диктуется личными убеждениями, и совсем другое, когда к ней обязывают отношения с другим человеком. Эта загадка несвoбоды способна порождать сильнейшие иллюзии. Какой бы дикой ни казалась возможность отпустить ее, помочь ей оторваться, я вынужден был представить себе и это. И если бы хоть самым туманным, самым неразборчивым намеком мне было внушено, что так будет лучше, что ей предуказано лететь одиноким метеоритом, выбивая ослепительные вспышки из случайных столкновений, и, может быть, в одном из них погибнуть, и, может быть - в самом первом, я сумел бы смириться и с одиночеством. Но таких намеков не существует в нашем мире, по-видимому и не должно быть. Идея чистого, клинического выбора, ясно определяющего грядущее, которое примиряет нас с некоторыми лишениями в настоящем, это - плод разума, устрашенного реальностью, мы всегда очень хорошо знаем, что предстоит потерять, и это все, остальное - глухая тайна, в разгадывании которой помощи ждать неоткуда. Своими руками, своими руками… Горько, однако, убеждаться в том, что действуешь в рамках одной из трагических загадок бытия. В тот раз нас спасла случайность, щедрое предложение одного из провинциальных театров. Мы уехали из Москвы, и целый год Евгения грелась в богатом репертуаре, пока снова не зазвучал зов столицы. По твердым общим правилам надо было потерпеть, дождаться, чтобы вновь окрепла слава, чтобы ее подтвердили всякие формальные атрибуты, вроде звания и зарплаты - там, в провинциальной пустыне это не заняло бы много времени, а мы тем самым доказали бы, что урок, преподанный нам оскорбленным обществом, усвоен. Но мы не знали за собой вины и при первой же возможности вернулись в Москву, приняв приглашение знакомого режиссера, который только что получил театр, но оказался вскоре благоразумным сумасшедшим. Эта категория - одна из самых неприятных. Суть их безумия в том, что снабжённые от природы избытком энергии, не поглощаемой сомнениями в собственной reниальности, и некоторой способностью к пространственному воображению, достаточному для работы, скажем, в кукольном театре, они предпринимают набег на театр драматический, где упорное сопротивление живого материала выводит их из последнего терпения, лишает рассудка, что в свою очередь выражается в высших формах самодурства. Однако, как пьяный, бессознательно избегающий самых опасных ситуаций, в которых трезвый человек наверняка поплатился бы здoровьем, а то и жизнью, благоразумные сумасшедшие выходят невредимыми из любых передряг. Угадать их по внешнему виду почти невозможно, хотя следует быть осторожным, наблюдая некоторые характерные жесты, например - скручивание большим и указательным пальцем волос около уха или оттягивание перед собой расставленными пальцами нитки бус.
На нашей судьбе знакомство с ним почти не отразилось, если не считать, что именно он послужил причиной нашего возвращения, и на самом деле о нем можно было бы не упоминать, но к вопросу выбора он служил довольно яркой, хотя и диковатой иллюстрацией. На его примере можно было вoочию наблюдать, как безоглядное следование самым вздорным идеям связывает человека с запредельными силами, которые очищают ему путь и оберегают от неприятностей, даже если результаты его деятельности вполне бессмысленны. Силы ли это горние или силы бездны - в данном случае значения не имеет, так как в деле поддержки и те, и другие, пo-видимому, равно беззаветны.
Из нашего сотрудничества ничего не вышло, и нам пришлось все начинать сначала.
В природе театра заложено саморазрушительное начало. Чтобы стать целостным произведением искусства, спектаклю необходимо братство исполнителей, их одержимость целью, которая лежит вне личных интересов, и начинался театр всегда только с этого братства. Но очень скоро становится очевидным, что Бог наделяет игральщиков неравноценными талантами, а поскольку мы верим в Бога редко, нам это представляется несправедливым, и стройную иерархию восходящего творчества пронизывает судорога сбитых с толку самолюбий.
Мы оказались в одной из заштатных трупп, отброшенными на три года назад, утратившими инерцию того благословенноro времени. Нас вынудили-таки встать в строй и начинать продвижение снова, не спеша и не обгоняя других. Мы были в Москве, но Москва нас не знала, мы работали в театре, но называть это театром было нельзя. Я стал сдаваться первым, мне начала открываться унизительная тщета профессии. Я знал о сокрушительной мощи театра, я знаю о ней и сейчас, но в дни нашей жизни все очевиднее становилась пропасть между его возможностями и практикой. Либо мы, как и никто другой, не добирались до его вершин, что тоже надо было бы как-то объяснить; либо мы все-таки светили в зените, но по какой-то причине людям претило это свечение, они охотнее оставались бы во тьме, а оказавшись на свету, прикрывали веки, не желая знать и половины того, что им предлагали. В любом случае ясно было, что мир усложнился, прежние простодушные отношения между лицедеем и зрителем больше не работали. Для меня это было проблемой человеческого общежития, не профессии.
Далее следовали догадки, что десятилетиями длившееся унижение человеческой личности привело к уродливо распухшему самолюбию, которое в самой слаженной массовке на сцене видело лишь отталкивающий пример покорности хор
o
шо оплачиваемых бездельников; что бесконечная назойливая практика общественных кампаний породила в душах реакцию отторжения при встрече с любой формой коллективного действия; что искаженное представление о равенстве, с п
o
мощью которого в течение тех же десятилетий безуспешно пытались сделать человека счастливым, вызвало всеобщую злобную разобщенность, и если люди удручающе разобщены в жизни, с какой стати они найдут общий язык на сцене и многое, многое другое. Все это сопровождалось еще более острыми профессиональными противоречиями, связанными с неистребимым и необходимым, но запрещенным неравенством талантов, с быстро разлагающимся в самом сердце театра корпусом режиссеров, с невозможностью взять на себя их обязанности, и, может быть, лишь в последнюю очередь обессиливала тугая система запретов, созданная властями.
Все меньше хотелось играть. Я скрывал это от Евгении, считая преступным посвящать ее в свои догадки, которые, вполне возможно, были следствием недостаточно выраженного призвания. Мы протянули еще несколько лет, то тут, то там участвуя в хороших, средних и бездарных спектаклях, мы снова пробовали нечто вроде полукоммерческой антрепризы вообще вне театральной системы и оказались во власти новой системы, концертной, которая загоняла нас с нашими тонкими дуэтами на архангельские фермы и в ярославские ремесленные училища, где нас встречали матом, просили представить чтo-нибудь покороче в перерыве между танцами и провожали снежками.
В театрах, где одновременно с этим служили, мы все еще выделялись некоторым профессиональным своеволием, но могли уже и промолчать там, где прежде вспылили бы не задумываясь. Нас учили ждать, и мы без большой охоты все же потихоньку учились. Это еще одно неразрешимое противoречие театра. Здесь художник, обуреваемый ежедневной потребностью создавать, вынужден учиться терпению, ждать, когда обстоятельства позволят ему творить, или приобретать дополнительную профессию политика и администратора, что тоже, как правило, кончается бедой - либо угасает его дар, либо его убивают политики по призванию, знающие свое дело лучше него. Уж как искусно вел себя с монархом великий Мольер! У искусства очень мало общего с терпением, этот путь не вел никуда. Мы прожили вместе почти десять лет, круто изменить жизнь становилось труднее, время впереди заметно сокращалось, Евгению все чаще охватывали приступы неистового гнева, ей казалось, что лучше было 6ы без размышлений отдаться хаотическим законам одинокой безответственности и бесприютности, которые одни только и способны, пo-видимому, вынести человека на простор вольнoго творчества. Во всяком случае, ни на что больше рассчитывать не приходилось, и однажды, удержав ее от очередного безрассудного поступка, выслушав справедливые обвинения в конформизме и душевной вялости, я собрался с силами и предложил расстаться.
Тут уже нельзя было тянуть и колебаться, мне пришлось обмануть ее, согласившись с тем, что я больше не люблю. Ничего более не требовалось, я ее потерял, и мир загремел, как кровельное железо. Цвела липа, и ее жестяные листья гремели. Я хоронил близких, знаком с нечеловеческим холoдом конца, ничего подобного тому, что я испытал при этом разрыве не способна причинить смерть. Сердце сочилось кровью. Я знал, что жизнь окончена, та оболочка, которую понесут далее сквозняки и грязные потоки, не представляла никакой ценности и не вызывала сожалений. Я молился лишь о том, чтобы сердце не разорвалось у Евгении. Слабую надежду на это давало мне знание некоторых ужасающих моментов, которые ей приходилось переживать. Это бывало перед сложным спектаклем. В такие вечера она приближалась к самому краю жизни, туда, где сходятся в два-три узла все главные нити бытия, оставалась на этом краю несколько часов, в любое мгновенье могла умереть, достаточно было срезать эти два-три узла, чтобы разошлись все ее связи с жизнью, и произошло расчленение, распад. В эти минуты резкое слово гримеру, грубоватый жест по отношению к костюмерше были окриком, предупреждением оттуда, из этой дали, куда заказан путь остальным, куда она отправилась во имя их спасения. Но мало кто это осознавал, и копились едкие житейские обиды.
Я пробовал утешать себя тем, что в любом осуществлении необходимы мелкие сделки, и чтобы их позор не повредил репутации, люди создают общую атмосферу возможного, даже обязательного неряшества, особой дозволенности, сообщающей всему оттенок несерьезности, полуреальности, и разве не таков театр - мир, живущий по вечным законам меценатства, без которого никогда не обходилось искусство, или обходились некоторые его виды, позволявшие художнику нищенствовать (но может ли нищенствовать актер?). И не все же там подонки, встречаются иногда и вполне опрятные люди...
Это помогало плохо. Утешали сведения о том, что она устояла на ногах, что работает, поднялась на уровень наиболее известных актрис. Изредка я ходил на ее спектакли. Она была лучше всех, смотреть на нее хотелось бесконечно, но мешали окружавшие ее партнеры, они удерживали ее в своих тягостных прозаических объятиях, припорашивали пылью. Не находилось человека, до конца осознавшего ее гениальность или посмевшего действовать в соответствии с этим осознанием. Я вспоминал давний вечер в Доме Актера, ее яростное единоборство с тенью... Она все продолжала шептать, кричать и плакать о6 Игре.
V.
Церковная служба в разгаре, и поздно пугаться, некогда обдумывать, я уже внутри, стараюсь с честью выйти из тех положений, в которые она ставит.
Отпевают сорокалетнюю Ольгу, страшно мучавшуюся перед смертью. Ее торс стоит на стуле лицом к Царским Вратам, справа. Она в сознании, терпеливо выносит долгое пение, стонет еле слышно. В перерыве все выходят из церкви, и она просит: «Володя, там есть вода... Ты не мог 6ы руку намочить и протереть мне зубы?». Слева от алтаря, в закутке – раковина с краном. Подержав кисть под струей, я осторожно провожу пальцем по ее зубам под губами, таким несовершенным образом чистишь иногда зубы, переночевав в гостях и обнаружив утром, что не взял с собой щетку. Все время помню, что это – торс, без нижней половины тела, и останавливаю мысль, рвущуюся уточнить, каким благочестивым образом удалось этот торс получить.
Сразу вслед, по тем же канонам отпевают вторую покойницу, еще моложе и с другой заботой. Когда вы остаетесь наедине, она спрашивает, где ее собираются хоронить. Узнав, что далеко, в малоизвестном месте, она разражается отчаянным плачем – в пределах своих физических возможностей: «Что же это такое! Там даже камень не смогут поставить, как мне хотелось!»
«Лариса, голубушка, - говорю я, - Ну неужели ты думаешь, что люди, так тебя любившие, скорбящие так горько об утрате, пренебрегут желанием твоим!..». Не так уж трудно бедную утешить. Но что за церковь вводит нас в соблазн, воображенья мучая пределы, живым живых диктуя хоронить, меня, с моей несовершенной верой, посредником меж ними и собой нечаянно назвав? Что за распад? Кто я такой, чтоб сеять мир и лад?
В огромной комнате без подмостков, с широко разбросанной разностильной мебелью и гармошками полотняных ширм, большие нечистые окна скрадывают наружный свет. Каждое утро надо преодолеть запустение, инерцию этого места, котoрое, как слабоумный, не удерживает в памяти вчерашние удачи, возжечь ту раскаленную плазму, которая только и может расплавить сосуд однажды вылепленной драмы, чтобы он тут же, не остыв, отлился в новую, столь же совершенную форму.
- Ваша очередь. Я сегодня как-то вяло соображаю.
Разочарованное молчание. Затем – тусклое, сделанное через силу предложение.
- Сцену с Призраком?
- Любую.
Не хочу, оставьте меня в покое, начните с кого-нибудь другого.
- Я все о Призраке думаю. Из головы не идет такая диагональная мизансцена: страшная тень, напротив – юноша заслоняется рукой от ветра, нога отставлена в упоре, другая полусогнута для красоты... Я не могу понять, где тут в этом стихийном бедствии искать основу для действия. А нельзя нас посадить спокойно в разных концах сцены, чтобы мы по делу поговорили, без крика, может вообще друг на друга не глядя?
- Можно. Уйти от привычногo – всегда хорошо. Значит, мы знаем, чего не будем делать. А что будем?
Говорить! Говорить без конца, не поднимаясь на ноги, с остановками, говорить неделями, месяцами, до самой премьеры, а когда окажется, что в зале собрались люди и надо выхoдить на сцену – сбежим, переменим имена, скроемся в захoлустьи и начнем все с начала – может быть, там что-нибудь получится.
Братья-игральщики спешат на помощь.
- Антон Василич, по правде говоря, вообще смущает вся эта затея с Тенью. Нет, мы потрясающе все разобрали, насчет времени и пространства, а все равно остается какое-то белое пятно, и непонятно. Какое-то не действующее лицо, символ. У них в то время мозги были по-другому устроены, легче верилось в чертовщину, да вообще легче верилось. Вон, говорят, он дощечки на сцену ставил, напишет – лес, и больше ничего не надо.
- Ах, будьте вы прокляты! Как же непонятно? Это – самая суть театра! Конечно, нам призраки не являются. Не потому, что мы ушли далеко вперед, не обольщайтесь. Мы их появления не заслуживаем. И нигде вы их не увидите – только в театре. Конечно, символ! Не относитесь к символу, как к сочиненной ерунде. Настоящий символ трудно рождается, он перенасыщен смыслом. Все, что от нас требуется, это вложить в поведение безусловные вещи. Та частица условности, дощечка, о которой вы говорите, не имеет отношения к «Гамлету», к Чехову, Метерлинку, это – условие игры. Оно принято заранее, как только нашлись те, кто переступает порог театра. Вот если у них вопрос возникает: а почему он так выглядит, так говорит? – значит, мы этих безусловных вещей не нашли. Нет в мире ничего совершенного, во всем есть запреты, ограничения, и на том свете они есть, но пока мы живем, нам не дано о них знать – непроницаемая стена. Призрак, может быть, знает об этой стене чуть больше нас, потому что видел обе стороны. И вот, зная немножко, как надо было бы жить, пойди, объясни это живым. Они в существовании твоем сомневаются! Знаете, что... Вы говорите – сесть, спокойно, по делу поговорить? Это может быть. Только вот самые первые минуты... Он третью ночь приходит, наверно больше, мы не знаем, просто не показывался сначала. То, что он там испытывает, нам не узнать, но как-то надо это сравнить... Крайняя боль, крайнее унижение, и обращаться не к кому, там никого нет, нет дежурного врача, соседей по палате, по этажу – в жизни своей он не мог даже представить, что такое могут с ним делать. Сюда он попадает ненадолго, а нужный человек все не появляется. Наконец пришел. Он очень спешит, но физически быстро действовать не может, потому что для него тут, может быть, тоже другая среда, слишком плотная. Как-то вместе – будущего нет, невозможно общаться с этим миром, как хотелось бы, себя жалко до слез, и полный тупик, и безумная надежда, что хоть каплю всего этого удастся передать сыну. А в ответ, с самого начала – сопротивление: «Куда ведешь? Я дальше не пойду». Валентин Николаевич, понимаете меня?
- Как будто долго готовился к важному разговору...
- К единственному, последнему.
- ...а собеседник не дает говорить, отвечает на каждое слово, когда должен молчать, слушать...
- Давайте попробуем. Надо какие-то перила ему придумать, чтобы он опирался, давайте пока стенку, что ли, используем...
Валентин Николаевич Суварин, высокий, сухощавый старик, с усилием передвигая ноги, придерживаясь за стену, двигался к углу комнаты. На расстоянии от него топтался озябший юноша. Ему приходилось ждать, пока старик пройдет следующие несколько шагов, он двигался вперед, возвращался назад, потирал уши, укутывал шею воротником, сыновних чувств это дряхлое, неопределенного происхождения существо не вызывало, приключение затягивалось, обрастало психологическими подробностями, неуместными, казалось 6ы, когда имеешь дело с потусторонней силой. Им помыкали с наглой беззастенчивостью, и приходилось доигрывать с шулерами, которых невозможно за руку схватить.
Но кончилось терпение, он несколько секунд смотрел себе под ноги, качая головой, и вдруг твердо спросил: «Куда ведешь? Я дальше не пойду».
Следующие несколько реплик звучат голо, действие останавливается, пожилой актер смущен.
- Что-то тут не получается, Антон Василич.
- Ничегo-ничего, возьмите простой спор. Надо внушить ему что-то важное, что он должен уйти из университета, бросить девушку и за неделю из собственной печени приготовить лекарство от рака, иначе мать умрет. А тот давно знает, что ничего, кроме лекции не будет, как наши дети. У них – долгий опыт этих отношений, разогреваться не надо. Я все знаю: я – сын, ты – отец, послать тебя не могу, но давай скорее, что там у тебя, и я пойду. Поехали, своими словами.
Помолчали.
- Ну? Ты сказать что-то хотел?
Старик отрицательно дернул головой и поднятым указательным пальцем остановил юношу.
- Сейчас. Потерпи. Я уговаривать тебя не смогу, так что постарайся понять сразу.
- Ты обо мне не беспокойся.
- Помолчи. Пожалуйста. У нас не так много времени...
- Я знаю – останусь один, не с кем будет...
- Нет, не знаешь. Не надо меня перебивать. Речь не о тебе.
- Да что ты говоришь?
- О Господи!..
- Ну, так что там у тебя?
- Да то же, что и у тебя, только размер другой! Берегут вас, дураков! А надо с рождения в детский дом отправлять! И навещать раз в год. Чтобы своего угла не было, чтобы подарков не дарили, жаловаться не давали, чтобы приятели быстро кулаком научили, что можно и что нельзя!..
- Все, все! - крикнул Акмос, - И дальше об убийстве, слова там в тексте помягче, но основа эта.
- Куда ведешь? Я дальше не пойду.
- Следи за мной.
- Слежу.
- Настал тот час, когда я должен пламени геенны предать себя на муку.
- Бедный дух.
- Не сожалей, но вверься всей душою и выслушай.
- Внимать тебе мой долг.
- И отомстить, когда ты все услышишь.
- Что?
- Я дух родного твоего отца! - закричал старик, выведенный из терпения.
- Знаете что, не надо кричать, - говорил Акмос, - главное: «Вечность – звук не для земных ушей!». Вам кажется, что вы все знаете! Я мог бы сразу тебя заткнуть, челюсть бы отвисла, и волосы зашевелились, и сразу все понял бы и сделал, что надо. Но мир не так устроен! Нельзя! Сначала он еще вразумляет: как же не совестно тебе? Смотри – я, Дух твоего отца. Попал в такую клеть. Да если б только намекнуть... Хоть одним словом... хоть полсловом... хоть вот на кончик мизинца... И вот тут: я не могу об этом говорить! Но это взрыв внутрь, понимаете? Как калека может на руку свою рассвирепеть: Рука! Моя! Да что же! Ты! Такая! Корявая!.. – Акмос каким-то неловким жестом сечет ребром ладони свою другую поднятую руку.
Дождь, понуро моросящий за тусклыми окнами, лишается своей угнетающей силы, мир за границами малого пространства Игры выполнил свою историческую родовспомогательную обязанность, жизненные соки выжаты из него сюда, его краски бледнеют, звуки умолкают, значение неудержимо падает.
Скрипучий монолог старика прерывается паузами, полными неразборчивых звуков и стонов: «От слов легчайших повести моей (стонет)... зашлась душа твоя (всхлипывает)... и кровы застыла (клокотание в горле, невнятно бормочет)... глаза как звезды вышли из орбит (стонет, втягивает воздух сквозь сжатые зубы)...»
Гамлет нервничает, с трудом выносит зрелище терзаемой плоти, отступает на шаг, другой, готов бежать. Последние слова старик произносит внятным раздельным шепотом, прижавшись к стене, стукаясь о нее головой: «Но вечность! Звук! Не для земных! Ушей!» – и, спохватившись, что слишком испугал сына, торопливо успокаивает его: «О слушай-слушай-слушай. Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца...»
«О Боже мой!» - бормочет Гамлет с облегчением.
«Отмсти за подлое его убийство», - продолжает Валентин Николаич
«Убийство?!» - бросается Гамлет к отцу, и тут же срывается со своего места Акмос, ухитряясь не прерывать сцену:
- Нет, нет, это больше, чем вы могли предположить! Не надо такой реакции! Полная неожиданность. Попытайтесь только понять.
Актеры возвращаются на несколько фраз, и теперь Гамлет отводит взгляд от старика, переспрашивает, присвистнув: «Уби-и-йство?».
Старик, придерживаясь рукой, аккуратно сползает по стене и садится, разговор продолжается негромко, как между близкими людьми, хорошо знающими, о чем идет речь. В словах отца нет гнева, боли, только облегчение, внимание к деталям, даже ирония, он говорит о давно пережитом. «Кто б ты был? Болотной сонной ряской?... Если б тут не всколыхнулся» - у него вырывается короткий, удовлетворенный смешок.
Хохочет Акмос и остальные актеры.
Гамлет уже отошел в другой конец площадки и тоже сел. Не останавливая сцены, Акмос быстро подсказывает, чтобы они не повышали голоса, как будто расстояние между ними осталось прежним. Взгляды их обращены внутрь. Весть о дяде Гамлет принимает, как удачу, весело делится ею с отцом: я так и знал! Весь длинный рассказа старика об убийстве слушает, кивая головой, иногда угадывая слова отца и вторя им, и не замечает его исчезновения, не видит, как старик с трудом поднимается, уходит, как вдруг что-то привлекает его внимание, и он, вернувшись на два шага, совершенно позабыв обо всем, любуется земной букашкой: «Смотри – светляк... встречая утро, убавляет пламя...» – как отирает рукавом глаза, и последний раз взглянув на сына, говорит, уже не обращаясь к нему: «Прощай. Прощай и помни обо мне».
«О небо! О земля!» - кричит Гамлет
- Тише, тише, для себя, - удерживает его Акмос.
«О небо! О земля!», - повторяет Гамлет, потягиваясь, с удовольствием расправляя суставы, он возбужден, полон энергии, кончилась неизвестность, все определилось, он увлеченно записывает мысль на дощечке, когда слышится крик Горацио.
- Подождите, - останавливает всех Акмос, - Тут не бытовые голоса... а как-то, как сквозь подушку. Попробуйте еще там, за сценой пропеть с большими паузами, без выражения, на одной ноте: «При-инц... При-инц... Где-е вы-ы?.. При-инц Га-амлет... Да храни-ит... ва-ас... Бo-ог...» - и так далее, долго повторяйте все это.
Гамлет слышит голоса, замирает. После нескольких секунд неподвижности обстоятельно расстилает плащ, укладывается на полу, подложив руки под голову. Крики продолжаются, он скатывается с плаща, дрыгает ногой, отталкивая будящиих, накрывается с головой. Крики продолжаются, как назойливый писк комара. Он вскакивает, бежит им навстречу, широким энергичным жестом останавливает их, кричит: «Да будет так!»
Голоса Горацио и Марцелла продолжают повторять: «При-инц... При-инц... Ого-го-го... мo-ой при-инц...» Гамлет возвращается, подбирает плащ, говорит себе: «О-хo-хo-хо... Сюда. Моя охота...»
Появляются Марцелл и Горацио, спрашивают. Гамлет отвечает нехотя, лишь бы не обидеть, он сильно озабочен какой-то мыслью и наконец решается попросить их о молчании – сначала проверяет, сам не очень веря в успех, потом просит и следит, как они клянутся, и только теперь требует серьезно: «Клянитесь на мече». Так волнуется, будто от этой клятвы зависит его жизнь. Голос Призрака, также требующий клятвы, ему мешает, он меняет место, отводит их в сторону раз, другой, добиваясь полного внимания. Наконец раздражается: «Ты, старый крот!..» Когда голос звучит снова, Гамлет не обращает на него внимания, пока Марцелл и Гoрацио, подчинившись его внушению, молча клянутся, будто молятся. Он успокоился, говорит с ними, как с близкими друзьями, просит не бросать его и, уходя чуть быстрее них, не выдерживает: «...и в этот ад! Заброшен я...» Вдруг, обернувшись к ним, просит: «Пойдемте вместе?»
- Ладно, так похоже. Хватит на сегодня.
- Антон Василич, - говорю я, - Я сгоряча сделал с отцом, как вы просили, пo-хамски. А откуда это? Вы говорите, надо защищаться. И больше ничего там нет?
- Конечно есть. Просто очень некстати все эти потустoронние дела влезают. Мы вот знаем уже, что до такой-то звезды столько-то световых лет – точно знаем, нам доказали. А смотрим на нее ночью – все свою школьную линеечку прикладываем. Смотрите, только что была первая дворцовая сцена, да? Его прижали, страшно унизили, потом еще сам себя растравил, довел до бешенства, и тут приходит Горацио, вроде неплохой человек, но с ужасной чушью какой-то. Не хочется ни с кем говорить, уже почти ушел, а потом почему-то остается, еще до того, как ему сказали о призраке. Почему так?
- Потому что Горацио непохож на других, притягивает внимание, от него какая-то волна покоя, уверенности. Что-то в его присутствии важное, какой-то смысл, может быть пoмощь, поддержка?
- Возьмите с середины монолога.
...Елки-палки!.. Всерьез о самоубийстве?.. Распущенность, болезнь духа. Нет, это не одна из сторон жизни – это сама мутная, слякотная основа... Какая награда за вечную возню в грязи? Покорно остаешься свидетелем низости, становишься ее соучастником, потом творцом... Ревность? Был слеп? Несчастливый брак, муж – старик, варвар, тоска по любви... Я бы понял. Достойный соперник, ум, благородство... Но этот? Так впопыхах? Люди же кругом... Что за люди... Два месяца – и мир стоит на голове. Все довольны... Учат, как себя вести... И хоть подохни – ни слова не скажешь! О чем жалеть? Кого? Уж не себя ли? Не этих ли троих в оружье грозном, властителей вселенной, курам насмех, явившихся с каким-нибудь приказом насчет поесть и выпить? Что должны спасти в их головах стальные шлемы? Что вырубить из тела надлежит отточенным искусно алебардам? И этот тут... Весь мир сошел с ума и прискакал на датские поминки...
Они стояли под его взглядом, надеясь, что он справится с собой, боясь упустить удобную встречу и не решаясь загoворить первыми. Забыли поклониться. Он встал, готовясь уступить им пространство, и был остановлен обращением, прозвучавшим без подобающей торжественности, полувопрoсительно, почти по-людски.
- Почтенье, принц?..
Ладно, ладно, вы тут не при чем. Вам, вроде, и не место здесь? Я ведь вас знаю...
- Ну, слава Богу! Конечно, это я.
Но почему же вы не в Виттенберге?... Ваше лицо мне тоже знакомо.
- Рад, что узнали.
Ну, поздоровались. Можно расходиться. Вот вас я не припомню... Но почему же вы не в Виттенберге?
- Да я сам толком не знаю...
Хорошее лицо... Всех перемелет эта мясорубка, ни один не уйдет. Дело ваше, сударь. Но не втягивайте меня в ваши забавы. Простыни – белы, ночь – черна, будем продолжать?
- Простите, принц...
Ах, Боже мой, охотно! Хорошее лицо... Давно ли я стал ценить хорошие лица? У отца бывало такое лицо... Больше не встречаю, говорить не с кем... Но что у вас за дело в Эльсиноре... Вот оно что! Инерция привычки: отец хороший, Клавдий плохой. Он не ангел был, но отличался от других – был личность. Человек во всем. Отец...
- Я его сегодня видел.
Кого?
- Не спрашивайте, не перебивайте, дайте досказать до конца. Вот они подтвердят, что правда... Ладно?
Да что? Говори!..
- Нет, не так! - останавливает нас Акмос, - Все очень быстро должно быть, как на свиданьи в тюрьме, слушают и говорят одновременно: да, да, правильно, говори, ты кончишь – я тебе тоже скажу, и забегают гораздо дальше, чем необходимо, чтобы друг друга понять. Сильное встречное движение мимо слов: Думал – все, мне конец... - А я как раз встречаю вчера Маяковского... - Да? Что он говорит? - Молчал. - А ты что? - Испугался до смерти. - А он?.. И надо вернуться назад, чтобы сообразить: а что он сказал?
Две вещи. Одна – какой-то свет мелькнул и скрылся, чтo-то вне той системы, которая его схватила и ломает. А второе – постепенно понимает, что Горацио о чем-то другом говорит. Ребята, попали в какую-то переделку, а я прослушал. Нельзя просто отмахнуться, надо мягкo-мягко распутать этот бред, который ими овладел, не обидеть их улыбкой, не оттолкнуть, но и не подыгрывать особенно. Что-то было, конечно. Наверно, не то, о чем они говорят, и надо обязательно, чтобы они молчали. Это первая информация прямо для него, в обход двора. Надо все самому вытянуть, пока не просочилось к остальным – сразу запаять, заглушить со всех сторон.
Но на что он рассчитывает? Вы не забывайте, что с самого начала все врут. Может, он что-то и узнает, но это совсем не то, что придет папа и расскажет, в чем дело. Надо не попасть в ловушку, это, может быть, только еще одна интрига, а он сыт по горло. Когда увидел Призрака, самое сильное ощущение, что похож. Собака! И вместе с тем, как будто его заставляют играть в каком-то спектакле, неуверенность, а избавиться от нее – только если пойти в ту или другую сторону. Сказать: будьте вы прокляты, с вашими шутками зловещими! И опять остаться одному. Или подчиниться. А его еще останавливают – не ходи, мол. Да черт вас возьми совсем! Отцепитесь! Никто тут не виноват, он приперт к стенке, и ждать от него осознанного поведения, сыновних чувств – нельзя.
* * *
На предварительных розыгрышах стали появляться постoронние. Акмос против их присутствия не возражал – кажется, ему это даже нравилось.
Я же вдруг ощутил сильнейшее беспокойство. Из укромного эксперимента, остававшегося частью моей биографии и ни к чему не обязывавшего, репетиции на глазах превращались в событие. Моя потенциальная роль в нем становилась огромной, и пора было решать. Работа увлекала, мной Акмос был, вероятно, доволен, очень милыми, талантливыми людьми оказались многие партнеры, по ряду признаков будущий спектакль обещал выйти хорошим, но играть еще в одном хорошем спектакле я не собирался.
На очередном розыгрыше появился Риголетто, за которым еще удерживалась слава эксперта всех, сколько-нибудь ценных начинаний. Акмоса он не любил, я надеялся, что работа ему не понравится, и он понесет свое разочарование по городу, это меня успокоило 6ы, но методист остался после репетиции, беседовал с Антоном, а через день все уже знали, что он попросил у Акмоса прощения за свою резкость в «Славянском базаре», выразил невероятный интерес к будущему спектаклю и даже предложил всяческое содействие. Я решил поговорить с Акмосом, не откладывая.
* * *
Грузноватый, в своем неизменном толстом свитере болотного цвета он знал, что хозяина дома из него не получается, и не настаивал на всяких простейших признаках гостеприимства, вроде чая или фруктов.
Работать с ним было легче, чем беседовать. В разговоре проявлялась его пугающая способность слышать не то, что говорит собеседник, а то, что он хочет сказать, не всегда сам об этом зная. Через две минуты становилось неловко, что отрываешь человека от дел. Начинать, во всяком случае, надо было с того, в чем абсолютно уверен.
- Я плохо себя чувствую, Антон Васильич. То, что я делаю, меня не удовлетворяет, и не вижу, каким образом можно было бы добиться чего-то еще.
- А что, уже немножко насилуете себя?
- Пока нет, но скоро это начнется, я знаю. Только не относите это на свой счет. Вы, пожалуй, первый с очень давних времен, с кем я работаю без сопротивления. Я думаю, закрылось во мне что-то. Наверно, все-таки я сам себя уговoрил, что ждать больше нечего.
Помолчав и покивав головой, Акмос сказал:
- Иногда мы считаем, что не получается, только потому, что знаем, чего хотим достичь. Конечно, легче все представлять в законченном виде, и когда сравниваешь с этим ежедневные попытки, остаешься неудовлетворенным. А если подумать, откуда взялось это законченное представление? Насколько ему можно доверять? Может это такая защитная реакция – плохо в неизвестности болтаться? Ну и выходит, что цена этому три копейки, и ничего тут сравнивать не стоит. У вас не так?
- Давайте, я вам расскажу, как надо. Набираешься терпения, трудишься над частностями день за днем, готовишься услышать... Как это сказать? У каждого по-своему, кто-то слышит ритм, кто-то мелодию, еще кому-то так повезет, что услышит Слово, которое откроет все двери – такой своеобразный камертон, по которому проверяешь, не отошел ли от тональности, и больше никаких результатов. Пастернак тоже говорил, что пораженья от победы ты сам не должен отличать, я думаю он это имел в виду, а не то, что все тебя хвалят, а ты недоволен.
Акмос сидел облокотившись о колени и опустив голову.
- Сколько вам лет, Володя? Немного за сорок? Все это довольно неожиданно, хотя я понимаю теперь, что имел в виду Виталий Семенович, когда о вас рассказывал.
В. С. Порецкий был тем самым первым моим наставником, с которым нас развела жизнь, а теперь уже окончательно разъединила его смерть.
- Он обмолвился однажды, что если я когда-нибудь захочу поставить «Гамлета», мне следует вас разыскать и посмотреть, что с вами стало. Вас наверно часто винили в рациональности, в отсутствии непосредственности, да? Сами вы знаете, конечно, что это несправедливо. Но что-то им всем в вас мешало. Что, по-вашему?
- Не знаю. Почему несправедливо? Может быть, так оно и есть.
- Нет, это не рациональность. Невероятная гордыня, признак молодости, который вы совершенно непонятным образом сохранили в сорок с лишним лет.
- Бросьте, Антон Василич, я уйду.
- Слушайте, Володя, слушайте. Был в Европе такой режиссер Гротовский, слышали о нем? Существование этого человека для меня – вечное недоумение и вечная боль. Не может быть никаких сомнений, что это выдающийся человек театра, почти святой. Никому не позволено обращаться с его театральным бытием запанибрата. Но вместе с тем я никак не могу постичь его идеи чувством. Иногда они кажутся мне даже разрушительными. Я встречался с одним из его ведущих актеров, уже после того, как они разошлись, и сам Гротовский перестал заниматься практическим театром. Совершенно опустошенный человек, с постоянно расширенными от какого-то ужаса глазами. Он мог потрясать своих учеников некоторыми приемами прежней Лаборатории Гротовского, вызывал почти молитвенное отношение к себе, а спектаклей из этого не выходило. Постановок самого Гротовского я не видел, воображал только по описаниям, фотографиям. Они, конечно, были шоком и для зрителей, и для самих актеров. В какую область человеческого существования был направлен этот шок, не могу понять. Столько страсти, такой полной отдачи ни смог в наше время предложить никто, ни до, ни после него, но вот была ли там Игра, не знаю. В истории вообще встречались загадочные фигуры. Савонарола безусловно был глубоко верующим человеком, принесла ли его исступленная вера пользу церкви – это совершенно другой вопрос. Однако нам не дано его судить, мы даже не приближаемся к нему по степени самозабвения и бескорыстия. Это – постоянная тревога, постоянное напоминание о том, как следовало бы в идеале решать проблему выбора между миром сим и миром иным. Ему задали однажды вопрос – то есть, Гротовскому, я имею в виду – нет ли для актеров опасности утратить психическое равновесие, так далеко внедряясь в глубины своего «я». Он ответил, что нет, что последовательный и бескомпромиссный путь самопознания не может быть вреден. Вредным, он считал, бывает недостаточная решимость, оглядка с полдороги. Напоминал, что само существoвание в качестве художника представляет собой определенную опасность. Он приводил в пример Ван Гога, который, по его мнению, не нашел в себе достаточно воли и сил, ступив на этот путь, пройти его до конца. Это о Ван Гоге, вы представляете?
- Представляю. Примеры на меня тоже больше не действуют. Я знаю, что способен делать театр, и знаю, что сейчас он этого делать не способен. Да я вам больше скажу, мне надоело во всем винить себя.
- Ну, на это возразить трудно, но в чем в данном случае вы видите мою, например, вину?
- Нет, я виноватых не ищу, я иногда думаю – какое несметное количестве шедевров, которые взвешены где-то там в эфире и ждут, когда к ним обратятся, а потом смотрю на толпу на улицах, и мне понятно, что шедевры эти тоже никому не нужны. Но говорю я сейчас только о театре, где нельзя работать в стол, и не потому, что это мимолетное искусство, не только поэтому. Сам процесс противоречит коллективному характеру работы. Может, раньше это не так заметно было, а сейчас люди все-таки умнее становятся, менее наивными во всяком случае. Нас привыкли называть исполнителями, но вы-то знаете, о чем я говорю.
- Мне кажется, я знаю еще одну вещь. Для каждой работы есть только один самый лучший способ ее осуществить, он целиком заложен в ней самой, в ее материале, задачах, в твоей способности быстро приобретать опыт, пристраиваться. Чужой опыт и всякая общая методология могут, конечно, помочь, но это пустяки в сравнении с твоим собственным трудом, повторяющим один и тот же процесс снова и снова. Подмечаешь всякие мелкие уловки и хитрости, позволяющие добиться результата быстрее, лучше и с наименьшими затратами. А где-то глубоко в подсознании прячется генетическое родовое знание обо всем на свете, и вот, честно приобретая свой частный опыт, можно однажды нащупать внутренним чувством информационный сосуд, зажатый спазмами ложного ежедневного всеведения. Если тебе удастся попытка такого смирения, отпускающая нужную мышцу, восстановится естественная свободная связь с родовой памятью и бесчисленными навыками, тогда появляется возможность стать мастером. Вы не думайте, что мы говорим только о житейском ремесле, творчество тоже предполагает труд и накопление опыта, и приобретение сноровки. Иногда этому труду сoпутствует вдохновение, иногда нет, одни ценят только эту способность, другие утверждают, что на случайность нельзя полагаться – но я думаю, выбирать среди них не стоит, правы и те, и другие. Трудность здесь в ином. В любом ремесле ты знаешь более или менее полно, что тебе предстоит создать. Строишь дом, выращиваешь урожай, командуешь сражением и ясно видишь впереди удобное жилье, обильное зерно, пленных, трофеи или свободу. В искусстве цель трудноуловима и появляется постепенно, вместе с развитием твоих усилий. В искусстве драматического театра она, даже достигнутая однажды, ускользает, остается висеть где-то в воздухе. Прозрачный силуэт в прозрачном воздухе. Вы все это довольно точно описали пять минут назад. Но это – сопротивление материала и больше ничего.
- Нет, нет, вы же не договариваете. Ускользает, неуловима... но что-то должно сохраняться, хотя бы память об этих мгновеньях, и для этого нужны не только наши усилия, а еще и тех, к кому мы обращаемся, серьезные душевные усилия зрителя. Когда вы в последний раз этого зрителя видели?
- А откуда он вообще по-вашему берется?
- От практики, от протяженного общения с живым театром.
- Вы так думаете? Вообще-то, это похоже на правду, и само свойство спектакля исчезать без следа тоже вроде подтверждает его особую злободневность. Спектакль не может оказаться непонятным, да? Как симфония или картина, или книга... То есть, все они обращаются не столько к современнику, а могут дожидаться будущих читателей, слушателей. Могут, правда, и не дождаться. Но в театре надо получить впечатление с первого раза, тогда, значит, и отдача должна быть такой же срочной, а об отдаче мы судим по успеху, он бывает шумным, так что все действительно выглядит, как гармония, такой гражданскo-эстетический закон. Но может быть, это и не совсем верно. К сильной книге, картине, музыке человек возвращается в течение свой жизни несколько раз, в разных личных обстоятельствах, с различным опытом, они прибавляют ему мудрости, знания жизни, преображают его... Слушайте, вы ведь наверняка изучали в институте историю русского театра, Мочалова в описаниях Белинского. Я недавно стал перечитывать и обратил внимание на одну подробность, которой не замечал. Павел Мочалов сыграл Гамлета в Московском Императорском театре в 1837 году, кажется в январе. Москва в то время была страстно влюблена в высокую драму и уже отчаивалась ее увидеть, тогда был период общего упадка театра, который погряз в дешевых водевилях. И вот, талант Шекспира соединился с высоко одаренным актером, и все обезумели от счастья. Это Белинский пишет, примерно в таких выражениях. Знаете что, я сейчас найду это место, так будет короче.
Акмос снимает с полки книгу, открывает заложенное место и читает:
«Генваря 27, то есть, через четыре дня, «Гамлет» был снова объявлен. Стечение публики было невероятно; успевшие получить билет почитали себя счастливыми. Давно уже не было в Москве такого общего и сильного движения, возбужденного любовию к изящному. Публика ожидала многого и была с излишком вознаграждена за свое ожидание...»
Тут дальше он ходит подряд на одиннадцать спектаклей, они играются все сильнее, и вот он в восторге описывает отдельные сцены девятого представления и потом:
«...И должно еще заметить, что на этот раз никто из зрителей, решительно никто, не встал с места до опущения занавеса (за которым последовал двукратный вызов), тогда как во все прежние представления начало дуэли всегда было для публики каким-то знаком к разъезду из театра».
Вы понимаете, какая чушь? Событие века, актер гениален, каждый спектакль играет по-другому и все лучше и лучше, широчайший слух по Москве, билетов не достать, и, соответственно, не стали расходиться на последней сцене, дважды вызвали актеров – это старые добрые времена сугубой практики, протяженного общения. Как бы нам показался такой прием сейчас? Но почему-то веришь, что этот спектакль оказал сильнейшее влияние на всю русскую культуру XIX века, правда? А то, что кроме Белинского мало кто о своем впечатлении упоминал, так, может, это потому, что впечатление было слишком сильным и очень личным? Тогда я могу себе представить, что знакомое нам непосредственное воздействие театра, с восторгами, шумихой – явление совершенно особого порядка и прямого отношения к настоящему художественному воздействию не имеет. Кажется, театр по назначению своему это вообще квинтэссенция творческой силы и действует только опосредованно, через отдельных талантливых зрителей и после такой долгой паузы, что явных следов его уже и не найти. Я лезу сейчас не в свое дело, мне на сцене быть не приходится, ваши ощущения я не переживал и не терял то, что, по-видимому, пришлось потерять вам. Я серьезно прошу прощения. Вы понимаете, что я имею в виду? Что у театра как бы два лица – одно в сегодняшнем дне, где воспринимается самая внешняя его часть – и, кстати, большинство актеров устраивает именно это – а второе проступает для очень немногих и их-то и переворачивает так, что они затем всю жизнь только и горят этим впечатлением, перерабатывают его для других в разные формы. Может быть, эти два лица вовсе и не совпадают никогда. Но я всегда думал так: надо взять себе непосильную задачу, что-то вроде вагнеровских опер, всех романов Достоевского, пятого Евангелия, и потом, когда ощутишь всю ее необъятность, продвинуть ее еще чуть-чуть дальше, хоть на пять миллиметров, закрепить там и тогда начать работу. Надо все время иметь в виду, что мы имеем дело с живым организмом, как если бы это была не пьеса, а человек, и всегда остается возможность для чего-то непостижимого, для неожиданности. Что-то, из-за чего человек способен остаться человеком в самых жестких, самых предсказуемо безнадежных условиях. Короче говоря, вам кажется, что сейчас неподходящее время для театра. Я думаю, что подходящим оно никогда и не было, а если казалось, что время ему благоприятствует, театр тут же начинал забывать о своей истинной сущности. Володя, мне очень жаль, но нам придется прерваться. Я должен быть в одном доме, мне неудобно заставлять их ждать.
Мы спустились вместе, Акмос предложил мне проводить его до метро и по дороге сообщил мне новость, которая стоила всего разговора. Оказывается Риголетто намекнул ему, что видит в репетициях потенциальную возможность повернуть все развитие театра и даже жизни в стране, и предложил обдумать вариант хепенинга во время четвертого или пятого спектакля после премьеры, когда слава о постановке уже наберет полную силу. Суть хепенинга заключалась в том, что исполнители главных ролей, проникнувшись отчаянием при виде гибнущего театра и катастрофической бездуховности общества, предпримут некую форму публичного самосожжения, заколов и отравив друг друга на самом деле. При всей непредсказуемости влияния, которое оказало бы такое событие, одно не вызывало никаких сомнений – ничего похожего в истории мирового театра еще не случалось.
Мы посмеялись, а затем Акмос вдруг печально сказал:
- На самом деле мне не по себе. Если уж о времени говорить, то как раз для таких заскоков оно вполне подходящее. Не нам, так кому-то еще он, может быть, и внушит эту идею. И видите, отчасти вы правы, но не получается просто остановиться, вас сразу затягивает назад, в какие-то дебри безумия. Есть, правда, и хорошие новости. У нас будет новая Гертруда, и я очень доволен, что мне удалось ее заполучить. Вы ее знаете, конечно, это Женя Андреевская,
Я не пошел в метро, решив прогуляться, я был уверен, что Акмос выпроводил меня намеренно – считал, что именно на этом следует закончить разговор.
VI
Вдоль длинного крыла барской усадьбы, с собственной церковью в одной из зал, идут обшарпанные сараи и прочие хозяйские постройки. За ними тянется выложенная бетоном протока, где летом купаются ребятишки. В этой-то протоке мне и приходится задушить сверстника, причинившего невыносимую боль, угрожавшего самой жизни. В доли секунды приходится решать, что делать с мертвым телом. Заметив у одного из сараев огромный серый брезентовый плащ, я хватаю его и поспешно, не слишком тщательно заворачиваю в него труп, затем засовываю его в какой-то пустой мусорный бак и спешу в церковь, где кончается семейная служба. Опускаюсь на колени, истово, с жаром крещусь во все стороны на иконы, каясь в содеянном и зная при этом, что люди вокруг могут догадываться, что я совершил какой-то грех. Но все они, вся семья, движимы неким милосердием и потребностью помогать другим, особенно детям, особенно бедным, каковым я являюсь. Сначала кажется, что вот-вот придется признаться, и это предчувствие чрезвычайно тяжело, хотя к нему уже примешивается утешающая мысль о необходимости пострадать, чтобы обрести блаженство. Мысль эта и есть самая основа семейной веры. Сначала, конечно, будет какое-то грозное наказание, но потом они с удвоенной силой станут меня любить и опекать.
Время идет, и ничего не обнаруживается. Я уже введен в семью и нахожусь у них как бы на иждивении, с кое-каким правом на уважение и с мелкими карманными деньгами. С уверенностью барчука нахожу среди обслуги горького пьяницу, который готов за два-три рубля уничтожить все следы моего преступления. Сговариваясь с ним в каком-то закутке, вроде конюшни, я замечаю среди гостей усадьбы странного, скрытного человека, похожего на артиста Копеляна, и понимаю, что лучше обратиться с просьбой к нему. Он надежнее пьяницы, и чтo-то в его облике убеждает меня, что он не только согласится, но и дело само доставит ему удовольствие. А ситуация такова, что скрывать мне надо уже два тела, а не одно. Откуда взялось второе, я не помню, но и этот грех – мой. Я успеваю ему сказать о первом трупе, и он весело и деловито соглашается. После короткого замешательства я удерживаю его, готового приняться за дело. На его вопрос, заданный при посторонних, я не могу ответить, но меня спасает валяющийся у кучи мусора огромный серебряный рубль. «Вот что хотел я добавить», - говорю я, подбирая рубль и отдавая ему вместе с приготовленной мятой пятеркой. Он понимает все без объяснений. Кажется, готов усмешливо спросить, а много ли у меня еще припасено трупиков. Я начинаю угадывать в нем Свидригайлова, без всяких сравнений самого себя с Раскольниковым. Боже мой, ведь мне всего-то двенадцать лет!
Быстро, очень быстро после первых мгновений отчаяния от совершенного безумства и вместе с ужасом неминуемой кары проникает в мозг ободряющая идея избранничесrва для страдания и для последующей благодати, трепетное чувство, что выделен среди других, что славный грядет исход. А сроки покаянья, тем временем, заметно сократились, сместились к неизбежному прощенью. Раз говорят – к блаженству нет пути иного, как через греха свершенье, то нет причин, чтоб в следующий раз предчувствие обещанной награды не сдвинулось назад еще немного, не стало частью самого греха. И станешь ты его вершить не слепо, не по велению свирепых чувств, а в ожиданьи верной благодати. Не обретают на прощенье прав, прожив безгрешно и не пострадав.
Обманывать себя, конечно, не стоило, я ведь догадывался, что маленькой уступкой, против своих убеждений согласившись еще раз вернуться на сцену, я открываю дверь дурным случайностям, и они будут вязать меня все туже. К тем причинам бросить эту затею, которые у меня были, Акмос, по сути дела, добавил еще две: параноидальная деловитость Риголетто, даже если планы его не осуществятся, привлечет к постановке колоссальный интерес, что же касается новой продолжительной встречи с Евгенией, то об этом не могло быть и речи. С тех пор, как однажды я счел старания упрямых сил, сводящих нас вместе, ошибкой и исправил ее, как мог, ничего не изменилось, разве что чувство одинокого родства с ней стало еще острее, а неверие в крестовый поход за святой тайной Игры обрело черты решительного отказа. Обстоятельства, пожалуй, просто вынуждали меня устраниться из общей картины окончательно и навсегда.
В утреннем розыгрыше, на который впервые пришла Женя, кроме нас участвовали два Левы – исполнители ролей Полония и Клавдия, игравший Лаэрта Стасик Волчаков, который, предупредил, что опоздает, и еще двое актеров, игравшие придворных. Акмос тоже задерживался в мастерских и просил не расходиться. Я поцеловал ей руку, и попросил встретиться со мной ненадолго после репетиции. Между Левами тем временем тлел вялый утренний спор.
- У него все увязано одно с другим, - лениво объяснял Лева Гуров, которого обычно называли Левой-маленьким, - Я имею в виду – все, кто в данный момент на сцене. Нет такого, что каждый – сам по себе.
- И все? Вся задача театра?
- Нет, я тебе не собеседник. О задачах вон с Володей поговори. Ты попробуй увяжи сначала...
Большеголовый, казавшийся много старше остальных Лева Седых говорил негромко, ни на кого не глядя:
- Не надо мне Володи. Но и ты не притворяйся. Пока мы свой сволочизм не осознаем, гражданский сволочизм, именно мы, лучшие из лучших и худшие из худших, до тех пор ни о чем таком говорить не надо. Все были способны о себе заявить. Только мы, как бы лишившись своего «я» в перевоплощениях, все врали, жаловались на цензуру, раздували представление о своем воображаемом могуществе. Ты вот такой собранный, весь в работе... Ты никогда не задумывался, почему никто к нам не обратится с простым человеческим делом – заступиться за кого-то, письмо подписать? Нас как бы берегли для более великой участи, духовной услуги, которую никто кроме нас не может обществу оказать. На самом деле никому просто в голову не приходило нас просить. И правильно делали, мы и не смогли бы, давно уж их жизнью не живем и мало что в ней понимаем. А все-таки неприятно, а? Вот пропал к нам интерес, а мы, взрослые мужики – я про женщин не говорю – все пo-прежнему, как попугаи, сердимся чего-то, любим, веселимся, переодеваемся, доказываем чужими словами и обязательно на глазах у людей. Наша работа. А вернуться к прежнему счастливому состоянию не можем. Съехали куда-то в позапрошлый век, и никаких связей с настоящим нет.
- Все, все, иди гуляй, - огрызнулся Лева-маленький, - мне сейчас репетировать.
Таких разговоров я наслушался в свое время без меры, сейчас в них появился скорбный гражданский мотив, который ничего по существу не меняя, просто отражал новые общественные веяния.
- Здравствуйте, господа удавы! - послышалось бодрое приветствие Стасика Волчакова, входящего в зал предварительных розыгрышей.
- Ого, на какой мы ноздре с утра!
- Я на ноздре, потому что вместо ваших интриг занимаюсь мыслительной деятельностью и совершил открытие, которое может повлиять на весь политический процесс на Ближнем Востоке.
Стасик сел на режиссерский стол Акмоса и продолжал:
- Помните Сашу Савича? Кстати, где вы зимний отпуск проводили? В Рузе, конечно и без пользы – что я спрашиваю… Ладно, поговорим об улыбке Арафата.
- Кого?
Стасик сокрушенно вздохнул.
- Первое подозрение – что улыбка стала противоречить логике. Раньше я на нее внимания не обращал. Только из-за щетины, которая никак в бороду не разовьется и аккуратно слезть не желает. Но кого это волнует? Вас это волнует? Меня не волнует. Однако, смотрите: свои же его прижали – раз, покровители бросили – два, потом по руке ему попало раскаленным железом, и все гнется к явному финалу, а он улыбается. Я понимаю, он – не как мы, он лидер, ему хмуриться неуместно. Но вот уж Кастро – на что крутой мужик, а и то в последнее время, глядишь, за голову хватается. И я догадался: моп твою ять, думаю! Он же мне уже являлся во сне. Будто работаю я какую-то телевизионную халтуру, народу навалом, и Савич среди них. Мало того – Оля, жена его тоже бродит. А умер он года за два до того. Это вы знаете, что самосвалом его сбило, шел в консультацию за детским питанием – ребенок у них только родился. А-а... жуть такая... детские бутылочки... Ну – нет человека и все тут. В конце концов Блез Паскаль тоже умер в 39 лет. Вы помните, какая Ольга была – как струна. И вот слоняемся мы все по павильону. Они с женой друг на друга даже не смотрят. Ну он – понятно, ему как бы законы не писаны, а она – видно, что крепится, чтобы его не видеть. Я подсел к нему с вопросом – какой-то неопределенный вопрос, как всегда во сне. И вдруг он мне творит: «Не надо. Так лучше». То есть, вроде я не все знаю, вроде «ушел» он в широком смысле этого слова, а ей лучше считать, что он умер. И сама она это понимает, потому и ведет себя так хорошо.
Я всегда ему немножко не доверял. Не то что врет, а сам не знает толком, что он такое. Актером вот стал, хотя своим тонким умом мог бы понять, что ему это вовсе не к лицу. Ну, еще кое-что. Мы ведь знакомы-то с ним были задолго до театра, в отроческом возрасте учились в одном техническом заведении. Я оттуда быстро сбежал. Вечность прошла, я уж позабыл, что он на свете есть – ан, вот он, в той же актерской школе, а через год и в том же театре. Я перешел в другой – он дожидается. И так поворачиваются дела, что я возвращаюсь обратно. Через некоторое время я все-таки ушел совсем. А он подождал-подождал – и под грузовик. Я тогда в Ташкенте был в гастролях. Помню, что остолбенел, но тут же подумал: нет, это еще не конец! И сразу забыл. Летом? В Ташкенте? Маразм такой обдумывать? Кому это надо? Вам это надо? Мне не надо. Я собирался там поэму написать по местному преданию, только две строчки одолел:
Раз в десять лет бывает ураган,
С нейтральной кличкою «афганец»...
У меня там температура тела была пятьдесят четыре по Цельсию. Значит, после этого телевизионного сна, он у меня из головы не идет. Вот, думаю, бродит душа в потемках, никак не успокоится. Но и в этот раз я отступился. И такое смутное чувство, что по совести я ему что-то должен, но отдавать некому, так что остается пока за мной. И вот теперь – улыбка. Долго я эту будку со всеми вместе поносил, пока не догадался, что это он мне улыбается. Смысл тут в вечном соревновании, которое он мне с самого начала навязывал. Все мои жизненные повороты для него – какой-то вызов, всегда ему нужно поступить в ответ: ты так, а я, мол, эдак. Ты из электроники в театр рванул, ну и мы не лыком шиты. Ты благополучную карьеру строишь – а я вообще могу башку себе расквасить. Ты – в выпивохи, а я – в террористы и мoзоль человечества. И улыбается...
Ну, больше увиливать не приходится. Может, вся ближневосточная заваруха из-за меня продолжается. Надо повидаться. Там Ясир он или не Ясир, а когда мы в Югославию туристами ездили и по ночным Дубровникам голодные бродили, могли все же открыто поговорить.
И чуть было не полез я прямо в Ливан, где его в угол загнали, но опоздал. Международные силы вступились, дернули его оттуда, и он опять по Аравии гуляет.
Ну, как я до Африки доехал, как его разыскал – всю эту технику я опущу. Или рассказывать?
- Расскажи, расскажи. - подсуетился Виталий Чернов по прозвищу «Манжет».
- А вот примерно так же, как ты четвертый год подряд попадаешь в Мисхор, когда на весь театр дают три путевки. Значит, когда я уже поблизости оказался, пришлось для последнего шага связаться с его охраной. До тех пор я все говорил, что по личному делу, и помогало, но за каким-то порогом чувствую, что уже не срабатывает. Попросил тамошних местных свести меня с его гвардейцами, и двум этим бандитам так прямо и сказал: у меня, говорю, обувь для данной местности неподходящая, песок забивается, ноги натирает. Кому это понравится? Вам понравится? Мне – нет. Передайте лидеру, что его ищет старый знакомый по московскому радиотехническому техникуму.
- По-арабски говорил?
- Нет, по-русски. Они все там через Высшую партийную школу прошли на Новослободской. И вот присели мы с ним на камешки на жарком пустыре. Я говорю: «Что-то я не помню, чтобы тебе удавалось так размордеть. Ты, говорю, вроде и всегда пожрать не дурак был. Что же так подвинулось в обмене веществ? Жизнь у тебя, как я вижу, тяжелая, опасная. Не хлебом единым что ли питаешься?»
Молчит. У нет была, конечно, возможность притвориться, что русского языка не понимает. Может, не решил еще, есть ли смысл в нашей встрече. Понятно, что в этот исторический момент он обошел меня по всем пунктам. Кто я такой по сравнению с лидером ООП? Сам пришел, значит угадал его за всеми полевыми мундирами и косыночками и настоящее свое положение осознал. Ну вот пусть оно так и останется, а то придется еще в каком-нибудь новом направлении меня догонять. Он и раскидывает умишком – не сохранить ли свое инкогнито.
«Можешь, конечно, делать вид, что я выражаюсь на непонятном тебе р-рус-ском языке, говорю, но я признаю свое поражение, так что побрейся и больше не улыбайся. Я действительно не представляю себе, что еще нового может в моей жизни произойти, уже и времени не так много осталось. Между прочим, Блез Паскаль вообще умер в 39 лет. И даже не буду объяснять освободительную борьбу палестинского народа пьянством российских водителей и небрежностью дворников в Банном переулке».
Я рисковал, кстати. Охрану-то он отослал, но у него самого на поясе така-ая коряга висит... Хотя, где-то и я понимал, что ему не угробить меня надо, а чтобы я вечно сокрушался, что не смог его обойти? И вдруг меня озарило. «Слушай, говорю, Ясир Савич, я ведь могу эмигрировать в Израиль и стать там министром культуры и буду принимать участие в решении твоей судьбы. Так что, Саша Арафат, бросай тяжбу, давай помиримся, и сосредоточься на проблемах своих новых соотечественников».
Что же он мне отвечает? Отводит косыночку, приоткрывает свою небритую морду и на чистейшем иврите, которого я не только не понимаю, а и не слышал никогда, говорит: «Долго же ты думал! Ты себя недооцениваешь. Подняв за гoд отсутствующую культуру в этом государстве, ты станешь премьер-министром. А я давно жду, когда в израильском кабинете у меня появится свой человек».
- Поедешь? - взвизгнул, хохоча, Лева-маленький.
- Вот, как ты посоветуешь? Но если уж ехать, то вот с такими крупными задачами, разумеется, не за личным счастьем.
- Как же ты все-таки его понял?
- Неправильно, конечно. Как и всю жизнь его не понимал. Мне потом одна стюардесса-проститутка с Полосы Газа объяснила. Он сказал: «Уйди отсюда, русский артист, не срами великие традиции Щепкиной-Куперник». Здравствуйте, Антон Василич.
Акмос шел к столу, весело поглядывая на нас, пытаясь угадать, что тут без него происходило.
- Травите?
- Нет, я действительный случай рассказываю. Есть там призрак один. Обычная вещь, между прочим, вот Антон Васильич соврать не даст.
По планам Риголетто этого человека надо было проткнуть стальным лезвием с ядом, чтобы он, зеленея, в конвульсиях, умер на ярком свете, где все подробности будут отчетливо видны. Там же предстояло погибнуть Евгении, я же от своей судьбы – пережить их на несколько минут – благополучно ускользал.
* * *
Я не жил жизнью двора, не ходил на Совет, ел с поварами на кухне, не мог никому из них смотреть в глаза, особенно этим двум. Выходило, что прятался, но ничего другого у меня не было сил придумывать. Я не ответил бы на прямой вопрос – что меня отталкивает в происходящем. Шли дни, ничто не менялось, я чувствовал себя посторонним, и это было самое приемлемое для меня, но оставаться в этом положении при дворе становилось все труднее – само время, без чьих бы то ни было усилий, рядило меня шутом. Пришло простейшее решение уехать. Я не хотел встречаться с ними наедине и передал письмо. Ответом было радушное приглашение прийти на очередной Совет. Тут трудно было усмотреть какую-либо хитрость, отчужденная форма моей просьбы встречала понимание, мне мягко напоминали об обязанностях третьеro лица в государстве, которыми я откровенно пренебрегал, а я, в свою очередь, надеялся, что моего согласья устраниться с лихвой достанет, чтобы распустить петлю, что двор стянула в напряженьи. Но в Дании исчез последний выбор – ни жизнь прожить, ни поле перейти.
Молчание, которым начался Совет, я расценил так, что мне можно высказать просьбу вслух. Я догадывался, что это нарушение протокола, но хотелось поскорей уйти – в конце концов, хоть и отстраненный от трона, я все же был не чета остальным. Они терпели мое вызывающее отсутствие, смирились бы и с этой последней выходкой, я как-никак предлагал им избавиться от меня окончательно. По сути дела, я был до крайности не расположен вести многозначительные игры, разгадывать эти их молчанки, и когда, выходя из задумчивости, король обернулся ко мне, я заговорил… Собрался заговорить, он не дал мне сказать ни слова, я даже подняться не успел. Он обратился к собранию с речью, напомнил недавние события, закончил благодарностью за мудрые советы и участие и умолк. Все лица были обращены к нему, и я не знал, заметил ли кто-то неловкую позу, в которой я застрял и продолжал оставаться в течение всей речи. Это привело меня к следующей ошибке: разумеется, Совет должен был открыть король, но теперь-то уж, наверно, мне дадут слово. И зол я был, конечно. На этот раз я успел встать и садиться обратно было поздно, а король заговорил вновь, рассказал о притязаниях Фортинбраса и снова остановился. Он сидел, собираясь с мыслями, но я уже понимал, что он следит за каждым моим движением, и не мог больше позволить себе промахнуться, не мог сесть, что подчеркнуло бы мою пресеченную бестактность, не мог оставаться стоять, причисляя себя тем самым к последнему придворному, не мог уйти, зная, что меня не отпустят, что он найдет способ превратить это в каприз, я уже слышал слова, звучащие мне вслед: куда спешит любимый сын наш Гамлет? Должно быть редкой важности дела зовут его, раз он пренебрегает собраньем важным Датского Совета. В противном случае нам остается думать, что прихоть мелкая ему туманит разум, который, закипая нетерпеньем – простительным ребенку, но позорным для взрослого мужчины – попирает все правила приличья, весь устав, слoжившийся столетьями у трона, любовь родителей и уваженье к ним и требует у старших исполненья... Чего же именно? Должно быть, пустяка? Причуды временной? Желанья прoгуляться? Я сам себе не верю, не тебя я описал в таком нелепом виде. Так что за неотложные дела не оставляют принцу ни минуты?
Как мне было отвечать? Нет ничего, что было бы важней решений короля и слов Совета, прошу простить минутное затменье, все это слишком живо воскрешает былые времена и тех, кто прежде выслушивал Совет и принимал решенья, я веду себя несносно, покорнейше прошу меня простить?
Нельзя было и пошевелиться, и досаднее всего, что в эту ловушку я загнал себя сам. Он показывал мне, что царит по праву, что воля и навыки общения с подданными творят чудеса. Я вырваться не мог, он делал со мной, что хотел, каждым словом, жестом, даже не обращенным ко мне, втаптывал в грязь, обнажал мое ничтожество, неспособность за себя постоять. Никто на меня не смотрел, ни один мускул не дрогнул в лицах вышколенной черни, я знал, как любо им зрелище реальной власти, как растет их преданность королю и восхищенье им. Но мать!
На сочувствие я не рассчитывал, я поступил неумно и сам навлек на себя эту кару, но мне было интересно, что же она испытывает. Я изучал ее лицо, и, может быть, это спасло меня от иных вздорных решений. Очередь моя настала не скоро. Были посланы в Норвегию двое холуев, Лаэрт был отпущен в Париж, и когда взялись за меня, я уже настолько овладел собой, что умудрился сесть, сам того не замечая. Мысли, охватившие меня во время наблюдений за матерью, были горьки. Мне стало все равно, что видят окружающие, я больше не помышлял об отъезде, я дожидался конца собрания. Говорить с ними мне было не о чем, и, если бы не мать, не сговор их, стоявший за упорством, с которым королева о моих выспрашивала чувствах, я б смолчал. Но мне ее растерянность увидеть вдруг захотелось, убедить себя, что ей трудней дается отреченье от истины, чем буйволу-монарху. И будь я проклят, если не готова она была ответить! Он не дал, он оборвал поспешно нас обоих. Его рука на кисть ее легла единым жестом с прозвучавшим словом, и тут же с пониманием была ее рукой доверчиво покрыта. Я же получил полной мерой за эту попытку искренности, теперь все было сказано в лицо: меня при посторонних заклеймили упрямцем нечестивым и глупцом, лишенным прав на звание мужчины, ну а моя нестойкая душа в порочном сочетаньи с ненадежным рассудком порождали лишь ворчбу и грубые понятья без отделки.
Не Виттенберг смущает короля, ему я нужен здесь чего-то для....
Но и мне больше нечего было делать в Виттенберге. Нигде не было для меня дела. Не хотелось даже все это записывать...
- Лева, там было место, когда вы говорили, глядя на Гамлета и не видя его – это хорошо, надо оставить. Когда отсылаете гонцов, проверьте в последний раз, не подведут ли. Очень большой риск, это ведь просьба, тоскливая, вынужденная просьба, потому что воевать сейчас нельзя, а они всей этой тонкости, конечно, не понимают, бьют копытами. Задержался в последний момент – может других назначить? – но выбирать не из кого, и тогда махнул рукой: быстрей, быстрей. И теперь насчет Лаэрта. Хорошо бы нам тут такой сбой устроить. Вся эта сцена – мощная атака на Гамлета, и он уверенно, с удовольствием ее проводит, но когда до прямого разговора остались минуты – вдруг сбился. Так ведь часто бывает. Эпизод с Лаэртом – какой-то выдуманный, искусствениый. Он забыл, как собирался с Гамлетом начать, и перепутал реплики с Лаэртом. Итак, Лаэрт? Что нового услышим? Не та реплика! Поставил его в тупик. Нельзя же отвечать: хочу уехать. И – полный провал в памяти. Потом вспомнил – может, на Полония посмотрел: шла речь о просьбе? А Лаэрт уже успел вспотеть, отвечает грубо: дайте разрешенье. Все вкривь и вкось пошло. Полонию нужно не размазывать, подыграть сухо, по существу – это все заранее договорено. Смотрите, Клавдий говорит широкими монолoгами, даже с Лаэртом, после первой запинки, опять начинает витиевато: не больше ладит с сердцем голова... Вдруг грубость: отец пустил? И дальше с Гамлетом не вяжутся слова, все огрызки какие-то пошли – ему нужна здесь королева, без нее он, может, даже и проиграл бы. Но Гамлет давит на нее, вот сейчас спросит: а как он умер, а вы его видели мертвым, а кто его нашел в саду? Прямая опасность, тогда он сразу озверел, поставил его на место.
- Антон Василич, почему Лаэрт хочет уехать?
- А он хочет? Мне кажется, его отец отсылает. Нельзя обманываться их семейным благополучием. Придворные хорошо знают, что такие перевороты кончаются не просто и не скоро, втягивают многих людей, а для такой близкой к трону семьи – смертельно опасны. Лаэрт – единственный сын, лучше ему переждать это время. Но это в другой сцене, где он прощается с Офелией. Тут только одно – формальная просьба, формальное подтверждение отца, формальное разрешение. Все обдумано и решено заранее, я повторяю: вся сцена – удушение Гамлета, и ни для кого не секрет, в чем они участвуют.
- А что же мамаша-то курва такая? - спросила Евгения.
- Западные феминисты считают, что он был женоненавистник, - отвечал Акмос, улыбаясь, - Спасибо. На сегодня все. Женя, вы не могли бы задержаться еще немного?
* * *
В юности это такая дивная неожиданность для обоих, как будто и впрямь забавляются летающие, мелкие третьи лица. Искушенные многое знают наперед, сразу предвидят возможное партнерство, и какие бы обстоятельства ни противоречили его осуществлению, говорят про себя: вот, мол, уж никаких путей нет, но мы-то знаем, что как бы оно там ни обернулось, а коль скоро желание перевесит, ничто не смoжет помешать. Улыбаются уголками глаз, откладывают решение, предоставляя какой-то мелочи свести их ближе, с любопытством приглядываются – что же это окажется за пустяк такой, но никаких не будет здесь летающих, ни ползающих третьих лиц, и ничьей злой воли, одно обостренное чувство судьбы.
А то подкрадывается незаметно, опрокидывает в траву под августовским небом, заставляет бормотать в рифму, а в промежутках ясного сознания вспоминать, что уже неделю-другую замечал неладное: временные притупления слуха, взрывы сердцебиения от беглого обмена взглядами, и если ожог этот поражает обоих одновременно, то вероятнее всего грядет беда, двойной ожог угрожает покою не только Монтекки и Капулетти, тут им придется всем миром быстро решать, кто же прав – мир или вы двое, и, скорее всего, вам несдобровать.
Но когда этот первоначальный недуг настигает поживших и умудренных во всякой такой прелести, исход непредставим, как последствия сухой грозы, остывания солнца или озонных дыр.
Повтор. Репетэ. Кто я такой, чтобы исправлять пути, прокладываемые постановщиком, который в тонкости и творящей силе ни мне, ни Акмосу не чета?
Я думал о том, как мало, в сущности, нам осталось жить. Она почти не изменилась, держалась превосходно, но недоумения, так хорошо мне знакомого, спрятать не могла. Ей следовало бы играть и Гамлета, хотя это было бы все тем же отчаянием Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, а мать королеву могла бы сыграть и другая актриса, трагическая дылда с неподвижным лицом, например. Евгения сыграет лучше, потеряв еще два месяца, два или три месяца жизни, утекающей сквозь пальцы наших разъединенных рук. Я, наверно, ошибся, отпустив ее, потому что – к чему же мы в конце концов пришли? Тогда стоит осуществить пошлую идею Риголетто, не во имя протеста и возвеличивания театра, а, чтобы раз и навсегда отделаться от таких вопросов. В любом случае, заявить, что я ухожу из спектакля, стало вдруг для меня невозможным. Я мог ни в грош не ставить Игру, как угодно обходиться со своим участием в ней, но глумиться над тем, что составляло жизнь Евгении, я не мог.
Я ждал, сидя на ограде сквера, она все не появлялась, а рядом у скамейки, в луже тающего снега остановилась краснощекая девица лет четырех, и стала месить резиновыми сапогами холодную кашу, вовсе мной не интересуясь. Потом мне представилось, как она поднимает совок в мою сторону и спрашивает: «Что ты Гекубе, чтоб о ней рыдать?» Вот точно так же, наблюдая, как моя собака часами глядела в окно, положив лапы на подоконник, я просто слышал, как она произносит про себя: «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок».
Я вернулся в театр, узнал, что и Акмос, и Евгения давно ушли, поднялся на этаж гримуборных, зашел в первую попавшуюся, сел за столик и прислушался. Было темновато, окна в этих комнатах существовали для проветривания, не для дневного света. В это время, между утренним розыгрышем и вечерним спектаклем, театр был пуст и тих, пощелкивали раскаленные батареи, далеко, в другом конце коридора звучали неразборчивые голоса, что тоже было особым признаком тишины. Дом был чужим, так же, как и любой другой игральный дом в этом или ином городе и вообще на свете. Переходя из театра в театр, я не удосужился завести своего столика с трехстворчатым зеркалом, с ящиками, в которых хранились коробки с гримом, лигнин, вазелин, пудра, еще какие-нибудь случайные мелочи. Таким безлюдным и молчаливым театр мне нравился, он сохранял все свои таинственные возможности, мог, казалось, без усилий отпустить их на волю, к дрогнувшим стенам зрительного зала. Тут удобнее было погоревать о своей чуть было не наступившей свободе, проститься с ней – по крайней мере, с мыслями о ней на ближайшие несколько недель. Сокрушаться было о чем, я уже ощущал ужас надвигающегося выпускного кошмара. Нельзя больше свободно работать, примериваться к тому-сему, бросить, если почувствуешь, что выдохся. Теперь надо создать произведение искусства, положиться на Акмоса – что, в общем-то, я сделаю охотно; на самого себя – что принесет мне много черных дней; и на тех, на кого вообще нельзя полагаться, кто, никак не приготовясь, придет смотреть спектакль, который им ни к чему. Я, конечно, могу сыграть и затем, по совету Акмоса, во славе совершить свой разрыв с театром. Вот только славы еще недоставало! Убежденный в бессмысленности этого занятия, я буду играть изо всех отпущенных мне сил, как не удавалось до сих пор, чтобы стряслось чудо, и театр встал на ноги. Да вы смеетесь! Негласное правило, бытовавшее в провинциальном театре, где мы с Женей рабoтали, заключалось в том, что, получив роль, актер первым делом должен был успокоить заметавшееся творческое «я», решив для себя, почему не удастся ее сыграть. Причин было навалом: плохая пьеса, бездарный режиссер, слабые партнеры, короткий репетиционный период, чужие интриги, мешающие работать, болезнь, наконец. Как только причина уточнялась, игральщик без лишних волнений приступал к работе. Этот театр надо было бросить. Мне не дали. Хотят, чтобы я осуществил переворот, сыграл Гамлета, убил зловонный город, порвал ему главную жилу... Кто же способен на такое? Я чуть не закричал.
Восклицания вдалеке стали отдельными и громкими, стукнула в сердцах захлопнутая дверь, голоса приближались. Диалог походил на скандал, и среди спорящих были женщины, я выглянул в коридор. Костюмерша и заведующая труппой с осторожностью пытались успокоить и остановить невысокого роста мужчину, который в носках, в выпущенной поверх трусов белой рубашке неуверенными шагами направлялся в мою сторону. Я его знал, в театральном училище он был на два курса моложе. Не обладавший достаточными данными, он никогда не позволял себе претендовать на осoбые права, но был очень самолюбив, и иногда в нем проглядывало глубоко затаившееся хамство. Сейчас он был еще и пьян, сделал вид, что не видит меня, хотя мгновенная заминка свидетельствовала об обратном, как и последовавший возглас. Он поднял к трясущейся голове сжатые кулаки и плачущим, сдавленным голосом провыл: «Ненавижу»! Ненависть была велика, велика и искренность, а все же чуть-чуть не хватило всего этого, чтобы обратить вопль ко мне. Это тоже было его свойством – абсолютное чутье к превосходящей силе, в любом, самом бессознательном состоянии полыхающего гнева.
- Саша, Саша! - причитала костюмерша, - Носки-то, белье чистое, только что погладили...
- Да что! - взвизгивал он, - Чистое... глаженое... Покойников так одевают! Покойники мы и есть...
Он работал в этом театре давно, а в спектакль Акмоса даже не попал, и у него были причины злиться на меня, случайного, удачливого пришельца. Это внятное эхо, которым отозвался мой неродившийся крик, сделало вдруг пустыми мои размышления о неудавшемся отступничестве.
VII
Как только я вошел в дом, зазвонил телефон, еще не совсем стемнело.
- Ну ты чего там? Кронеберга с Лозинским сверяешь? Я думал, ты, может, имеешь желание симфоническую музыку послушать. А то я могу тебя устроить.
- Ты, значит, и концертами не брезгуешь?
- А кто брезглив? Ты брезглив? Я не брезглив. Что делать-то, если за мной в данный момент альтистка ухаживает, Лена Погосян. У нее день рождения, но она меня на порог не пустит, если не приведу на концерт пару человек:
- Значит, и у музыки плохи дела. Много набрал?
- Старик, ты слишком разборчив, так не успеешь друзьями обзавестись. Я тоже таким был, потом одумался. В конце концов, Блез Паскаль...
- Да почему ж тебя Паскаль-то так достал? А Пушкин, Лермонтов?
- Ну, об этих чего творить. Они сами всю дорогу нарывались. Ты еще Маяковского вспомни. Блез Паскаль был чистый человек, никому не мешал. Так мы договорились или нет? Будешь пятым, я думаю ей хватит. Потом пойдем к ней, отметим.
- Надо ведь подарок придумать.
- Гуманно. Портрет я тебе нарисовал: альтистка, Лена Погосян, 27 лет, Брамса сыграет – слезой изойдешь. В крайнем случае подаришь баночку немецкой канифоли. Я тебе одну уступлю за двадцатку.
- Мы что, одно и то же дарить будем?
- Что такое одно и то же? Ты ей никто, случайный челoвек, совсем не обязательно выглядеть, как датский жлоб. Я объяснил тебе: она – альтистка, то есть скрипачка, Лена Погосян. Я, может быть, что-то путаю, и ты знаешь, о ком речь идет?
- Ну, ты еще раз повтори – я и не зная вспомню. Что, действительно хорошо играет?
- Вот этого я не могу тебе с уверенностью сказать. Ее посылают куда-то на конкурс, в Миннеаполис, кажется. Что это может означать, по-твоему? Подает надежды?
- Как же ты ее вычислил?
- Старик, это лишнее. Я начинаю думать, что у тебя сложилось обо мне ложное представление. В семь тридцать у Большого зала Консерватории. Опаздывать не надо.
- Ладно, Стасик, спасибо, я приду.
- Гуманно. Так не интересуешься, кто остальные четверо?
- Да это, в общем-то, все равно.
- Вот именно. Увидимся.
Среди собранных Волчаковым незнакомых мне людей была Евгения. Мы разминулись – не увидев меня в театре, она решила, что я передумал и ушел, но встретиться здесь не ожидала и она, как я понял.
В зале мы сели рядом и слушали, действительно, квинтеты Брамса, на коленях у нас лежали букеты, Женя никогда не упускала таких вещей.
Была ли эта музыка волнующей или умиротворяющей при его жизни – с нашим временем у нее нет связи, однако – трудно себе представить что-то более своевременное и живое. Это совершенство так далеко, что смешно и пробовать достать, а все же это недоступное имеет к нам прямое отношение, во всей нашей низости мы еще остаемся людьми, сохраняем в себе любое мыслимое совершенство. Не следует только искать в этой музыке рецепт здоровой экономики, надеяться, что она поможет сoбрать и сохранить урожай, она напоминает о том, насколько мы все-таки люди, насколько близки Богу, предлагает сoкрушиться о собственной бездарности и самоуверенности. О нас он, что ли, думал, когда писал этот квинтет? Какие сады невидимых звуков висят над библиотеками клавиров и партитур, как мало звучит в мире музыки, надо больше, надо чтобы музыканты сменяли друг друга, играли день и ночь, не заботясь, слушают их или нет, когда-нибудь услышат, соберутся вокруг, как собирались в церквах Нижнего Новгорода в бессилии и тоске, предчувствуя неминуемую гибель государства, молились миром до слез, коря себя за то, что не сумели его уберечь. «Да разве враг нас одолел числом? Он одолел нас Божьим помышленьем, да нашей слабостью, да нашими грехами»... А там оставалось отдать лишнюю рубаху на ополчение, пойти на Москву и выгнать поляков.
Вот он спрятал в легком, стройном звучании такую боль, и советует нам не соревноваться с действительностью ни в красоте, ни в жестокости.
Эпоха Достоевского завершена, он ужаснулся первым, затем пришел наш век, время всем ужасаться редкой способности человека ко злу, гадать, где же предел его падению, но разве не ясно, что ждать нечего, что предела быть не может, и не в нем дело, что в самом этом гадании есть страшный грех извращенного, пассивного праведничества. Изощренное понимание зла не поможет, если человек не знает своего предназначения, тому же, кто знает, не много нужно, чтобы понять, что отклонился от пути. Важно ли при этом, как далеко ушел, и все эти острые подробности? Вернуться надо на тропу, отличить правду от кривды нетрудно, никогда не было трудно, что бы там ни сочиняли.
И неожиданный танец в финале... Та. Та. Та. Та. Р-ра-та-та-та-та, та! Взявшийся ниоткуда, никак не подготовленный, но единственно возможный. Так внезапно пляшет человек, себе удивляясь, смеясь и плача, чувствуя, как прибывают и прибывают силы.
К Лене Погосян, которая оказалась довольно красивой молодой женщиной, со светлыми волосами и мягкими чертами лица, никак не соответствовавшими ее фамилии, Евгения идти не хотела, я повторил свою просьбу, предложил исправить дневное недоразумение, проводить время в компании незнакомых людей не хотелось и мне, но поговорить было нужно, хотя и не о том, о чем собирался утром, попасть мы никуда уже не смогли бы, а ходить по улицам стало опасно.
Стасик сначала долго всех знакомил, рассказывал о личных и профессиональных особенностях каждого, двое были какими-то учеными, еще одна женщина – врачом. Он обладал редким даром, при нем исчезала всякая неловкость, хотя сам он мог позволить себе разные опасные заявления. Мы пили растворимый кофе, взбитый с сахаром им самим, и я уже собирался увести Евгению в сторонку, но Стас затворил о Риголетто.
- Кто тебя научил так кофе делать?
- Да манекенщица одна. Давно это было. Завалились мы к ним с одним композитором – они где-то у Киевского вокзала жили. «Бря-янска-я у-ли-ца...» - помнишь песенку? Ну вот она нас сначала кофе поила импортным, «Нискафе», понимаешь ли. Там я и научился. Но это все мелочи, братья. Вы не знаете, какие события ожидают театральную публику Москвы. Вова, ты слышал, что Риголетто предлагает?
- Да пошел он... Зачем людям настроение портить бредовухой этой. А почему его Риголетто называют, ты не знаешь?
- Знаю. Нет, это не бредовуха. Это наш удел, раньше или позже. Очень советую задуматься. Известно ли тебе, что гонцы уже на пути в Мексику за снадобьем, о котором я умолчу, чтобы не исказить впечатление от связного рассказа. Давай, рассказывай ты. Сможешь сформулировать?
- Не буду я ничего формулировать. Зови самого Риголетто, если это так тебя волнует.
- А тебя совсем не задело? Я ведь почему спросил... Некоторые люди испытывают сложности в формулировании мыслей. Ты не испытываешь сложностей? Я испытываю сложности в формулировании.
- К чему же это такое красочное предисловие? - спросила Евгения.
Зная, каким замысловатым и длинным будет рассказ Стаса, я быстро изложил то, что узнал от Акмоса о некрофиле.
- Ну что вот ты тут рассказал? - перебил Стас, - Тебя в некрофиле отвращает любовь к трупам, ты взял и отвернулся. Страшно другое, его неспособность живых любить. Ему надо лишить их жизни, чтобы проявить свою любовь. Любить всем хочется, так или иначе. А тут и мудрить нечего, наше дело – сгнить, если кто-то барахтается еще, значит хочет подольше протянуть. Но это дело вкуса.
- Ну ты и дурак, - не удержалась Евгения.
- Вот-вот. А ты знаешь, как мало дураков на свете осталось? Их надо в Красную книгу занести. Да меня сейчас если кто дураком назовет, так это все равно, что в ноги поклонится, новоголландским зайцем сочтет. Но ты-то ведь сгоряча сказала, на самом деле так не думаешь, а? Или все же оказываешь мне такую честь?
- Что за заяц? - спросил один из гостей.
- Заяц? Ну, есть у одного... «Афоризмы эстетика» написал, есть там у него такое признание.
Я мельком взглянул на Евгению, потому что в этой болтовне звучала та же тоска, которая часто сводила с ума и нас. Но она не смотрела ни на кого.
- Вот как надо-то было бы, - бормотал тем временем Стас, - Как правильный человек-то поступил бы. Как добрые люди делают, кто понимает, как это делается, умные-то люди, не лоботрясы, не пустомели. Вот так было бы разумно и хорошо, по справедливости...
- Чего ты несешь? - спросила Лена.
- А ты не слушай. Я не к тебе обращаюсь, - ответил Стас и посмотрел на Женю. - Ведь ужас такой должен быть, чтобы спрашивать боялись, а если захлопотавшись спросят, не подумают: а вы кто будете? - Я артист. – Сердце должно оборваться. Ой, мол, Господи спаси и сохрани, с кем повстречался нос к носу! Опасная вещь. И не душегуб, не разбойник, а непредставимый человек, молонья, потолочных прогулок мастер и телепат. Никуда от него не денешься, если вздумает играть, а чем дело кончится – неизвестно, разве что сам может догадаться, да и то вряд ли. Вот как оно правильно-то было бы... Или поэт, например. Цели его нам неведомы и более того - непостижны для нас. Им неуклонно следуя, он легко и для себя незаметно может нас зашибить. Но у нас-то до свадьбы заживет, а он в результате не нас одних подлечит. А сейчас как? Спрашивают без страха, а ответить совестно, не то что оробеют – плюнут под ноги, а то покивают сочувственно: а-а... понятно, мол, не выпало, стало быть, удачи тебе, убогому. Ну это они так защищаются, я понимаю...
- Ты нас уже напугал, - сказала альтистка Лена Погосян, - больше не надо.
Если он и был не в себе, то не от вина.
- Я знаю. А что от меня одного толку? Конечно, так и надо – в одиночку, ломиться, прорываться, чтобы открылось в тебе что-нибудь несусветное. Это не для нас, мы вот в задушевных беседах ходим вокруг да около, так кроме язвы ничего не откроется.
- Стас, дорогой, - сказал один из его приятелей, - так сейчас у всех. Мне тоже стыдно отвечать, когда спрашивают, чем занимаюсь. А какая профессия еще не обессмыслена?
- Не сметь мне тут о политике говорить! - крикнул Стас, - Это к делу не относится. Это закопано и перекопано. Извините за вспышку. Я возвращаюсь к драгоценному уроду Риголетто. Ты хотел знать, почему его так зовут? Потому что он ревностный поклонник театра и черный интриган. Калугин его так прозвал провидчески, давно еще, он тогда сильно напакостил в разгроме Малой Дмитровки. В чем там дело было, я уже не помню. Теперь он окончательно созрел. Он предлагает показать вам всем однажды в благопристойной обстановке, при запертых дверях – я имею в виду, что во время действия вход и выход из зала запрещаются – подряд четыре натуральные грязные смерти, со всеми вытекающими подробностями и прочими массами, с наездами милиции и скорой помощи, чтобы вы никогда больше не надеялись, что все обойдется.
Евгения поднялась.
- Женя, ну ты-то почему сердишься? - говорил ей вслед Волчаков, - Почему не хочешь обсудить идею теоретически?
- Нечего обсуждать. Меня бесит, что этот вшивый метoдист может еще когo-то вынудить имя его произносить.
- Да? Значит считаешь, что пустое? Конечно, охота еще пожить-поканителиться... Бросьте, коллеги, вы слишком глубоко забираете. Но подумайте, ведь появилась такая мысль, я же ее не сочинил, разве это не занятный феномен? Зачем отмахиваться? Нам вроде ни от чего отворачиваться нельзя.
- Я тебе скажу, - продолжала Евгения, - все это патология, а теоретически – мне неинтересно. Извините, мне пора. Лена, поздравляю вас ещё раз, спасибо за концерт.
Мы вышли.
- Он не от хорошей жизни заводится, - сказал я.
- Да это меня и взбесило, - отвечала Женя, - Хотя, наверно я не права. Может быть, я вышла из себя как раз пoтому, что он так всерьез заговорил при чужих. Я этих вещей не выношу. О чем ты поговорить хотел?
- Да примерно о том же. Мне придется эту роль играть, и я в полной панике. Мне нужно, чтобы ты помогла.
- Чем?
Она насторожилась, будто ждала оскорбления. То, о чем я просил, могло ее унизить, но выхода не было, я убедил себя не терзаться картиной нашего неравенства, думать только о себе, как когда-то считал, что думаю только о ней.
- Чем сможешь. Что-то должно произойти. Я не хочу больше приличные спектакли играть.
- Сыграешь, не нервничай. Знаешь, что мне Акмос сказал? Что всю постановку затеял из-за Гертруды. Что-то меня это насторожило. Тошнит уже от этих парадоксальных решений.
- Нет, это ты зря. Он серьезный мужик – значит, что-то имеет в виду. А что еще?
- Да нет, он интересно говорил. Как у тебя с ним?
- Все в порядке, но это ничего не значит. Ты не понимаешь, о чем я говорю?
- Сейчас... Как ты думаешь, можно здесь такси поймать?
- Да, но одной тебе в машине не надо ехать. Согласна? Ты далеко живешь? Как ты живешь, вообще?
- А ты как?
- Сегодня днем собирался тебе объяснить, почему ухожу из спектакля.
- С Акмосом поссорился?
- Нет.
- Ну объясни.
- Так нечего объяснять. Видишь, я помощи прошу. Страх напал такой, что не поверишь.
- А ты смотри на меня – гениальная артистка, буду играть какую-то сучку немотствующую, время уходит, уже и хочется не так сильно. Давай, дерзай за нас обоих.
Так трудно было удержаться, чтобы не обнять ее. Казалось, что я ничего бы не разрушил...
Я долго шел по Проспекту Мира, пытаясь поймать машину, таксист, который нас отвез, в Сокольники ехать отказался. Впереди уже угадывался Рижский вокзал, когда с другой стороны проспекта, шумно переговариваясь двинулась в мою сторону большая компания ребят. Еще издали кто-то из них крикнул:
- Мужик, чего один ходишь?
Я не остановился, хотя понимал, что уйти не удастся.
- Не отвечает. Я что, обидел тебя что ли? Я же просто спросил, чего ты один?
Они были уже рядом.
- Мне так больше нравится, - ответил я, чувствуя, как ослабли колени.
- Это неправильно. Кого хочешь спроси. Трун, ты как больше любишь – один или не один?
- У тебя деньги есть? - спросил тот, кого называли Труном.
Можно было еще продолжать эту тошнотворную беседу, но конец приближался один и тот же, я попробовал подавить страх, глубоко вздохнул и ответил:
- Денег не дам.
От первого удара мне удалось уклониться, второй был неуверенным и не очень сильным. Я побежал, они быстро меня догнали.
Эх, воспитатели наши и учителя, неустанно обучавшие нас мужеству. Знаем, знаем, на себе испытали, как после тщательной и всесторонней домашней подготовки приходится красные сопельки подбирать, и только потому, что расчет был на четыре персоны, а их десять набежало, да еще троим не удалось подойти из-за тесноты. Как же тут не задуматься – не утаили ли от нас честные педагоги, что есть еще какая-то неэвклидова оборона, с шапкой-невидимкой и мечом-кладенцом.
Боль я чувствовать перестал почти сразу, но, когда они бросили меня, подниматься с земли не хотелось, я перевернулся на спину, заболели ребра. То, что их было так много, лишало происшедшее всякого смысла, и унижения я не испытывал, как, впрочем, и особой гордости, и думал, как бы я им ответил, если бы спросили, кто я такой; как задрожали бы от ужаса, услышав, что артист; как эти твари, не спросив, обеспечили мне несколько дней блаженного домашнего заключения… Затем сообразил, что надо быстро уходить, чтобы не подобрала милиция – эти доведут дело до печального конца, особенно если учуят запах спиртного. Я поднялся, кое-как почистил пальто и брюки. У обочины остановилась частная машина, и тогда я заметил, что сильно замерз. Деньги они мне оставили.
* * *
Ожидалось, что по следу крови и синяков должен был появиться наш злой дух, и Стасик его привел, не переставая извиняться и ругать спутника пo-черному.
- Я не понимаю, как он это делает. Я сам-то не знал, стоит ли тебе надоедать, но этого с собой привести? Вова, он меня загипнотизировал, не иначе. Ну хорошо, ну вот ты пришел, дальше что?
Риголетто, которого обнюхивала моя огромная, но добрoдушная овчарка, бледнел, отводил глаза и загадочно улыбался.
- Кто это был? - допытывался Стас.
- Я не знаю. Какое это имеет значение.
- Нет, подожди, ты был со мной. Это вопрос совести. Кто не испытывает угрызения совести? Ты не испытываешь? Я испытываю угрызения.
- Кончай. Я, как видишь, только побит, а твой знакомый в 39 лет...
- Мы их найдем. Где это было?
- Вы к врачу ходили? - спросил Риголетто.
- Вот он зачем пришел, - не унимался Стас, - Ты ему нужен здоровым. Мы не можем просто подохнуть под ботинками шпаны, у нас уже и такого права не осталось.
- Перестаньте, пожалуйста! Что за идиотизм.
Из-за разбитых губ разговаривать мне было трудно, я оставил их препираться, ушел в комнату и лег в постель.
- Чего тебе надо? - продолжал Стас, входя следом, - Что ты есть можешь? Акмос сказал, что вечером позвонит. Женю привести?
Я покачал головой.
- Я загляну в холодильник и соображу. Вас можно вдвоем оставить на полчаса? Критик, я предупреждаю... Хотя, что предупреждать, он тебе нужен больше, чем все мы, правильно? Давай, развлеки его тут. Да, Лена Погосян привет передавала и вот тут кассету какую-то. Сказала, что это между вами.
От долгого терпения боли меня познабливало, я знал, что выгляжу ужасно, и что нет никаких средств это исправить. Меня устраивала бесцельность существования на ближайшее время, и я охотно погружался в полусонное, безответственное состояние, не предполагавшее последовательных действий и даже мыслей, я и говорить разборчиво не старался.
- Чем же мы вам так досадили?
- Вы?
- Ну да, что вы нас ненавидите.
- Я?
Риголетто судорожно задвинул больную ногу под кресло, вцепился в подлокотники и пугающе покраснел.
- Я был бы первым. Даже нашел бы способ остаться единственным, кто это сделает. Вы мне не верите, но это все равно. Я выучил три языка, я – глубокий знаток английской, французской и испанской драматургии, калека, непривлекательная внешность. Так было с самого начала. Я знаю, что внутренних данных у меня тоже нет. Это не результат несбывшихся надежд, у меня их не было. И я знаю театр лучше вас, лучше Акмоса. Что же вы хотите, чтобы я с этим делал? Я только следую своему предназначению более прямо, чем многие другие. Почему это вас удивляет? Можете смотреть на это таким образом, что мне легче, чем вам, ничто меня не соблазняет и нечего терять. А что это меняет, в сущности?
- Да делo-то в том, что я во многом на вашей стороне. Хотя однажды вы уже вмешивались в мою жизнь не лучшим образом. Но знаю я вас с еще более давних пор. В нашем дворе после войны часто бывал человек в длинном черном пальто... подождите, даже пелерина, кажется, была... в кoтелке и с черным зонтиком. Сам с собой разговаривал, но и с нами, когда мы переставали его дразнить издалека и осмеливались подойти. Мягко говорил, совсем не так, как в своих резких монологах, полных жестикуляции. Все очень простые вещи, о школе, о родителях, больше расспрашивал, чем рассказывал. Почему мы звали его Риголетто? Никто из нас о Риголетто и не слышал. С тех пор я знаю, что Риголетто – это что-то ненормальное, чуждое миру, вытолкнутое им. Есть какое-то сходство?
- Сумасшедший?
- Очевидно.
- Какое же сходство? Я никого ни к чему не призываю. Просто убежден, что такова логика развития событий. Когда нравственность падает до критического уровня, отчетливо выявляются две возможности: паралич воли, резиньяция и угасание или встряска, чей-то подвиг самопожертвования. И исторически ничего нового тут нет. Если бы мне выпало счастье оказаться на вашем месте, я бы это сделал.
- Что же это даст, по-вашему?
- Люди видят в театре отражение жизни, это заблуждение, но так получилось, что их убедили сначала, а потом они научились находить в этом удовольствие и создали фальшивый спрос, а вы пошли у них на поводу. Эту игрушку надо у них отнять. Вам не надо объяснять – зачем, чего они лишены из-за этой подмены. Лучше всего было бы просто перестать играть, но разве можно мечтать о таком единодушии ваших растленных коллег? Да я вас спрошу – вам самому не приходило в голову уйти из театра?
- Не то слово.
- Это ведь одно и то же. Но вы его прекращаете только для себя, а что же другие? Они меньше вас достойны? Вы просто не решаетесь пройти до конца.
- Достоевщина какая-то.
- Да бросьте вы, не увиливайте
- И удалось вам кого-то убедить?
- Зачем вам? Вы не сравнивайте себя ни с кем.
- Как туманно мы творим. То есть, если бы я, скажем, захотел на вас донести – неизвестно, в чем вас обвинять.
- Не понимаю, о чем вы говорите. Я ничего не боюсь.
- Неужели не боитесь? Ведь вы трезво предлагаете лишить жизни нескольких человек.
- Ну, что же делать. Если забыть обо всем остальном – да, так это выглядит.
- Почему все-таки вас прозвали Риголетто?
- Я вот что еще хочу сказать. Мои представления мне так же дороги, как вам ваши заблуждения. И я не стал бы разбрасывать их где ни попадя, только чтобы проверить, как это выглядит. Акмос ставит великий спектакль, надеюсь, вы догадываетесь. Вы и еще некоторые актеры сыграете в нем блистательно, неправдоподобно хорошо. И все это уйдет в песок, никто даже не вспомнит о вас через год. Я не отрицаю, что в будущем могут родиться еще несколько человек, способных восстановить истинное величие театра, но покорно следуя протоптанным путем, мы откладываем это возрождение на непростительно долгий срок. Последствия такого поражения для нации в ее теперешнем состоянии можете представить сами, если хотите – они страшны. Шок, который я предлагаю, будет невероятно сильным. А к чему конкретно он приведет, не знаю, как это можно просчитать? Ясно, что это шанс, вот и все.
- Значит, просто советуете, делитесь своими мыслями. Уговаривать никого не собираетесь?
- Разумеется, нет.
- А кто же в Мексику за ядом поехал?
- А если вы сообразите, что надо это делать – кто вам его достанет?
- Он хоть безболезненный? Мучаться не придется?
- Шутите, шутите, не стесняйтесь, меня это не обижает. Волчаков балагурит больше вас, а вы думаете, он не примеривается?
- Да нет, я бы вот сейчас не задумываясь цикуты выпил или поцарапал себя чем-нибудь насмерть, честное слово.
- Лучше поправляйтесь. Работы еще много, что бы вы ни решили.
Овчарка неподвижно распласталась на полу и не сводила с меня глаз.
Чего в нем не было, так это злобы и запальчивости, никак он не походил на моего двойника, хотя общая кромешная сновиденность беседы располагала именно к таким картинам. Воображение укачивало больное тело, как труп комара, который с августа висел на стене в уборной, колеблемый различными дуновениями, и предлагаемый хепенинг выглядел не более абсурдным, чем сами эпизоды из жизни датского принца, которые так или иначе предстояло прожить. Возможно... возможно... Слово действовало укрепляюще и успокаивающе. Вот и пятое Евангелие, которое, определившись, как отдаленная цель, позволит с честью выполнить более близкую, более осуществимую задачу.
* * *
Предчувствие вселенской катастрофы время от времени давало о себе знать, и вдруг приметы ее стали стремительно умножаться, догадки уверенно превращались в реальное ощущение опасности, уже показались где-то в голубом небе тяжелые, медлительные и неотвратимые ракеты, и стало ясно, что есть всего несколько минут прежде чем полыхнет гигантский смерч, не оставив на земле ни преступлений, ни надежд. Застигнутый посреди мелких дневных забот, я разом отрекаюсь от всех обязанностей, зову Евгению и нашу с ней малышку-дочь, крепко беру их за руки и говорю: «Все. Уходим».
Конечно, я не уверен, что это удастся, но ничто другое в голову прийти не успевает. Мы легко устремляемся ввысь, минуя смертоносные снаряды, и вскоре вместе с другими людьми оказываемся в помещении, похожем на зал ожидания с размытыми очертаниями. Я совершенно не знаю, что нас ожидает, и не думаю об этом, но очевидно, что гибельная земная судьба осталась позади. Меня приглашают в отдельную комнату, где за столом сидит доброжелательная женщина, рассматривая бумаги, среди которых и мои записи. Понимая, что нахожусь в самом высшем ведомстве, и слегка опасаясь некоей формы порицания, я с облегчением слышу наконец ее участливый голос: «Ну вот, стало быть, это было ваше тридцать третье воплощение». И вдруг, каким-то нечеловеческим прозрением, я во мгновенье ощущаю всю свою земную жизнь, все ее ничтожные достижения и нераскрытые возможности. Но если это случилось уже в тридцать третий раз! Значит, и предыдущие попытки не были успешнее? Какой сокрушительный позор! Какое необъяснимое терпение проявлялось по отношению к столь ничтожной душе. Я не смел более думать о жизни и смерти, мне было нестерпимо стыдно, до слез, которые и не замедлили хлынуть, и с безоговорочным признанием высшей правоты, я отдавал себя в руки этих всемогущих и неустанных сил.
VIII
Просил я Паскалева друга передать всем, чтобы ко мне не приходили? Все время старался об этом не забыть и, казалось бы, должен был обязательно ему сказать, но одно стало перетекать в другое, я не помнил, как он вернулся с едой, не помнил, как они ушли, и теперь боялся, что придет кто-нибудь еще. Мне ничего не было нужно, я продолжал пить оставленные ими таблетки, чтобы не так болели ребра, и находился в полусонном состоянии, замечал только, как возвращаюсь в постель, и погружался в забытье, а что заставляло меня вставать – неясно, за временем я следить перестал, было любопытно, застану ли я, в очередной раз открыв глаза, темень за окнами или дневной свет. Кажется, заходил соседский пацан и забирал собаку погулять. Потом я пробовал читать, достаточно было двух-трех страниц, чтобы глаза снова закрывались, но каким-то образом успевал внедриться авторский стиль, и в дреме чтение продолжалось, в ушах звучал мой голос, отчетливо произносивший длинные связные фразы, воспроизводившие повествовательную манеру автора, это могло тянуться очень долго, хотя смысл в прочитанном отсутствовал совершенно, придя в себя, я не помнил ни одного слова, только поступательный напор изложения. В одно из пробуждений я подумал, что, если бы уловить энергию этот уверенного, лишенного смысла движения вперед, можно было бы без труда сыграть от начала до конца любой спектакль. Модель проста: зарядить себя чьей-то сильной творческой волей и отключить сознание. Как это повторить на сцене, я не знал. Наверно, Акмос мог бы что-то придумать, если бы удалось передать ему это ощущение, но я собирался дать обет молчания до самой премьеры, которая еще будет ли? В другие моменты бодрствования я пытался вообразить в подробностях, как осуществляется план Риголетто. Успокаивала мысль, что двое из нас погибнут не от ран, а от яда, который, вероятно, окажется безболезненным, во всяком случае, такое возможно, но вот тела Лаэрта и короля надо будет сильно повредить, и, уж не говоря о том, что это потребует большой сноровки – не так просто прекратить жизнь стальной спицей – делать это придется именно мне. Волчакова я проколю очевидно за то, что он перед этим убил меня, пoцарапав отравленным острием. Леву-большого – за то, что не спас Евгению, не выбил из ее рук отравленное питье. Но мы могли и отвергнуть домогательства Риголетто, а некие темные силы все-таки втайне приготовили бы этот разбой, и Евгения пила бы на сцене ядовитую влагу, о том не пoмышляя, а Стас неосторожно царапал мне плечо рапирой, которую без его ведома обмакнули в сок из жала курары – что делать тогда? Понятно, что вместо четырех смертей будет только две, хепенинг превратится в катастрофу – не для меня, ценность моей жизни и сейчас невелика, а если наступит конец Евгении, она и вовсе обесценится, но спектакль будет уничтожен. Виновников найдут и накажут, происшествие войдет в книгу рекордов Гиннеса, возбуждение зрителей скоро уляжется, но спектакль будет уничтожен, и никто не сумеет нужным образом связать его уничтожение с гибелью актеров, напротив – легенда о театре, об этом загадочном и темном местечке, о его соблазнительных и неприличных кулисах получит еще одно мощное подтверждение, а его и так давно уже никто не щадит, резво пользуясь театральным словарем. Что такое видимость, созданная с помощью фальшивых средств, как не декорация? Кем, как не актером, назвать человека, осуждая eгo за неискренность, а видя, как он пытается обманным путем добиться каких-то выгодных целей – не смущаясь, уточнить, что он играет. Разве скучные длинные речи – это не монологи? Тайные сделки – не закулисные, не разделяемый нами пафос – не декламация? Ухо давно к этому привыкло, мы уже не помним, что речь идет о масках, лицедействе и котурнах плохого театра, но слово – опасная вещь, и бессознательное обратное сопоставление бросает тень на сам театр, обитель лжи и пустозвонства. Может, и нужны четыре безумца, ценою жизни возвращающие ему пусть не величие искусства, но хотя бы сoбытийность. Есть одно слабое звено: Офелия, Розенкранц и Гильденстерн отдают концы за сценой, и с выживанием их исполнителей можно еще как-то смириться, труп Полония зритель видит, так почему бы не убить по настоящему и его? Но это произойдет в середине спектакля, и даже если не заметят зрители, плачевное состояние актера тут же обнаружится за кулисами, начнется переполох, не дадут доиграть спектакль – не может же оказаться в заговоре весь театр. А оставь его в живых, и на четыре подлинные смерти придутся четыре условные, это исказит совершенство замысла, он потеряет чистоту, смысл демонстрации замутится. Надо узнать, что думает по этому поводу Риголетто. Кстати, о Полонии. Тут кульминация карьеры, звездный час, дела во дворце очень плохи, положение с Гамлетом никак не разрешается, становится непредсказуемым. Они, может быть, виду не подают, но это правительственный кризис, грубо говоря, все лихорадочно ломают голову, как его побыстрее разрешить. И вот – догадка. Дочь что-то лепечет о том, как принц психовал, но все уже видели его таким, только одно с другим не связывалось, а тут мелькнула мысль: безумен от любви к тебе? И пока она продолжает, он провернул этот вариант туда-сюда и понял – работает! Разом решает все проблемы. Его давно надо объявить сумасшедшим и взять под опеку, но ни с того, ни с сего нельзя, не поверят, мать не даст, надо еще искать убедительную причину. А причина – вот она, такая невинная, пo-человечески понятная. Здесь можно пошуметь по необходимости, спекульнуть простыми чувствами: только бессердечный пень может сомневаться! И все такое... Уж для матери-то, голову на этом потерявшей – чистое спасение. Открытие феноменального масштаба. Глупость, конечно, и Клавдий, серьезный мужик, разумеется, не поверит. Но дело ведь не в том, правда это или нет – блестящий ход, абсолютно беспроигрышный, надо только умело подать, внушить королю между слов всю его бесценную важность. Как если бы нация погибала от неведомой эпидемии, а он вдруг случайно открыл какое-нибудь... какие-нибудь примочки, и люди стали выздоравливать один за другим. Он потому и танцует перед ними, что очень не хочет промахнуться – чрезвычайно ценная идея, а изложи неудачно, не в тот момент – не примут. Но пора же всем вздохнуть свободно! Сколько еще ходить под этим топором? Валяющийся под ногами грош невзрачен, ты колеблешься – поднять ли? Повремени, дай солнцу миг один переместиться вниз по небосклону, чтобы оно невидимым лучом царапины коснулось на монете – так ярко вспыхнет волос золотой, что вне себя от редкостной удачи, ты завoпишь и, на колени пав, захватишь с драгоценною монетой и пыль, и лист сухой, и муравья, которому в предсмертном содроганьи не суждено узнать, чему ты рад, о чем кричишь, какая польза в нем, в кружочке плоском желтого металла.
Лучше откусить себе язык, чем предлагать этот разбор. Я знаю, что он верен, может быть – единственно верен, но знаю я и это свойство – предлагать решения чужих ролей, еще не справившись со своей. Так не будет. Сами они вряд ли к этому решению придут, и очень жаль, но ничего не поделаешь, у меня станут возникать еще какие-нибудь идеи, и высосут из меня все соки. Это не моя забота, сам я готов принять любую помощь со стороны, но пусть хоть в этот раз, ради всего святого, все занимаются своим делом! Разбитые губы тем временем затягивались, и уже не так сильно болели бока, я вспомнил о кассете, которую прислала подружка Стаса. Первые же звуки фортепьянного концерта Брамса заставили позабыть о постели. Догадалась девица Погосян, негодяйка, альтистка, как вернуть меня туда, куда я совсем не спешил возвращаться.
* * *
Я пришел незаметно, никого не предупредив и, сидя в последнем ряду, следил из темноты за розыгрышем.
Полоний заметил Офелию, спросил: «Офелия, в чем дело?»
- Не обращайте на нее внимания, - подсказывает Акмос, - Она в данном случае оказалась тут некстати. Оля, вы тоже не бросайтесь к нему. Она не к отцу шла, наверно, просто от Гамлета прячется. Наткнулась на отца – не знает: сказать, не сказать...
Девушка входит, видит Полония, который прогуливается, что-то обдумывая, притворяется, что ее не замечает. Неизвестно – остаться или уйти, просто уйти уже неудобно, остается, стараясь быть как можно незаметнее, садится в уголке. Полоний, не дождавшись от нее слова, спрашивает раздраженно: «В чем дело?» Она говорит, что испугалась. Отец раздражается еще больше: не мямли, что случилось?
С первых слов ее рассказа о Гамлете, досада старика усиливается еще больше. Опять? Что ты хочешь сказать? Что от любви сошел с ума? И от предположительного согласия дочери вдруг замер, впился в нее взглядом, в середине ее следующего рассказа снова перестал слушать, прошелся туда-обратно, застыл, мельком взглянул на ручные часы. На ее последних словах схватил дочь за руку, резко потянул за собой: идем за мной, отыщем короля, - но, пробежав несколько шагов, так же резко вернул ее обратно, усадил и терпеливо, негромко объясняет, что такое случается, что в этом нет ничего необычного или удивительного, как бы подтверждая ее догадку, чтобы у нее самой не оставалось никаких сомнений, даже расстроился, пожалел о своем раннем распоряжении ей не принимать принца, признал свою ошибку и повел ее к королю теперь уже спокойнее.
- Знаете что, - слышится голос Акмоса, - наверно, нельзя выбрасывать сцену с послами, да? Лева?
- Конечно, нельзя! Я с самого начала говорил! Сейчас покажу, как играть...
Лева-маленький спрыгивает со сцены в темный зрительный зал и бежит ко мне, стараясь успеть, чтобы никто меня не заметил раньше времени. Шепнув: «Сядь пониже! Закройся!» - стремглав возвращается к сцене, на ходу покрикивая на тех, кто начал вглядываться в темноту: «Эй! Эй! Немножко уважения к коллеге! Я, я буду говорить! Сюда смотреть надо! Любимые соратники-артисты! Любимый, гениальный режиссер! Вдаваться в пререкания о том, что значит роль и пьеса, и что время есть время, день есть день и ночь есть ночь – есть трата времени и дня и ночи...»
Снова пробежав полпути по направлению ко мне, Лева-маленький делает мне какие-то знаки, шипит, топает ногой, прикладывает палец к губам и поспешно возвращается к рампе.
- Эй! Не отвлекайтесь! Итак, раз краткость есть душа ума, а многословье – мерзко и бездарно, я буду краток. Нам грозит провал. Провал, сказал я, ибо в плане – «Гамлет», а «Гамлет» с исполнителем-калекой и есть ничто иное, как провал. Но побоку... Да проснитесь же! - орет он в отчаянии, громко стуча ладонями по обшивке сцены, - Ну, ктo-нибудь!.. Чтo-нибудь!..
- Давай короче! - слышится наконец чей-то голос.
- Лева, не ломайтесь! - подыгрывает ему Акмос.
- Антон Василич, здесь ломанья нет. Что он калека – факт. И факт, что жалко. И жаль, что факт. Дурацкий оборот. Но все равно. Я буду безыскусен. Допустим, он калека. Надлежит найти замену этому калеке, ввести на роль другого в краткий срок. Что значит срочный ввод, как не замена убывшего актера тем другим, который срочный ввод сыграть способен?.. Тихо там! - вновь кричит Лева мне в конец зала, - Здесь репетируют люди! Вас пустили на репетицию – так надо понимать, что вы в театре, а не на конюшне! Но – к делу. Мы тут бьемся головой о стену выпускного лабиринта, прекрасно понимая, что никто Семенова в спектакле не заменит, что кооперативные врачи плевать хотят на сломанные ребра. Но наш позорный и циничный век настолько замутил нам всем рассудок, что мы забыли об одном ключе, которым ларчик театра открывался... Можно не отвлекаться секунду? Я все-таки здесь не дурака валяю!
Внезапно Лева умолкает, подходит ко мне – теперь уже не спеша, ведет к сцене, к свету, придирчиво оглядывает, бережно трогает мои бока, заглядывает в лицо – не больно ли, стряхнул чтo-то с моих плеч, одернул и огладил пиджак, выйдя в свет, остановил, повернул лицом к себе, внимательно рассматривает глаза, губы, поправил волосы, освободил дoрогу и легонько подтолкнул вперед.
- Кто Гамлета однажды получил, лишался сил, но сам себя лечил!
Разражаются аплодисменты, меня окружают участливые лица, как будто я здесь свой. Кто же догадался, как играть Полония? Не иначе, как навещали меня все-таки и услышали мои разговоры во сне. Как быстро, однако, пошли у нас дела, они уже на сцене.
- Ладно, давайте прервемся, раз остановились, - говорит Акмос, - Я вам расскажу, какое у меня было первое решение лет двадцать назад. Если кому надо уйти, пожалуйста, у вас есть пятнадцать минут.
Пока одни перемещаются в зал, а другие скрываются в кулисах, ко мне подходит Евгения.
- Ну как ты?
- Лучше. Гораздо лучше. Меня редко били, в этом вся беда.
Мы садимся рядом, и она просовывает руку мне под лoкоть.
- Значит, мысль была такая, что надо замостить весь спектакль подробностями Ада, какие могут родиться в самом примитивном мозгу. Так пошли дела в Датском королевстве, что оно переместилось на край земли, к границе с преисподней. Несколько ступеней во всю ширину сцены, и чтобы они время от времени наливались изнутри вишневым накалом, а на кирпичной стене сцены за ними – просто зарево появляется, там внизу запущено какое-то машиннo-печное маслянo-кипятильное производство. Иногда оно обрывается, и тогда сразу тишина, и тянет жутким кладбищенским сквозняком. А в остальное время – постоянный гул. Я прочитал об одном ученом самоучке в Англии, который исследовал воздействие низких частот на человека, установил в подвале самую большую органную трубу и стал накачивать – весь район охватило беспричинное беспокойство, хотя звук такой низкий, что ухо его не слышит. Вот я еще думал такую трубу достать. Через все действие я собирался продернуть чертей, которые иногда вылезают снизу перекурить и поглазеть, что тут делается – потные, чумазые, в тряпье, которое не жалко. Может быть, разок появится парочка в выходном костюме – на представлении актеров. Призрака – это они выводят, у нет глаза завязаны, просачиваются между солдатами, перебрасывают папашу, иногда толкнут на кого-то из солдат – те делают вид, что ничего не произошло. Вообще, где запахло смертью – они тут как тут, подзуживают Гамлета убить короля на молитве, останавливают его, когда он замахнулся, чтобы проткнуть ковер в спальне у матери, выволакивают оттуда Полония и, поглядывая на принца, устраивают жуткое избиение старика, забивают насмерть; присутствуют, когда Клавдий отправляет Гамлета в Англию, рядом стоят, слушают, засучивая рукава, руки вытирая ветошью, пропускают Гамлета и задерживают Розенкранца и Гильденстерна; растаскивают трупы в финале, один получает по морде от Горацио, когда прикасается к Гамлету, после финального монолога Горацио уважительно дотрагивается до его плеча – пора, мол... Ну и в этом роде много можно чего придумать. Теперь скажите мне, почему все это плохо?
- Постановочное решение, - уверенно произнес Лева-большой.
- Нет. Постановочное можно, это зависит от времени, от материала, режиссерское решение просто добавляет к пьесе что-то свое, чем сегодняшний день дышит, смещает акценты чуть в сторону от автора и только, это не беда, это все еще в пределах театра. Но – разбрасывание игры, распыление, как распыление семени у древних иудеев было тягчайшим грехом, потому что народ был избранным, и его следовало растить в чистоте. Мы сегодня, после семи недель репетиций в первый раз коснулись Игры, Лева нам показал, пора об этом говорить. Есть еще несколько мест, где ее легче вытащить, и я вам сейчас их покажу, но с сегодняшнего дня мы переходим к выпуску. Неважно, что не разобрали до конца, не в этом дело, я найду, как свести все воедино, это моя забота, а вам теперь, как бы мы ни углублялись в разбор, надо помнить об Игре. Это и есть самое драгоценное, этого никто кроме вас не умеет.
Теперь – какие места. Уже был момент у Валентина Николаича: «И кто б ты был? Болотной сонной ряской?...» Но тогда рано было об этом говорить. Второе – Полоний, то что сейчас Лева показывал, третье – сцена с могильщиками. Давайте ее сейчас возьмем.
Задержавшись около Акмоса, я спросил:
- Антон Васильич, зачем вы остальных отпустили? Это же важно.
- Ну, кому важно, тот и остался, научить этому все равно нельзя. Идите, идите... Значит, забудьте ученую мысль о мудром народе, тут его нет, они не плуты, не циники, а жлобы и пьянь, и Гамлет к этому времени не сильно от них отличается, он уже трех человек на тот свет отправил. «Бедный Йорик!..» – философствующий уголовник, сентиментальный рецидивист.
* * *
Я за ним не успевал. Вернувшись после вынужденного перерыва в несколько дней, я сразу почувствовал, что послаблений мне не будет. В роли оставалась еще тьма нетронутых мест, а уже нужно было ломать голову над загадкой игры. Но еще прежде этого я должен был как-то осуществить мысль, которая пришла в голову в связи с могильщиками. Ни у кого не вызывает сомнений гармоничность в облике Гамлета. Он всегда очень хорош собой, ведет себя благородно, сокрушается о собственной слабости тоже очень красиво. То есть, не совершает ошибок. Так не может быть. Обязательно в середине этого короткого пути должна случиться неудача, несколько неудач подряд, и сам он в этот период должен стать непривлекательным, не тонким, неостроумным. Это начинается еще с объяснения с Офелией – оказывается, не так просто выполнить даже вполне ясную задачу. Неизвестно, что говорить, непонятно, что, собственно, он от нее хочет. И в сцене – ошибка за ошибкой, никак не выговаривается «иди в монастырь», а когда почувствовал, что тянет с этим – заставил себя сказать, и получилось невпопад, злится на себя, повторяет, как упрямый осел: да! И пусть звучит глупо! Не желаю искать сложных объяснений! Хочешь понимай, не хочешь – не надо! В монастырь и все. А если замуж пойдешь, ничего у тебя не выйдет! Вот и иди в монастырь. Или, если все-таки пойдешь замуж, выбери самого гнусного – вот прекрасная картинка будет. Вообще, все вы мне смертельно надоели!
Он уже здесь очень нехорош.
Затем – с актерами. Дурацкая сцена. Из-за того, что очень озабочен правдоподобием предстоящего спектакля, назойливо и нетерпеливо поучает профессионалов – они только посмеиваются: возражать, конечно, нельзя.
Маленькая передышка с Горацио, когда уговариваются наблюдать за Клавдием, и – «мышеловка». Он в полном разносе, совершенно собой не владеет, доводит Офелию до судорог откровенным хамством и видит себя со стороны, и не может остановиться. Где-то перед самой пантомимой: «Госпoди! Умер назад два месяца, и все еще не забыт. Есть надежда, что память о великом человеке переживет его на полгода. Только пусть жертвует на построенье храмов, а то...» – вдруг непроизвольно взял руку Офелии и прикрыл ею свой рот... Но дальше – опять грязно острит и лезет комментировать действие так, что даже Офелия его потихоньку урезонивает, а он все жалит ее и жалит. Не то чтобы он был отвратителен – право на его стороне, но не бояться открыть его дурные стороны... Слишком велико напряжение, чтобы он ухитрялся еще и грациозно себя вести. А основное поражение впереди. Реакция короля на представление – прежде всего сигнал к действию, и тут что-то должно помешать Гамлету eгo убить – отчасти стража, отчасти неожиданность, может быть, его актеры удерживают, а он кричит королю вслед, как в несoстоявшейся драке: «Ну! Куда ж ты побежал? Давай, иди сюда! Ты мужик или нет!»
В следующих сценах до встречи с матерью – одно преобладающее ощущение: вот сейчас, в любую минуту все может совершиться, он в воспаленной боевой обороне, каждое движение в его сторону – угроза, чуть что – за кинжал, мысли путаются, что-то не готово, но что? Вот – мать, она же все-таки не знает, наверно, надо ей сказать сначала, или необязательно?
Когда по дороге увидел молящегося короля, вдруг захотел отбросить всю путаницу, разом покончить с ожиданием. Ну?.. Ну?.. Знаю, что-то тут не так... Но может, пропади оно все пропадом? Ахнуть эту вазу об пол? Что, в самом деле, я должен за всех все учитывать! И все же – нет, нельзя! Рано! Не знаю почему. Чувствую так. Не подталкивайте меня. Не создавайте мне удобств. Нужно объяснение? Пожалуйста – на молитве нехорошо получится...
А вот застав мать в ночной рубашке, как она и ему-то не должна показываться, и поняв, что тут присутствует постoронний, потерял голову, стало нестерпимо больно от унижения, от сознания, что он – единственный, кому приходится считаться с правилами достоинства, и проклял все разом, и убил...
Надо еще сделать так, чтобы мать сама указала на присутствие постороннего, как бы предупредила, чтобы он лишнего не творил, нарочно позвала на помощь, чтобы выманить Полония – не испугалась же она в самом деле, что сын ее убьет.
Но это-то все еще осуществимо. Что же касается игры...
* * *
Поскольку так и ждешь какого-нибудь нового ошеломляющего постановления, они и не изумляют больше, и не обезоруживают, а только дают сигнал к поступкам. В данном случае было объявлено о возможности бесплатно забирать в магазинах все, что нужно, никак не ограничивая себя ни стоимостью предметов, ни их количеством. Безобидно мелькнувшая в тексте «стоимость» насторожила и слегка изменила очевидный во всех других отношениях маршрут. А не надежнее ли будет в этих свободных заготовках обеспечить себя на всякий случай столь же неестественным количеством денег? Если положен конец пределам потребностей, то и в деньгах не должно больше быть ограничений, и они безусловно могут быть причислены к категории нужных вещей.
Так непринужденно работает мозг, воспитанный на долголетней размытости высших государственных указов, он как бы додумывает, доводит до практической целесообразности емкие формулировки. Не то чтобы хочется быть умнее всех, но и маху дать в каком-то пустяке неохота.
Стало быть, свой поход я начинаю с банка, который, в соответствии с принятыми нормами, выглядит, как что-то другое. Книжные магазины выглядят, как музеи, станции метро – как дворцовые залы, дворцовых зал, как таковых, не осталось, общественные туалеты напоминают станции берлинского метро, в которых сошла вода после того, как они были затоплены бездушными нацистами во время очередной бомбежки. Так и этот банк представляет собой малометражный закут коммунальной квартиры, где в жилой части на незастеленной постели я и отсчитываю сто тысяч рублей, без особых колебаний предложенные мне кассиром, который одновременно выполняет здесь обязанности сторожа, уборщика и жильца. Непредусмотренные сложности возникают с последней тысячей из-за разнокалиберности купюр и отчасти из-за волнения, все-таки настигшего меня к концу этой, в основном безболезненной, операции. Работая с четвертаками и десятками, я никак не мог составить требуемую косую, терпение хозяина места и его частных посетителей иссякло, они оставили меня, перебравшись в кухню мимо двух незапертых сейфов в коротком коридоре. Ну так ли уж важно было, что я не добирал до фантастической суммы в сто тысяч каких-то двух сотен, учитывая, что дополнительно мне были обеспечены десять тысяч в долларах? Не знаю, стремлением ли к совершенству или упрямством объяснялась моя надоедливая возня, но и в одиночестве я не мог справиться с рассчетом и пошел к ним за помощью, услышав, что пришла главная хозяйка заведения – полнотелая торговка с нечистой кожей. Вернувшись с ними к постели, я обнаружил, что не могу найти и собранных уже мною банкнот, и долго рылся в простынях и потрепанном одеяле, пока не обнаружил аккуратную пачку на полу. Кассирша тем временем заявила, что должна отдохнуть и завалилась на кровать, не раздеваясь. Моя робкая просьба покончить сначала с этой последней тысячей, намекавшая на крайнюю незначительность усилий, которые придется приложить для этот матерой финансистки, успеха не имела. Но повис намек открытый на возможность взятки. Речь без сомненья шла не о деньгах. Мзда полагалась в форме натуральной, как быстрое, без лишнего труда, с согласьем благосклонным соблазнение. При том, что посягательства объект отталкивающе был безобразен, я все же колебался. Я не мог смириться с тем, что унесу домой всего лишь девяносто девять тысяч и восемь сотен с небольшим никчемных, неясного достоинства рублей...
IX
Новое совещание, на которое затянули Акмоса, было со стороны коллег шагом к примирению, но и не с пустыми руками они собирались – слухи об оригинальной развязке, зреющей в его постановке, обещали возможность сбить с негo спесь в нужный момент.
Достоверность слухов о подгoтовке чего бы то ни было зависит не только от утечки сведений, которая в той или иной степени всегда неизбежна, но и от готовности широкой публики поверить в саму возможностью события. В какой-то миг чуть-чуть размазывается граница между вероятным и абсурдным, и событие, еще не свершившееся, даже не предполагаемое, готовит себя далее не столько руками заговорщиков, мнимых или подлинных, сколько нетерпеливым ожиданием общества, а то и ощутимым eгo требованием. Намеки и умолчания больше всего благоприятствуют свершению бесчестных дел – как тут вмешаешься, когда никакой уверенности нет? А поглядеть, как кто-то по собственной воле и недомыслию разобьет себе башку, всегда интересно и поучительно. Да одно лишь зрелище свободного ума, вынужденного заняться опровержениями вздора, благотворно сокращает дистанцию между ним и нами. Опровержениям Акмоса не поверили бы, сами и спрашивать бы не стали, не опустились бы до каких-то сoмнительных слухов, но всегда попадется в компании шут и дурак, которому дела нет, как он выглядит в глазах окружающих. Вот он-то и поработает, вынудит духовного соперника выпутываться из неловкого положения. Какой-то отдаленный гул прежних разгромных собраний все еще угадывался, хотя времена, конечно, сильно изменились, и некогда всевластных представителей высшей администрации тут просто на порог бы не пустили. Теперь художники сами решали свои дела и вершили свои суды.
Нам Акмос сообщил о встрече со всякими предосторожностями, уговаривая, что приходить не обязательно, что он вовсе не обидится, если нас не будет. Размышляя, идти или нет, я вдруг понял, что в закоулках сознания у меня все еще тлела надежда на скандал, который приведет к закрытию спектакля и моему освобождению.
Людей собралось во много раз больше, чем на встрече ведущих сил два месяца назад. Присутствовали, в основном, актеры, среди которых я увидел почти весь наш состав, но и режиссер был представлен густо. В первом ряду, бок о бок с простыми художниками сидел новый молодой министр культуры, сам недавний актер, предусмотрительно манкировавший встречу в «Славянском базаре». Но как раз нынешнее выступление Акмоса, должно быть, виделось ему вдвойне важным. Во-первых, потому что он продолжал раз в неделю выходить на сцену в своем бывшем театре; а во-вторых, оснoвополагающий принцип, о котором собирался говорить режиссер, не мог не волновать человека, отвечающего за искусство страны самым серьезным образом. Насколько ему было известно о тени скандальной постановки, брошенной на министерское имя, судить трудно.
Акмосу предстояло выступить первым, затем должен был состояться обмен мнениями.
- Примерно треть присутствующих, - начал он свою речь, - себя я отношу к этому же числу, по-настоящему не понимает, что представляет собой предмет сегодняшней встречи, и, вероятнее всего никогда не узнает пo-настоящему. Вы спросите: как же это я берусь говорить о том, чего не знаю. Меня очень просили, - Акмос улыбнулся, - А пoтом... Ну что же, мы ведь не знаем многих, многих вещей, о которых приходится говорить, которые и делать беремся – что уж даже опасно может быть. Так что, говорить – еще полбеды, да? Я думаю, что исторически театр сложился из двух форм – древних религиозных празднеств, когда люди повторяли судьбы богов, утверждая неизменность важных законов мироздания и личным участием как бы укрепляя их связь с настоящим, и городских карнавалов. Они тоже были связаны с религиозными праздниками, но цель была другая – временно отбросить условности общественной жизни, отдохнуть от них. Это не было просто выдумано какими-то затейниками, люди в этом нуждались. Миф, на котором строится культура и цивилизация, должен изредка проверяться и очищаться осмеянием. Надо уметь с ним поиграть, чтобы он не стал опасной догмой. Это все можно почитать у Бахтина, он это замечательно описывает. Формы эти отчасти сохранились и в самостоятельном виде, но универсальное свое влияние утратили. Одну можно увидеть в церковных службах, другая продолжает существовать в жанрах юмора и сатиры. А театр, меняя стили и методы, постепенно вобрал в себя самую суть обеих традиций. Я говорю не о трагедии и комедии, а об основе драматического искусства, где реальность сценических событий неотделима от игровой условности актерского действия. И стало быть, театр всегда и одновременно решает две задачи. Прежде всеro, он оживляет и укрепляет систему вечных человеческих ценностей, пользуясь мифом в широком смысле этот слова, как обобщенной исторической правдой. И вместе с тем, он возрождает истинное чувство игры, торжества над несовершенными человеческими отношениями. Выскoчило все-таки это слово – «возрождение»... Как-то все сейчас связалось с возрождением. Наверно, здесь лучше найти другое слово. Может быть – создает. Или рождает, рождает игру... Нет, я все-таки объясню, почему застрял. Я стараюсь этого слова избегать, потому что после него становится вязко во рту, оно какое-то неприятное чувство вызывает, как будто я уже больше ничего не стою, и меня вдруг перестали уважать. Знаете что, разве так уж обязательно возрождать или возрождаться, то есть восстанавливать что-то прекрасное, но уже бывшее в прошлом? Почему просто не рождать, растить, учиться? Вот театр, например, рождает игру. Когда нам пoвезет. Очень трудно определить это явление. Я думаю, те, кто точно знает, что это такое, все равно не смогут объяснить. Может быть, это немножко похоже на то, что дети называют игрой. Но нам тоже нужно как-то чувствовать, что любое по плечу, что есть какой-то высший покровитель, что всё мы можем поставить с ног на голову, если случится такая необхoдимость. Когда приглушен или вовсе отбит вкус к такому внутреннему маневру, можно и самое жизнь возненавидеть. И вот одни мирно засыпают, другие начинают калечить себе подобных – в зависимости от темперамента. Слушайте, когда-то достаточно было одного-двух дней в году, чтобы раб и его хозяин поменялись общественными ролями, ощутили головокружительную природу мировых качелей и на весь остальной год сохранили это разумное, не слишком доверчивое отношение к недостаткам и преимуществам своего положения… Между прочим, я собирался в самом начале сказать, но заволновался и забыл. Лучше я все-таки скажу. Пожалуйста, я очень всех вас прошу не рассматривать мое сегодняшнее выступление, как какую-то программу. У меня никакой программы нет, честное слово. Я так связно говорю, но это потому, что я приготовился. И я сразу отказываюсь от любой должности, если кому-то придет в голову меня предлагать. Меня спросили, знаю ли я что-нибудь об этом деле? Я кое-что знаю, не так уж много. А кто-то меньше знает. Ну все. Кажется, больше ничего не забыл…
Акмос вел себя неосторожно, будто сам предлагал им накинуться на него, расчесать зудящие гражданские чувства. Но он и предохранял себя таким образом – в конце концов, его просили говорить о сугубо профессиональном предмете. Конечно, ничего он не забыл – начинать с этого было нельзя, там-то уж его поправили бы, а тут он их уже немножко завoрожил, и никто не успел спохватиться.
- …Есть Труд и есть Игра, - продолжал он, - Труд серьезен и иерархичен, он требует усилия, терпения. И он так явно необходим человеку, что возникло искушение организовать общество по серьезным законам труда и подчинить им всю остальную жизнь. Когда человек излишне серьезен в своем трудовом усердии, он способен возомнить себя всемогущим. Кстати, может быть, он таков и есть, но появляется чванство. Вот мы понаделали всего, понастроили, насажали и организовались, и тогда полезно взглянуть на все это со стороны и сказать: «Ну, сильны!.. Но ведь есть и кое-что или кое-кто еще, без кого не было бы не только всего этот производства, а и нас самих?» Вот это вселенское чувство юмора, лежащее в основе всех настоящих праздников – без него человечество, может быть, давно бы себя уничтожило. Вечно серьезный, усердный, терпеливый и, в конце концов, беспощадный человек очень страшен. Лучше всего, наверно, жилось людям, когда они в будни помнили о празднике, а праздник не затягивали до безобразия – он должен быть ритуален, программен. Смысл ведь не в том, чтобы просто распоясаться, сбросить ярмо будней, а заодно и все остальные обязательства. Такой отдых влетит в копеечку, тут какие-то злые силы разгуливаются, и даже когда самые разумные сумеют призвать к труду, все еще долго будет валиться из рук…
Теперь я хочу чуть-чуть о другом поговорить. Я хотел бы обозначить разницу между игрой и простым обманом. Всем иногда приходится обманывать, и в этом нет еще никакой игры. Обман, который мы видим в театре – не его сущность. Если все-таки пользоваться этим словом, то театральный обман сродни вдохновенной ошибке, совершенной из самых чистых побуждений. Ну, вот если этого медведя остановить, который кланяется, кланяется, так что уже лоб себе разбил, сказать ему: «Ми-ша!..» - в зале раздался хохот, - Ну, пoдождите, я серьезно. Сказать: «Миша, что ты с собой делаешь!» И он отвечает: «Да? А я думал - так надо...» Но там, может быть, даже и не медведь, там под душной шкурой – взмокший артист. Понимаете, что я имею в виду?.. Вам все-таки что-то другое померещилось. Ну, ладно… Зрители часто называют игрой виртуозное подражание действительности. Вообще, высокая степень правдоподобия способна вызывать восхищение сама по себе, как всякое совершенное умение, но загадка театра не в этом. Самый достоверный в воспроизведении жизни театр не достигает своей ослепительной цели, если наряду с точно угаданной нормой действительности не рождает игру – особые, потенциально всевластные отношения с этой самой действительностью. Язык для игры есть только один – действие, процесс достижения цели в предлагаемых обстоятельствах каким-то способом, так Товстоногов объясняет. Это хорошее определение. У меня еще одна цитата приготовлена, я тогда ее сразу скажу, да? И больше к книжкам возвращаться не буду. Станиславский гoворил, что талант актера можно измерять количеством приспособлений – то есть, тех же способов – используемых им в единицу времени. И здесь нам, режиссерам, надо остановиться. Я могу в репетиции найти и показать несколько приспособлений лучше многих актеров, но сыграть спектакль не смогу. Прежде всегo, он состоит не из одних находок, между ними всегда есть провалы, где приходится грубо притворяться, когда бывает стыдно, и нужна особая актерская отвага, какая-то отчаянная готовность потерять целомудрие, чтобы перебираться от одного найденного решения к другому, они еще и возникают всегда в разных местах. Но с другой стороны, и эти прыжки босиком по битому стеклу долгого спектакля тоже создают игровой азарт у актера и чувство праздника у зрителя. Разобрать и сконструировать это явление невозможно. А все это невероятно важно, потому что никогда театр не воздействовал анализом, ни даже критикой. Если это происходило, то он невольно брал на себя функции других общественных институтов. Но никакой институт не может создать тот сущий обвал информации, который театр выражает естественно и просто, в соответствии со своей природой, одним единственным способом – воплoщением духа игры. Для этого нужна особая свобода, актерская, которую не надо путать с гражданской. Смысл ее в том, чтобы не дать себя похоронить под чистой правдой о поганой действительности, а сыграть с ней… Видите, что получается, я подхожу то с одной стороны, то с другой, да? То с третьей, а последнего слова не говорю. Я не могу. Ну, что делать. Здесь – порог, и начинается сцена. Волю, что ли, почувствовать посреди этой срамной в самом деле жизни. Где еще это возможно? Раньше – на карнавале, теперь – только в театре…
Зал находился в состоянии зачарованности, можно было ощутить, как зреет здоровое общее нетерпение. Таков был его дар – возбуждать творческое желание. Казалось, Акмос проводит разбор новой пьесы – неважно, кем она написана, и как называется – и через несколько минут надо будет выйти на площадку, и уже не сиделось на месте, но и дослушать тоже хотелось.
- …Непрерывная игра, как и непрерывное наслаждение, истощает силы, опустошает. Настоящие актеры хорошо знают, что их профессия не из легких. У них иногда возникают всякие дурацкие соображения насчет самой жизни. Может быть, им тоже хотелось бы просто жить. Но жить нужно очень многим, а играть могут только актеры. Играть и свидетельствовать об игре остальным, когда действительность, требующая полной серьезности, начинает излишне тяготить и удручать. Можно всерьез трудиться на своем месте, будь то управление страной, создание полезных вещей, избавление людей от болезней или любое другое важное и нужное дело. Если делать это по совести, придется и попотеть, и поломать голову, и уступить свое место другому, когда он превзойдет тебя в умении. А чтобы судорога не сводила от усилий, и не обидно было уступать, надо помнить, что в одном нет между нами различий, в чем-то самом главном все мы равны, и нет среди нас высших и низших. Каждый может и сам совершать этот душевный труд в меру своих сил изо дня в день, но всем нам нужно время от времени вместе вспоминать и переживать это чувство единства и всевластия, участвуя в празднике. Театр и есть то самое место, где человек всегда может пережить настоящее чувство игры и праздника. Отличие театра от всенародного празднества только в том, что театр сам создает каноны и в короткое время делает их общими для ограниченного количества людей, нуждающихся в игре в этот вечер. Дидро в свое время подметил, как актеры, играя влюбленных, ругаются друг с другом потихоньку в промежутках между нежностями. Он назвал это «парадоксом об актере», и с eгo легкой руки и отпущенного Просвещением ума стала утверждаться идея, что актеры – это такие виртуозные охальники. Это чушь. Он ничего плохого о театре сказать не хотел, он сам был в него влюблен, но они все были дико самонадеянны, просветители. Задуматься о высшей, метафизической природе театра им было недосуг. Потому и пьес его никто не ставит вот уже лет двести. Нам сейчас кажется, что мы способны, например, охватить всю глубину и противоречивую сущность Распятия. А те, кто облепил в тот день Голгофу, они видели что? Разбо-о-ойников. Силу власти, бо-о-оль, крo-о-овь… И так далее. А несколько человек своими слабыми сердцами с невероятным трудом пытались постичь происходящее. Пытались. Это не значит, что понимали. Такова подавляющая сила реальности. Но разве несчастный бродяга, пришпиленный насмерть между двумя бандитами – это вся реальность? Разве мир не узнал впоследствии, что за этой обычной казнью скрывалась совсем не обычная, великая, Божественная Игра?.. Вот видите, я сказал, что к книжкам не буду больше обращаться, а не удержался. Но это ничего, это хорошая книга. Люди вправе ждать некоторых эмоциональных разрешений. Не стоит требовать от художественного произведения ответа на вопрос «как быть и что делать». Но внушить свое мироощущение: как относиться к тому-сему, театр обязан во всяком случае. Как, например, надо относиться к нашему изуродованному бытию, к отсутствию веры, к усталому равнодушию к страданиям? Неужели клеймить позором? Или еще – зеркало нам подставлять: посмотри, мол, до чего докатился. А нам скажут: а ты кто такой? Откуда, с каких высот слетел к нам в болото? Я, кажется, про зеркало что-то другое еще творил… Ну, может быть, я ошибался. А больше мне сегодня, пожалуй, и нечего сказать.
Загрохотали аплодисменты и сиденья кресел, потому что почти все встали. Хлопали, выкрикивали слова одобрения. Министра во всей этой суматохе не стало видно. Ему полагалось, наверно, выступить, открыть обсуждение, но он, вероятно, отказался, удовлетворенный зрелищем такого воодушевления в своей епархии. Акмос продолжал стоять на возвышении, улыбаясь. Шум начал постепенно ослабевать, все снова рассаживались в ожидании дальнейших указаний. Дождавшись, когда волнение улеглось, и стало тихо, Акмос спросил:
- А что теперь?.. Мне кажется, вы чего-то еще от меня ждете. А у меня больше ничего нет. Слушайте, я же здесь приглашенный, я не знаю, что нужно дальше делать.
Среди одобрительного молчания раздался одинокий возглас: «Не нужно ничего!»
- Не нужно? Но, тут какая-то неловкость образовалась… Мне, в общем-то, надо уйти наверно. Или… могу автограф кому-нибудь подписать, хотите? Я, кажется, увлекся, наговорил разной ерунды. Ну, это я шутил… А вообще, то, что вы так молчите, очень хорошо. Может, давайте потихоньку и разойдемся? Я тогда, с вашего разрешения, пойду, да?..
Ни на кого больше не глядя и уже не улыбаясь, он спустился в зал и, озабоченный своими мыслями, прошел через зал к выходу. Минуту спустя, следуя чьему-то примеру, все стали подниматься и расходиться, среди негромкого стука сидений и шарканья шагов не было слышно ни слова.
* * *
Слоняться по сцене, лезть с предложениями, в основном касающимися других… Их будут принимать, Акмос не выразит ни недовольства, ни удовлетворения, все вроде бы покатится гладко, но будет лишено того единственного смысла, который только и оправдывает это невыносимое положение, когда подавляющее большинство людей на свете занимается полезным делом, а мы участвуем в детской забаве, называемой предварительным розыгрышем. Я знал, что эта пытка наступит, молился, чтобы проскочить ее незаметно и побыстрее, и сейчас безнадежно в ней увязал. Ничьей вины тут, вероятно, не было, я выбивался из сил, остальные, казалось, не замечали, что происходит. Для меня эти сцены – «мышеловка» и следующие за ней – были кульминацией спектакля, здесь должен был быть самый сильный выброс, а мне приходилось себя на него раскачивать, и это самое отвратительное, что может быть, потому что притворство налезало на притворство. Я не получал от партнеров нужных реакций, но требoвать их не мог и поэтому все больше увлекался выстраиванием за них их линий, чтобы было, с чем играть. Как только они это заметили, работа вообще остановилась. Они вежливо выслушивали предложения и холодно выполняли мои просьбы, обнаруживая их бессмысленность.
Наконец Акмос согласился, что остановка королем представления может служить поводом к моему броску, и что меня необходимо удержать. Как только Клавдий начинал подниматься, четверо атлетов из eгo охраны подтягивались к трону и, оставаясь ко мне лицом, уперев руки в бока, закрывали уход монарха, так что и актеры, и Горацио, схватив за руки, уберегали меня от этих невозмутимых головорезов. Я еще пытался завести Горацио и всех расходящихся – «Ты видел? Когда заиграли отравление?» – но уже через минуту и сам понимал, что прямой путь закрыт. Тогда, как бы отказываясь от стычки и выигрывая время, я обращался к актерам с просьбой о музыке, а телохранители, посмеиваясь, уходили. Но как только появлялись Розенкранц и Гильденстерн, я снова терял самообладание. Этот порыв никто не понял, и мне пришлось остановиться самому. Я чувствовал, что посыл правильный, что ему необходимо разрядиться, и он готов сейчас подраться с этими сукочесами и стукачами короля. Я не стал ничего объяснять, попросил повторить сцену и во второй попытке, подойдя к вяловатому Манжету, который играл Гильденстерна, взял его пятерней за лицо и оттолкнул. Манжет остановил репетицию и обратился в зал к Акмосу.
- Антон Васильич, это что, решение такое? Я должен зто терпеть?
- Сейчас, - отвечал Акмос, - Володя, что вы хотите сделать?
- Я сделал то, что хотел. Я не могу все время сам себе противодействие выстраивать!
- Это я виноват, - вмешался Саша Дулов, исполнитель роли Горацио, - Просто очень неожиданно получилось. Кoнечно, я должен его удержать.
Мы начали сцену снова, и Саша мне помог, но на втoрой реплике я вырвался у Горацио. Манжет стоял и дожидался, видимо, понимая, что я не решусь повторить грубость.
Меня замутило от бессилия.
- Что у тебя там висит, на боку-то? - кричал я, - Так и будешь каждому позволять себя за морду хватать? Ты же дворянин, как-никак!
- Кричать на меня не надо, - огрызнулся Манжет, - И этюды свои оставь при себе. Есть режиссер, между прочим. Не знаю – может, он и ведет себя, как дворовая шпана, но для меня он королевская кровь. Не могу же я на него руку поднимать.
- А ты видел сцену только что? Ты что же, не понял, что он в опале? По тому, как с тобой король сейчас там гoворил, ты не понял, что со мной все кончено?
- Антон Василич, я не понимаю – мы репетируем или что? Скажите, что мне сделать, я сделаю. А эти лекции мне не нужны.
- Да тебе и репетиции не нужны! - я уже не мог остановиться, - Чего репетировать? Давай завтра играть, ты готов. Я тебе объясняю, я не могу один играть за всех!
- Неужели? Пo-моему, ты как раз этого и хочешь. Ты же всем указываешь, что делать.
- Я не указываю, я предлагаю! Тебе самому-то неужели не охота поискать, попробовать чтo-нибудь?
- За меня не волнуйся. Подумай о себе, ты Гамлета играешь, не я.
- А тогда вообще лучше помалкивай.
- Извините, Антон Васильич. Я этим «ячеством» сыт по горло. Не знаю, с кем Семенову приходилось работать... Я в этом театре двадцать лет, видел всякое, но такого здесь никто себе не позволял. Можете снять меня с роли, если хотите, а такие репетиции я продолжать не намерен. Я буду у себя в гримерной.
Манжет ушел. Еще минуту стояла тишина, затем раздался негромкий голос Акмоса:
- Извините, я не помешаю, если скажу два слова?
Надо было бы извиниться, но стало все равно, какое-то шестнадцатое чувство твердило мне, что я прав, и отказ от этой правоты не стоил ни добрых отношений с Манжетом или Акмосом, ни самого спектакля.
- Спасибо, все свободны. Володя, спуститесь в зал, пожалуйста.
Акмос еще уточнял что-то в расписании с помощником режиссера, я сел чуть сбоку в следующем ряду ближе к сцене. Я не заметил, как мы остались одни, и повернувшись к Акмосу увидел, что он, откинувшись в кресле и сложив руки на груди, наблюдает за рабочими, которые разбирали выгородку и готовили сцену к вечернему спектаклю.
- Станиславский собирался ставить «Отелло» и тут же махнул в Венецию набираться впечатлений. Тогда это ничего не стоило сделать, все равно что в Одессу съездить или в Архангельск. Пусть, почему нет? Не знаю. Почему в Венецию? Я бы скорее поехал в Америку, понаблюдать, какого ума, благородства и достоинства бывают негры среди университетской профессуры, скажем. Можно, например, поехать в Японию или в Китай... Просто отстраненно взглянуть еще раз на те же общечеловеческие конфликты. Куросава, например, делает потрясающие фильмы и по Шекспиру, и по Достоевскому...
- Антон Василич, не тратьте на меня силы. Я все про себя знаю. В конце концов, я вас предупреждал.
- Ну, что мы будем притворяться друг перед другом... Вы убеждены, что сейчас нельзя играть, а я знаю, что вообще нельзя. Никому это здесь не нужно. Знаете, я понял, что вы мне о зрителе говорили. Театральный зритель – это был последний эшелон, арьегард уходящей эпохи. Уже невозможно было оставаться художником, мастером, ученым, соседом, отцом, человеком, но еще можно было быть театральным зрителем. А время идет, и эта порода не может самовоспроизводиться. Знаете, как сейчас говорят после спектакля: «Не люблю серьезных вещей». Это – конец, пустое кресло в зале… Есть Женя Андреевская, вы, но мы ничего не создадим, и гореть нам в огне. Какая там игра! Нашел вот, как кусок выстроить, и слава Богу. Два-три актера попались – бесценный подарок! А чтоб спектакль получился, такого даже вообразить нельзя.
- А как же насчет пятого Евангелия?
- Вы думаете, пятое Евангелие – это толстый роман? Сейчас это, может быть, один Гефсиманский сад. Сегодня пройти Гефсиманский сад, значит переломить культуру страны, это по силам не нам – какому-нибудь бескультурному и гениальному варвару, который сам себе культура. Вы давайте решайте, Володя. Я действительно не связывал вас никакими обязательствами с самого начала, но девять десятых работы сделано. Я люблю чувство неустойчивости, оно не дает успокоиться, но вы просто мешать начинаете.
- Ну, извините меня, не сдержался.
- Я не об этом говорю, не о стычке вашей. Это плохо, но тут я бы вмешиваться не стал, сами разберетесь. Вы стали плохо работать, неправильно. Зачем вам эти крючочки и петельки? Вы слишком много сочиняете дома. Поверьте мне, таких решений хватит на одну репетицию, на один спектакль. Вам кажется, что вот сейчас вы освободились от пoверхностных догадок, добрались до сердцевины пьесы, и стали разгребать, наконец делом занялись. Вы ошибаетесь, это произошло почти в самом начале, на третьей или четвертой репетиции. Сцену с Гильденстерном мы выстроим, вы там что-то правильно ощущаете, но не поддавайтесь этому угрюмому анализу, время для него прошло. То, о чем вы беспокоитесь, само сейчас будет становиться по местам.
- Почему не попробовать-то? Это единственное место, где он может быть агрессивным. И вдруг становится очевидным, что убить короля совсем не так просто.
- Ну, через две минуты будет просто, окажетесь с ним один на один... Можно. Можно и так. А зачем? Чтобы как в жизни было? Дело не в отдельном решении. Я говорю о другом. Сам путь неверен, сейчас уже нельзя так сосредотачиваться на простой логике, даже на логике чувств. Сейчас надо прислушиваться к вещам, которых мы обычно не слышим. Хотите я вам докажу, что можно без этого решения, совсем просто, и будет сильнее? Хотите? Посмотрите, как он подвижен в предыдущих сценах. Как я понимаю, вам хочется, чтобы он ошибки совершал, это правильно. Вот он задумал план и успешно его осуществил, король публично признался, что совершил преступление – и что же люди? Оказывается, разоблачить преступника – ничего не значит. Все уже знают давно, и никого это не волнует. Вы понимаете, одно дело, что есть подлые люди, которых можно уличить, другое – когда подлость уже и не подлость в общественном мнении. Ты показываешь пальцем, кричишь: «Вор!» – у него из кармана даже нитка жемчуга висит, а народ вокруг хватает тебя за руки и одергивает: ты что, парень! У нас тут хулиганить нельзя. Нечего нам идеалы свои на шею вешать. Иди, пырни его пo-тихому, если сумеешь, мы тогда тебя признаем, а суды чести нам не нужны. Ну, как тут? Быть, не быть?.. Он приготовился стать острием общественного гнева – это тоже огромный труд для него, но он eгo совершил, а гнева не будет. Смотрит, как все разбредаются, глазам своим не верит. Как? Человек подыхает на глазах у всех, и никто не обернется? Один звонарь руки вывихнул, а все только уши затыкают? Допытывается у Горацио: что это? Я что-нибудь неправильно сделал? А тот отвечает: все правильно, но на других рассчитывать нельзя. Его так пригнуло к земле, он только еле-еле пальцами шевелит. Еще раз попробовал вырваться: может мы ошибаемся? Не так уж все это очевидно было? Горацио творит: нет, нет, все было ясно. И вот вся эта сложная, гениальная затея – просто какая-то чушь. Знаете что, я даже думаю, он посмеялся над собой, а внутри зреет что-то тяжелое, нехорошее. Когда он этой тяжестью нальется до пят, тогда только и сможет убить короля. Наскоком это не получится, даже у Лаэрта не получится. Ну вот, он уселся на тумбе какой-то, как сыч. Раз королю неинтересна пьеса... нет для него в ней, значит, интереса… Только что было предчувствие конца, разрешения, и – полный провал, а сделать-то все равно придется. И тогда появляются эти двое. «У вас есть две минутки?» Он отвечает, на них не глядя, монотонно, и голос eгo звучит, как из погреба. А через несколько минут, когда от самого себя стошнило, стал распрямляться и так накалился с флейтой, что если бы Полоний не вошел, он бы им такое устроил – пришлось бы потом пожалеть… У него за эти минуты вызрело что-то мутное в душе, он мог бы сейчас «пить живую кровь» и разгадывает подвохи, которые в обычном состоянии не видны. Встреча с Клавдием – незначительный эпизод, он теперь знает, что это не так делается, и знает, что король никуда не денется, поймал его в прицел. Ты смотри – молится, подставляется... Как удобно, да? Больше меня не проведете. Проходная сцена, он даже не остановился. Идет к матери, тяжелый, набрякший, она – его последний шанс, если осталась еще какая-то человеческая связь. Когда она поняла, куда он клонит, попыталась остановить, потому что есть свидетель… Потом разыграла сцену, чтобы выманить Полония, а Гамлету убить сейчас – ничего не стоит, как крысу с дороги отшвырнул. Но вот когда увидел труп, опомнился и в течение всей сцены с матерью все время к нему возвращается, как будто его магнитом притягивает – вглядывается, вглядывается... Опять ошибка вышла.
- Мне Женя гoворила, что весь спектакль вы из-за Гертруды ставите. Это правда?
- Правда. Об этом мы не будем гoворить. Смотрите повнимательнее.
- Антон Василич, я все собирался вас спросить, как вы к Выготскому относитесь?
- Хорошо отношусь. Вы про этюд о Гамлете говорите? Там есть очень интересные замечания. Например, о том, что движущая, деятельная сила в пьесе – Клавдий. Только нельзя принимать все, что он пишет на веру. Это не для нас написано. Знаете что, если бы мне не надо было играть спектакль, я бы читал его и наслаждался: как он тонко улавливает дыхание Рока, особую реальность трагедии, прослеживает многие связи с точки зрения их символического единства. Но это играть нельзя. Вы вспомните, каждый раз, когда возникает вопрос, почему тот или другой делает то-то и то-то, он отвечает: так предуказано волей трагедии. Ему актеры не нужны, он описывает персонажей литературного произведения. А судьба, Рок – это... ну, я не знаю... ну, как внезапная отметина, вдруг высыпала экзема… Но чешется пo-настоящему. Вообще, большой соблазн, когда такие глубокие работы появляются как бы на нашу тему. Они – не на нашу тему, просто у нас нет методологии. Раньше я думал, что есть, но боюсь, что и не может быть. Та, которая мне кажется сейчас правильной, ее невозможно выразить в последовательном написанном слове. И даже когда кто-то талантливо это делает, все равно оно привязано к одной пьесе, спектаклю. Берешь другую пьесу – все начинаешь заново. Ну и хочется опереться на что-то незыблемое. Это, в общем-то, слабость. Но читать надо, читать надо как можно больше, тем более талантливые книги. Талант заражает, прибавляет энергии. Нельзя только брать eгo себе в руководители. Талант – дело сугубо личное. Вы найдите, пожалуйста, способ извиниться перед Черновым. Сделайте это до следующей репетиции. И развеселитесь немного. И его постарайтесь рассмешить. Идите, я еще посижу…
В дверях я обернулся. Зрительный зал был скудно освещен четырьмя дежурными лампочками, терявшимися в стекляшках огромной люстры, рабочие опускали штанкеты, привязывали к ним кулисы и падуги, громко переговаривались, не стесняясь в выражениях, изредка слышался профессиoнальный предупреждающий крик: «Голову!» Электрики выносили и составляли в карманах сцены тяжелые дребезжащие прожектора, бросали на пол связки кабеля. Их было много, они выполняли привычную ежедневную работу, у них был профсоюз, теперь даже так называемый «независимый» профсоюз. Весь этот продуманный, налаженный, хорошо оплачиваемый труд продолжался веками. Наша беседа не имела к нему никакого отношения.
X
Милый сверчок, уютный домашний собеседник – такой страшный, если случится увидать! Черный, неуклюжий комок спутанной проволоки, урод из уродов, так 6ы и придавил каблуком. А за что? Какое тебе дело, что он отвратно выглядит? Он и на глаза не лезет никогда. Может, догадывается, что природа что-то не так с ним сотворила, спрячется и курлыкает сам с собой. Нравится тебе слушать? Последи и за человеком – уж как неприятен тебе может быть, а все же есть, наверно, и у него какой-никакой сверчковый дар, им и утешайся. Малоспособный, неумный, внутренне негибкий, гoворящий банальности с раздражающим апломбом, но внешне выглядит очень хорошо, ведет себя достаточно естественно, на него приятно смотреть, при минимальных требованиях он вполне способен выполнять простейшие актерские задачи, а как много их нужно, чтобы исполнить все третьестепенные роли и дать возможность другим сыграть главные.
Остыв от репетиции в пятницу, я не только позвонил Манжету и извинился, я пригласил его и еще несколько человек к себе на обед, идея которого возникла внезапно и была всеми поддержана.
В субботу с утра мы с Волчаковым побегали по городу и кое-что непритязательное нашли. У двух Лев, Оли, Алика Вайсфельда, Саши Дулова и Манжета вечером был спектакль, и мы собрались в два, старика Суварина и Акмоса не звали. Я был уверен, что Стас придет со своей девушкой, но она, оказывается, уже уехала на конкурс.
С первых же минут, пока Стас рассказывал очередной сюжет о своем племяннике, на спор явившемся в секцию легкой атлетики в Лужниках и пробежавшем стометровку за семь секунд, чуть не сведя с ума тренера, который сначала попросил повторить забег, а когда тот показал шесть и девять, бросил секундомер на гаревую дорожку и пошел ругаться с часовщиком – с этих первых минут всем без слов стало ясно, что договариваться нам не о чем, что и жертвеннические идеи, и сам Риголетто – дурной сон, не заслуживающий даже пересказа. Лева-большой сделал все-таки попытку отвлеченного обобщения на тему о том, как нас не любят, как всем не терпится поглазеть на побоище.
- Да если мы теперь не перебьем друг друга, мы же всех смертельно оскорбим. Они считают, что у нас договор заключен. Как же можно нарушить договор артиста со зрителем?
- Ну, мы-то его не подписывали, - заворчал Лева-маленький.
- Подписывали, подписывали. С самого начала он подписан. Не обманывать ожидания зрителей. А иначе – что в нас пользы?
- Кстати, Лева, - сказал Стас, - один композитор мне рассказывал, что работается ему лучше всего после интимной близости с женщиной. Ты за собой такого не замечал?
- Чего ты вдруг?
- Да подожди, все ты подвоха ищешь. Это очень интересный вопрос. Я, например, знаю другое. Когда желание долго остается неутоленным, можно найти внутри такое соотношение между волей, сознанием, душой и телом, что творческий посыл становится упругим, ясным и глубоким. И не вспоминайте мне про сублимацию, потому что желание никуда не исчезает, оно – при тебе. Вова, ты понимаешь, о чем я говорю?
- Понимаю. Но это совершенно не интересует наших женщин, если я не ошибаюсь. Лучше скажи, что еще веселенького вычитал за последнее время?
- Слушайте, вы не поверите! Был один австрийский дипломат, который еще в тысяча пятьсот двадцать шестом году узнал всю подноготную русской истории и Европе рассказал, что две женщины, мол, приходили от имени новгородцев просить Владимира княжить. А звали их - Малуша и Добрыня. Вот когда мы научились государственные тайны хранить. А Московский университет издает сейчас его труд, где прямо в предисловии говорится, что это одно из самых полных и достоверных описаний Русского государства. Так что, как мы взяли ротик на замочек в шестнадцатом веке, так хер кто у нас чего разнюхает.
Потом мы ели пельмени и замысловатый салат из моркови с яблоками, приготовленный Женей. Вспомнили о последнем выступлении Акмоса. Заговорил о нем, как ни странно, Манжет, откровенно признавшийся, что не понимает, какую конкретно игру имел в виду Антон. Ответить ему никто толком не смог, но после нескольких невнятных замечаний высказался, наконец, Лева-маленький.
- Я знаю одно. Вы помните, что он говорил о Дидро? Знаете, что он хотел сказать? Что пьеса была плохая. Когда материал хороший, некогда придуриваться. А когда его нет, приходится самому ем делать. Эта парочка потихоньку импровизировала между собой, сочиняла серьезную пьесу, а бездарный авторский текст был в этом случае баловством, игрой. То есть – все наоборот, а иначе им нечего делать. Но философ этот ничего не понял, конечно. Надо быть актером, чтобы такие вещи понимать.
- Можно еще по-другому сказать, - отозвался Лева-большой, - если говорить о двойственности. Вы посмотрите школьную «Работу актера над собой» и четвертый том и увидите, как он сам себе противоречит.
- Ты, я надеюсь, только здесь себе это позволяешь? - прервал его Стас. - Смотри, пусть это будет между нами. Это предельно опасная вещь. Боже упаси их допускать до этого, до наследия. А то выищут что-нибудь вроде «у злого ищи, где он добрый» - и конец, ничего больше не поймешь, все с места сдвинулось и поехало: у вора ищи, где он честный человек, у фашиста – где он евреев любит, у святош – где совесть неотмыта, у азербайджанца – где он армянин и так далее. Вот уж где конец света придет…
Наступал вечер, почти всем надо было ехать в театр. Волчаков остался и задержал Евгению, сказав, что хочет поговорить с нами обоими. Убирая со стола, я слышал, как Женя расспрашивала Стаса о недавнем несчастном случае с одним актером.
- Даже не напоминай мне! - горячился Стас, - Как сoбаку! Бросили подыхать, как бездомного пса.
- Но нашли, кто его сбил?
- Стожаров.
- Как? Писатель?
- Он не заметил, как зацепил, понимаешь? Как надо зацепить, чтобы на человеке живого места не осталось, чтобы он пролежал несколько часов и потом в больнице умер?
- Хорошая у него жизнь впереди.
- Да мне все равно, какая у него жизнь. Очень раскаивается, говорят. А что мне его раскаяние? Ветеран херов! Боевая взаимная выручка… Может, если бы он Толю подoбрал, отвез в больницу, тот 6ы выжил.
- Пьяный, что ли, был?
- Наверно. А кого это утешает? Тебя утешает? Меня это не утешает. Я, когда подумаю, какие за последние десять лет ребята погибли, и как погибли, у меня другого объяснения нет, что это мор. Последовательное уничтожение нас эволюционными силами. И не спрашивайте меня, какой в этом смысл. Я знаю много, больше, чем хотелось бы, но этого не знаю. Какой-то есть. И между прочим, Вова! Ты слышишь меня? Давай подведем черту. Я тебе так скажу, старик: ты можешь на меня положиться, как в том, так и в другом. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу, так что чувствуй себя уверенно.
- Это опять о Риголетто что ли? Ты об этом собирался поговорить? - спросила Евгения.
- Нет. Тут говорить не о чем, это все на самом деле очень просто. Ты не помнишь, как у Хейфеца в «Иване Грозном» настоящие булыжники кидали в деревянные ворота? Бум! Бум! Вполне могли кого-нибудь зацепить в висок. Кстати, я нашел в книге Гиннеса, что лет двести-триста назад актеры резали друг друга на сцене, как хотели. Правда, только женщины. И не насмерть. Из-за соперничества. Но – прямо на сцене. Я хотел у вас спросить, что вы дальше делать собираетесь, когда мы «Гамлета» закончим?
Вопрос был грубоват, странно было его слышать от проницательного Волчакова.
- А чего ты уставился? Мне интересно. Сейчас все пoкатится – оглянуться не успеешь. Чего там осталось-то, недели две? К нам в театр не собираетесь? Или разбежитесь обратно по своим? Я слышал, что Акмосу предлагают у нас следующую постановку.
- Это тебя одиночество так достает, - отшучивался я, - Вот вернется твоя альтистка...
- Она не вернется.
Тут сказать было нечего. Евгения качала головой.
- Останется там. Даже если не получит какую-то там медаль, все равно останется. А чего ей тут делать? Тоска, братья, необратимый упадок сил... То есть, все это по-своему называют: плохое настроение, усталость, стресс. А на самом деле – все одно и то же: расползается время. Только что оно тебя упруго качало, так что ты его и не замечал, не думал о нем, а тут вдруг швы обнаружились и поползли, движение замедляется, пропало ощущение резонанса, неуютно и беспросветно. Главное, причины не знаешь, так что надежды нет, что скоро пройдет. У самых крепких какое сознательное стремление? Перетерпеть, переждать и вернуться к равнoвесию. Так вот мы и пропускаем, разбрасываем эти мгнoвенья, а они, может быть – самое ценное, что нам в жизни предоставлено. Ибо ритмичная и благополучная наша качка это есть позорное растительное существование. Другое дело, что мы настолько к нему привыкли, что чуть нас приподняли с этого гамака – сразу мутить начинает. А посмотришь на это по-другому – тут тебе без всяких усилий с твоей стороны, без молитвы и поста приоткрывают видение мира иного. Надо 6ы обрадоваться, перестать суетиться и лекарства искать, очистить мозг от мелочей и готовиться к невиданному приходу. Может, и не случится – по твоей же вине, по недостатку сметливости и веры. Все равно будет польза, важный опыт. В следующий раз меньше дергаться будешь, скорее затихнешь и успокоишься. Если вы мне не верите, то же самое один святой человек говорил: душе кажется, что Бог больше ее не слышит, она не может молиться, ни присутствовать со вниманием на богослужениях. Еще менее в состоянии она заниматься земными делами. Но это потому, что Бог присутствует и твoрит в душе, поэтому душа в бессилии. «Пассивная ночь» называется. А кому это помогает? Святому этому, наверно, помогало. Вам помогает? Мне лично это не помогает нисколько. Но вы, двое, вы смотрите, не сочините глупость какую-нибудь. Вы меня знаете, я ни во что не вмешиваюсь, я просто не желаю вам провожать альтистку Лену Погосян на какой-то вшивый бессрочный конкурс. Хотя Блез Паскаль, между прочим, тоже умер в тридцать девять лет. У тебя выпить нет?
Мы выпили коньяку и пошли провожать Стаса. На первом этаже дома со стороны улицы была аптека, и в подъезд прoникали фармацевтические запахи, которые, смешиваясь с вонью кошачьей, а то и еще чьей-нибудь мочи, создавали на лестнице устойчивый и душный запах меда. Когда мы пoдошли к метро, я мельком заметил, как военный офицер, стоявший с девушкой, грубо, нерасчётливо оттолкнул неряшливого выпивоху, обратившегося к нему с какой-то просьбой. Тот беспомощно завалился на спину, сильно ударившись затылком, что-то лопнуло у него в кармане и по грязному, обледенелому асфальту стала разливаться темная жидкость. Пока мы его поднимали, Стас сказал военному:
- Что ж ты делаешь, офицер? Честь нации обороняешь?
- А откуда я знаю, чего он сделает? - злобно оправдывался лейтенант.
- Хорошо, что мы знаем, на что ты способен, щит рoдины...
Но лейтенант уже торопливо удалялся со своей подругой. Пьяница то сокрушенно исследовал карман, где скрежетали осколки его сокровища, то бессвязно жаловался на боль и трогал окровавленный затылок. Армия, конечно, была раздражена общим беспорядком, на них он, вероятно, должен был действовать сильнее.
- Идите, я отвезу его домой, - сказал Стас и повел мужичка к стоянке такси.
- Ты торопишься? - спросил я Евгению.
- А что?
- Пойдем обратно, посидим еще.
Мы вернулись и некоторое время грелись на кухне чаем. Мне все хотелось как-нибудь ослабить невероятное напряжение, возникшее между нами. Казалось, что от неосторожного слова или движения оно может взорваться и в ту, и в другую сторону, и выдержать обе формы взрыва мы 6ы, наверно, не сумели.
Начав было рассказывать о своей последней беседе с Акмосом, я вдруг решился.
- Давай отложим все, что между нами есть, до премьеры. Давай просто забудем обо всем этом. И в честь такого уговора останься, пожалуйста, переночевать. Отпустить тебя одну я все равно не могу, а чем кончаются проводы, ты знаешь.
- Не помню, говорила я тебе или нет – ты сильно изменился, - отвечала Евгения.
- Я вот думаю, какой это подарок, что ты не Офелию играешь. Вот уж где мы запутались бы.
Жесткие рамки времени нас отпустили, не нужно было более соразмерять течение бытия со всякими внешними условиями.
- Ты что-то о страхе говорил. Помогать тебе надо было...
- Да это вроде прошло. То есть, может, и не прошло, но уже не так важно. Я сейчас хочу побыстрее все это закончить. Некоторое время назад у меня наступила ясность, я понял, что нужно уходить – как следует понял, знаешь, не головой. Сейчас такой ясности нет, хотя как будто ничего по существу не изменилось, но я не могу больше на этом торчать. По крайней мере, пока не сыграем. Или одно, или другое. Скажи лучше, что ты обо мне думаешь? Что получается, что нет?
- Все я не видела... Мне кажется, что Акмос прав – тебе не надо сейчас особенно копаться. У тебя все выстроено, доверяй себе. Что-то должно получиться. Хороших кусков очень много. Пожалуй, ни в одном спектакле раньше столько не было. С Призраком очень сильная сцена, с Офелией, да нет – очень много. Это должно тебя вытолкнуть куда-то.
- Хорошо. А теперь я тебе открою один секрет. Я не знаю, что там тебе Акмос говорил насчет роли, но я понял, почему она может быть главной, почему нужно ставить этот спектакль из-за Гертруды. Мне кажется, я знаю. Нет, останови меня! Я не должен говорить. Запрети мне, скажи, что тебе это не нужно, что ты не слушаешь... Она – Гертруда, Герда из сказки Андерсена, Снегурочка, цель всеобщих, самых чистых устремлений на новогодней елке для детей, средоточие любви, благословение страны, жемчужина Дании. На нее приезжают посмотреть издалека, когда жизнь становится совсем невыносимой, как русские ездили в Оптину Пустынь. Это не только красота, а весь облик покоя и вместе с тем невероятной жизненной силы. И, конечно же, красота. «Где Дании краса и королева?» - так можно сказать от всей простоты души, незамутненной сознанием. Если бы не было престола, из-за нее одной Клавдий мог бы убить. И самое редкое – она знает, как красота может служить добру, короче говоря, она знает, что такое жизнь в ее глубочайшем ценностном смысле. Недаром у нее такой сын родился. Как если бы Мадонна стала постижимой, доступной для простого общения. Она именно убивалась, как Ниобея, потеряв любимого мужчину, и вновь расцвела для любви, потому что она – не как все, она должна быть бессмертна, пока мир не создаст такой второй. А что он чем-то там плох... А чем он для нее плох? Это, по существу, не ее забота – отделять, судить. Ричард Третий был не только злодей, а еще и урод, и не скрывал, что мужа убил, а сумел тут же, прямо у гроба вдову увлечь. Вот это, может, единственное, что не дано Гамлету понимать – что она такое. Наверно, потому, что мать, потому что физиологически слишком близки, связаны. Короче, она – сама жизнь, которую уродуют, как хотят, и правые, и левые. И сделать тут ничего нельзя, пока не явится равновеликий муж. Представить себе женщину в понимании Пастернака и мужа в понимании Мандельштама... Но у нас бывает то одно, то другое, вместе – никогда. Она такой невероятной чистоты существо, что ей позволяется просто жить. Ну, я понимаю – заботы государства, острые противоречия, идеалы, преступления, ложь... Я все понимаю. Но должен ведь человек уметь и просто жить! Такой талант встречается гораздо реже, чем талант художника, скажем. Не забывать о жизни, радоваться ей в самой ее простоте, знать ей полную цену. Ты не забывай, что о настоящей вине Клавдия она не знает. И когда ей только намекнули – такая тень, такая мгла стала стелиться над землей! Это не вопрос совести, она изначально не может быть виновна, это она наговаривает на себя, но, если намек справедлив – тогда нельзя, незачем жить. Он ведь прямо, черным по белому так ей и не говорит. А это же самое главное! И она спросить боится, поэтому только останавливает его нравоучения: ты подожди! Что же ты меня мучаешь! А тут еще его припадок... И впервые в жизни у нее дрогнула земля под ногами. Кто же мне скажет, что теперь делать?
Все это очень трудно сыграть, почти невозможно. Я думаю, что именно поэтому он городит столько психологически острых мест, создает такую плотную основу для ее лирической мелодии. Наверно, почти до самого конца тебе трудно будет схватить целое. Она очень зависит от всего остального. Я только знаю, например, что огромное значение будет иметь облик – внешний вид, осанка, походка, манера поведения, речи. Национальное богатство. Жемчужина Дании. А об этом забыли за всеми этими дворцовыми делами. Но она-то не поддается и ни в чем не изменилась. Чего это ей стоит – знает она одна. Если бы ее можно было с кем-то сравнить, я бы назвал...
- Нет! Не смей! - крикнула Евгения, - Я знаю. Имен не надо называть. Этот ярлык не отмоешь потом. Еще просочится как-нибудь... начнут писать: она напоминает лучшие роли такой-то. Этого мне только не хватало.
- Я понял, понял. Забудем о6 этом. Тем более, что тут что-то совершенно новое. Я знаю, как ты умеешь такие вещи играть, не на внешнем действии. В общем, я знаю – тебе что-то нужное приснится.
- Что это? - за стеной уже некоторое время слышался шум и плохо различимые женские крики.
- Ничего, не пугайся. Это жуткая история, но помочь тут нечем. Там мой тезка живет, немного постарше. Странно, я всех их помню, когда они старшеклассниками были, веселые, здоровые ребята. Этого несколько лет не видно и не слышно было. Теперь иногда встретишь во дворе - молчаливый, мрачный, небольшого роста. Знаешь, бывают такие угрюмые жесткие алкаши. А мать его – они вдвоем живут – постарела мгновенно, в год. Тихая мышь. Только иногда увидишь в глазах ужас – знают ли, догадываются ли люди, что там у них творится? Гостей у них не бывает, вообще никого. И вот так по ночам – жуткий грохот, и она кричит: «Володька! Что ты делаешь! Что ты делаешь!» Что бьет – это не вопрос. Но кажется есть что-то еще пострашнее, что надо скрыть совершенно. Это ненадолго. Видишь, уже и все.
Я взглянул на часы, шел второй час ночи.
- Сейчас я тебе постелю. Хорошо, что ты осталась.
* * *
В этот бескрайний увеселительный парк, на этот усталый, лишенный к рассвету праздничного воодушевления карнавал, где ты теряешь какую бы то ни было значимость, где безуспешно стараешься найти лазейку, чтобы выскочить из лабиринта, и только осознав, что время остановилось и выхода не будет, уже на грани безумия находишь себя освобожденным от морока, приподнявшегося от земли подобно утреннему туману и тающего так же внезапно, как ты был схвачен им вначале – в эту нечеловеческую ловушку можно попасть только из сна, который лишает тебя осторожности. Этот тупик мироздания находится еще глубже снов, вообще неизвестно где.
Там водится такая нелюдь, которую не увидишь и в самом страшном кошмаре. Там не за что зацепиться, не на кого положиться, так как они легко меняют личины, будучи не связанными никакими правилами. Им положительно все равно, носиться ли вокруг тебя озабоченным распорядителем танцев или замереть стулом в углу, коптить ли потолок сорокавосьмисвечовой люстрой или стечь на тебя взмокшей, раскрасневшейся барышней и тут же оказаться охранником, строго требующим, чтобы ты следовал за ним для дачи каких-то опасных разъяснений. Я, кажется, позволил себе упомянуть про угол? Это жалкое красное словцо, нет там никаких углов – лекальные стены, покатые подъемы и спуски, намекающие на приволье ландшафта, отвратительные своей мертвой искусственностью. Еще и поэтому начинают ныть кости, и ты немедля принимаешься искать лицемерных знакомств с целью выведать географию этого безразмерного салона. Пустая затея. Им ничего от тебя не нужно, им смешна твоя нервозность и твое нетерпение, они вечно отчего-то веселятся здесь и просто не понимают, что можно хотеть куда-то еще, что где-то еще можно быть…
Вместе с тем, я твердо верю: в наши невинные сны, которые, как-никак, все еще отголоски нескладного реального мира, они засылают гонцов, иначе нам никак не удалось бы туда попасть.
Вы прилетели в Париж, и он все больше оправдывает ожидания. Поздним вечером вместе с любимой вы идете по пустынной незнакомой улочке, привычной для вас уж тем, что она парижская. Одинокая фигура женщины, уверенно стучащей каблучками впереди, рассеивает ваши последние опасения. Но вот вы слышите за спиной другие звуки и, обернувшись, видите поспешно нагоняющего вас, чем-то возбужденного человека. Он угрожающе размахивает зонтом и издает угрюмые, неразборчивые восклицания, адресованные, судя по всему, вам. Не обращайте внимания, не предпринимайте по этому поводу ничего, и он пролетит мимо, не потревожив вас даже легкой воздушной волной. Но благодаря некоторому стечению обстоятельств – чужому городу, позднему времени, соседству дорогого существа, а также тому, что все это вам снится, вы рискуете быть чуть умнее, чем следовало бы. В последний момент вы решаете обороняться, подставляете трость под воинственный зонт, они скрещиваются – и вы мгновенно лишаетесь спутницы, оказываясь где угодно, только не в Париже, только не на этом свете.
Как распознать в этом растрепанном, носящем котелок и длинное черное пальто субъекте с зонтиком притвору и пoсланца ниоткуда? Никак. В другой раз им окажется трогательное дитя, спасая которое от погони, вы устремитесь к лифту в роскошном отеле, и он увезет вас вместе с хохочущим ребенком вбок, все в ту же безвыходную галерею, где вы станете петлять до головокружения, теряя надежду когда-либо выбраться.
Спасение на самом деле есть: подставить будь готов другую щеку, удар зонтом по левой получив. А защищая малых сих, не строй и в сновиденьях из себя ковбоя. Но до таких смирения вершин едва ли мы растянем свой аршин.
XI
В полутемной, освещенной единственным факелом огромной спальне он не сразу разглядел фигуру матери, сидевшей в кресле спиной к дверям, и нетерпеливо окликнул ее, еще не увидав.
Певучий голос Гертруды прозвучал как неожиданное напоминание о тишине, о вечных правилах гармонии, котoрые не следовало бы нарушать визгливым воем расстроенной человеческой души.
- Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет?
- Зачем отца вы оскорбили, мать? - отвечал он тяжелыми, как кованные сундуки в подвалах замка, словами.
Из-за высокой спинки кресла показалась рука, плавно манившая его приблизиться. Голос Гертруды был по-прежнему полон терпения и покоя.
- Ты говоришь со мною, как невежа.
- Вы спрашиваете, как лицемер.
Спора тут не было. Две изначальные природы мироздания – вечная, в самой себе заключающая весь мир с его чудачествами и грехом загадка жизни и неистребимая, самоотверженная воля к справедливости – заявляли о своих правах с полнoтой и весомостью исключающих примирение, последних истин.
Теперь стали видны обе руки, раскинувшиеся в стороны в немом отказе постигать столь глубокий разлад. Руки соединились высоко вверху, сжались их переплетенные пальцы в волшебном усилии преодолеть раскол во вселенной, и, медленно опустившись, они скрылись.
- Что… это... значит… Гамлет? - вопрос был обращен не только к нему, да и ответить на это скорбное недоумение было бы не по силам человеку.
Гамлет сбросил оцепенение, быстро подошел к матери и, став так, чтобы видеть ее лицо, крикнул:
- Что вам надо!?
Мгновенно поднявшись, Гертруда закрыла ему рот ладонью, затем отвела его в сторону, еще дальше от спрятавшегося соглядатая, повернула к себе и долго всматривалась в его лицо.
- Ты помнишь, кто я? - прошептала она наконец.
Гамлет отступил на шаг и продолжал громко, не обращая внимания на руки матери, призывавшие его остановиться.
- Помню, вот вам крест. Вы – королева. В браке с братом мужа. И, к моему прискорбью, мать моя.
Гертруда, не отрывая взгляда от сына, сокрушенно кивала головой, соглашаясь с его правом гневаться и не считаться с обстоятельствами.
Вдруг властным жестом она заставила его замолчать и, не пытаясь более спасти беседу, пошла к дверям, внятно выговаривая:
- Так пусть с тобой поговорят другие.
- Ни с места! - раздался ей вслед громкий, отчаянный шепот, - Сядьте. Я вас не пущу. И зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь, - Гамлет уже вытаскивал ее кресло на середину комнаты, открывая стоявший за ним столик с большим трехстворчатым зеркалом.
- Что ты задумал... - Гертруда возвращалась, еще не зная, как избежать этого разговора, невозможного здесь и сейчас, и вдруг, уже усевшись и поймав руку сына, стоявшего рядом за спинкой кресла, произнесла, повышая голос с каждым словом:
- Он меня заколет! Не подходи! Спасите!
Зашевелился висячий ковер, и оттуда раздалось восклицание Полония, пытавшегося поскорее выбраться из-за широкой, тяжелой ткани. Гамлет подбежал к ковру и несколько секунд наблюдал за перемещением невидимого тела.
- Ах так... Тут крысы...
Затем он левым предплечьем прижал суетившегося за ковром старика на уровне его шеи, ударил в замершее, по-прежнему невидимое тело кинжалом и тут же выдернул его.
- На пари – готово.
Застыла Гертруда, бросившаяся за сыном и не успевшая его удержать. Старик грузно свалился, обрывая со стены ковёр.
- Что ты наделал! - гневно вскрикнула Гертруда, еще пытаясь усилием воли вернуть события назад.
- Разве там стоял король? - спрашивал Гамлет сам себя, не решаясь отвёрнуть ткань и посмотреть на жертву.
- Какой кровавый и шальной поступок! - продолжала Гертруда, как будто Гамлет пока только угрожал убийством, а она запрещала ему это преступление совершить.
- Не больше, чем убийство короля, - бормотал Гамлет, не отводя взгляда от бугра на полу, - и обрученья с деверем, миледи.
Застигнутая врасплох, не очень понимая, о каком короле идет речь, но уже смутно догадываясь, что прямо у ее ног, отгораживая ее от всего остального мира, вырастает холодная и вечная стена, Гертруда повторила без выражения, как эхо:
- Убийство короля?..
Дальнейшее происходило одновременно.
- Да, леди, да, - Гамлет вытащил из-под трупа край ковра и откинул его, открывав Полония. Опустился на колени. Сел, опираясь на руку и закрывая другой лицо.
А Гертруда потеряла вдруг интерес к случившемуся. Прoтивоестественно медленно она вернулась к креслу и сёла, выпрямившись, готовясь выслушать то, что возможно будет означать конец ее существования. На лице ее можно было читать стремительно менявшиеся воспоминания о каких-то подробностях, ранее не имевших для нее значения и не привлекавших внимания…
Мне не суждено всё это видеть. Я так завидую зрителю, которому доступно будет сияние красоты и величия этой женщины. Я могу только догадываться, как навстречу ей из зрительного зала устремятся пробуждённые души, вопрошая: скажи, божественная, что нам сделать? Как помочь? – пока меня будет бить неодолимая дрожь от сознания, что я только что убил отца единственно дорогого мне на свете существа, что все дело во внутренней осанке, что если это не скрюченная, атакующая поза боксера и не текучая, отсутствующая пластика бездельника, прямой позвоночник и чуть заметно закинутая голова помогут разглядеть, что ведя борьбу со злом – даже когда это простое сопротивление природы твоим созидательным попыткам – ты борешься с самим собой. Если уничтожая явное зло, ты не умеешь увидеть, как таинственными, загадочными путями зло истекает из тебя самого и отливается в те самые разнообразные внешние формы, котoрые подлежат разрушению, ты готовишь себе несравненно большую беду. Ибо зло учится на твоих ошибках. Не разгадав этот мучительный процесс и не обнаружив в себе этот черный источник, ты можешь однажды героическим усилием очистить землю от всех известных к сему моменту проявлений тьмы – и окажешься отброшенным далеко назад, так как не готов будешь распознавать ее новые грозные формы, которыми тебя обманет изощренная, соперничающая с творением сила. Затем и необходимо в мире очевидное зло, чтобы напоминать человеку о заложенных в нем самом возможностях, пока он не научится этой силой управлять и обращать ее на пользу творению.
Играть еще не захотелось по-настоящему, но стало интересно, чем все это может кончиться. Остальные, спустившись в зал, долго шумели, а Акмос приглядывался к ним, не разделяя веселья.
Наконец попрятали свое возбуждение, и наступила тишина.
- Чему вы так радуетесь? - спросил Акмос с искренним любопытством.
- Кончайте, Антон Василич, - отозвался Алик Вайсфельда - Разве плохо прогон прошел?
- В том смысле, что ошибок мало? - переспросил Акмос.
- Нет, не только. Настроение у всех хорошее было, захотелось сыграть, все завелись.
Акмос ждал.
- Зря вы, Антон Василич, - не сдавался Алик, - Конечно надо еще всякие похоронные дела продумать, но ясно, что в воплощении драматургии Шекспира сказано новое слово. Бранное, непечатное.
Рассмешить Акмоса ему удалось.
- Вы – хорошие актеры. Я рад, что мы вместе работаем. Хорошо, что играть хотите. Плохо, что только хотите. Надо еще бояться. Бояться и хотеть.
- Чего бояться, если это моя профессия? - сказал Лева-большой, - Если я в ней преуспел и знаю, что делаю?
- Да, да... Неопалимую купину мы тоже теперь видим раз в неделю. Вот когда Демон подходит к замку Тамары – как трава вокруг к земле прижимается, надо бы еще посмотреть. Лермонтов видел. Знаете, я о чем подумал? Эти страдания, смысл человеческих страданий, необъяснимых, не связанных с наказанием, со справедливостью, все эти достоевские детишки, запертые в сортирах, загрызенные собаками и так далее... Мы ведь долго на этом не застреваем, прыгаем сразу ко второй благополучной части, к награде за муки. А ведь эта спасительная идея ничего не стоит без первой половины, когда не хочется ничего этого до обморока, до холодного пота, когда всемогущему Сыну Божьему стало до того страшно, что он помощи попросил, думал, что не выдержит, отмочит какое-нибудь чудо в последний момент, один не справится. Не знал. Просил каких-то убогих, ничего не понимавших. Вот вся идея – пройти через эти несколько часов, каждой жилкой почувствовать, что ждет непереносимое, каждой жилкой попросить, чтобы отменили и только после согласиться на пытку. Я сразу могу сказать – это труднее, чем увлечься тупой идеей о самоуничтожении и даже осуществить ее. То есть, это можно сделать, и наверно найдутся люди, которые вам посочувствуют, но самих себя обманывать не стоит, с самого начала понятно: я делаю это, понимая, что могу совершить гораздо большее, и от этого большего сознательно отказываюсь. Вы только не поворачивайте так, что, мол, режиссер Акмос чего-то от вас требует. Я завидую вам, потому что мне это не дано.
- Да мы к такому не готовы еще, - миролюбиво возразил Алик.
- Цинизма не люблю. Никогда его не понимал. К этому никто не готов. Вы – чуть ближе других, потому что шестьдесят дней сосредоточенно себя к этому готовили.
- Да вы уж о какой-то святости говорите, - пробормотал глубоко задумавшийся Лева-маленький, - Церковь-то вон всю жизнь лицедеев гнала.
- Из зависти, может быть, или ревности. Не к людям, конечно. А то, и из ханжества. Я вам сегодня не буду ничего говорить. Завтра у нас еще один прогон, завтра скажу. Помните, что история очень короткая – пять дней и между ними два антракта.
Я остался послушать, как Акмос будет разговаривать с телевизионщиками, которым он не разрешил снимать репетицию, но согласился дать интервью.
- Почему сейчас, в период бурных общественных преобразований, у вас возникла идея поставить «Гамлета»?
- Ваш вопрос как бы подталкивает к определенному направлению мысли, которое мне чуждо. Как возникает идея той или иной постановки? Я затрудняюсь сказать. В этом процессе участвует слишком много обстоятельств, в самых разных планах человеческого существования. Ну, можно наверно так сказать: каждый период в жизни открывает глаза на все новые и новые стороны бытия. В каждый такой момент те или иные произведения становятся созвучны, служат почти непреодолимым стимулом к собственному творчеству. Год назад это могла быть современная отечественная пьеса, сейчас это «Гамлет», в будущем году таким толчком, возможно, окажется западная современная пьеса. Что же касается настоящей ситуации в стране – вероятно, она сыграла какую-то роль в наступлении этого нового этапа в моей жизни, но непосредственной связи между ней и постановкой нет. И если говорить о соотношении, о том, как одно на другом отражается, мне интереснее было 6ы посмотреть, насколько действительность сумеет осознать свою связь с постановкой. У обеих в этом отношении примерно равные права и обязанности.
- А имеют ли события, происходящие в пьесе или, вернее, в спектакле, какое-то отношение к жизни людей сегодня?
- Безусловно.
- Какое?
- Прямое.
- Ваше особое решение, ваши личные мысли, воплощенные в спектакле, будут воздействовать на зрителей, будут их чему-то учить. Разве это не является вашей целью?
- О нет, нет, это все очень далеко от того, что мне представляется, как моя задача. Если людям вообще что-то может помочь со стороны, то это опыт, в данном случае – мой внутренний опыт, к которому вырабатывается определенное отношение. Человек может принять этот опыт, усвоить его или отвергнуть, но прежде чем зто сделать, ему придется поработать над ним, испытать его. Такова, на мой взгляд, проникающая способность искусства. А тогда, независимо от исхода, это становится уже личным опытом зрителя или читателя. Вот и все. Само по себе это такое невероятное дело!.. Открывать истины – одна работа, передавать их – другая. Учить – это совсем особое занятие.
- Вы религиозны?
- Нет.
- Я слышал сейчас в вашем разговоре с актерами, как вы приводили и пример Евангелие.
- Ну, это не надо понимать буквально. Нам иногда надо договариваться об особых профессиональных вещах, для которых нужен свой язык, тут вы можете услышать что угодно.
- Немножко странно слышать такой определенно отрицательный ответ именно сейчас, когда в стране невероятно возрос интерес к проблемам религии, когда кажется, что взрывы политической, национальной и прочей розни требуют, чтобы мы возвратились к таким исходным требованиям нравственности, как любовь к ближнему.
- Вам все-таки хочется, чтобы я прислушивался к колебаниям чьих-то интересов. Ну хорошо, я приведу вам пример, как иногда трудны бывают очевидные вещи. Требование, о котором вы упомянули, в христианстве выражено так: люби ближнего, как самого себя. А я себя не люблю. Есть стремление себя поберечь, но это – биологический инстинкт, который я тоже не люблю. И уж никак не назову его любовью.
* * *
Две маленькие зеленоватые курвочки, размером со скворца увязались за мной прямо от самой воронки на шоссе, где я глазел вместе с толпой на перевернутые машины и спасательные работы. Они различались характером – одна была поживее и подобрее, другая –– посуше и построже, но семеня за мной на небольшом расстоянии, они шушукались и посмеивались, как подружки-школьницы. В обстановке общей подозрительности, опутавшей нас с тех пор, как возможны стали все эти взрывы и крушения, было несомненно, что с помощью курвочек за мной установлен надзор. Может быть, я и убежал бы от них своими большими шагами, но это казалось унизительным, а кроме того их противоестественные размеры позволяли предполагать, что им свойственны и еще какие-нибудь преимущества. Входя в свой подъезд, я увидел носильщиков, спускавших вниз огромный шкаф, и успел в самом низу лестницы протиснуться между ними и стеной, уже понимая, что шибздиляечкам придется дожидаться на улице, пока шкаф не вынесут. Обрушив на ступени еще какой-то хлам, стоявший в углу, я бросился вверх по лестнице. После небольшой заминки с ключом, уже слыша злобный визг догонявших теточек, я вошел в квартиру и захлопнул дверь. Их первые же удары выщепили из двери доску. Я понял, что мои догадки об их редких способностях верны, и что вероятно мне не избавиться отныне от постоянного присутствия за спиной этих ничтожных, но живых и могучих, одетых по-разному, но с общим зеленым оттенком лярвочек.
* * *
Первой бесшумно опустилась на колени Гертруда и вскоре замерла, облокотившись о стол и склонив голову. Громко стукнувшись коленями об пол, рухнул Лаэрт и пытался удержаться, тяжело опираясь на кинжал. Выдернутый из тела короля клинок потянул его за собой, но ноги уже не слушались, он упал на колени, осел назад и, зажав обеими руками рану, покачивался взад и вперед, будто кланяясь. Все фигуры составляли прямой, суживающийся коридор в строгой перспективе которого то ли видны были, то ли угадывались коленопреклоненные Розенкранц и Гильденстерн со связанными за спиной руками, прямой и неподвижный Полоний, закинувшая руки за голову, едва колеблемая из стороны в сторону Офелия. На этом, ведущем в никуда пути, впереди справа оставалось место и для Гамлета, но он все бродил от одного к другому, улаживая свои последние на земле дела. Но вот подломились ноги и у меня. Поддерживаемый Горацио, я пришел на уготовленный мне клочок пространства и затих. Ну что же, со всей верой в бессмертие души и благополучие потустороннего мира, давай все-таки взглянем на смерть. Как это он неосторожно обмолвился, что нету там соседей по палате,
по этажу, и жалоб не берут!
А на земле я жалуюсь кому?
Я, редкое земное существо,
Столь многое создать и совершить
Способное – кому в последней муке,
В отчаяньи своем, в кромешной тьме,
Где жизнь с ослиным, бешеным упорством
Плетется без разбора, как попало,
Как ей не следует, и нет надежды,
Что образумится – куда я шлю
Без слов, в слезах прошения свои?
Туда, за духом зримые пределы
Творения, чья твердость столь весома,
Что и сомнений тут не может быть
В присутствии ее бесплотной пары.
Пока я здесь, как утешает мысль
О несравненном и непостижимом
Там! Утешенью этому послушный,
Готов я выносить судьбу земную,
Как ни было бы мне нехорошо,
Пока я здесь... Но если отболев
И отыграв, я наконец покину
Существованье твердое навек.
И станет мне опять невыносимо –
Там?..
Впервые за всю эту историю издалека зазвучал глухой, разбавленный ветром голос флейты. Шел занавес, на полуслове прикрывая деловые команды Фортинбраса и свидетельские обещания Горацио.
XII
По поведению немногих приглашенных, сидевших на последних прогонах, можно было понять, какие огромные возможности уже хранились в постановке. Дальше, пожалуй, и невозможно было что-то еще уточнять или переделывать без встречи с полным залом. Закрытая работа кончилась. Проснувшись накануне премьеры и услышав, как кто-то внизу заводил автомобиль, я с некоторым страхом осознал вдруг, что уже очень давно, вероятно с самого начала репетиций не обращал никакого внимания на повседневную жизнь вокруг. Она тащила меня в концерты и в гости, валила на асфальт и била ногами по лицу и ребрам, демонстрировала шумы разбитых бутылок и затылков и самые разнообразные запахи, но ни один ее жест не мог завести тот механизм в мозгу, который перерабатывает реакции органов чувств во впечатления, и я не смог бы связно рассказать ни о чем, происшедшем со мной за эти два месяца. Какое-то время меня развлекали сны, но в последние дни и они прекратились.
Напрягаясь, я вспомнил, что где-то в стране произошли кровавые схватки и людей поубивали, опять прокатились по городу гневные демонстрации, что-то новое и крайне неудобное придумали с деньгами, а за рубежом началась еще одна война. Наверно существовала и какая-то связь между всем этим и моими трудами, но мне она была неизвестна. Я несомненно продолжал бы заниматься своим делом и вовсе не стремился бы разобраться в обгоняющих друг друга событиях внешнего мира, но дело мое кончалось. Сыграв сколько-то там десятков спектаклей – а рассчитывать на большее по теперешним временам не приходилось – я вынужден был бы продолжить знакомый прежний путь, на хорошо обмятых рытвинах и буграх которого мои деяния последнего времени выглядели агонией.
От Акмоса не поступало даже намеков на дальнейшее сотрудничество. Его уговор с театром насчет следующей постановки по каким-то причинам, как я слышал, разладился. Придет день, и мы будем видеться с ним все реже, а новая работа – это единственное, что могло бы слегка изменить судьбу. Но не просить же его в самом деле. Хотя, почему бы не наплевать на самолюбие и, если не просить, то хоть узнать в общих чертах, каковы его планы. Но ведь я знал, что он скажет.
Он скажет, что никаких планов нет, что, вероятно, поедет куда-нибудь в провинцию, и спросит, улыбаясь: а вы разве поехали бы со мной? Потом пожалуется, что нет у него знакoмого Саввы Морозова. А впрочем, добавит он, даже если б и появился, то ненадолго, все они смертники, это новые Саввы. Может, лет через пятьдесят они наберут силу, а еще через пятьдесят настолько обживутся, что вспомнят о нас, но нас уже не будет.
Я eгo спрошу: а что же делать нам? Ждать, ответит он, побалуемся еще, пока силы есть. Напомнит о Гротовском, который оставил театр, считая, по-видимому, что важнее готовить или, вернее, сберегать среду, основу театрального чуда. Неважно, сколько сыграно или поставлено, скажет он, сколько было, столько и должно было быть, зато все – в каратах. «Нам не дано предугадать...» Вот в вас двоих жива эта тревога, эта любовь, она вам подскажет – где, когда вы сможете что-то сделать. Остальное – обман, притворство общедоступного театра. И уходить из негo или не уходить – абсолютно неважно, ни то, ни другое не приблизит вас к исполнению желаний. И делать то или другoе надо не из творческих соображений, а из нравственных. Хотите уйти – идите, это не поражение и не побег, можете остаться – останьтесь, это не подвиг и не жертва. Потому что театра нет. Театр – это вы.
Есть много более предпочтительных искусств, будет говoрить Акмос, формулируя мои собственные мысли так, как никогда не удавалось мне самому, и если подумать – все благополучнее театра, потому что рассчитаны на читателя в потомстве. Идя в театр, вы рискуете проиграть, оказавшись в исторически разреженном художественном пространстве. Навязать свое тревожное искусство современнику вам не удастся, если он не расположен тревожиться, будь то по причине душевной анемии и враждебной разобщенности, как у нас, будь то из-за угнетающего житейского благополучия и снобизма, как на Западе. И если вы не хотите ждать, пробавляясь его развлекательными функциями, уход из театра будет просто трезвым поступком, подтверждением веры, верностью собственным представлениям об истине.
Но не похоже ли это на какой-то идеализм, фанатическое пренебрежение реальностью, возражу я. Очень похоже, ответит он. Когда людей в течение достаточно долгого времени заставляют часто менять убеждения на уровне общенациональной доктрины с помощью всех средств принуждения, так что изменить взгляды на противоположные уже не кажется ни странным, ни тем более святотатственным, обыкнoвенные твердые убеждения выглядят необъяснимым упрямством, фанатизмом. Это не значит, что убеждения нельзя менять вообще, но основополагающие взгляды следует менять с величайшей осторожностью. А пожалуй, тут лучше даже творить не о перемене, а об отказе или согласии. Это очень личные переживания, и уже только поэтому они челoвечны. Одно связано с разочарованием и горем, другое – с обретением и радостью, но в любом случае это никогда не может быть связано с пользой. Тут нет прямой зависимости, только совпадения.
Но что же такое был театр Порецкого, спрошу я.
Как что? Вот это самое и было. Стечение ненадолго мнoжества благотворных обстоятельств. Примерно в это же время были ведь еще два успешных театра, о них вы не спрашиваете?
Нет, соглашусь я, я знаю, что это не был настоящий театр, я понимал это даже тогда. В один из них меня приглашали, но я пошел на Малую Дмитровку, театр был там.
Конечно, подтвердит Акмос, и, может быть, два или три спектакля в Ленинграде. И это все.
Вы не боитесь так со мной говорить перед премьерой, спрошу я и услышу в ответ: вы же мужчина. В данный мoмент мы с вами опять оказались в средоточии каких-то сил. А что это ненадолго... Самое лучшее самочувствие для игры – холодная ярость. Вы должны, наверно, испытывать что-то подобное. И не сомневайтесь – кто-нибудь это запомнит.
Я смотрю на спящую гостью, красивое имя которой я поспешил упростить, назвав ее Катей. Я припоминаю неряшливую пьяную землячку, раздражавшую весь битком набитый троллейбус. Она не отвечала грубостью на злые замечания сограждан, ничто не могло испортить ее легкого веселья. «Испугалась... Прижалась... Упала... Стою», - эпически делилась она опытом и тут же запевала тоненьким голоском:
«Нельзя над де-е-евушкой смеяться, нельзя над де-е-евушкой шутить – Господь неви-и-идимо накажет, заставит по-о миру ходить».
Какие же они меньшинства? Они, я замечал, все собираются кучками, беседуют о чем-то неспеша, а то и ничего не говорят. Другие устроят посиделки на траве где-нибудь в сторонке, попьют слабоro вина, поедят сыру, травки и – гур-гур-гур – все о чем-то своем гудят. Может быть, о вполне невинных вещах, о погоде, о работе, но вот само это непрерывное приятельское гудение в сторонке – оно им нациoнальный дух сохранило, единство. Как-то они ухитрились выдержать эту советскую напасть и, не задираясь, не огрызаясь, уберечь тот необходимый каждому народу зов предков, нетронутые семена национальной культуры. И лишь дрогнула, ослабла железная хватка режима – вдруг оказалось, что они на много десятилетий нас обогнали, завтра готовы начать новую жизнь. А мы, с нашей истерикой по поводу Георгия Победоносца, с лживой церковью, с отвычкой от земли, да и вообще от труда, с ничем не обеспеченным имперским сознанием, не только не готовы ничего начать, но первым делом их спешим лупить по головам, загнать обратно в нашу общую лужу…
Не слушайте сказок о том, что по ночам, по прочным, занозистым доскам сцены бродят тени умерших актеров. Вот уж кто умер, так умер. Умирали ежевечерне, после краткой – короче, чем у бабочек – трехчасовой жизни. Я не о чепухе говорю, вроде сыгранной смерти. Они были этим персонажем в течение трех часов, а потом он внезапно переставал быть, и какая-то часть актера вместе с ним. И к своему физическому концу они так истончились, что ушли мгновенно, незаметно и окончательно.
Ночью пустует множество зданий – магазины, склады, бесчисленные учреждения, дворцы бракосочетаний, дома бытового обслуживания, новостройки (которые, впрочем, может быть, и не стоит еще считать полноценными зданиями), музеи, суды, даже церкви. Но такой пустоты, как в ночном театре, вы не найдете нигде.
Все остальные дома и в пустоте своей хранят нечто полезное. Здесь нет полезного ничего – хлам. Когда вы освоитесь с тишиной и полутьмой от единственной экономной голой лампочки, я не удивлюсь, если вам покажется, что по пути сюда вы неосторожно качнулись в какую-то прореху в прoстранстве и попали все-таки в это проклятое лишнее измерение. По всем доступным для различения признакам, ничто в этом просторном и зловеще пустом пространстве не связано с тем миром, который вам, как вы полагаете, знаком.
И незачем к пустому залу возвращаться актерским теням, даже если б у них оставались какие-то силы, они это знают лучше всех.
Побудьте, побудьте здесь, послушайте эту необычную глухую тишь. В протесте жизнелюбия своего вы, может быть, решитесь наконец сказать, что и никогда коробку эту театром не считали, а что театр для вас начинается там, где есть живые актеры. Ну – вот и они, каждый вечер в двух десятках мест хлопочут чего-то. Вы, может быть, что-то другое подразумеваете, их редкое загадочное поведение? Игру?
Господь с вами! Знаете ли вы что такое Игра?
...Я забыл, что мне нужно было купить в этом гастрономе старого образца, с опилками и слякотью на полу и с душным запахом бакалеи. Я все на свете позабыл, когда у меня на ладони оказалась эта крошечная телочка. Она не выказывала испуга, только перебирала мизерными ножками, щекоча остренькими копытцами кожу.
- - - - -