Книга: Ночь с Ангелом
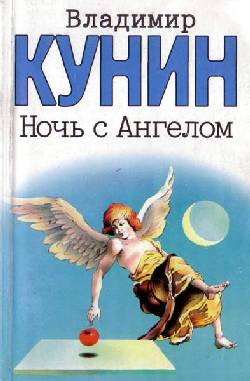
Ночь с Ангелом
Под лежачий камень вода не течет, — строго сказал я сам себе.
Сколько раз в своей долгой и путаной жизни говорил я это себе — любимому?!!
И хотя после столь решительных и привычных заклинаний я все равно обычно продолжал изображать «лежачий камень», под который ну никак не могла просочиться свежая вода, на этот раз я с великим трудом превозмог свою замшелую лень и предпринял целый ряд изнурительных административно-деловых трепыханий.
За восемь лет сотрудничества с одним петербургским издателем, бывшим приятелем и в недалеком прошлом хорошим сценаристом, наши с ним отношения «Писатель — Издатель», как и следовало ожидать, приобрели несколько напряженный характер. Ну, как у Суворина или Сытина со всеми теми, кого они издавали когда-то, а мы теперь заслуженно считаем их русскими классиками. Подозреваю, что у Бальзака с его издателями тоже были свои французские заморочки.
Заметили, как легко и непринужденно я втиснул себя в ряд столпов отечественной и зарубежной литературы? Оправданием мне может служить только то, что я имел в виду не сравнительный анализ наших текстов, а всего лишь извечное несовершенство таких, казалось бы, родственных субстанций, как «Писатель» и «Издатель».
Поэтому свою последнюю повестушку я решил попытаться продать в Москве, дабы мстительно доказать своему бывшему корешу и собутыльнику, что «не единым издательством жив Человек Сочиняющий»…
Вояж я набросал себе такой: так как последние лет десять я в основном живу в Мюнхене, то должен буду прилететь из Мюнхена в Москву, проболтаться там дня три-четыре, поужинать со старыми мосфильмовскими приятелями в некогда родном ресторане Дома кино, отдать какому-нибудь московскому издателю свою рукопись на прочтив и, пока он, издатель, влажными от умиления глазами будет вчитываться в сочиненные мною строки и прикидывать, как меня напарить с гонораром так, чтобы не отпугнуть и не обидеть, на недельку смотаюсь в Петербург.
Там повидаю внучку Катю, поваляюсь на своей старой тахте перед телевизором в абсолютно собственной, а не съемной, как в Мюнхене, квартире; отправлю в Германию на свое же имя по почте десятка три-четыре книжек из наполовину оставленной дома библиотеки; оплачу очередной институтский семестр внучки и на денек загляну в Репино — в Дом творчества Союза кинематографистов.
Когда-то я там прожил двадцать шесть лет. В среднем от четырех до шести месяцев в году. Сочинил там два с половиной десятка киносценариев, несколько книжек и одну пьесу.
Жанр драматургии был мне категорически и таинственно неизвестен, и я долго и тупо отказывался от очень лестного предложения одного знаменитого театрального режиссера. Пока мой близкий друг поэт — поразительно талантливый и мужественный гражданин без одной ноги и с единственной почкой, но зато с постоянно фантастическим количеством водки внутри — не сказал мне, разливая остатки «Столичной» по двум стаканам:
— Вовик, писать пьесы до удивления просто: слева — кто говорит, справа — что говорит. Пиши пьесу и… Будь здоров!
Вот я и накатал ту единственную в своей жизни пьесу…
Встречаться со своим петербургским издателем я и не собирался. Он так долго и так мелочно обманывал меня, а я так долго и тоскливо делал вид, будто верю ему, что он совершенно справедливо перестал даже скрывать свое презрительное отношение ко мне как к «заграничному» недоумку, который сочинить еще что-то может, а вот врубиться в тончайшие нюансы истинно «Деловой Жизни Сегодняшней России» ну нипочем не в состоянии!
Так что в Петербурге мне нужно было только лишь повидать внучку Катю и пошляться по Репино. А все остальное — отправка книг в Мюнхен, ностальгическое лежание на старой продавленной тахте и созерцание всех программ русского телевидения, где дикторы и ведущие изъясняются если не всегда грамотно, зато исключительно на родном, великом и могучем, — это я себе все сам напридумывал. Главным питерским манком были для меня Катя и Репино…
Я позвонил из Мюнхена в Москву своему старому товарищу, в прошлом одному из лучших кинопереводчиков-синхронистов в России (ныне — человеку деловому, главе какого-то бизнеса), и попросил его заказать мне номер в «Пекине». Площадь Маяковского, пуп Москвы, четыреста метров до ресторана Дома кино — ну что может быть лучше?!
Он же, мой дружок бывший переводчик, меня и в Шереметьево встретил. В самую что ни есть полночь. Привез меня на Маяковку в «Пекин», помог там определиться, обменять мою негустую валюту на твердые российские рубли и уехал домой — благо был уже третий час ночи.
А утром позвонил и продиктовал несколько телефонов одного издателя, который, оказывается, прекрасно знает меня по моим старым книжкам и сценариям и ждет моего звонка, как свидания с любимой девушкой, долго не дававшей ему согласия на эту встречу.
Это были его слова.
А еще он добавил, что если я напрягу свою ослабленную Западом и возрастом память, то ясно представлю, чем обычно заканчиваются такие страстные и долгожданные свидания.
— То, что он тебя употребит, — тут никаких сомнений. У нас сейчас без этого — ни-ни! — сказал мне друг по телефону. — Но пока это лучшее, что мне удалось разыскать для тебя. Ты же веди себя как та девица из старого анекдота — расслабься и постарайся получить от процесса употребления максимум удовольствия. Я имею в виду бабки. Только вперед и только из рук в руки: он тебе «капусту» — ты ему свою нетленку. Потому что в Москве сейчас так: сегодня он есть, а завтра его уже нету! И пожалуйста, постарайся в первую встречу с ним много не пить. Держись на контроле. Понял?
— Понял, — ответил я ему и стал названивать издателю.
… С каждой последующей рюмкой замечательной водки «Русский стандарт» новый московский издатель нравился мне все больше и больше!
Еще в «Пекине», куда за мной приехали на роскошном «кадиллаке» с охраной, мне был буквально втиснут в руки такой добротный и солидный аванс, который мгновенно и магически стер какие бы то ни было воспоминания о моих многолетних унизительных отношениях с петербургскими издателями.
Спустя три дня этот же симпатяга издатель вез меня на Ленинградский вокзал к «Стреле». Я сидел в огромном и мягком «кадиллаке» и вспоминал вчерашний набег на ресторан Дома кино. Когда-то, в прошлые годы, по выражению моего давнего дружка-приятеля директора этого ресторана, я оставил в нем «потиражные» минимум от десяти фильмов, снятых по моим сценариям. А это по старосоветскому пересчету — штук пятнадцать «Жигулей» самых разных моделей.
Но вот вчера, только переступив порог столь близкого мне заведения, я вдруг неожиданно почувствовал себя персонажем из рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром». Помните, там человек покупает путевку в чудовищно далекое прошлое юрского периода для охоты на динозавров. Основное условие устроителей такого путешествия на Машине Времени — не сходить со специальной тропы, дабы не примять травинки, не раздавить ненароком жучка. Не нарушить последующей Естественной Эволюции Мира. А он, бедняга, нечаянно оступается, и под его охотничьим ботинком погибает маленькая красивая бабочка…
Когда же Машина Времени возвращает его из мезозойской эры в сегодняшний Нью-Йорк, он с ужасом замечает, что за эти промелькнувшие шестьдесят миллионов лет Мир слегка странно и чуточку недобро изменился. Во всем. В каждом своем проявлении: от полуграмотной орфографии до, казалось бы, уже решенных Президентских выборов! Все немного, но весьма ощутимо сдвинулось со своих нравственных и физических мест. И виноват в этом был он.
И его убивают за это…
Вот и я вчера вдруг почувствовал, что вернулся в искаженный Мир… Будто где-то я соскользнул с ограничительной тропки и случайно раздавил какого-то мотылька. А с ним погибла и целая линия Естественной Эволюции.
Необратимость изменений была столь очевидной, что, когда в ресторане ко мне подошел громадный толстый человек, я с ужасом и величайшим трудом узнал в нем некогда худенького и стройного провинциального паренька, много лет назад приехавшего в Москву покорять столицу довольно посредственными эстрадными репризами и хохмочками. И ведь покорил, сукин кот!
Я был просто потрясен, когда он ласково прижал меня к своему необъятному животу, нежно расцеловал и тихо спросил:
— Ну, как поживаешь, предатель родины?
Я с трудом отодвинулся от этого гигантского пресс-папье в дорогом костюме и не нашелся что ответить.
Наверное, я всего лишь сочинитель. Я даже представил себе, что мог бы сказать какой-нибудь герой моей повести или рассказа в ответ на такую шуточку. Думаю, что если бы он не шарахнул пошляка бутылкой по его рано полысевшей башке, то скорее всего холодно и презрительно напомнил бы этому разжиревшему халамендрику, что за Эту Родину он шестнадцатилетним мальчишкой уже воевал с лета сорок третьего, а потом полгода валялся по медсанбатам и госпиталям… И дослуживал до пятьдесят второго, летая на самых строгих военных самолетах… Он, этот киевский пошлячок, еще и на свет не родился, когда я…
Впрочем, все так мог бы сказать мой герой, которого я выдумал бы, пришпилив ему кусочки собственной жизнишки — такой путаной и разнообразной, что ему, этому засранцу при кинематографе, и не снилось.
Вот что мог бы сказать мой герой! Но не я…
Скорее всего я очень постарел и теперь вынужден передоверять защиту собственной чести и всего, что мне дорого, — своим героям. Мною же придуманным персонажам. И когда они совершают то, что еще двадцать лет назад я с наслаждением сделал бы сам, я успокаиваюсь.
… Мы тепло и по-дружески распрощались с моим будущим издателем у вагона, и я пообещал ему, что вернусь в Москву дня через три-четыре, чтобы улететь в свой последний «Дом творчества» — в Мюнхен. Билет на самолет был «Мюнхен — Москва — Мюнхен».
— Отлично, — сказал мне издатель. — А мы за это время подумаем — не издать ли нам все, что у вас было написано раньше? Томика на четыре наберется?
— Со сценариями — запросто, — ответил я. — И на шесть наберется.
— Вот и ладненько, — сказал издатель. — А вы за это время прикиньте, что бы вы сами хотели увидеть в этих томиках… Набросайте на бумажечке и перед выездом из Питера позвоните мне. Мы вас встретим и отвезем в Шереметьево. О’кей?
— Кайн проблем! — рассмеялся я. — В смысле — нет вопросов.
И подумал, что за мои «шестьдесят миллионов лет» не все сдвинулось со своих мест в худшую сторону. Пока что «употреблять» меня никто и не собирался. Наоборот. Не хрена было меня запугивать!
Ах, как давно я не ездил в «Стреле»… Все самолетами, самолетами. И все реже в «прошлое». Все чаще в неведомое. Несколько месяцев тому назад даже на Гавайских островах побывал! Гонолулу, Вайкики, Пёрл-Харбор… Одни названия чего стоят!
Это очень смешно, когда невероятные, фантастические детские мечты и грезы начинают сбываться после семидесяти…
Я отдал билет проводнику, прошел в свое двухместное купе, бросил дорожную сумку на постель и по старинной привычке вышел на перрон — авось встречу кого-нибудь из знакомых. Раньше это был почти беспроигрышный вариант. Раньше, когда я постоянно жил в Ленинграде и мои книжки издавались в Москве, а из моих сценариев на «Мосфильме» делалось кино, мне чуть ли не еженедельно приходилось мотаться из Ленинграда в Москву и обратно.
Но наверное, за последние полтора десятка лет все и впрямь чуточку исказилось и слегка сдвинулось со своих исконно привычных мест.
Вероятно, своими поспешными и грустными перемещениями из одной точки земного шара в другую мы впопыхах невольно на что-то наступаем и нечаянно разрушаем нечто очень важное для нормальной эволюции этого самого мира. Как у Брэдбери.
Не было на перроне ни одного знакомого лица.
Ни московских актеров, едущих сниматься в Ленинград, ни ленинградских — возвращающихся после съемок в Москве домой.
Не увидел я никого из надменно-обиженных питерских литераторов, не узрел раскованно-победительных московских полупровинциальных драматургов, никого из знакомых хроникеров…
Никто не крикнул мне на ходу, как это бывало раньше:
— Привет, старик! Мы в восьмом вагоне. Тронемся — заходи!..
Черт меня возьми… Неужели я тоже где-то второпях придушил невинного мотылька? Но где и когда я мог оступиться и на мгновение сойти с тропы?!
Еще несколько минут я покрутился на перроне, перекинулся с проводником какими-то беспомощными и стертыми словечками о погоде, зачем-то мелочно втиснул, что «у нас в Мюнхене ужасный климат…», и, проклиная себя за эту фразу, которая не произвела на проводника никакого впечатления, вернулся в вагон.
И, не скрою, с большим удивлением обнаружил соседа в своем купе. Удивился я не тому, что у меня вдруг оказался сосед — купе было двухместным, и я не мог не ожидать дополнительного вселения, — а тому (и в этом я мог бы поклясться), что за то время, пока я вяло болтал с проводником, безуспешно и тщетно вглядываясь в перронную суету, в наш вагон никто не входил.
Хотя вполне вероятно, что мой сосед мог сесть в вагон раньше меня. Но тогда — где он был? Туалеты исключены — до отправления поезда они заперты. И вообще мне казалось, что я явился к вагону первым. Во всяком случае, к моему приходу все купе были еще пустыми с распахнутыми дверями. Забавненько…
А может быть, я сам, в своем неукротимом желании увидеть на перроне кого-нибудь из своей прошлой жизни, был недостаточно внимателен и не заметил, как этот высокий и модный паренек вселился в наш вагон.
Было ему лет двадцать пять — двадцать восемь. Слегка вьющиеся длинные светлые волосы почти доставали до широких плеч модного и дорогого пиджака. Он вообще был одет с хорошим вкусом, без карикатурного перебора — всяких там золотых цепей, перстней, крестов, сережек и могендовидов. Все было в меру и очень даже недешево: от мягких итальянских мокасин «Марко» до рубашечки фирмы «Дизель».
Как только я появился в дверях купе, он тут же встал и приветливо поклонился.
— Добрый вечер, — мягким, приглушенным голосом сказал он мне и улыбнулся.
— Здравствуйте, здравствуйте! — весело ответил я ему. — Свято был убежден, что моим соседом окажется какой-нибудь генерал штабного разлива. Когда-то в «Стреле» мне очень везло на таких генералов.
Парень ухмыльнулся и пояснил:
— В настоящий момент Министерством обороны планируется большое генеральское увольнение. И все наши доблестные ребята генералы затаились, чтобы не привлекать к себе внимания и не оказаться в Чечне или списках сокращения высшего командного состава.
— Ах вон оно что… — пробормотал я, с трудом нашаривая в дорожной сумке бутылку «Бифитера». — Интересненько.
— Но если вы того желаете, я могу моментально прошвырнуться по вагонам, отыскать вам генерала и тут же поменяться с ним местами. Чтобы, как говорится, не разрушать ваши давние привычки ездить в купе с генералами.
— Ну уж дудки! — возразил я. — Максимум, что вы можете себе позволить, — это прошвырнуться к проводнику и попросить у него два стакана. Как говорится, «а у нас с собой было…».
И я торжественно водрузил на столик бутылку с джином.
Парень внимательно посмотрел на меня, снова улыбнулся и как-то пугающе грациозно, я бы даже сказал излишне женственно, проскользнул мимо меня в вагонный коридор.
Мне тут же вспомнилась смешная дурацкая фраза из какого-то газетного объявления: «Интим не предлагать!»
О черт! Неужели голубой?! Жаль. Очень жаль. Уж больно хороший образец настоящего мужика — сильные мускулистые руки, могучая шея, большие ладони с широкими запястьями. В нем просто угадывалась поразительная телесная мощь! Вот только эти светленькие вьющиеся волосики, чуть длиннее, чем следовало бы для такого спортивного парня… Да широко расставленные голубые девичьи глаза с детскими длинными ресницами… И голос с удивительно странными модуляциями… Мягкими, обволакивающими… Даже тогда, когда в нем слышались откровенно ироничные интонации.
Я посмотрел на часы. Было ровно одиннадцать пятьдесят пять. Без единого рывка, без малейшего перелязга буферных сцепок опустевший перрон с редкими провожающими и осиротевшими носильщиками тихо поплыл назад к Москве…
И тут же в дверях купе возник мой сосед в модных шмоточках. В одной руке он держал железный подстаканник, знакомый мне еще со времен Народного Комиссариата путей сообщения. В него был вставлен тонкий стакан с горячим чаем. В другой руке парень держал второй стакан, без чая и без подстаканника.
— Как понимаете, ни льда, ни тоника достать не удалось, — сказал он.
Я вопросительно посмотрел на пустой стакан, выразительно перевел взгляд на стакан с чаем и поднял глаза на парня.
— Не пью-с, — ответил парень на мою пантомиму. — Я, с вашего разрешения, чайку. Не возражаете?
— Сейчас вы скажете, что еще и не курите, — убежденно произнес я и налил себе полстакана джина.
— Не курю, — ответил парень и очень по-женски откинул волосы со лба.
«Точно! Голубенький… Такой превосходный образец молодого самца и… педик!.. Ну надо же!»
Парень весело рассмеялся:
— Да нет же. Я совершенно нормальной ориентации. Не пугайтесь.
Для того чтобы прийти в себя, мне пришлось одним глотком махануть все содержимое стакана и тут же налить себе еще столько же. Я перевел дух и ошарашенно уставился на своего соседа:
— Батюшки светы!.. Что творится?! Чтение мыслей на расстоянии?! Это у вас наследственное или благоприобретенное?
— Понятия не имею.
— Вы из цирка?
— Нет.
— Эстрада?
— Ни к тому, ни к другому я не имею никакого отношения.
— О черт… — Я попытался поднести стакан ко рту. Но парень, как мне показалось, поморщился с сожалением и своей огромной лапой удержал мою руку:
— Да погодите вы. Что же вы так глушите джин? Ни бутербродика, ни фруктинки… Ну разве можно так? Сейчас, сейчас…
Он вытащил из-под столика красивый кожаный портфель и достал оттуда неправдоподобно большое и румяное яблоко.
— Закусывайте. Мытое.
Я шлепнул еще полстакана и захрустел яблоком. Как ни странно, именно яблоко, с его удивительным тончайшим ароматом и божественным вкусом, привело меня в себя:
— Тогда вы врач-психиатр. Такой омоложенный и улучшенный вариант Кашпировского. Да?
— Нет.
— Кто же вы, елки-палки, чтоб не сказать хуже?!
Парень задумчиво посмотрел в черное окно, как-то странно пожал плечами, будто и сам не ведал — кто он, негромко проговорил своим дивным голосом:
— Как вам сказать? Я… я в меру своих сил и возможностей охраняю людей.
— То есть вы руководите некой, как теперь говорят, «охранной структурой»?
То, что он «руководитель», у меня не было никаких сомнений. Я просто не мог себе представить этого парня в чьем-то подчинении!
— Как вы сказали? — переспросил парень.
— Я предположил, что вы возглавляете какое-то охранное бюро.
Мой сосед слегка задумался и потом глянул на меня своими девичьими голубыми глазами с длинными ресницами:
— Да, что-то в этом роде…
— Слушайте! — спохватился я. — Я вам совсем заморочил голову. Мы же даже не представились друг другу. Я…
— Вы — Владимир Владимирович, — весело прервал меня парень. — Я только сейчас понял, с кем разговариваю. Я недавно купил одну вашу книжку про говорящего кота, и там на обложке сзади была ваша фотография! Верно?
— Да, — сказал я и плеснул себе еще немного джина в стакан. — А как зовут вас?
— Ангел.
— Как?! — Мне показалось, что я ослышался.
— Ангел, — повторил парень. — В Болгарии очень распространенное имя.
— Так вы — болгарин?
— Нет.
— Ага… — тупо проговорил я и выпил. — А как вас мама называла? Я имею в виду ласкательную форму этого имени.
— У меня нет матери.
— Но ведь была когда-то?
— Наверное. Честно говоря, я не очень хорошо ее помню… Вы закусывайте, Владим Владимыч. — Он пододвинул мне недоеденное яблоко.
— Хорошо, хорошо. — Я снова взялся за яблоко.
Ну не мог я к нему обратиться по имени — Ангел! Язык не поворачивался. Как только я хотел произнести это слово, оно буквально застревало у меня в глотке. Поэтому я продолжал свое хмельное наступление:
— Слушайте! Старики моего возраста — когда за семьдесят — обычно чудовищно бестактны. Особенно — под банкой. Им всегда кажется, будто им в жизни что-то недодано, и поэтому они позволяют себе… Короче, я не являюсь интеллигентным исключением. Как называют вас барышни в минуты близости? Ну, не говорят же они вам «Ангел мой!»… Наверное, существует какая-то уменьшительная форма…
— Да нет, — тихо проговорил Ангел. — Так и говорят.
— Как?!
Ангел смутился и покраснел:
— Ну, как вы сказали… Иногда эти два слова меняются местами — «мой Ангел»… Но вообще-то, Владим Владимыч, я ничейный Ангел. Я уже давным-давно никому не принадлежу. С детства. Так сказать, Ангел — сам по себе. Единица совершенно самостоятельная.
Мне показалось, что двумя последними фразами Ангел мягко и с достоинством вывел меня из того бездарного словесного тупика, в который я сам себя и загнал. И я облегченно налил себе в стакан еще немного джина.
Но выпить не успел. Раздался стук в дверь. Чуточку громче, чем следовало, я прокричал:
— Да, да! Пожалуйста!..
Дверь в купе отворилась, и проводник спросил:
— Еще чайку не желаете?
Сейчас, спустя некоторое время, когда вся эта невероятная история снова встает у меня перед глазами, я отчетливо припоминаю, что, разглядывая этого здоровенного парня с таким забавным именем — Ангел и внутренне хихикая сам над собой, я все время безумно хотел представить себе размах его возможных крыльев. Если бы он в самом деле был Ангелом…
А так как много лет тому назад, в молодости, я неплохо знал такой узкий предмет, как «Теория полета», то, прикинув на глаз массу его тела — килограммов в девяносто, я приблизительно представил себе необходимую «силу тяги» для его веса, предположил наиболее оптимальные «углы атаки» его крыльев и почти безошибочно вообразил вектор «подъемной силы» с учетом возможного «лобового сопротивления». Ну и так далее…
Путем нехитрых прикидок получалось, что размах его «ангельских» несущих плоскостей — в смысле «крыльев» — должен быть от консоли до консоли… Вернее — от правого крайнего перышка левого крыла до последнего пера правого не менее пяти метров!
— Ну что за ерунда, Владим Владимыч?! — помню, сказал мне тогда Ангел, укладываясь в узкую купейную постель. — От силы два, два с половиной метра.
Когда он успел переодеться в какую-то цветастенькую пижаму — я с нетрезвых глаз и не сообразил.
— Вы что мне вкручиваете? — рявкнул я на него. — Это на ваши девяносто килограммов веса?
— На какие «девяносто»? Когда крылья были мне положены по штатному расписанию — во мне было сорок пять… Я был ребенком. Подростком, если хотите. Что-то вроде сегодняшнего пятиклассника. А вы — «пять метров», «пять метров»… В то время мне ими и не взмахнуть было бы.
— Но я же делал расчет на ваш сегодняшний вес, — возразил я ему и в ту же секунду спохватился.
Этот сукин сын опять вслух ответил моим дурацким мыслишкам!
— О, черт вас подери, — простонал я.
— Вот это уже совсем ни к чему, — строго сказал Ангел.
— Не понимайте все буквально и немедленно прекратите демонстрировать мне свои паранормальные фокусы!.. — окрысился я. — Не смейте подглядывать за моими мыслями!
— Да ради всего святого, — досадливо произнес Ангел.
Он сунул руку под стол и достал из своего портфеля очки и свежий номер «Московского комсомольца». Надел очки и сказал, вглядываясь в подборку отдела происшествий на первой странице «МК»:
— Но когда вы начинаете выдумывать обо мне всяческие небылицы, да еще и пытаетесь обосновать их своей примитивной «Теорией полета», которая ко мне не имеет никакого отношения, я просто обязан вмешаться, чтобы элементарно уберечь вас от ваших же заблуждений! В конце концов, это мой профессиональный долг.
— Какой еще «профессиональный долг»?!
— Обыкновенный. Ангельский. Так сказать, долг нормального Ангела-Хранителя.
Только в эту минуту я вдруг неожиданно сообразил своим усталым полупьяным мозгом, что обычный спальный вагон «Красной стрелы», несущийся сквозь тревожную российскую ночь из Москвы в Санкт-Петербург, в замкнутом пространстве небольшого двухместно купе объединил меня — ни во что уже не верующего, постоянно и охранительно настроенного скептически, ну, просто очень пожилого человека, чей возраст в цифрах и выговаривать-то уже противно, — с Настоящим Ангелом-Хранителем в облике молодого, наверное, очень сильного физически, но поразительно мягкого, даже слегка женственного и на удивление совершенно современного и явно неглупого человека.
Именно невероятность ситуации почему-то не допускала ни малейших сомнений в истинности происходящего, а также абсолютно не располагала к каким бы то ни было проявлениям привычно-защитного, слегка циничного скептицизма.
От потрясения мне ничего не оставалось делать, как только немножечко выпить. Прямо из горлышка бутылки. Запил «Бифитер» остывшим чаем и осторожно спросил:
— Слушайте!.. Так вы что… В самом деле? Этот… Ну, как его?.. Ангел?!!
Ангел отложил газету, поднял очки на лоб и посмотрел на меня своими голубыми, широко расставленными глазами. То есть он сделал все то, что сделал бы самый обычный человек, страдающий небольшой дальнозоркостью.
— Да, я — профессиональный Ангел, — негромко сказал он, внимательно наблюдая за моей реакцией. — Но не в том классическом представлении образа, который веками складывался у верующих и страждущих. Кстати, в котором я и сам пребывал более десяти земных лет, когда беззаветно служил Единой Вере и был одним из лучших учеников Господа. Пока не усомнился в Его непререкаемой канонической правоте…
«Батюшки светы!.. — подумал я. — Так он еще и „отступник“! Так сказать, Ангел-расстрига… Ничего себе уха!»
Ангел оторвался от отдела происшествий в «Московском комсомольце», повернулся в мою сторону и приподнялся на локте.
— А что вас так удивляет? — спросил он, глядя прямо на меня поверх очков строгими голубыми девичьими глазами. — Чем, дорогой Владим Владимыч, вас так поразило мое, как вы изволили мысленно выразиться, «отступничество»? Что вас так шокировало во мне, когда за краткий миг бытия на ваших глазах произошло такое всеобщее «вероотступничество», какого никто из вас — даже самых просвещенных и дальновидных — и предположить не мог? Мой пример должен вас только позабавить, не более. Когда ежесекундно рушатся пусть даже искусственно возведенные, но, казалось бы, незыблемые постулаты, когда официально открыт ежедневный и круглогодичный сезон охоты друг на друга, в которой гибнут сотни тысяч людей во всем мире, а виноватых в этой бойне охраняет такое количество натасканных волкодавов, что к тем и не подступиться… Разве только внутри их собственной стаи один перегрызет глотку другому своему собрату по партийным псевдоубеждениям и общему воровскому делу. Да еще к тому же когда все вдруг, будто по команде, стали истерически возводить храмы Господни, неумело креститься, кликушествовать со свечечками в руках и фальшиво отпевать ими же убиенных с такой пошлой и показушной страстью, что просто тошно становится! И уж коль все это происходит на ваших глазах, почему же вы, дорогой Владим Владимыч, в мыслях своих поразились моей утрате веры во всемогущество Господа?..
Слышал я уже это все! Сотни раз слышал. От ленинградских и московских приятелей. От самого себя, любимого. От нью-йоркских, лос-анджелесских и мюнхенских эмигрантов, наконец… Как точненько выразился мой друг писатель Жора Вайнер, «в эмиграции, сразу же после пересечения границы, там, за бугром, все мгновенно становятся диссидентами и друзьями Высоцкого».
И хотя моего странного соседа по купе Ангела, так называемого «Хранителя», ну никак нельзя было причислить ни к одной из этих категорий, я все равно ужасно разозлился: молодой, здоровенный парняга несет мою несчастную страну по пням и кочкам, да еще и на меня поглядывает своими голубыми глазками этак укоризненно. Дескать, перед вашими очами, уважаемый Владимир Владимирович, все это происходит, а вы в это время сидите в чистеньком, ухоженном Мюнхене, в ус себе не дуете и сочиняете сказочки про говорящих котов!..
В его пространном монологе я неожиданно узрел вызов, обращенный непосредственно и персонально ко мне. И я так себя взвинтил (а это было, прямо скажем, нетрудно — джина в бутылке оставалось всего сантиметра полтора, от силы — два. Если считать снизу от донышка), что не выдержал своего полупьяного стариковского напряга и достаточно резко сказал этому Ангелу в модных очечках:
— Только не вздумайте вешать мне лапшу на уши и утверждать, что все это вы осознали и ощутили на себе в щенячье-ангельском возрасте божьего пятиклассника сорока пяти килограммов веса. А то, помню, когда-то в Мюнхене на радио «Свобода» я встречал одну бывшую мосфильмовскую поблядушку глубоко забальзаковских лет, которая на полном серьезе утверждала, что ненависть к советской власти и вообще ко всему русскому она почувствовала еще в детском саду, сидя на горшке…
Вот когда Ангел напрочь утратил свою интеллигентную сдержанность и мягкость. От моей последней фразы глаза его округлились, он сдернул очки с носа и захохотал, как самый обычный человек, услышавший веселую глупость. Он даже закашлялся от смеха. Ему пришлось приподняться и сесть напротив меня.
— Нет, правда?! — в восторге переспросил Ангел.
— Правда, правда, — проворчал я, выливая остатки «Бифитера» в свой стакан.
Запить джин было нечем. Чай кончился. Я посмотрел на часы — половина второго. Проводник наверняка уже дрых без задних ног. Наплевать, мало ли я в жизни обходился без закуси? Я приподнял стакан…
— Яблочко. — Ангел глазами показал на разделявший нас столик.
Там лежало большое прекрасное яблоко!
Я и сейчас мог бы поклясться всем на свете, что Ангел не произвел ни одного движения. Если не считать того, что его большое, могучее тело в легкомысленной пижамке продолжало раскачиваться от смеха. В портфель, стоявший под купейным столиком, он не лазал, яблоко это ниоткуда не доставал, а то, предыдущее, я слопал еще до часу ночи. Вон и огрызок от него в пепельнице…
Это второе яблоко, хотите — верьте, хотите — нет, просто ПОЯВИЛОСЬ!
— Будьте здоровы. — Я опрокинул остатки джина в свою сильно пожилую проспиртованную глотку и закусил «ангельским» яблоком. — Вам бы в цирке работать…
— Для цирка эти трюки мелковаты, — возразил Ангел.
— А джинчику вы не могли бы мне грамм сто спроворить? «Бифитер» не обязательно. Можно «Гордон», можно и подешевле… — осторожно попросил я. — А то у меня тут еще пол-яблочка без дела завалялось.
— Нет, — мягко улыбнулся мне Ангел, и я снова подивился какому-то странному чарующему тембру его голоса. — Алкоголь у нас обычно идет по… несколько иной линии. Я бы сказал — по противоположной.
— Жаль, жаль.
Я отставил в сторону пустой стакан, напрасно приготовленный для свершения небольшого, с моей точки зрения, рядового чуда.
— Очень жаль, — настырно повторил я, все еще лелея надежду на «ангельскую» доброту моего соседа по купе.
Но Ангел даже ухом не повел. Только глянул на меня внимательно и сочувственно.
И вдруг я понял, что совсем не хочу больше пить!.. Если бы даже Ангел смилостивился и своей чудодейственной силой сообразил бы мне какую-нибудь поддачу — вряд ли я смог бы сделать глоток. Чайку бы крепенького, горячего, да в фаянсовой кружечке, да еще с лимончиком… А джин там, или виски, или коньячок — ну его к лешему!.. Себе дороже. Вот так надерешься на ночь, задрыхнешь, а сердчишко во сне возьмет да и остановится. А у меня еще дел невпроворот. И себя, родимого, жалко до слез…
За черным ночным окном сквозь темное отражение нашего купе проносились назад редкие желтые трепещущие светлячки станционных фонарей. Под полом глухо погромыхивали рельсовые стыки.
— Ну, вот и ладушки, — тепло улыбнулся мне Ангел. — Пейте, пейте чай, Владим Владимыч. Только осторожней — не обожгитесь. Горячий…
Когда передо мной возникла большая, толстого белого фаянса кружка на белом блюдце — ума не приложу! Из кружки тянуло моим любимым «Эрл Греем», на блюдце лежали несколько кусочков сахара, чайная ложка и кружочек лимона.
По старой, еще армейской, привычке я, будто с мороза, положил ладони на горячие кружечные бока и негромко спросил Ангела:
— Это тоже из разряда «мелких трюков»?
— Что, Владим Владимыч? — невинно переспросил Ангел.
— Что, что… Вот это все! Выпить вдруг расхотелось, чай, лимон, кружка фаянсовая?..
Ангел подумал и через паузу тихо ответил:
— Да нет, пожалуй… Я бы квалифицировал это не как «исполнение трюка», а как нечто инстинктивно-профессионально-охранительное.
Я осторожно опустил лимон в чай, так же почему-то осторожно положил туда сахар и, помешивая ложечкой, промурлыкал:
И тогда с потухшей елки
Тихо спрыгнул ангел желтый…
И сказал: маэстро бедный,
Вы устали, вы больны…
Ангел усмехнулся:
— Простим старика Вертинского. Стишата, прямо скажем, не фонтан. И категорически не про вас. Надеюсь, вы не так уж бедны, а вашему здоровью, я смотрю, может позавидовать любой ваш ровесник, которому за семьдесят.
Ангел показал на пустую бутылку от бывшего «Бифитера».
— Теперь об усталости. Что есть, то — есть. Нельзя так судорожно цепляться за свое уходящее мужчинство. Это же действительно безумно тяжело — ощущать постоянный раздрай между сохранившимся комплексом всех желаний зрелого мужика и естественно затухающими биологическими возможностями пожилого человека. Пример: зачем вам нужно было выхлестывать всю бутылку джина?..
— Хотелось! — туповато ответил я. — Сами же видите — не магазинный пузырь в ноль семьдесят пять, а небольшая пластмассовая бутылочка всего на поллитра. Их обычно продают в воздухе наши стюардессы дешевле, чем она стоит даже в «Дьюти фри».
— Да знаю я, что продают в самолетах, — махнул рукой Ангел.
Крепкий, душистый «Эрл Грей» с лимоном привел меня в состояние тихое и благостное. Я вспомнил, что завтра утром на Московском вокзале меня будет встречать внучка Катя — умненькое, хитренькое, стройненькое и горячо любимое мною почти взросленькое существо. Тут же всплыло воспоминание, которое почему-то возникает у меня каждый раз, когда я начинаю о ней думать: Катька четырех лет от роду, завернутая в махровую простыню, влажная, пахнущая чистеньким детским тельцем, перекинутая через мое еще нестарое плечо, весело визжит у меня за спиной. Я несу ее из ванны в свой кабинет, и перед моим носом смешно болтаются ее маленькие распаренные розовые пятки…
В кабинете для Катьки уже все приготовлено. И постель, и клюквенное питье, и, что самое главное для нечастых Катькиных посещений нашего дома с ночевкой, два аттракциона, исполняемые обычно Катькиной бабушкой, моей женой Ирой. Аттракцион номер один — сушка волос в колпаке, наполненном горячим воздухом от электрического фена, и самый главный аттракцион — чтение бабушкой Ирой книжки Заходера или еще какой-нибудь другой, пока у Катьки не начнут слипаться глаза…
Тогда Катька еще не знала, что Ира ей не родная бабушка.
— А сколько лет вашей внучке, Владимир Владимирович? — услышал я голос Ангела.
Я поднял глаза от толстой фаянсовой кружки и нехотя вернулся в мир ночных вагонных звуков и замкнутого пространства двухместного купе. Ненавижу общежития!
— Восемнадцать, — настороженно ответил я.
Благостности — как не бывало. Будто этим невинным вопросом Ангел попытался посягнуть на честь нашей Катьки. И хотя я прекрасно знал, что Катюшка уже давно и совершенно самостоятельно распоряжается этой своей «честью» и, наверное, в сравнении с ее сегодняшними хахалями лучшего парня, чем вот такой Ангел, ей и желать не следовало бы, я все равно чего-то вдруг занервничал. Захотелось немедленно переменить тему. Сделал я это не очень ловко. Спросил с плохо скрытым раздражением:
— А чего это вы поездами ездите, самолетами летаете? Куда же девался старый, добрый «ангельский» способ передвижения? Так сказать, «по небу полуночи ангел летел…», а? И кстати, где ваши крылья, Ангел?
Ангел вскинул на меня свои девичьи голубые глаза и мягко улыбнулся:
— Помните, в «Записных книжках» Ильфа:
«Хорошо тебе на том свете?»
«Да, мне хорошо».
«Почему же ты такой грустный?»
«Я совсем не грустный».
«Нет, ты очень грустный. Может, тебе плохо среди серафимов?»
«Нет, мне совсем не плохо. Мне хорошо».
«Где же твои крылья?»
«У меня отобрали крылья…»
— Так вот, Владимир Владимирович, крыльев я был лишен много лет тому назад. Как вы сами изволили выразиться, именно в «щенячье-ангельском возрасте Божьего пятиклассника».
Несмотря на «явление» всех этих крохотных яблочно-чайных чудес, свидетелем которых я все-таки был, я вдруг перестал верить в подлинное «ангельство» Ангела и он стал мне не очень интересен. Был уже третий час ночи, и просто захотелось спать.
— За что крылышки-то отобрали? — позевывая, спросил я. — За неуспеваемость?
— Да нет. Там историйка была позабавнее, — ответил Ангел. — Если хотите — могу поведать. Вдруг вам пригодится. Как литератору.
О Боже!.. Сколько раз в своей сочинительской жизни я слышал эту фразу. Существует гигантская категория людей, свято убежденных, что все произошедшее с ними уникально и требует немедленного отражения в той или иной форме изящной словесности. Историей своей, чаще всего тускловатой, жизнишки они пытаются облагодетельствовать любого случайно встреченного ими писателя, киносценариста, драматурга, журналиста…
Это все еще от советских времен, когда с экранов и театральных сцен мудрые седоусые рабочие учили уму-разуму интеллигентных главных инженеров, а в книгах обласканных властью романистов деревенские дедушки в пейзанских онучах и лапоточках балагурили философскими сентенциями.
Вколотили в головы совбедолагам, что «искусство всегда в долгу перед народом». Бросили эту липовую косточку двухсотмиллионной толпе своих граждан в компенсацию за ее узаконенные униженность и бесправие, а та, несчастная, давай эту косточку мусолить, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Ни хрена не понимая, что она делает…
Интересно, сколько же поколений должны прожить Свою Жизнь, чтобы окончательно избавиться от всей этой вонючей и лживой шелупони?
— Минимум — три, — раздался тихий голос Ангела. — Одно уже выросло. Осталось два. Но я и не пытался всучивать вам сюжетец, Владимир Владимирович. Мне просто причудилось, что вам это может быть любопытно.
Ах, е… елки-палки, чтоб не сказать хуже! Как я мог забыть о дивных способностях этого юного Вольфа Мессинга с истинно «ангельской» внешностью и разворотом плеч Арнольда Шварценеггера?!
— Простите, меня, пожалуйста, Ангел, — пробормотал я. — Наверное, то, о чем я только что думал, к вам действительно не имеет никакого отношения. Еще раз, извините меня — старого и подозрительного дурака…
— Что вы, что вы, Владим Владимыч. — Ангел озабоченно посмотрел на свои часы. — Батюшки, и вправду — поздно-то как!.. Давайте спать. Недосып вреден в любом возрасте. А то завтра утром на перроне ваша внучка Катя может вас и не узнать.
— Откуда вы знаете, что ее зовут Катя? — У меня снова встала шерсть на загривке.
— Вы столько о ней думали…
— Ах да, действительно. Ладно, Ангел. Валяйте вашу историю. Только я прилягу с вашего разрешения.
— Конечно, конечно, Владим Владимыч. Ложитесь и, мало того, выключите над собою свет и прикройте глаза. О’кей?
— О’кей, Ангел.
Неожиданно мне стало смешно и спокойно оттого, что Ангел сказал «о’кей».
Я лег, погасил свой ночник и закрыл глаза.
Поначалу затихли перестуки колес, а потом стали исчезать и все остальные обязательные железнодорожные звуки, оставив в моем сознании лишь слабенькое убаюкивающее покачивание вагона и ощущение стремительного полета сквозь ночь…
— Так лучше? — откуда-то спросил меня Ангел.
— Да… — кажется, сказал я.
В ответ снова возник обволакивающий голос Ангела:
— Если позволите, я для начала сделаю крохотный обзорный экскурс. Буквально на минутку — просто чтобы все расставить по своим местам…
На мгновение мне показалось, что я уже дремлю, а дивный голос Ангела доносится не с соседней постели двухместного купе спального вагона «Красной стрелы», а как-то зарождается внутри меня самого в районе груди, неведомыми анатомическими путями мягко струится вверх к моей нетрезвой голове и уже оттуда кратчайшими тропками достигает моих ушей, изнутри возвращаясь в мозг для осмысления звучащего. Какой-то бред сивой кобылы!..
«Надо же было так надраться… — удивленно подумал я о себе. — Просто невероятно!..»
— Вероятно, — тихо прозвучал Ангел, не то подтверждая мои судорожные полудохленькие мыслишки, не то продолжая свой странный рассказ, — вероятно, вам известно, что в христианстве существует девять строжайше иерархических «ангельских» чинов?.. Так называемые «Три Триады». Первая — Серафимы, Херувимы и Престолы… Вторая — Господства, Силы и Власти… Третья — Начала, Архангелы и, наконец, Ангелы.
— В этом есть что-то армейское, — то ли подумал, то ли сказал я сквозь сон.
— Пожалуй, — согласился Ангел. — Если помните достаточно саркастичное описание загробно-райской системы у Твардовского в поэме «Теркин на том свете», то, смею вас заверить, Александр Трифонович очень верненько воссоздал подлинную небесную обстановку и схему отношений…
Я превозмог свой алкогольный анабиоз и склочно возразил:
— Для своего времени «Теркин на том свете» был очень смелой и превосходной пародией на всю бюрократическую систему советской власти. Не больше.
— И одновременно — точным слепком с нашего запредельного мира! Свидетельство этому мои самые яркие детские воспоминания, — «прозвучал» во мне Ангел.
— В каком же качестве вы там пребывали? Как «Сын святого полка»?
В жалком сонно-полупьяном состоянии я еще пытался острить.
— Нет, — спокойно ответил мне Ангел. — Я был одним из лучших учеников Школы Ангелов при третьей ступени третьей триады. Звучит несколько нелепо, но иначе и не скажешь.
— Забавненько… — пробормотал я.
— Обучали нас старые и опытные Ангелы, бывшие Хранители, которые в свое время по тем или иным причинам вынуждены были покинуть практику и перейти на преподавание. Кто по возрасту, кто и по здоровью… Чаще, конечно, по здоровью. Ибо работа с Людьми — труд невероятно тяжелый! От непосредственного общения с Человеком, от постоянных попыток оградить его от кучи мелких и больших неприятностей, порой и откровенно смертельных, нервное напряжение Ангелов-Хранителей обычно достигало тех критических точек, когда уже требовалась немедленная реабилитация. Это несмотря на то что два раза в год Ангелы-Хранители проходили обязательный курс диспансеризации и восстановительного оздоровления. Однако этого зачастую оказывалось недостаточно, и в конечном счете вымотанный, буквально отжатый и опустошенный Ангел-Хранитель был просто вынужден сменить поле деятельности… Кто-то вступал на канцелярско-административную тропу, кто-то — на преподавательскую работу в начальное и среднее отделение Школы Ангелов. В начальном учились совсем еще малолетки — готовили из них Амуров и Купидонов, а на среднее отбирали мальчиков от восьми до двенадцати. Ну, как в петербургскую хоровую капеллу… Мы были распределены по самым разным специализациям. В результате строгого психологического отбора с учетом необходимых физических данных я был зачислен на поток Ангелов-Хранителей.
Мне повезло. Я попал в класс одного удивительно интеллигентного и мудрого пожилого Ангела.
Спустя три года обучения, когда мне исполнилось уже одиннадцать, наш Мастер посчитал возможным обратиться Наверх с просьбой предоставить нескольким своим ученикам персональную практику Внизу. Причем совершенно адресную: за каждым из нас закреплялся какой-то один неблагополучный Человек, которому мы обязаны были хоть немного помочь в его бедственном положении. Естественно, в силу наших юных ученических возможностей.
После чудовищно долгих согласований и откровенной волокиты, которые показались нам вечностью, разрешение на практику было все-таки получено. До сих пор считаю, что тут сработал безупречный авторитет нашего Мастера — бывшего заслуженного Ангела-Хранителя.
Для каждого из нас, удостоенных доверия Всевышнего Ангельского Ученого Совета, было определено место практики на Земле и конкретная фигура опекаемого…
… Вот когда я, старый, вышедший в тираж киносценарист, вдруг впервые понял, что не только слышу то, что рассказывает мне Ангел, но и вижу это!
Возникло ощущение, будто сижу я в маленьком студийном просмотровом зальчике вместе с режиссером и монтажницей и смотрю отcнятый, но еще не смонтированный материал к фильму, который делается по моему сценарию…
Но вот что дивно — так как это был все-таки не мой сценарий и какие-то детали мне были не очень ясны, то я их видел в черно-белом изображении!.. А в наиболее ярких кусках рассказа Ангела, где мне было все абсолютно понятно, изображение становилось интенсивно цветным и достаточно стабильным…
Например, мне даже причудилось, что Школу Ангелов я увидел в светло-голубовато-солнечных тонах, где детсадовская малышня, Амурчики и Купидоны (по-моему, это вообще-то одно и то же…) в розовых хитончиках, гоняется друг за другом со своими красными игрушечными луками. И в стремлении двигаться быстрее помогает себе частыми взмахами небольших крылышек!..
… Потом возникло еще одно странноватенькое ощущение — какая-то смесь Виденного, Слышанного и… Читаемого!..
Тут я совсем запутался…
А еще… Но это было уже абсолютно невероятным!!!
А еще я неожиданно ощутил, как эта история вдруг стала зарождаться внутри меня самого — будто бы я сам ее придумываю, да так легко, гладенько — без обычных моих сочинительских мучений…
Словно она сама стала складываться у меня в мозгу, а может быть, сидела там издавна, ожидая своей очереди, когда я начисто разделаюсь с денежно-издательскими и киношными обязательствами и она сможет беспрепятственно увидеть свет и пролиться…
Куда?! На бумагу? На экран?.. Или просто возникнуть в моем сознании этаким «бездоговорным», непродаваемым сюжетом в единственном экземпляре? Без права на тираж.
Но вот что поразительно! В то же время я знал, что лежу в спальном вагоне «Красной стрелы» и что сейчас глубокая ночь, и глаза у меня закрыты, и мы мчимся сквозь черное время из Москвы в Ленинград.
И вместе со мной в купе, в какой-то легкомысленной цветастой пижамке, следует некий поразительный тип, назвавший себя Ангелом-Хранителем…
— А теперь… — каким-то образом его голос проник в мое плывущее сознание, — для уяснения вами всех последующих событий я позволю себе небольшой экскурс в прошлое и немного сухой, но совершенно необходимой статистики…
Это была последняя фраза, которую я от него услышал.
… Зато увидел, как ровно сорок три года тому назад удивительно хорошенькая девятнадцатилетняя Фирочка Лифшиц, по паспорту Эсфирь Натановна, в миру — Эсфирь Анатольевна, учительница начальных классов шестьдесят третьей школы Куйбышевского района города Ленинграда, потеряла невинность. Была, так сказать, «дефлорирована»…
Причем произошло это всего через один час двадцать семь минут после того, как за папой Натаном Моисеевичем и мамой Любовью Абрамовной закрылась квартирная дверь и они отбыли на две недели в Дом отдыха Балтийского морского пароходства.
Из этого вовсе не следовало, что Натан Моисеевич был старым морским волком, избороздившим все акватории мира. Нет, нет и нет. Путевки Лифшицам спроворил один жуликоватый профсоюзный деятель очень среднего ранга, которому Натан Моисеевич в прошлом году шил теплое зимнее пальто из ратина с воротником из натурального каракуля.
Если же попытаться отхронометрировать эти роковые час двадцать семь минут начиная с первой секунды Фирочкиного одиночества, о котором она только и мечтала с тринадцати лет, то картинка ее грехопадения встанет у нас перед глазами будто живая…
Уже на лестничной площадке мама сказала Фирочке:
— И пожалуйста, никаких сухомяток! Обязательно доешь бульон с клецками…
— И чтоб в доме — никаких посиделок! — строго сказал папа. — Ты меня слышишь?! Тетя Нюра будет заходить и проверять тебя. А потом все мне расскажет.
Тетя Нюра была младшей сестрой папы.
— Хорошо, хорошо, мамочка!.. Папа, не нервничай, умоляю тебя!
И Фирочка закрыла дверь на все замки. Она уже давно дико хотела писать, но нервные и нескончаемые родительские наставления не давали ей возможности исполнить этот столь естественный для всего человечества акт.
До потери невинности уже оставался всего один час и двадцать шесть минут…
Отсчет времени пошел именно с того мгновения, как на лестнице, стоя перед закрытой дверью своей маленькой двухкомнатной квартирки в доме номер пятнадцать по улице Ракова — второй двор, направо, третий этаж, — Любовь Абрамовна, коренная ленинградка, сказала своему мужу Натану Моисеевичу одно из восьми знакомых ей еврейских слов:
— Мишугинэ!..
В смысле — «сумасшедший».
— Мишугинэ! — сказала Любовь Абрамовна. — Если бы я знала, что следить за Фирочкой ты попросишь эту блядь Нюрку, на которой пробы поставить негде, я бы тебе голову оторвала! И все остальное.
Натан Моисеевич, потомок древних переселенцев из-под белорусского Себежа, располагал более широкой языковой палитрой. Он знал одиннадцать слов на идиш, семь из которых были матерным переводом с русского. К чести Натана Моисеевича следует заметить, что он не воспользовался ни одним из них, а просто сказал, спускаясь по лестнице:
— Ай, не морочь мне голову!..
И поволок тяжеленный чемодан на автобусную остановку к Зимнему стадиону.
А за дверью в квартире Лифшицев уже шла вторая счастливая минута Фирочкиной двухнедельной свободы!
Фирочка рванула на горшок, радостно сделала свои небольшие делишки и спустила за собой воду.
До дефлорации оставался один час двадцать пять минут…
Однако вода, предназначенная для смыва вторичного продукта утреннего чаепития Фирочки, почему-то не ушла в слив, а заполнила весь унитаз. Мало того, вода стала склочно булькать в горшке и отвратительно похрюкивать, а ее уровень начал угрожающе подниматься!
Фирочка в панике бросилась звонить в домовую контору.
— Контора, — ответил Фирочке женский голос. — Чё нада?
Фирочка впервые в жизни звонила туда, да еще по такому стыдному поводу.
— Извините, — пролепетала перетрусившая Фирочка. — У нас унитаз засорился, и я очень боюсь залить кого-нибудь внизу…
— Номер?
— Что? — не поняла Фирочка.
— Ну, люди! — презрительно проговорил женский голос. — Квартира какая? Номер говори!
— Семьдесят шесть…
— Счас.
Фирочка услышала, как конторская женщина положила трубку и кого-то спросила:
— Кто из слесарей сегодня дежурит?
— А чего? — поинтересовался мужской голос.
— Да горшок в семьдесят шестой, видать, засрали. Вода у их, вишь ли, не проходит.
— А кто там? — Мужчина явно не рвался на помощь к бедной Фирочке.
И тут Фирочка услышала то, что обычно приводило ее в состояние душной и парализующей растерянности:
— Да, эти… Как их? Явреи. Лифшицы, что ли?
— А-а-а, — невыразительно протянул мужской голос. — Ну, пошли к им Серегу Самошникова. Нехай он только заявку и наряд сначала оформит. А то ходят, рубли сшибают…
Фирочка услышала, как женщина взяла трубку и сказала уже ей — раздраженно и нравоучительно:
— Вот вы газет туды натолкаете, а потом к нам звоните! Поаккуратнее надо с социалистическим имуществом. Вам квартира дадена не затем, чтоб вы нам, понимаешь, систему портили и работников домоуправления без толку дергали! Ждите водопроводчика. Явится.
— А когда он придет? — решилась спросить Фирочка, с испугом прислушиваясь к возмущенному клокотанию унитаза.
— Когда придет — тогда и явится, — туманно ответила женщина.
— Спасибо, — выдавила из себя вежливая Фирочка.
— Спасибом не отделаетесь, — хохотнул в ответ женский голос, и на Фирочку из трубки пахнуло обещанием еврейского погрома.
На этот унизительный разговор ушло минут семь-восемь.
Еще минут через двадцать, когда босая, взмыленная Фирочка, стараясь подавить приступы подступающей к горлу тошноты, огромной половой тряпкой лихорадочно собирала с пола уборной грязную воду, переполнявшую унитаз, и отжимала эту тряпку в старую большую эмалированную кастрюлю, у входной двери раздался долгожданный звонок.
Фирочка бросила тряпку, поспешно вытерла руки о передник и помчалась открывать дверь.
На пороге стоял высокий тощий парень с хмурым лицом, лет двадцати трех. На нем были свитер, грязный ватник, измазанный рабочий комбинезон и старые солдатские кирзовые сапоги. На голове — черная лыжная шапочка с помпоном.
В руках он держал большой моток стальной проволоки и коленкоровую сумку с инструментами.
— Вы водопроводчик? — с надеждой спросила Фирочка.
— Сантехник я, — грубовато ответил ей парень. — Взрослые дома?
— Дома… — растерялась Фирочка. — Я. Я — «взрослые».
— Ты?! — поразился парень.
… И в этом не было ничего удивительного! Когда из рассказа Ангела образ Фирочки Лифшиц почти целиком сложился в моем сознании и я увидел ее собственными глазами — я тоже поначалу принял ее за девочку лет четырнадцати. Такая она была юная и прелестная!..
Кстати, подобному восприятию совершенно не мешало понимание того, что так Фирочка выглядела сорок три года тому назад.
— Я — педагог, — окрепшим от обиды голосом заявила Фирочка.
— Ну, ты даешь!!! — восхитился парень и откровенно голодным охочим глазом оглядел Фирочку с ног до головы.
Да так, что от этого взгляда у мгновенно перетрусившей Фирочки вдруг ослабли колени, кругом пошла голова, а внутри у нее, неожиданно и не вовремя, стало происходить что-то такое — горячее, стыдное и сладостное, — что еженощно грезилось ей последние несколько лет. И с каждым годом все явственнее и явственнее! И если бы не тираническое, недреманное родительское око…
— Нас заливает… — слабым голосом произнесла Фирочка и обессиленно прислонилась к коридорной стене.
Как раз в том месте, где издавна висела старая пожелтевшая фотография, сделанная в эвакуации, в начале сорок второго, перед самым уходом Натана Моисеевича на фронт: папа — кругломорденький лейтенантик Лифшиц, совсем еще молоденькая мама в шляпке-«менингитке» и уж совсем маленькая, трех лет от роду, Фирочка. С огромным бантом на голове.
До дефлорации оставалось пятьдесят семь минут. Всего.
За этот краткий миг мироздания свершилась уйма событий, спрессованных во времени, словно взведенная боевая пружина автомата «ППШ». «Калашниковых» тогда еще не было.
Первым делом парень в лыжной шапочке сбросил с себя ватник прямо на пол и пошел в туалет, на ходу разматывая толстую стальную проволоку с металлической мочалкой на конце.
Потом он запихнул й горшок эту мочалку и стал ритмически, вперед и назад, всовывать стальную проволоку все глубже и глубже в жерло горшка. При этом он шумно и так же ритмично дышал в такт своим наклонам.
Воспаленному воображению Фирочки эти наклоны и прерывистое дыхание парня ни к селу ни к городу напомнили одну картинку двухлетней давности. На третьем курсе педучилища Фирочку послали на педагогическую практику в пионерский лагерь завода «Большевик». Там она впервые в жизни и увидела ЭТО… Вернулась вечерком от своих верных октябрят-ленинцев в служебный корпус и в нечаянно приоткрывшуюся дверь случайно узрела, как веселый физрук из института Лесгафта во все завертки пользовал старшую пионервожатую — завотделом школьного воспитания Невского районе Они тогда дышали точно так же, как этот парень-сантехник…
А еще Фирочку заворожили руки этого парня. Огромные ладони, словно совковые лопаты, совершенно не соответствовали его длинному, тощему телу. Он был похож на большого некормленого щенка с рано разросшимися передними лапами.
Ах, как вдруг захотелось Фирочке ощутить эти непомерно крупные, расцарапанные и сильные ладони на своем теле!..
— Соседи ваши нижние виноваты, раздолбай несчастные! — хрипел над горшком парень. — Глянь… Тут тебе и тряпки, и шелуха картофельная! Вот ваш слив и не проходит, куда положено… Штрафануть бы их, обормотов чертовых…
Но Фирочка не видела ни тряпок, ни шелухи.
Она глаз не могла отвести от рук этого парня, от его согнутой, тонкой спины и совсем не понимала — о чем он там хрипло бормочет над унитазом.
А он, мокрый и взъерошенный, в дурацкой лыжной шапочке с помпоном, смешно сбившейся на затылок и на ухо, проверил высвобожденный сток воды, выпрямился и повернулся к Фирочке:
— Возьми у меня вот из этого кармана наряд на вызов и подпиши. А то у меня руки грязные…
Фирочка вплотную приблизилась к парню, ощутила всю смесь запахов разгоряченного мужского тела и уже почти в бессознательном состоянии вытащила из верхнего кармана комбинезона какую-то бумаженцию. И где-то там расписалась.
— И покажи — где руки помыть, — сказал парень неожиданно севшим голосом.
Фирочка показала. И пока он мыл руки над раковиной, Фирочка стояла за ним с чистым полотенцем, и сердце ее билось в сотни раз сильнее и громче, чем даже тогда, когда она на выпускном вечере педучилища, в пустой и темной аудитории, взасос целовалась с освобожденным секретарем их комсомольской организации.
До потери невинности Фирочке оставалось тридцать четыре минуты.
За это время Фирочка, пребывая почти в сомнамбулическом состоянии, умудрилась совершить кучу дел: после безуспешных попыток всучить парню два рубля за работу — Фирочка помнила, что именно так мама всегда расплачивалась с водопроводчиками и дворниками, — ей удалось уговорить парня съесть мамин бульон с клецками и всю горячо любимую папой докторскую колбасу. Фирочка даже успела напоить его чаем с замечательными соевыми батончиками, в которых сама души не чаяла.
А парень что-то жевал, прихлебывал, откусывал и глаз не мог оторвать от тревожно взволнованной Фирочки. Ее смятение и страх ожидаемого полностью передались ему, и, несмотря на то что в жизни этого паренька уже были кое-какие девицы, ТАКОЕ с ним происходило впервые!
На последнем соевом батончике те самые оставшиеся тридцать четыре минуты были исчерпаны…
И ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!!!
… Ошеломленные произошедшим, они лежали в узенькой Фирочкиной кровати и…
Невероятным усилием я выдрался из всего этого Ангельского просмотра-наваждения, с диким трудом приоткрыл слипающиеся глаза и сказал Ангелу, еле ворочая языком:
— Что за советско-цензурные штуки?! Зачем вы вырезали самую что ни есть завлекуху, самый, можно сказать, жгучий эпизод в этой своей баечке? Вы же так драматургически грамотно подвели меня к нему!.. Я имею в виду «поминутный отсчет». Прием не новый, но безотказный. И вдруг — на тебе!.. Ждешь бури страстей, развития событий, взрыва, а получаешь — пшик. Полная невнятица. Какой-то ханжеский театр у микрофона…
— А вы хотели бы подробную реалистическую картинку запоздалого акта дефлорации бедной еврейской девочки во всех натуралистических деталях? — насмешливо спросил меня Ангел. — Или вы просто забыли, как это делается?
— Нет, кое-что я еще помню, — ответил я. — Конечно, обидеть пожилого художника каждый может, а вот удовлетворить его искренний интерес к повествованию удается не всякому.
— Ну да! Вам же пятнышки крови на чистой простынке подавай! — возмутился Ангел. — Как в деревне…
— Откуда вы знаете — «как в деревне»? — тут же спросил я.
— У меня сейчас на попечении один сельский приход в Ленинградской области — так я там всего насмотрелся… Поэтому меня уже тошнит от любого натурализма. Я же вам не харт-порно показываю. Я предъявляю вам трехмерное изображение в реальной, природной цветовой гамме, со стереофоническим звучанием, которое вам не обеспечит никакая хваленая система «Долби»… С запахами, наконец! С полным эффектом вашего непосредственного присутствия в Повествуемом Месте, Времени и Пространстве, а вы еще…
Моя низменная угасающе-сексуальная требовательность так неприятно поразила Ангела, что он на нервной почве даже воспарил на полметра над собственной постелью. Повисел в воздухе секунд десять, слегка успокоился и плавно опустился на одеяло.
А может быть, мне это с пьяных глаз пригрезилось.
— Ладно, Ангел… Не сердитесь. Простите меня, — виновато пробормотал я. — Так что там было дальше?..
… Через положенные природой девять месяцев у преподавательницы младших классов Эсфири Анатольевны Самошниковой (по паспорту — Натановны, в девичестве — Лифшиц) и слесаря-сантехника четвертого разряда Самошникова Сергея Алексеевича родился младенец Лешенька. С абсолютно Фирочкиными глазками и непомерным для новорожденного ростом — весь в своего длинного папу Серегу.
Однако появлению Лешеньки на свет предшествовал такой смерч обид, такой самум взаимных упреков, такой тайфун в самом эпицентре житейского моря Лифшицев — Самошникова, что в этой, по сути говоря, банальнейшей акватории корабль родительской любви семьи Лифшицев чуть было не пошел ко дну ко всем свиньям собачьим!
— Аборт!!! Немедленно аборт!.. — кричал папа Лифшиц маме Лифшиц. — Я не потерплю в своем доме…
Но кричал он так, чтобы его обязательно слышала Фирочка.
— Никаких абортов! — кричала мама Лифшиц папе Лифшицу, совершенно не заботясь, слышит ее Фирочка или нет. — Вот как только ты забеременеешь, Натанчик, так сразу же можешь делать себе аборт. Хоть два!!! А наш ребенок аборт делать не станет!..
Тогда папа закричал, что его дочь сможет выйти замуж за этого жлоба-водопроводчика, только переступив через его отцовский труп! А несчастного и растерянного Серегу Самошникова, до смерти втрескавшегося в Фирочку, папа Лифшиц пообещал убить собственноручно… А уж если, не дай Бог, квартиру снова начнет заливать соседским дерьмом, то папа лучше погибнет в чужих фекалиях и сточных водах, но ему и в голову не придет позвать на помощь эту сволочь водопроводчика, как его там?.. Чтоб он лопнул!..
Мама, рыдая от жалости к Фирочке, к папе и, конечно же, к самой себе, тут же использовала старый испытанный способ воздействия на папу. Она припомнила ему конец сорок четвертого и его мифический госпитальный роман с какой-то санитаркой, «в то время, когда она — его законная эвакуированная жена с маленьким ребенком на руках…». Ну и так далее…
Обычно упоминание о папином грешке двадцатилетней давности действовало на папу отрезвляюще. Тем более что единственным человеком, знавшим истинную цену этого «романа», был сам папа.
Он-то хорошо помнил, что эта санитарка, которую трахали в госпитале все, кто хотел, как хотел и где хотел, папе Лифшицу почему-то так и не дала!
Влюбилась она в лейтенанта Лифшица такой чистой, кристальной любовью, что ни о каком пошлом совокуплении с ним даже и помыслить не могла…
Но трепотни об их «отношениях» в госпитале было столько, что она, эта трепотня, запросто преодолела несколько тысяч километров, разделявших папин военный госпиталь и маленький узбекский городок Янги‑Юль, куда была эвакуирована тогда мама с крохотной Фирочкой.
Но на этот раз мамин экскурс в папину прошлую «неверность» не дал никаких результатов. Папа продолжал бушевать!
Тогда бывший «маленький ребенок» Фирочка, тихая интеллигентная еврейская девочка ленинградского разлива, в ожидании своего собственного будущего маленького ребенка проявила неслыханную твердость и поразительную решительность. Лишний раз подтвердив, что первая беременность в корне перестраивает весь женский организм.
Она просто собрала вещички и ушла из небольшой отдельной двухкомнатной родительской квартирки в соседний дом, в гигантскую коммуналку, к своему любимому слесарю-сантехнику Сереге Самошникову, в семиметровую казенную комнату, которую Серега получил от домоуправления на время его службы в этой могучей организации.
… Но тут я вдруг услышал стук колес под полом купе…
…где-то вдалеке ночной перепуганной птицей вскрикнул встречный состав…
...от неожиданности я вздрогнул и потихоньку стал выползать из своего гипнотического состояния — из истории, в которую меня втянул мой сосед по купе Ангел…
Захотелось курить.
И Фирочкина история показалась не очень интересной — далекой и чуточку примитивной…
За последнее десятилетие мне до зеленой тоски стало скучно узнавать о событиях, произошедших лет тридцать — сорок тому назад. Какими бы они ни были трогательными и занимательными.
В совсем ином ритме шел я теперь к своему естественному «свету в конце туннеля». Временами — замедленно, притормаживающе, временами — не по возрасту бойко, ускоренно, слегка истерично…
Из распавшегося привычного прошлого бытия бурно и неудержимо, как бурьян на задворках, поперли ввысь и зацвели махровым цветом другие ценности, неведомые мне доселе категории отношении, раздвинулись границы дозволенного: первый канал правительственного телевидения с разухабистыми срамными частушками; по газетам и газетенкам — ежедневные фейерверки полуграмотной, но очень лихой журналистики…
Даже убийства — по предварительным заказам. Платите, ребята, и обрящете!
А всевидящее Интернетово око? С его поразительной осведомленностью в сайте «Компромат, ру»?! Где вранье, где правда?.. Да наплевать! Читать — безумно интересно. Драматургия высочайшего уровня — грязная, вонючая и восхитительная.
Поэтому сладкая ангельская историйка послевоенного советского периода о жертвенной и беззаветной любви юной «графини-аристократки» Фирочки к «простому кучеру» Сереге меня вовсе не занимала.
Тем не менее мне было очень любопытно — чем она так уж привлекла самого Ангела. Бывшего Хранителя — ныне (как я понял…) владельца частного охранного бюро, использующего в своей сегодняшней деятельности все Ангельско-Хранительские профессиональные навыки, полученные им при прошлой службе Господу.
Ну, вроде как бывшие комитетчики и милиционеры, «крышующие», выражаясь нынешней терминологией, разных деловых богатеньких типов…
— Курите, курите, — сказал мне Ангел.
— Вас жалко, — пробормотал я.
— Не волнуйтесь. Я отгорожусь.
Я закурил сигарету, и в слабеньком свете ночничка над головой Ангела мне показалось, что купе перегородилось удивительно прозрачным стеклом — дым от моей сигареты оставался лишь на «моей» половине.
Причем разграничение шло точно посередине — через небольшой столик с пустыми позвякивающими стаканами в подстаканниках, по полу купе, по двери, по потолку, на равные половинки разделяя вагонное окно за желтыми репсовыми занавесками.
Это было так удивительно, что я не удержался и протянул руку, чтобы пощупать фантастическую прозрачную преграду, которая не пропускала мой дым на половину купе Ангела.
Но моя рука так и повисла в пустоте, ничего не ощутив. Самым забавным оказалось то, что кисть руки была в «обездымленном» пространстве Ангела, а предплечье и локоть — на моей «курящей» половине!
— Ловко, — сказал я. — Просто поразительно!
— Пустяки, — скромно ответил Ангел. — Жаль, что вам не очень нравится моя история. Я начинаю чувствовать себя глуповато…
«Как я мог забыть, что этот парень запросто вторгается в мои полудохленькие мыслишки?!» — спросил я сам у себя.
— «Не нравится» — не то слово, — вяло промямлил я. — Видите ли, Ангел, история, в которой легко предугадывается дальнейший ход событий…
— Вы уверены, что сможете предугадать дальнейшее?
— Почти.
— Попробуйте, — предложил мне Ангел.
— Лень. Лень, Ангел, лень… В своей жизни я столько насочинял всякого, что сейчас любая необходимость сочинить что-то еще приводит меня в беспросветное уныние. Но я хотел бы понять, почему вам, современному молодому человеку, это показалось интересным?
Ангел откинулся на подушку, уставился в потолок и тихо проговорил:
— Наверное, потому, что спустя тридцать лет после рассказанного мною я сам стал участником их семейной истории. Что, не скрою, достаточно серьезно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь…
Я приподнялся на локте и загасил сигарету в пепельнице.
— Да что вы говорите? — со слегка фальшиво-повышенным интересом спросил я и улегся поудобнее. — Такого поворота, честно говоря, я не ожидал. Может быть, поведаете?
— Может быть, может быть… — задумчиво протянул Ангел, глядя в темный потолок купе.
Я почему-то тоже посмотрел туда и вдруг увидел, что потолок стал тихонечко подниматься и светлеть…
Так же медленно, но неотвратимо начали раздвигаться стенки купе…
…ушел куда-то колесный перестук под полом…
…а ночник над головой Ангела взялся лить все более яркий и яркий, уже ослепляющий свет!..
Этот свет заставил меня закрыть глаза, охватил меня всего прелестным, уютным теплом, расслабил…
…и, кажется, стал превращаться в солнце над моей головой…
…а в этом удивительном теплом солнечном свете в моем мозгу (или передо мной?..) стали возникать обрывки дальнейшей истории…
Они не были столь подробными, как в первой части Ангельского рассказа, но сменяли друг друга в явно последовательном порядке и разрешали мне понять все происходящее…
— А шо такое? — с нарочитым еврейским акцентом спрашивает Натан Моисеевич Лифшиц. — Шо это у нас бровки домиком? Мы описались или нам песенка не нравится?..
Натан Моисеевич согревает руку дыханием и сует ее под одеяльце в коляске.
— Нет! — восклицает он восторженно. — Таки мы сухие!.. Таки, значит, песенка! И правильно, деточка, — кому сейчас может понравиться «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход…»?! Сейчас, котик, дедушка споет тебе другую песенку.
Сорокадвухлетний Натан Моисеевич Лифшиц катит коляску с полугодовалым Алексеем Сергеевичем Самошниковым по солнечному садику на площади Искусств перед Русским музеем, нервно поглядывает на часы и начинает петь новую песенку уже без малейшего намека на анекдотичный еврейский акцент:
Отвори потихо-хо-хоньку калитку-у-у
И войди в тихий сад ты как тень…
Не забудь потемне-е-е накидку,
Кружева на головку надень…
Поет Натан Моисеевич очень даже неплохо, хотя и совсем тихо — адресуясь к лежащему в коляске Алексею Сергеевичу и ни к кому более. Ибо сейчас для Натана Моисеевича на свете нет никого дороже.
Шестимесячный Алексей Сергеевич это как-то просекает, улыбается и тут же закрывает глазки.
Натан Моисеевич продолжает петь романс чуть ли не шепотом и поднимает у коляски перкалевый верх, чтобы защитить засыпающего Алексея Сергеевича от выстрелов солнечных лучей, неожиданно пронзающих кроны деревьев…
… Спустя одиннадцать лет, в семьдесят третьем, заведующая детским садом тридцатидвухлетняя Эсфирь Анатольевна (она же — Натановна) Самошникова родила второго, припозднившегося, мальчика.
Расширенно-семейная и достаточно бурная конференция по поводу выбора имени новорожденному закончилась тем, что, по настоянию бабушки и дедушки, детеныша «для дома, для семьи» назвали Натанчиком — в честь дедушки Лифшица, а в свидетельстве о рождении записали другое имя — Анатолий. Ласкательно — Толик…
— От греха подальше, — сказала осторожная бабушка Любовь Абрамовна. — А так он будет Анатолий Сергеевич Самошников — русский. Пусть потом кто-нибудь попробует придраться.
— Ну, это вы напрасно, мама… — смутился отец новорожденного Серега Самошников, старший техник одного водопроводного учреждения. — Мне, честное слово, даже как-то неловко…
— Что тебе неловко, что?! Я тебя спрашиваю, мудак! — рявкнул дедушка Лифшиц.
Из Натана Моисеевича уже тридцать лет все никак не мог выветриться фронтовой дух командира взвода полковой разведки.
— Что тебе неловко, скажи мне на милость, святой шлемазл?! — повторил Натан Моисеевич. — То, что в стране государственный антисемитизм, или то, что мы с бабушкой пытаемся твоего же ребенка избавить от этой каиновой печати?! Что? Ты много видел русских по имени Натан?
— Да не преувеличивайте вы, папа… — отмахнулся Серега. — Фирка, ну скажи ты им!
— Они правы, Серый, — тихо сказала Фирочка и стала кормить грудью сонного Натана-Толика.
Седьмой год вся семья жила на улице Бутлерова в блочной пятиэтажке. Дом на Ракова, в центре, стали перестраивать, и Лифшицев уже вместе с Самошниковыми переселили в трехкомнатную квартиру-«распашонку» вдали от шума городского.
Там, в отдаленном районе, пятиклассник Лешка Самошников проявил феноменальные актерские способности и на всех школьных вечерах, даже на тех, которые «Только для старшеклассников!», гневно читал:
… А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки…
Или, широко расставив ноги и яростно жестикулируя, торжествующе гремел со сцены актового зала:
… Я волком бы выгрыз бюрократизм!
К мандатам почтения нету…
В семейном диспуте на тему «Есть ли антисемитизм в нашей стране?» Лешка участия не принимал — учил монолог Чацкого.
Чем и высвободил из плена приличий всю дедушкину окопную лексику.
Сейчас Лешка сидел в «совмещенном санузле», и из-за тонкой картонной двери слышно было, с какой печалью и грустью он бесчисленное количество раз повторял:
… Слепец!.. Я в ком искал награду всех трудов?
Спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал, близко!..
Пред кем я давеча, так страстно и так низко,
Был расточитель…
Был расточитель…
Был…
— «Был расточитель нежных слов», тетеря!!! — не выдержал дедушка Лифшиц.
— Сам знаю! — огрызнулся Лешка из-за двери. — «Был расточитель нежных слов»…
… А вы, о Боже мой, кого себе избрали?!
Когда подумаю, кого вы предпочли?..
Последние две строки Лешка буквально прокричал из-за двери. Но не грибоедовской Софье, а конкретным маме и папе, а также бабушке и дедушке!
Так ему тошнехонько было от появления Натана-Толика в его, Лешкиной, семье. Ему даже смотреть не хотелось в сторону своего новоявленного братца. Приперся, видите ли, орет без умолку, рожа красная, лысый, повсюду пеленки обсиканные, и, главное, все теперь вокруг него крутятся, будто с ума посходили!..
… Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок…
«Вот сейчас повешусь, тогда узнаете…» — подумал Лешка.
И жалко ему стало себя, ну прямо до слез.
Он брезгливо сдвинул висящие пеленки в сторону и сел на край ванны. И представил себе свои похороны.
Увидел скорбные лица мамы и папы, безутешное горе бабушки и дедушки, увидел свой рыдающий пятый «А»…
…и сам заплакал по-настоящему, отчетливо вспоминая, как в прошлом году хоронили младшую сестру дедушки тетю Нюру.
Про которую бабушка всегда говорила, что «Нюра — такая блядь, что пробы ставить некуда!..»
… Тут экран моего «просмотрового зальчика» вроде бы разделился на две половинки, и я увидел, как…
…одновременно с появлением Толика-Натанчика в семье Самошниковых — Лифшицев…
…не на Земле, не в клинике, не в каком-либо реальном месте и стране, а где-то в Необъяснимом, Непредставляемом, сокрытом от Человечества Мире невероятным образом сам по себе возник еще один Маленький.
Он появился во «второй половинке экрана» в тот же самый миг, когда в родильном доме будущий Толик-Натанчик покинул измученную страданиями Фирочку и тоненьким писком объявил всем о своем рождении…
Тот второй Малыш; возник не из боли и судорог, не из крови и разрывающих душу животных криков, а из большого, нежного и пушистого облака. Какая-то мультипликация, да и только!..
И ведь не запищал, не заплакал, а только открыл широко большие голубые глаза и Кому-то очень доверчиво улыбнулся.
Невидимый Кто-то завернул конвертиком края свисающего воздушного, молочно-белого и, наверное, очень теплого облака и укутал в него голубоглазого Малыша.
Я видел… Я видел, как это уютное облако, превращенное в постельку для новорожденного, стало медленно и бережно уносить Малыша навстречу Солнцу…
Ах, какие у него были голубые глаза!
Даже сейчас, находясь в состоянии, близком к гипнотическому, не очень отдавая себе отчет в происходящем, я готов был поклясться, что эти голубые глаза я только совсем недавно где-то видел! Пусть это даже прозвучит фантастически, но, как мне кажется, я видел их у человека совершенно взрос…
— Так это были вы, Ангел?! — потрясенно спросил я, с трудом выскребаясь из своего «просмотрового зала».
— Узнали? — удивился Ангел. — Странно. Столько лет…
— Глаза…
— Да, глаза действительно с возрастом не меняются.
— Послушайте, так вы, оказывается, на свет Божий появились вместе с этим Толиком-Натанчиком?!
— Конечно. Вы это тоже поняли? Мне кажется, что я об этом не упоминал.
— Нет, но я это сообразил просто как профессионал. Не обязательно так уж все и досказывать. Чутье-то у меня хоть какое-то осталось!.. Слава Богу, сорок лет в кино оттрубил.
— Приятно иметь дело с профи, — с удовольствием сказал Ангел. — Не перевариваю дилетантизм. Вы знаете, Владим Владимыч, с этим Толиком-Натанчиком мы вообще одно время шли почти параллельно: он в три годика пошел в детский сад, а меня в это же время направили в Амуро-Купидонскую младшую группу. Он семи лет поступил в первый класс, и меня в семь зачислили на подготовительное отделение средней Школы Ангелов-Хранителей… В отличие от своего старшего брата Леши Натанчик сразу же стал заниматься спортом. К его одиннадцати годам с ним боялись связываться четырнадцатилетние мальчишки… Кстати, в то время я тоже уже достаточно неплохо летал и стрелял из лука! Наши с ним пути разошлись тогда, когда нам исполнилось двенадцать лет. Если мне не изменяет память, это было в восемьдесят третьем. Толик попал в колонию для малолетних преступников, а меня в это же время отправили за границу на школьно-производственную практику — помочь его старшему брату Леше Самошникову…
— Как все чудовищно переплелось! — грустно вздохнул я.
Почему-то мне действительно стало жаль этих людей, история которых поначалу не показалась мне интересной.
— Ох, Владимир Владимирович, если бы вы знали, какие кошмарные события обрушились в тот год на Лифшицев и Самошниковых! Даже в мою незрелую голову двенадцатилетнего Ангела-подростка вползла крамольная мыслишка: а так ли уж все Люди на Земле находятся под неусыпным покровительством Всевышнего? Хотелось крикнуть — а этих-то за что?!! И только с Лешей Самошниковым ситуация, по современно-эмигрантским понятиям, на первый взгляд показалась рядовой и примитивной. В срочном порядке командировать туда взрослого, дипломированного Ангела-Хранителя было все равно что стрелять из пушки по воробьям. Поэтому послали меня, в качестве практиканта. Естественно, с последующим зачетом по Наземной практике и переходом в очередной класс нашей ШАХи…
— Куда?! — Мне показалось, что я ослышался.
— ШАХи, — повторил Ангел и пояснил: — Школы Ангелов-Хранителей.
— Так… И еще. Вы тут сказали фразу — «по современно-эмигрантским понятиям». При чем тут эмиграция? И почему вас отправили «за границу»?
— Но Лешка к тому времени уже эмигрировал! — досадливо произнес Ангел. — Вы этого разве не поняли?.
— Нет.
— О’кей, — примирительно сказал Ангел. — Значит, это моя вина. Дело в том, что Алексей Сергеевич Самошников, двадцати четырех лет от роду, будучи в составе труппы одного провинциального театрика, куда он был распределен сразу же после Театрального института, что на Моховой, поехал с шефскими спектаклями по частям Северо-Западной группы войск, расквартированных в Германии — тогда еще не объединенной…
— И дрыснул, — подсказал я.
— Почти, — согласился со мной Ангел. — Но…
— Погодите, погодите, Ангел! — взмолился я. — Давайте по порядку. И пожалуйста, начните с Толика-Натанчика. Во-первых, мне очень нравится это имясочетание, а во-вторых, с некоторых пор судьбы детей мне намного важнее, чем приключения взрослых.
И я с грустью подумал о том, что наша внучка Катя уже никогда не будет Ребенком…
Наверное, дети стали занимать мое внимание больше, чем взрослые, с тех пор когда я понял, что наша маленькая и любименькая Катька бурно взрослеет. И не так, как нам бы этого хотелось.
Еще совсем недавно, несколько лет тому назад, когда Катьке было десять — двенадцать, между нами пролегала всего лишь обычная, неглубокая и совершенно естественная канавка, полная извечных возрастных взаимных непониманий, обид и радостных, исцелительных прощений.
Сегодня же мы с ней уже стоим по разные стороны гигантской пропасти, наполненной четкими оценочными представлениями друг о друге, а внизу — по самому дну этой пропасти — протекает тоненький, затейливо извилистый и, к сожалению, иссыхающий ручеек нашей взаимной любви…
— Думаю, что вы несправедливы к ней, — тихо произнес Ангел.
Я проглотил подступивший к горлу комок и сказал ему:
— Да, пошли вы… со своими фокусами! Валяйте про Натанчика…
В отличие от своего погодка Ангела, терпеливо и безропотно дожидавшегося решения Священного педсовета Школы Ангелов-Хранителей посылать его Сверху Вниз на Наземную практику или нет, Толик-Натанчик к своим двенадцати годам уже имел достаточно серьезный послужной список деяний — как праведных, так и не очень…
К праведным сторонам его существования можно было смело отнести безграничную любовь к деду Натану Моисеевичу, покровительственную нежность к бабушке Любови Абрамовне, ласковое отношение к маме Фирочке, безусловное уважение к отцу Сереге и спокойное равнодушие к актерскому таланту старшего брата Лешки, а равно и к нему самому, к тому времени уже окончившему Театральный институт.
Но вот ведь извивы природы и наследственности! Лешка был чуть ли не копией своего отца Сереги — такой же длинный и тощий, с тонким, красивым интеллигентным лицом, которые так часто встречаются в самых простых русских семьях…
Толик же Натанчик был поразительно похож на своего деда Натана Моисеевича Лифшица. По законам неумолимой генетики Толик-Натанчик безжалостно перешагнул через поколение и унаследовал не только поразительное внешнее сходство с дедом, но и весь комплекс дедушкиного еврейско-фронтового темперамента и авантюризма, без которого командир взвода разведки того времени не просуществовал бы и трех недель.
А пожилой закройщик мужской верхней одежды из знаменитого ателье в Перцовском доме на Лиговке Натан Моисеевич Лифшиц почти не утратил этих качеств и в мирные преклонные годы. Что, прямо скажем, иногда становилось обременительным как для дома, так и для «индпошива»…
Толик-Натанчик был небольшого роста, квадратненький, очень сильный физически, и к похвальным граням его жизни можно было отнести вполне сносную школьную успеваемость и выдающиеся достижения в спорте! В одиннадцать лет он выиграл первенство детских спортивных школ трех районов — Калининского, Выборгского и Петроградского — по вольной борьбе. В своей возрастной и весовой категории.
Но за Толиком-Натанчиком числились и не очень благовидные деяния — два «привода» в милицию, где в конечном итоге он был зарегистрирован как лидер небольшой, но крепко сколоченной шаечки из десяти-тринадцатилетних пацанов, проживавших в окрестных домах по улицам Бутлерова и Верности, а также по Гражданскому проспекту.
Впервые милиция отловила Толика-Натанчика за организацию жестокой, кровавой драки с такой же бандочкой, но проживавшей в районе Политехнического института.
Все было как у взрослых. Только беспощаднее. В ход шли самодельные кастеты, цепи, обрезки тонких водопроводных труб…
Несколько пацанов, как с одной, так и с другой стороны, оказались в больницах, а Толик-Натанчик — в кутузке.
Натан Моисеевич надел все свои ордена и медали и пошел «отмазывать» внука. После долгих переговоров с начальником детской комнаты отделения милиции дедушка Лифшиц получил на руки своего внука Анатолия Самошникова, а начальник детской комнаты неожиданно обрел возможность пить без просыху в течение пяти суток, ни у кого не одалживая четвертачок на опохмелку…
Вторично Толик-Натанчик загремел в ментовку за «угон специализированного транспортного средства», как было записано в протоколе.
А дело было примитивнейшее. Поспорили — сможет ли Толик ночью от соседней булочной угнать разгружающийся фургон со свежайшим, еще горячим хлебом. На этом фургоне приезжали всегда двое — водитель и экспедитор хлебозавода. Они же и таскали лотки с «хлебобулочными изделиями» из фургона в магазин. Нужно было изловчиться, юркнуть в кабину автофургона, мгновенно завести двигатель и, пока водила и экспедитор будут чухаться в булочной со своими лотками, попытаться угнать этот фургон куда-нибудь в укромное местечко.
Из всей компахи один Толик-Натанчик умел управляться с автомобилем. Когда пару лет назад дед Натан через военкомат выплакал себе за собственные деньги «Запорожец», то первым делом он обучил ездить на нем своего младшего внука, а уже только потом передал машину зятю — Сереге Самошникову.
Вот Толик-Натанчик и угнал хлебный фургон. Очень даже квалифицированно. Потом всей кодлой полночи жрали теплый пахучий хлеб, икали от сухомятки и толкали восхищенные речуги в честь несравненного Толика Самошникова. То, что он еще и Натанчик, кроме домашних, не знал никто.
Ну а потом кто-то из своих же и стукнул на Толика. Может, от зависти, а может, и припугнули как следует…
На вызволение Толика-Натанчика из камеры были брошены все семейные силы. Дедушка Лифшиц даже откопал где-то старого придурковатого отставного генерала, которому бог знает когда шил зимнее гражданское пальто из халявного военного отреза… Серега бегал на поклон к заместителю председателя райисполкома, с которым у кого-то когда-то выпивал и закусывал!.. Фирочка задействовала подругу из РОНО… Бабушка Любовь Абрамовна носилась по малочисленным родственникам и знакомым — собирала в долг деньги. Платить надо было за все и всем.
Не участвовал в спасении Толика-Натанчика лишь его старший брат Лешка. После института он попал в Псковский драматический театр, домой приезжал в лучшем случае раз в месяц за вспомоществованием.
На семейном совете было решено ничего артисту Лешке не сообщать по двум причинам. Одна причина была высказана вслух, о второй все дружно промолчали.
Во-первых, сейчас Лешка со своим театром готовился к гастролям по Западной группе наших войск, расквартированных в Восточной Германии, и его нельзя было нервировать. Это была первая и бурно обсуждаемая причина, а во-вторых…
Вот про «во-вторых» никто и слова не проронил. Ни для кого не было секретом Лешкино ревнивое, неприязненное отношение к Толику-Натанчику, стойко сохранившееся в нем с момента рождения младшего брата…
И все-таки вытащили из дерьма этого паршивца — Толика-Натанчика!
Теперь в специальных милицейских бумагах комиссии по делам несовершеннолетних против строки «Самошников Анатолий Сергеевич, русский, рождения 06.04.1973» стояло — «склонен к рецидивам».
— Ты, шлемазл! — сказал дедушка внуку. — Ты хоть понимаешь, что еще один такой взбрык и — «…тюрьма Таганская — все ночи, полные огня, тюрьма Таганская, зачем сгубила ты меня?..»?
— Натанчик, солнышко… — плачущим голосом простонала бабушка.
— Ты — кому? Мне или дедушке? — попытался уточнить внук.
— Тебе, сукин кот!!! — яростно рявкнула бабушка.
— Мама! — строго прикрикнула Фирочка.
— Сынок, ты чего это взялся так нас огорчать? — грустно спросил Серега. — Хочешь, чтобы мы все с ума сошли от горя, да?
— Нет.
— Так что же ты?.. Неужели самому непонятно, сыночек?
И Серега, не найдя никаких других слов, притянул Толика-Натанчика к себе, обнял его, прижал к груди и поцеловал в макушку.
Толик замер. Немножко послушал, как гулко бьется папино сердце, затем мягко отстранился, неловко потерся носом о небритую щеку отца и, с трудом сдерживая слезы, накопившиеся за последнюю страшную неделю, с фальшивенькой бодростью хрипловато сказал своим ломким мальчишечьим голосом:
— Ну, все, ребята, все… Притих — вот кто буду… Бабуль! Деда… Мамусь! И ты — па… Ну, чего вы? Сказал же, что все. Завязал, чесслово… Ну, кончайте, в натуре!..
И уже не в силах сдержать слезы, откровенно зашмыгал носом.
… Полтора месяца прошли в состоянии общественного спокойствия Калининского района и семейной гармонии в клане Лифшицев — Самошниковых.
Лешка гастролировал со своим театриком по тогдашней «нашей» Германии. Играл Незнамова в «Без вины виноватых» и молодого Ленина из пьесы «Семья».
Спектакли шли в Домах культуры и клубах политотделов частей Советской армии Западной группы войск.
В первых рядах обычно сидели булыжные генералы и старшие офицеры со своими женами в люрексе и низкопробном немецком золоте.
За ними располагались молоденькие, слегка захмеленные лейтенанты, стараясь не дышать дешевым тридцатисемиградусным «Корном» в первые начальственные ряды.
Умудренные многолетним воровским опытом, осторожные прапорщики поглядывали на лейтенантиков отечески-укоризненно.
Ну а дальше весь зал был заполнен сонными, иногда даже тихонько похрапывающими солдатиками, измочаленными постоянными проверками и боевыми учениями на устрашение проклятому Западу.
Бывали на этих спектаклях и вольнонаемные немочки с неверным, но тщательным русским языком, который был политически обязателен в любой гэдээровской средней школе.
Одна из них, по которой трусливо сохли чуть ли не все офицерики танковой дивизии из-под Лейпцига, и захороводила Лешку Самошникова. Она никак не могла врубиться в смысл паточно-трагедийной пьесы классика русского театра и поэтому решила попробовать красивого исполнителя главной роли Алексея Самошникова на вкус…
Всю ночь немочка с легким перебором стонала «О Го-о-от!..», повизгивала, называла Лешку Алексом, а под утро даже разрешила ему позвонить от себя в Ленинград родителям, не забыв назвать точную стоимость каждых десяти секунд международного телефонного разговора с Россией.
А в это же время в Ленинграде…
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…», как иногда напевал дедушка Лифшиц, демонстрируя этим якобы лихо прожитые молодые довоенные годы.
Что следовало квалифицировать как обычную хвастливую стариковскую легенду, не имеющую никаких реальных оснований. Ибо юный Натан Лифшиц ушел на фронт прямо со второго курса уже эвакуированного Текстильного института, а воров и уркаганов видел только в знаменитых кинофильмах «Заключенные» и «Путевка в жизнь».
Так вот, музыка спокойствия и умиротворения в семье Самошниковых — Лифшицев действительно играла недолго.
Ровно через полтора месяца после того, как Толик-Натанчик пообещал семье «притихнуть» и действительно притих, его классная руководительница по распоряжению директора школы назначила родительское собрание с целью склонить предков своих учеников на некоторые денежные пожертвования для грядущего каникулярно-летнего косметического ремонта школы.
Обычно на все родительские собрания, как в прошлые годы — в Лешкину школу, так и теперь в Толико-Натанчиковую, ходили мужчины. Или отец Лешки и Толика — Сергей Алексеевич Самошников, или их дедушка — Натан Моисеевич Лифшиц.
На этих собраниях Натан Моисеевич появлялся в пиджаке с выцветшими орденскими и медальными планками и тут же начинал во всю ивановскую кокетничать с одной разбитной вдовой — мамашкой Толикиного одноклассника.
Но на этот раз Серега оказался в командировке в Вологде, а деду был прописан постельный режим в связи с повышенной температурой и «респираторным заболеванием верхних дыхательных путей».
Бабушка Любовь Абрамовна, естественно, не отходила от приболевшего деда, так как при всех случаях малейших недомоганий Натан Моисеевич становился чудовищно капризен, требователен и эгоистичен, как и любой пожилой экспансивный человек, инстинктивно трусящий смерти…
Поэтому на собрание в школу пошла Фирочка. Что, как оказалось впоследствии, и было особо отмечено родительской общественностью.
Через два дня после того собрания последним уроком у Толика-Натанчика был урок труда.
Спустя семь минут после начала урока учитель труда понял, что если он немедленно не выпьет хотя бы глоток пива, то уже в следующее мгновение упадет на пол и в жутких корчах умрет от дикой похмелюги прямо на глазах у двадцати трех изумленных шестиклассников.
Поэтому он молниеносно раздал каждому по отвертке и приказал накрепко привинчивать «вот эту хреновину к этой хреновине», а он, дескать, сейчас должен бежать по профорговским делам, но к концу урока вернется и с «каждого» спросит строго-настрого!
— Самошников, остаешься за старшего!.. — уже в дверях просипел этот Песталоцци детских трудовых навыков и исчез.
Классу было не привыкать к бурной профсоюзной деятельности своего педагога по труду, и, как только за ним закрылась дверь, никто и не подумал накрепко свинчивать какие-то «хреновины».
Кроме Толика Самошникова, обещавшего своим домашним «притихнуть». Ну и еще двух-трех прилежных девочек. С одной из которых Толик уже давно по-взрослому «взасос» целовался на пустынной стороне улицы Бутлерова в лесочке, за спортивным комплексом «Зенит». Да и под юбку к ней лазал при каждом удобном случае. И не только трясущимися руками, но и своей очень даже крепенькой двенадцатилетней пипкой. Почти по-настоящему…
И хотя в этих штуках Толик-Натанчик абсолютно унаследовал основную движущую черту дедушкиного характера, нужно заметить, что инициатором походов в лесок за спорткомплекс была все-таки эта ушлая девочка — круглая отличница и примерная общественница. Звали ее Лидочка Петрова.
Когда до звонка оставалось всего несколько минут и спущенный с поводка класс вяло веселился и уже собирал свои сумки, а Толик-Натанчик устало втолковывал «своей» Лидочке и ее подружкам, в какую сторону шуруп нужно завинчивать, а в какую — вывинчивать, в дверь заглянула физиономия лет четырнадцати. Она принадлежала старшему брату соседа Толика по парте — тихого и болезненного мальчика Зайцева.
Старший Зайцев уже год как учился в каком-то ПТУ и открыто «косил» под блатного.
Убедившись, что взрослых в классе нет, пэтэушник вошел и громко сказал с искусственно-приблатненной хрипотцой:
— Малолеткам — наше вам с кисточкой!
Увидел Толика-Натанчика, широко улыбнулся и крикнул:
— Здорово, Самоха!
— Привет, Заяц, — напряженно ответил Толик.
В пацанских кругах улиц Бутлерова и Верности и ближайших к ним кварталах проспектов Науки, Гражданки и Тихорецкого Толика хорошо знали.
Знали, уважали и побаивались. И свои, и чужие.
Но не четырнадцати — и пятнадцатилетние пэтэушники, совсем иное мальчишечье сословие.
Только недавно он был посмешищем своего седьмого или восьмого класса, отстающим тупым второгодничком, а вот выперли наконец из школы, попал в ПТУ, и сразу же другой коленкор! Сразу в «Рабочий Класс» превратился. Причем в откровенно «атакующий класс».
А там годика через два-три не в тюрьму, так в армию. Какая разница? В армии, говорят, первый год выдержать, перекантоваться, а уж там-то… Второй год — твой, «дед»! Отольются новобранцам твои первогодковые ночные слезки. Из-под нар вылезать не будете, сявки необученные!
— Ты кончай тут херней заниматься, — строго сказал старший Зайцев младшему Зайцеву. — Матка велела картошки купить три кило. На вот бабки и вали отсюда.
Он протянул младшему рубль и подтолкнул его к выходу. Тот покорно взял деньги, перекинул старую сумку с тетрадками через плечо и вышел из класса.
А старший Зайцев нагловато оглядел притихший и слегка перетрусивший класс, присел на преподавательский стол-верстак и закурил, цыкая слюной сквозь передние зубы на пол.
— Слушай, Самоха, — между двумя плевками сказал Заяц, — я все спросить тебя хотел — ты кто по нации?
В классе наступила могильная тишина.
У Толика-Натанчика Самошникова внутри все натянулось и задребезжало — не как перед схваткой на ковре в спортшколе, а как перед дракой не на жизнь, а на смерть.
Толик вспомнил свое обещание дому «притихнуть» и не ответил. Лишь глубоко втянул воздух ноздрями.
И тогда ушлая девочка-отличница, научившая Толика Самоху целоваться «по-взрослому», всегда готовая рвануть с ним в лесок за спорткомплекс для запретно-сладостных утех, встала рядом со своим Толиком и спокойно сказала с удивительным для двенадцатилетнего ребенка женским презрением:
— Шел бы ты отсюда, Заяц, к е…..й матери.
Тут класс и вовсе оторопел. На мгновение оторопел и Заяц.
Но спохватился, вытащил из кармана брючный ремень с большой и тяжелой гайкой на конце, намотал ремень на руку и с размаху шарахнул гайкой по верстаку.
— Захлопни пасть, сучара поганая! — прохрипел Заяц. — А не то я и тебя, и твоего кобелька так уделаю, что вас по чертежам не соберут…
— Нет, правда, Заяц, шел бы ты отсюда, — сдерживая тоскливую дрожь в голосе, с трудом проговорил Толик-Натанчик.
И продолжал сосредоточенно свинчивать одну «хреновину» с другой.
Заяц победительно рассмеялся и пообещал:
— Уйду, уйду, век свободы не видать. Ты только ответь мне — кто ты есть по нации, а, Самоха?
— А ты? — спросил у него Толик.
Он впервые оторвался от работы и в упор посмотрел в глаза длинному, тощему Зайцу.
— Я-то — русский! — хохотнул Заяц. — А вот ты кто?!
— И я — русский.
— Ты?! Тогда кто же на последнем родительском за тебя мазу держал?
— Моя мать.
Толику чуть дурно не стало от предчувствия того, что сейчас произойдет, если Заяц…
Но Заяц по тупости своей этого не ощутил и заржал на весь класс:
— Ну, бля, вы даете!.. То-то наш пахан позавчера вернулся с собрания из школы и грит: «За вашего Тольку Самошникова сегодня какая-то жидовка приходила…»
Вот тут шестой «А» увидел жуткую картинку.
— Й-е-эх!!! — на высокой, звенящей ноте дико вскрикнул Толик-Натанчик и по рукоятку всадил большую отвертку в тощий живот Зайца.
Будто реагируя на произошедшее, истерически заверещал школьный звонок — конец урокам… Конец… Конец всему…
У четырнадцатилетнего Зайца потрясенно открылся рот, страшненько округлились глаза, и класс-мастерская огласился его тихим, жалобным, очень испуганным щенячьим воем.
Он протянул было слабеющие руки к Толику, словно хотел ухватиться за него, чтобы не упасть, но Толик резко выдернул окровавленную отвертку из глупого и несчастного Зайца и бросил ее в угол.
Не найдя опоры, Заяц зажал живот руками, с трудом удержался на ногах и, как пьяный, качаясь во все стороны, не быстро выбежал из класса. Его панический вой подмял под себя дребезжание школьного звонка и разорвал стены школьного коридора, увешанные большими портретами великих педагогов прошлого…
А Толик Самошников, с тайным домашним именем Натанчик, сын Эсфири Натановны и Сергея Алексеевича Самошниковых, а также внук стариков Лифшицев, сел перед своим верстаком, обхватил руками голову и зажмурился в душном отчаянии.
Вот тут все наконец очнулись от чудовищного оцепенения, завизжали, завопили и в панике бросились вон из класса, а у Толика-Натанчика лихорадочно билась одна-единственная мыслишка: все, что случилось тридцать секунд тому назад, — всего лишь кошмарный сон, и нужно, обязательно нужно заставить себя проснуться…
Но пробуждение не приходило. В ушах стоял тихий, жалобный вой Зайца, а единственным человеком, оставшимся рядом с Толиком, была «его» девочка — круглая отличница и примерная общественница…
… Выжил пэтэушник Зайцев. Выжил.
Даже из больницы его выписали ровно через три недели.
Как раз к тому дню, когда следствие по делу бывшего учащегося шестого класса «А» средней школы номер такой-то, Самошникова Анатолия Сергеевича, было закончено. А решение Комиссии по делам несовершеннолетних при исполкоме Калининского района города Ленинграда о применяемых санкциях в отношении вышеупомянутого гражданина Самошникова А. С., двенадцати лет от роду, было подготовлено для оглашения.
Очень, очень возмущались перед началом заседания Комиссии сильно «взямшие» супруги Зайцевы, родители потерпевшего, — отчего нельзя вообще уничтожить этого полуеврейского выблядка?!
А секретарь Комиссии, миловидная женщина, ласково и доходчиво объясняла им, насколько гуманно советское законодательство, что не разрешает судить уголовным судом лиц, не достигших совершеннолетия.
И по доброте душевной пообещала товарищам Зайцевым, что подростку Самошникову А. С. за коварное нападение на их сына мало не будет…
— Я б таких, которые за нашими русскими спинами… расстреливал! — дыша на всех луково-водочным перегаром, бушевал папа Зайцев.
Правда, бушевал до тех пор, пока к нему не подошел Сергей Алексеевич Самошников и тихо не сказал ему:
— Вот если я тебя сейчас удавлю, тварь подзаборная, меня, точно, могут приговорить к расстрелу. Но мне на это будет уже наплевать.
А потом в сопровождении двух молоденьких милиционеров, в штатских костюмчиках, с оттопыренными сзади пиджачками, из следственного изолятора привезли Толика-Натанчика с потерянными глазами.
— Боже мой… Ну зачем они его остригли-то наголо?.. — заплакала бабушка Любовь Абрамовна.
Незаметно для нее Натан Моисеевич поморщился от боли в груди и положил под язык таблетку нитроглицерина. И взял Фирочку за руку.
Осунувшийся Толик-Натанчик, с неровно обритой головой, стоял лицом к крохотному зальчику исполкомовской Комиссии, стараясь не смотреть на маму, папу, бабушку и деда.
Всего один раз, когда его вводили сюда, он на них глянул, и все вокруг сразу же потеряло свои четкие очертания. Непролившиеся слезы моментально размыли лица, стены, двери, окна…
А председатель Комиссии по делам несовершеннолетних будничным голосом и без единой запятой уже оглашал решение своей Комиссии. И в зальчике, где всем советским гуманизмом было запрещено привлекать детей к уголовной ответственности, забавно звучало:
— …обвинение по статье сто восемь части второй Уголовного кодекса рэсэфэсээр предполагающей нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья с угрозой для жизни потерпевшего… однако, учитывая возраст привлекаемого к ответственности за совершенное преступление и руководствуясь статьей шестьдесят третьей Уголовного кодекса о применении принудительных мер воспитательного характера к лицам, не достигшим совершеннолетия, назначить меру наказания Самошникову Анатолию Сергеевичу пребывание в воспитательной колонии усиленного режима для несовершеннолетних сроком на пять лет…
Наверное, председатель Комиссии хотел добавить что-то еще, но в эту секунду неожиданно со своего места приподнялся дедушка Лифшиц и негромко простонал:
— Толинька… Натанчик мой маленький…
Потом всхрапнул уже не по-человечески, на губах его запузырилась серая пена, и с остановившимися глазами он упал на руки Сереге и Фирочке Самошниковым.
— Ну, что там у вас еще такое? — строго и досадливо произнес прерванный председатель Комиссии.
Серега Самошников прижал седую неживую голову Натана Моисеевича к своей груди, поднял глаза в потолок и негромко спросил:
— Господи!.. Да за что же это?!..
— Дедушка-а-а-а!!! — забился в истерике Толик-Натанчик.
… Задыхаясь и изнемогая от обволакивающей меня вязкой духоты, невероятным усилием непонятно откуда взявшейся воли я выдрался из своего идиотско-анабиозного состояния, подавил рвавшийся из меня младенческо-старческий всхлип и постарался незаметно утереть с лица слезы…
— Да подите вы с этой вашей историей знаете куда?! — чуть было не расплакавшись, заорал я на своего соседа по купе, честного Ангела-Хранителя. — Загнали меня в какую-то человеческую гнусность и безысходность…
Сна не было уже ни в одном глазу.
— На хер вы втравили меня — старого, потрепанного и очень даже сильно поиздержавшегося душевно — в этот мистический полусон, в этот ирреальный полупросмотр сентиментальной бытовухи недавнего прошлого? Я же предупреждал вас, что сегодня меня это категорически не интересует и не трогает…
— Я вижу, — насмешливо сказал Ангел.
— Вашу иронию можете засунуть себе… Прошу прощения. На фоне всех нынешних событий…
— Хотите выпить? — бесцеремонно прервал меня Ангел.
Я шмыгнул носом, приподнялся и уселся на узком купейном ложе так, как это делают на Востоке, — крест-накрест поджав под себя ноги.
Ангел усмехнулся:
— Вам бы еще тюбетейку и полуистлевший стеганый полосатый халат с клочками ваты из дырок — вылитый старый узбек с нового Куйлюкского рынка в Ташкенте.
— Лучше бы я смахивал на молодого нового русского со старого Алайского базара. Что вы там болтали насчет выпивки?
— Я просто спросил — не хотите ли вы выпить?
— Чего это вы раздобрились?
— Профессионализм возобладал.
— Какой еще «профессионализм»?..
— Обыкновенный. Ангельско-Хранительский. Так вам нужен глоток джина или нет? — сдерживая раздражение, спросил Ангел.
— Нужен. Это единственное, что могло бы сейчас привести меня в норму. Кстати… Я и не знал, что вашим чарам подвластен и алкоголь.
— Очень ограниченно. В крайне небольших дозах и только в случае острой необходимости. И мне показалось…
— Правильно показалось, Ангел. Сотворите-ка мне грамм полтораста. Со льдом, разумеется.
Мы мчались из вечерней Москвы в утренний Петербург.
За окном нашего купе летела глухая черная ночь с дрожащими желтыми электрическими точечками неведомых нам строений, домов с редкими, усталыми и полуголодными обитателями, о которых мы ничегошеньки никогда не узнаем. Сколько бы нам о них ни вкручивали разные хамоватые губернские карлики, забравшиеся на всякие трибунки с гербами и без.
Стуча себя в грудь грязными, вороватыми кулачками и клянясь в любви к этому несчастному обывателю, или, как теперь принято говорить — «населению» (куда исчезло симпатичное слово ЛЮДИ?..), эти представительно разжиревшие лилипуты в дорогих и дурно сидящих на них костюмах, злобно покусывая друг друга за пятки, взапуски карабкались от одной трибунки к другой — к той, которая помассивнее, повыше, на которой микрофонный кустарник погуще. И все ради блага своего «населения-электората»…
Под купе деликатно подрагивал пол, позвякивала чайная ложечка.
— Бологое скоро? — спросил я.
— Часа через полтора, наверное, — ответил Ангел. — Почему вы не пьете?
Я оторвался от окна, глянул на столик. Батюшки светы!..
Передо мной стоял запотевший стакан, наполненный настоящим «Бифитером» со льдом!
То, что это был «Бифитер», не оставалось никаких сомнений. У «Гордон-джина» слегка иной аромат. Уж я — то знаю! Не говоря уже о прекрасном, но недорогом «Файнсбюри».
Я-то вообще свято убежден, что если открытия, подаренные человечеству Англией, расставить на некой иерархической лестнице, то после паровой машины Джеймса Уатта и можжевелового джина, по праву занимающих верх этой лестницы, все остальное — включая сомнительное авторство Шекспира и неоспоримый закон Ньютона — должно располагаться на ее нижних ступенях…
А рядом, на небольшом купейном столике у стакана с «Бифитером», на маленькой аккуратной фирменной тарелочке Министерства путей сообщения лежали два потрясающих бутербродика с настоящей севрюгой горячего копчения! И уже традиционное «ангельское» румяное яблоко.
— Фантастика! — сказал я. — Откуда вы узнали, что севрюгу горячего копчения старик любит больше всего на свете?!
— Так… По наитию, — ответил Ангел. — Что-то мне подсказало именно эту севрюгу.
Я приветственно поднял стакан, отхлебнул из него и закусил бутербродиком со свежайшей, в прошлом — правительственной рыбкой.
С явного похмела и нервного вздрюча от этой не очень-то «ангельской» истории семьи Самошниковых — Лифшицев меня поначалу зябко передернуло, но уже в следующее мгновение неразбавленный, но охлажденный «Бифитер» рука об руку с севрюгой начали быстренько вершить свою спасительную акцию.
Тепло стало расползаться по всему моему сильно пожилому телу, а нервное напряжение — постепенно уходить, уступая место печальной расслабленности. Но я взял себя в руки и даже сумел, как мне показалось, достаточно иронично спросить у Ангела:
— Если наитие вам так точно подсказало севрюгу именно горячего копчения, то почему оно вас не привело к мысли о тонике? К маленькой бутылочке обыкновеннейшего «Швепса», который делают сейчас во всех странах мира. В России в том числе.
— С тоником, Владим Владимыч, получилась полная лажа, — смутился Ангел. — Попробовал — не вышло. Просто элементарно не сумел. Хотя с пивом — никаких проблем. За последние несколько лет по пиву у меня грандиозная практика. Одному моему постоянно опекаемому клиенту частенько необходимо по утрам пиво, и я насобачился творить любое — от «Балтики» до «Туборга». Пиво будете?
— С джином?! — ужаснулся я. — Сохраните меня и помилуйте. Вы с ума сошли, Ангел.
— Простите, ради всего святого, — извинился Ангел. — Я сам не пью и от этого могу что-то и напутать.
— Бог простит, — шутливо сказал я ему.
— Меня? Вряд ли, — серьезно ответил Ангел.
Но я как-то не придал никакого значения этой фразе.
Я прихлебывал джин и представлял себе Ангела на помосте среди культуристов самой мощной категории. Наверное, сегодня необходимо быть очень сильным не только духовно, но и физически, чтобы стать для кого-то настоящим Хранителем. И, клянусь чем угодно, я нисколько не удивился бы, если в портфельчике моего соседа по купе, этого здоровущего Ангела-Хранителя, лежал бы еще и большой, многозарядный автоматический пистолет с глушителем… Тогда понятно было бы, откуда в его, казалось бы, абсолютно интеллигентной речи нет-нет да и проскользнут сегодняшние расхожие вульгаризмы типа: «лажа», «насобачился» и еще что-то, что резануло мой слух…
Ангел удивленно приподнялся на локте, и я увидел, как под его легкомысленной пижамкой вздулся могучий мышечный бугор предплечья.
— Нету у меня никакого пистолета, дорогой Владим Владимыч! Нету. Он мне и не нужен. В нашем «ангельско-хранительском» арсенале достаточно сильнодействующих средств, исключающих применение какого бы то ни было оружия. А разный словесный мусор — так это все телевизор проклятый! И естественно, общение с опекаемым мною клиентом и некоторой частью его окружения. Ну куда денешься от всех этих сегодняшних рекламно-телевизионных, зачастую дурацких и нелепых, выраженьиц вроде «прикол», «оттянись со вкусом», «не тормози — сникерсни!»… Хотя, согласитесь, временами в бытовой речи вдруг возникают новые выражения, новые определения — поразительно точные, являющие собой уверенную и лапидарную смысловую концентрацию многострочного, а иногда и многостраничного пространного описания. И рождается этот новый и удивительный язык в основном в среде криминальной, а уж только потом переходит в деловые и политические круги. Хотя — с моей точки зрения — сегодня такой триумвират неразрывен. Неотвратимое влияние смутного времени, Владим Владимыч. Редко кому удается избежать в своей речи этого новояза.
— Не знаю, не знаю… Я, например, на дыбы встаю от ярости, когда наша внучка Катя вдруг заявляет, что она «тащится от прикольных стихов» Иртеньева. Или на какой-то вечеринке она, видите ли, «отрывалась по полной программе». И это студентка университета! Внучка литератора, наконец…
— Уж больно вы строги, как я погляжу, — усмехнулся Ангел. — А сами-то?
— Что? Что «сами-то»?! Я что — сочиняю гимны, оды и саги дамским прокладкам с крылышками?!
— Нет. В этом вас не упрекнешь. Вы сочиняете добрые, милые сказочки, почти похожие на взаправдашную жизнь. Но иногда вы неожиданно, очертя голову ныряете в общий мутный поток обличительной и разухабистой журналистики…
— Где?!.. Когда? Пример! Немедленно пример… Или — к барьеру!
— Полчаса назад, когда вы, нервно раздерганный историей Толика-Натанчика, смотрели в окно, как вы мысленно клеймили разных «губернских карликов», их «трибунки с гербами и без»?! Как страстно вы насыпались на этих «представительных лилипутов», на которых даже дорогие костюмы и то сидят дурно! Цитирую почти дословно. А уж коль так начинаете мыслить вы, то это примерно то же самое, когда я говорю «лажа», а ваша Катя «тащится от прикольных стихов» Иртеньева. «Не королевское это дело», господин литератор, упрощенно и карикатурно оценивать то, что сейчас происходит вокруг нас. Вы-то должны понять, что там, около этих клоунских «трибунок», вся колготня намного сложнее и опаснее…
Я единым глотком прикончил «Бифитер», рассосал нерастаявший кусочек льда и довольно сухо заметил Ангелу:
— Я, кажется, уже как-то просил вас не подглядывать за моими мыслями. Я слишком стар для такого стриптиза.
— Простите меня, пожалуйста, — сказал Ангел. — Но это происходит помимо моего желания. Чужие мысли являются мне автоматически. Ну, как бегущая строка перед телевизионным диктором… Это врожденная особенность любого Ангела-Хранителя. Вероятно, таков набор хромосом. Не знаю. Но если меня лишить этой способности, то мне действительно, наверное, придется завести большой пистолет с глушителем и превратиться в обычного жлоба-охранника. А мне этого очень не хотелось бы.
— Замечательно! — Я спустил ноги с диванчика и стал натягивать домашние тренировочные «адидасовские» штанишки. Одновременно босой ногой я нашаривал на полу с вечера приготовленные тапочки. — Обожаю, когда мне в почтительно-покровительственной форме пытаются объяснить, какой я мудак и насколько я ни хрена не смыслю в том, что происходит вокруг меня. Спасибо, друг мой Ангел… Уважил.
— Владим Владимыч, родненький!.. Ни о каком покровительственном тоне и речи не было — клянусь вам чем угодно! Просто возникло естественное желание уберечь вас от некоторых ошибочных оценок. Вы так давно живете за границей, так редко бываете дома, в России, что немудрено…
Тут Ангел увидел, как я встаю со своего мягковагонного спального диванчика, решительно направляюсь к двери и отщелкиваю все внутренние никелированные устройства, якобы предохраняющие купе от нежелательного вторжения извне.
— Подождите, подождите! — искренне всполошился Ангел. — Куда это вы — на ночь глядя?! Вы что, хотите переселиться в другое купе?..
— Нет, — ответил я, уже выходя в пустынный, прохладный, ночной, подрагивающий от скорости вагонный коридор. — Я с вашего «ангельского» разрешения сейчас схожу в туалет. Отолью, извините за выражение. Алкоголь на меня всегда действует как превосходный диуретик. Так что выпивка мне полезна вдвойне. А вы, любезный Ангел, покамест придумайте какой-нибудь элегантный монтажный переход к продолжению своей истории о Самошниковых — Лифшицах. Судя по вашей дотошной информированности, вы к их судьбе тоже приложили свою небесно-волшебную лапку…
… Минуты через три, когда я возвращался из туалета и, пошатываясь от вагонной качки, слегка усиленной джином без тоника, наконец доплыл до своего купе и осторожно приоткрыл дверь, боясь, не бог весть с каких трезвых глаз, по ошибке вломиться к посторонним спящим людям, передо мной возникла мгновенно отрезвляющая картинка.
Не было на этот раз никакого погружения в странный «гипнотический» сон, когда я, лежа в полутьме, сначала наблюдал за превращением нашего купе в место действия, описываемое мне тихим, ускользающим голосом Ангела, а уже только потом и сам включался в некий отстраненно-зрительский процесс нематериального соучастия.
На этот раз ничего подобного не было! Как не было ни самого Ангела, ни его голоса…
Не было даже пустого стакана из-под последней дарственной порции джина. Да и откуда бы ему там взяться — если не было самого купе?!
Поначалу, пока я еще находился в коридоре вагона, была только дверь в наше купе.
Но и та исчезла сразу, как только я приоткрыл ее, переступил порог и оказался…
…в КРЕМАТОРИИ…
Только что гроб с телом Натана Моисеевича Лифшица опустился в извечно жуликоватую преисподнюю крематорского зала номер три под тихий, слегка поскрипывающий шумок электромоторов и печальную магнитофонную мелодию…
Створки постамента, где еще несколько секунд тому назад стоял гроб, уже сдвинулись и приготовились принять следующего усопшего.
Молоденький служитель крематорного культа в потертом черненьком траурном костюмчике поглядывал в бумажечку-наряд, учил имя нового покойного наизусть, чтобы — храни Господь! — не напутать ничего, когда он, со лживо-скорбным лукавым личиком, в который раз за этот день будет произносить кем-то сочиненные и официально утвержденные ритуальные слова прощания.
Снова польется из обветшалых динамиков та же самая, чуточку похрипывающая музыка, и так же неумолимо будет разрывать в клочья сердца очередных провожающих, остающихся на этой земле…
… Начиная с восьмидесятых нередко случалось мне бывать на этой безжалостной фабрике. И с каждым прожитым годом мои посещения ее скорбных залов становились все чаще и чаще
… Как это там было у Галича?..
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья…
А уж если по «гамбургскому счету», то и «другие» тоже «в никуда».
Это я про взлеты в чиновничье поднебесье, про внезапно появляющиеся безразмерные загранично-банковские счета.
Да и про эмиграцию. Даже самую что ни есть успешную. Но это, так сказать, мои личные соображения. Я их никому не навязываю. Мне эти так называемые общепризнанные блага всегда были, извините, до лампочки. Утверждаю без малейшего кокетства. И не потому, что вместе со старостью, неотвратимо вползающей в еще не совсем одряхлевшее тело, неожиданно и пугающе начинают исчезать, казалось бы, такие родные и привычные желания…
Нет. Мне на эти «блага» было всегда наплевать.
Даже тогда, когда самые фантастические желания переполняли меня до краев…
… Поминали Натана Моисеевича узким семейным кругом — Любовь Абрамовна с сухими, провалившимися, словно выжженными глазами; красивая седеющая Фирочка, жестко взявшая бразды правления в семье в свои руки; тихий и верный Серега Самошников, пугливо и зорко следящий за состоянием Любови Абрамовны, чтобы вовремя подскочить к ней с нашатырем или валерьянкой; и старый-старый друг Натана Моисеевича — закройщик из того же ателье на Лиговке, знаменитый Ваня Лепехин.
Ваня был младше Натана Моисеевича ровно на год, но в отличие от старшего лейтенанта Н. М. Лифшица войну закончил рядовым и значительно раньше — в сорок втором. Как впоследствии описывал в бесчисленных советских анкетах и автобиографиях — «по причине оторвания ступни левой ноги при заблуждении в темноте минного поля».
Лепехин являл собою живое олицетворение классического «краткость — сестра таланта».
Он был гениальным Закройщиком, очередь к которому была расписана на год вперед, и обладателем крайне куцего словарного запаса. С завидным успехом Ваня ограничивался в жизни всего тремя выражениями — «мать честная!», «б…ь» и «на х…!».
Этими тремя символами Ваня объяснялся и с заказчиками, и с подчиненными ему мастерами, и с заведующим ателье, и со всем окружающим его миром. А также рассуждал на любые животрепещущие темы. Даже философские. Которые от Ваниного лаконичного изложения только оживлялись и выигрывали.
Лепехин был человеком одиноким и состоятельным. У него была однокомнатная кооперативная квартира и «Волга» Газ-21 с оленем на капоте и ручным управлением в салоне «по причине оторвания ступни левой ноги при заблуждении в темноте минного поля».
А еще он был человеком сурово пьющим. И друг у него был один-единственный — Натанка Лифшиц. В его жену — Любашку, в смысле Любовь Абрамовну, — Ваня Лепехин влюбился еще совсем молодым, в ту же секунду, как только увидел ее впервые. Да так и пронес эту тайную, как ему казалось, любовь к жене ближайшего корешка до самой своей запьянцовской старости. Сквозь тридцать пять лет их знакомства и четырех собственных жен разных периодов своей жизни.
При Любочке… То есть при Любови Абрамовне Лифшиц, Ваня Лепехин каким-то Божьим чудом, густо замешенном на диком напряжении человеческой воли, все-таки как-то умудрялся избегать своих трех универсальных выражений.
При ней его словарно-разговорный ассортимент слегка расширялся и даже сам по себе складывался во вполне приличные выражения. Хотя и не всегда вразумительные. Однако, к чести Ивана Лепехина, следует заметить, что в каждой его корявой фразе всегда присутствовала некая здравая мысль, в каком бы состоянии Ваня в эту секунду ни находился — в совершенно трезвом или в мертвецки пьяном.
Но такое происходило только в присутствии Любочки. Любови Абрамовны Лифшиц.
Ну, что тут скажешь? «Мать честная!», «б…ь», да и только. Так вот и жизнь прошла «на х…….
… Когда отплакались, помянули, пожелали Натану Моисеевичу, чтобы земля ему была пухом, шестидесятипятилетний Ваня Лепехин, как он сам говорил — «вдетый еще со вчерашнего…», впервые в своей жизни произнес длинную и почти связную речь.
— Любушка, подружка моя… — надрывно сказал Лепехин и поднял большую стопку с водкой. — Мать честная… Фирка! Да сядь ты, бля, ради Бога!.. Не колготись — всего хватает… Серега, сынок! Налей девочкам…
Ваня с трудом поднялся из-за стола и заботливо поправил кусочек черного хлеба на полной до краев рюмке, стоявшей напротив опустевшего постоянного домашнего места Натана Моисеевича Лифшица.
— И ты, Натанка, слушай… — Лепехин скрипнул зубами. — Не прощу!!! Я за их воевал на х…. ноженьку свою за их отдал, а они, суки, крестничка моего… ребеночка нашего Толиньку, погребсти дедушку своего любименького — не отпустили!.. Что же это за власть такая блядская?! Мать честная… Я на Лешку в обиде… Хоть он и артист. А за Толика-Натанчика, за внученьку нашего… Вот я тут все думал, думал… Дом у меня есть. На черный день покупал. Хороший дом — двенадцать соток при ем. Полста километров от города по Всеволожской — не боле… Чего я решил?.. Толянчику нашему дом этот! Завтра и отпишу. Потому как…
Натан! Натанка, друг мой сердешный… Ты там без меня особо-то не тоскуй… Не кручинься. Я к тебе скоренько прибуду. Немного тебе ждать-то меня осталось… Вот на Толика дом оформлю и… привет, Натан Моисеевич! Это я — Ваня Лепехин, кореш твой старый преставился!.. Наливай, Натан, чего смотришь, бля? Встречай гостя, мать честная…
Как Ваня Лепехин сказал — так и сделал.
Спустя некоторое волокитное время тринадцатилетний заключенный воспитательной колонии усиленного режима № 7 (а в эти дни Толику-Натанчику как раз тринадцать лет и исполнилось…), «осужденный» по статье 108 части 2, Самошников Анатолий Сергеевич, ни о чем не ведая, официально вступил в права владения жилым домом общей площадью в 134, 2 квадратных метра, а также прилегающим к нему земельным усадебным участком в 12 соток непахотной земли, не состоящей на земельном балансе у сельского Совета деревни Виша, а являющейся собственностью владельца прилегающего к участку дома — гражданина Самошникова Анатолия Сергеевича.
Копии «договора дарения» с уже оплаченными (квитанции прилагаются) нотариальными налоговыми сборами, предусмотренными статьями 239 и 256 Гражданского кодекса РСФСР, зарегистрированы в исполнительном комитете сельского Совета депутатов трудящихся…
— Ваня лет пятнадцать тому назад как-то один раз возил нас туда с папой, — сказала Любовь Абрамовна Фирочке и Сереге. — Мы еще Лешеньку тогда с собой брали. Он, кажется, в четвертом классе учился… Убей бог, ничего не помню!.. Только какую-то кошмарную вымершую деревеньку между Куйвозе и Вартемяги, старух пьяных помню… И туалет такой будочкой во дворе. А в двери туалета — сердечко насквозь прорезано…
Месяц спустя между Сергеем Самошниковым и старым Ваней Лепехиным произошел странный, полумистический телефонный разговор.
В ту пятницу у Фирочки был внеплановый выходной — отгул за переработку часов. Она воспользовалась свободным днем, наготовила вкусностей, посадила Любовь Абрамовну в «Запорожец», сама уселась за руль, и поехали они в направлении Кингисеппа, где в пятидесяти шести километрах от Ленинграда, за высоким каменным забором, украшенным сверху достаточно изящными спиралями из колючей проволоки, «перевоспитывали» несовершеннолетних правонарушителей.
Авось да и удастся повидаться с мальчиком… А нет — так хоть выплакать бы разрешение на передачку. Добро бы — обычная колония, так нет же — «усиленного режима». Тут хоть вой, хоть головой об стенку бейся!.. «Не положено».
Это если бесплатно. По закону.
А за пятьдесят рубликов, говорят, вполне возможно. А за семьдесят пять — даже с предоставлением спецкомнатки для свиданий с родственниками заключенного…
Серега приехал с работы домой, прочитал Фирочкину записку и стал разогревать на плите кастрюлю с куриной лапшой.
Тут и зазвонил телефон.
Сергей Алексеевич поднял трубку, сказал:
— Слушаю.
А из трубки — Ваня Лепехин:
— Серега, ты, что ли?
И голос такой — вроде бы и веселый, и немного нервный.
— Я, дядя Ваня. Кто же еще?
— Ай точно! — обрадовался Лепехин. — Кому еще-то быть?! А Фирка с Любашкой в дому?
— Нет. К Толику в колонию поехали.
— Ага… Я тоже позавчера к ему ездил — меня и на порог не пустили, бляди. Так я на х… и вернулся с колбаской московской и пряниками мятными. Он же эти прянички ну, жуть, как любил!.. Бывало, придет к нам в ателье и… Ну, я и решил, чего ж я, бля, вместо деда-то Натана не могу своему крестничку мятных пряничков привезти? А мне, мать честная, от ворот поворот!
— Спасибо, дядя Ваня. За все, за все вам спасибо.
— Ой, да не шел бы ты на х… Серега! Чего мелешь-то, бля?! Какие «спасибы»?!! Ты вот чего, слушай, Серый… Фирка с Любочкой вернутся — передай, звонил, мол, Ваня Лепехин, попрощаться хотел.
— Уезжаете, дядя Ваня? — насторожился Серега.
— Ага, Серега. Уезжаю.
— Надолго?
— Дык, как сказать?.. Видать, навовсе.
— Это как?.. — похолодел Серега.
— Дык, очень просто, — незатейливо ответил Ваня Лепехин. — Чего Натану, тестю-то твоему, передать?
Трясущимися пальцами Серега выключил газ под кастрюлей и попытался спокойно сказать:
— Дядя Ваня… Вы, наверное, с утра приняли немного… Так вы прилягте, поспите пару часиков, а к тому времени Фирочка и Любовь Абрамовна вернутся и позвонят вам. А хотите, я могу сейчас к вам приехать? Может, помочь чего…
— Сережка, хошь я тебя рассмешу на х…? — весело спросил Ваня Лепехин. — Дык, я как начал те бумаги на Толика оформлять, как закрутили меня по энтим е…..м конторам, так я всю пьянку и забросил, мать честная! Две недели маковой росиночки в роте не было! Вот, может, счас на посошок приму полторашечку и поплыву потихоньку к Натанке, к другу моему сердешному… А Алешке, артисту нашему, напиши — дядя Ваня больше на него обиду не держит… Пусть кажный будет там, где он хочет. Как я.
… Уплывал Иван Павлович Лепехин к своему закадычному дружку Натану Моисеевичу Лифшицу в том же крематории, даже в том же самом маленьком зальчике номер три.
Только в закрытом гробу.
Потому что, если ты стреляешь себе в рот из охотничьего ружья двенадцатого калибра крупной картечью, полголовы тебе разносит во что-то ну совершенно неузнаваемое.
И людям, провожающим тебя в последний путь, на это смотреть абсолютно невозможно. Провожающих тоже нужно жалеть…
По всей вероятности, я уже некоторым образом адаптировался к своим частым «входам» в рассказ моего соседа по купе Ангела-Хранителя. А также с гораздо меньшими нервными потерями стал «выходить» из его истории о Самошниковых и Лифшицах в нашу сиюсекундную железнодорожную реальность «Красной стрелы», раскаленно пронзающей густую ночь, лежащую на московско-петербургских рельсах.
Теперь повествование Ангела перестало напоминать мне «рабочий» просмотр отснятого, наспех и хаотически подложенного, еще не смонтированного материала с черновой фонограммой в маленьком зальчике студийной монтажной.
Восприятие истории в целом стало похожим на просмотр уже не отдельных кусков будущего фильма, а почти сложенного телевизионного сериала с обязательными перерывами на дурацкую рекламу с препошлейшими текстами.
Только вместо рекламы из этой «ангельской», достаточно жесткой драматургии, из ее жутковатых сюжетных глубин на поверхность реального места и времени, в наше купе, вдруг выныривал я сам!
Перевести дух. Глотнуть свежего воздуха. Чуть-чуть передохнуть от той, уже явно мне не по возрасту, нервотрепки, в которую ввергала меня эта, казалось бы, чужая история.
Что же касается пошловатеньких текстов, обычно сопровождавших мои вынужденно-рекламные появления на поверхности реальной сегодняшней ночи, — так они, оказывается, целиком принадлежали мне.
Ах, как я рассчитывал на счастливый, хороший конец этой истории — пусть «через тернии», но все-таки «к звездам»!
Боже мой, как летит время!.. Ведь совсем недавно на наших закрытых просмотрах в Доме кино плевались мы, глядя на четко выверенные утешительные «хеппи-энды» американского коммерческого кинематографа! Как чванливо ржали над ловко пристегнутыми «счастливыми финалами». Этакими радостно помахивающими, жизнеутверждающими хвостиками — так нежно любимыми нашим родным советским киноначальством и нашим невзыскательным, но очень массовым зрителем. Перед которым мы почему-то всегда оказывались в «неоплатном долгу».
А вот, поди ж ты, как с возрастом меняются вкусы… Теперь нам именно этот «хвостик» и подавай! Или жизнь нынешняя нас так замудохала и затрахала?
Поэтому к своему очередному всплытию на свежий воздух купе я сразу же выдал следующий текст соседушке Ангелу:
— А вы-то где в это время были, мать вашу в душу?! На кой х-х-х…
Хотел я было назвать все своими привычными именами — так ведь нет! Что-то да остановило меня в моем выплеске. Правда, не столько в выплеске, сколько в форме его выражения.
— На кой, — говорю, — хрен вы-то, Ангелы-Хранители, существуете?! Вы хоть кого-нибудь оберечь можете? Или это все — понтяра вселенского масштаба?! Кликушество шизофреническое. Психопатизм, зародившийся в пустоте, в черных дырах человеческого сознания… А дальше — как в купеческой лавочке: «Айн моментик-с! Сейчас мы эту пустотку вашу заполним каким-нибудь вероученьицем! В кого верить желаете? Креститься как изволите — слева направо или справа налево?.. Нет проблем! Для вас — сделаем-с!»
— Будет вам ерничать, — неприязненно проговорил Ангел. — Знал бы, что вы так перевозбудитесь, — никакого джина не предлагал бы.
— Так вы меня решили джином упрекнуть?! — возмутился я. — Вы же первый предложили мне выпивку!
— Я увидел, что вы слегка расклеились, и решил немного взбодрить вас. Я не предполагал, что это может привести вас к такому срыву…
— Неужто вы думаете, что ваша воробьиная порция «Бифитера» могла хоть как-то повлиять на меня? — гордо заявил я и машинально добавил: — Побойтесь Бога, Ангел!..
Клянусь, я добавил эти два слова, не вкладывая в них никакого прямого смысла! Для меня, неверующего, это выражение было не более чем восклицанием типа: «О чем вы говорите?» или «Как вы это могли подумать?!»
Ангел же воспринял мои «Побойтесь Бога», как мне показалось, излишне впрямую.
— Я Его и так боюсь, Владимир Владимирович, — серьезно ответил мне Ангел, по-моему, впервые полностью и отчетливо выговорив мое имя и отчество. — Поэтому давайте не будем упоминать Господа в связи с такими вот ничтожными пустяками.
И Ангел показал глазами на пустой стакан из-под божественного «Бифитера».
Тут весь мой запал иссяк, и я скис.
Чего я на него насыпался?.. В то время он был ребенком. Пусть с крылышками, но «ребенком». О том, что рассказывает мне, он и сам узнал много лет спустя. И обвинять его в чем-либо с моей стороны просто свинство!
— Простите меня…
Я чуть было по привычке не сказал «ради Бога», но вовремя удержался и продолжил:
— Насколько я сумел понять, вы когда-то и сами были, так сказать, отлучены…
— Но не от Веры же, Владимир Владимирович, — прервал меня Ангел. — И потом… Я тоже хочу у вас попросить прощения, но любые разговоры о Вере и Неверии мне неприятны. Ничего, что я вот так — без выкрутасов?
— Да, да, конечно, — пробормотал я и вдруг увидел глаза Ангела.
На меня смотрели уже не «девичьи» голубые глаза, излучавшие необыкновенную доброту и внутреннее обаяние. Глаза, принадлежавшие красивому и волевому лицу молодого парня. Что так и поразило меня при нашем первом знакомстве.
Сейчас я увидел холодные темно-синие глаза скандинавского викинга, решительно и опасно убежденного в своей правоте и в своем праве.
Но уже через мгновение глаза Ангела снова посветлели и грозный, непримиримый викинг легко уступил место милому, доброму, интеллигентному и явно очень спортивному пареньку с редким именем — Ангел. И еще более редкой для сегодняшней России специальностью — Ангел-Хранитель.
Я знал о существовании легионов Хранителей… Вернее, Охранников. Они никогда никого не могли уберечь от «заказного» отстрела, сами, бедняги, погибали за очень невеликие деньги и своим Хозяевам служили в основном предметом роскоши.
Чем больше Охраны, тем круче Хозяин! Ну, как в достославные царские времена — изящный золотой портсигар Фаберже с монограммой, выложенной небольшими бриллиантиками голубой воды, или — собственный выезд в карете работы французского мастера Поля Фролло, запряженной четверкой настоящих «непаленых» орловских рысаков.
Но как измерить ценность того, что Настоящий Ангел-Хранитель ночью, в купе скорого поезда «Красная стрела», следующего из Москвы в Санкт-Петербург, протягивает тебе свою большую и могучую длань и спрашивает удивительно мягким, неземным, каким-то «потусторонним» голосом:
— Мир?
Да ведь этому просто цены нет!!! Какие там портсигары, какая Охрана, что за рысаки?..
Конечно же, я хватаю двумя руками крепкую сильную ладонь Ангела, с радостным облегчением пожимаю ее и с чувством отвечаю:
— Конечно — мир! Обязательно — мир.
И думаю про себя — не перебрал ли я с чувствами? Старость проклятая… Сентиментализм в последнее время попер из меня, как из фановой трубы.
… Потом несколько минут мы молча лежим под своими одеялами.
Наконец Ангел говорит:
— А с Лешкой Самошниковым, Владим Владимыч, произошла и вовсе дурацкая история…
… К середине восьмидесятых таким историям не было счета.
На них уже почти не обращали внимания. Подумаешь — из командировки не вернулся, за бугром остался… Или из туристической группы сбежал. Или, как говорится, «моряк сошел на берег» — сиганул через борт и вплавь к чужеземным берегам. А там… Если доплыл — «прошу политического убежища»!
В большинстве случаев при таких побегах политики не было ни на грош. Сплошное вранье про преследования советской властью, Комитетом государственной безопасности и другие страсти-мордасти. Об этом судачили на московско-ленинградских кухнях, слышали от ранее смылившихся, читали у Солженицына, Варламова…
Какие-то детальки слышанного и читанного примеряли на себя и, если хоть что-то приходилось по вкусу, сооружали из чужого матерьяльца себе жалостливую историйку с псевдополитическим запашком и выдавали ее потом доверчивым западным иммиграционным властям за собственную несчастливую советскую судьбу…
Поначалу, в шестидесятых и семидесятых, на Западе таким очень верили и привечали. Делая вид, а возможно, и не соображая, что те, кого взаправду преследовали и сажали под кагэбэшный надзор, за границы своей великой родины не ездили. Их к таким поездкам и на пушечный выстрел не подпускали.
Того же, кто вокруг своей подлинно сопротивленческой деятельности еще и умудрялся сотворить хай международного масштаба, привлечь к себе внимание так называемого «мирового сообщества прогрессивных сил», — того могли громко и насильно лишить гражданства и выкинуть из Страны Советов к свиньям собачьим.
Или обменять на какого-нибудь южноамериканского обгадившегося политдеятеля или на уже выпотрошенного нашего завалившегося разведчика.
Или просто шлепнуть без суда и следствия. По-тихому…
От несчастного случая никто не застрахован.
Канули в Лету свирепые времена шестидесятых, когда за одного сбежавшего отвечали чуть ли не все оставшиеся.
Тогда «за потерю бдительности и ослабление политико-воспитательной работы» изгонялись из коммунистической партии и безжалостно увольнялись со своих сладких и теплых постов маленькие чиновнички, руководившие такими поездками.
Родственников сбежавшего предавали публичному остракизму на всех уровнях — от домкома до заводского партбюро. Ну а потом им, как говорилось тогда в партийных кругах, «перекрывали кислород по всем параметрам» и без того нелегкого советского бытия…
Сбежавшие невероятными путями пересылали весточки на Восток — папам и мамам, после прочтения которых мамы и папы забывали обо всех своих горестях «родственников предателя Родины». Лишь бы Ему там было хорошо — на Западе…
Эти письма, исполненные тоскливой и успокоительной лжи об обретенной «свободе» и несуществующем благополучии, шепотом пересказывались доверенному кругу оставшихся и рождали новых потенциальных перебежчиков…
Но были и удачливые «бегуны».
Балетные и цирковые артисты, музыканты, скандальные скульпторы и художники и спортсмены мирового класса. Представители профессий, не требующих никаких знаний, кроме знания своей профессии.
В те годы уж в этом-то мы и вправду были «впереди планеты всей!»…
Поэтому русским балетным, артистам русского цирка, музыкантам и российским художникам не приходилось врать в своих письмах об «обретенной свободе и феноменальном достатке».
Так оно и было: они обрели свободу передвижения по миру, а в большинстве своем скромные заработки (по западным меркам) действительно оказывались «феноменальными» в сравнении с их прошлыми заработками на Востоке.
Но если продолжить перечень беглых служителей советского искусства, в наихудшем, почти беспросветном положении оказывались русские литераторы и драматические актеры русских театров.
Эти две категории были просто никому не нужны!
Когда же завалило за середину восьмидесятых и открылись перестроечные шлюзы, всем стало на все наплевать! Беги куда хочешь… За бугор? Вали к такой-то матери, не путайся под ногами. Хорошие бабки теперь можно отлично наварить и в домашних условиях…
Очень, очень многое переменилось. И на Востоке, и на Западе.
В России к эмиграции стали относиться безразличнее, на Западе — осмотрительнее.
Одно оставалось прочным и неизменным — русские поэты и писатели и русские драматические актеры Западу не требовались!
Не потребовался здесь никому и один из самых способных выпускников Ленинградского театрального института, ведущий молодой артист Псковского драматического театра Алексей Самошников. А он уже Незнамова играл, Ваську Пепла, молодого Ленина и репетировал Гамлета…
Юные околотеатральные псковитяночки и опытные внутритеатральные сплетники поговаривали, что в Пскове Самошников не засидится. Вроде бы на него уже давно сам Товстоногов глаз положил. А Равенских, следуя машиной из Москвы на Рижское взморье, специально заезжал в Псков — посмотреть на Лешкиного Ваську Пепла.
И вот — на тебе… У людей в двадцать четыре года, в двадцать пять лет обычно все еще в будущем, все впереди, а у Лехи Самошникова в этом возрасте — все уже в прошлом.
В область тоскливых и щемящих воспоминаний ушли Ленинград, институт на Моховой, родная квартира на Бутлерова, мама, папа, бабушка и дедушка, младший брат Толик с домашним именем — Натанчик.
Безвозвратно растворился в прошлом псковский театрик, куда местные девочки-поклонницы бегали не на молодого, высокого и красивого Ленина — Самошникова, не на надрывно-несчастного, стройного и опять очень красивого Самошникова — Незнамова, а на артиста Алешеньку Самошникова, в какой бы роли он ни появлялся на сцене. А хоть бы и в новогодне-елочном Зайчике!
Прорывались девочки и на обл — и горисполкомовские торжественные концерты по случаю частых советских праздников. Там Лешка отменно читал Пастернака и Заболоцкого, Самойлова и Ахматову.
Бродского читать не рекомендовали, но обещали в скором времени однокомнатную квартирку в новом микрорайоне.
Прошлым стали даже совсем недавние события — шефские спектакли в советской группе войск под Лейпцигом и Эрфуртом, бессонные ночи с прехорошенькой и поразительно умелой немочкой Ютой Кнаппе с ее старательным и забавным русским языком…
И, что самое удивительное, очень даже стерлось в памяти самое генеральное событие, ставшее причиной всего того, что сейчас происходило с Лешкой Самошниковым. Неожиданный для самого себя, какой-то истерический, унизительный побег из «нашей» Германии в «чуждую нам» — Федеративную.
Хотя кое-какие детали этой поспешной и дурацкой затеи нет-нет да и напоминали о себе…
Ну, например…
…под утро первой бессонной ночи такой разнообразной любви, что Лешка только диву давался и изо всех сил старался соответствовать Ютиным заграничным запросам, которые для него, честно говоря, были доселе неведомы, Юта спросила у Лешки:
— Льеша, ты играешь в театре все хауптроле. Сколько денег тебе дают за работу?
Лешке совсем недавно повысили ставку до восьмидесяти пяти рублей, однако он впервые в жизни трахал иностранку на ее же территории и, чтобы не уронить честь собственной Родины, свято солгал:
— Сто тридцать рублей.
О такой ставке Лешка мог только мечтать, но чего не ляпнешь во славу своего Отечества, которое издалека всегда кажется значительно ближе и роднее.
— Триста девяносто марок, — быстренько подсчитала практичная Юта и тут же попыталась уточнить: — За каждый спектакль?
— Нет, ну что ты?! — растерялся Лешка от такого фантастического предположения. — В месяц!
— О… — удивилась немецкая девушка Юта Кнаппе, вольнонаемная служащая офицерской столовой войсковой части, расквартированной на земле ее страны. — А сколько раз в месяц ты выходишь на сцену, к публикум?
— Все зависит от репертуара, — честно ответил артист Самошников. — Раз пятнадцать, двадцать…
Юта прилегла щекой к причинному Лешкиному месту, подняла свои невинные хорошенькие глазки к потолку и, сосредоточенно хлопая ресничками, принялась что-то подсчитывать в уме.
Результат подсчетов ее настолько поразил, что она потрясенно приподнялась над могучими Лешкиными достоинствами, счастливо унаследованными от отца Сергея Алексеевича, отличавшегося очень даже нестандартными размерами, подняла на Лешку глаза, полные слез, и в ужасе спросила:
— Всего восемнадцать кома фюнф марок за спектакль?!! О, бедный, бедный Льеша…
И так искренне зарыдала над несчастливой судьбой талантливого советского артиста в условиях тотального коммуно-социалистического строя, что Лешке пришлось приводить ее в чувство всеми доступными ему способами.
Из-за этого он чуть не опоздал на дневной спектакль для детей военнослужащих и советских гражданских специалистов различного профиля.
Когда же он еле-еле приволокся в закулисье Дома офицеров, старый актер, игравший в спектакле «Семья» отца молодого Ленина, увидел Лешку, охнул и завистливо сказал ему на ухо:
— Укатали сивку крутые горки. Ты сейчас похож не на молоденького Володю Ульянова, будущего вождя мировой революции, а на сильно потасканного Раскольникова, аккурат после того как он тяпнул топором старуху-процентщицу…
И еще одно воспоминание…
Вряд ли оно послужило каким-либо толчком к совершению этого идиотского, неосознанного, практически ничем не оправданного и абсолютно никчемушного Лешкиного побега.
Может быть, если попытаться собрать мозаику мелких обид и унижений в единую анекдотическую и неприглядную картинку, возникшую еще в Пскове при оформлении труппы театра на выезд за границу, — так отыскался бы мало-мальски вразумительный ответ на это бездарное Лешкино решение?..
Да нет. Вряд ли. Тогда парткомо-райкомовские выездные комиссии воспринимались как данность, как некая обязательная и противненькая микстура, после принятия которой может наступить и облегчение. Сиречь — выезд за рубеж.
Или эта же микстура с равным успехом могла и прикончить субъекта, пожелавшего хоть ненадолго, за свои кровные, выехать за пределы Союза…
А может быть, Лешкиному поступку в какой-то мере способствовал разговор «молодого Володи Ульянова» со своим «старшим братом Александром» за кулисами Дома офицеров уже здесь, в Германской Демократической Республике, перед самым началом спектакля по пьесе «Семья»?
Это произошло после второй ночи, проведенной Лешкой в постели Юты Кнаппе, а не в чистенькой, вылизанной казарме, которую командование советского танкового корпуса предоставило для жилья товарищам артистам.
Перед спектаклем к Лешке Самошникову — «Володе Ульянову» подошел его коллега, изображавший «Александра — старшего брата будущего вождя», отвел Лешку в темный уголок и, дыша на него перегаром вчерашнего банкетика с товарищами офицерами, тихо сказал:
— Старичок, между нами… Когда мы выезжали из Пскова, один человечек… ну, сам понимаешь… ОТТУДА. Попросил меня вести дневничок наших гастролей за границей. То есть кто с кем куда ходил, что говорил… Ну и так далее. Сам понимаешь. Как бы ты поступил на моем месте?
— Не знаю, — соврал Лешка и для убедительности пожал плечами. — Понятия не имею.
— А я ему сказал: извините меня, пожалуйста, я очень уважаю вашу работу и очень хорошо даже понимаю, как она необходима для всего нашего народа, но вы, дорогой товарищ, обратились не по адресу. Я — артист, говорю, и я служу нашему советскому театру, искусству, наконец! И предложение ваше принять не могу. Как говорится, богу — богово, кесарю — кесарево…
Лешка не верил ни одному слову «брата Александра».
В любом театрике небольшого города все всё про всех всегда знают. Кто просто наушничает главному режиссеру, а кто и помогает охранять целомудренность всей страны. Так сказать, ее «государственную безопасность».
Внутри театра обе категории вычислялись до обидного просто: распределение ролей, категорий, ставок и квартир при почти полном несоответствии уровня способностей индивидуума получаемым им благам.
И если над кланом «наушников» можно было и подхихикивать почти вслух, то клан «государственников» был неприкасаем. Тут хихикать было просто опасно!
— А он что? — как писали раньше в детской литературе, «с хитроватым прищуром спросил молодой Володя Ульянов». Он же — Лешка Самошников.
Но «старший брат Александр Ульянов», как известно, исторически казненный, не уловил иронии в голосе младшего брата. Уж слишком серьезное поручение выполнял он сейчас. Вопреки заверениям, что «предложение человека ОТТУДА принять он не смог». Смог. И принял с трепетом и благодарностью за доверие. И Лешка об этом прекрасно знал. Отсюда и «хитроватый прищур».
— А что он? — горделиво произнес «брат Александр». — А ничего. Я, говорит, очень уважаю вашу принципиальную позицию. Тогда у меня к вам будет одна-единственная просьба. Тут уж не в службу, а в дружбу. Причем в дружбу не со мной, говорит, а с вашим коллегой — артистом Самошниковым. Который у вас в «Семье» молодого Ленина играет…
— Ну да?.. — слегка перетрусил Лешка.
— Вот тебе и «ну да»… А дальше, сукин кот, заявляет следующее… Как нам стало известно, говорит, Алексей Сергеевич Самошников наполовину… Леха, ты извини, но это его слова. Вроде бы ты наполовину еврей…
— Да. Я этого никогда и не скрывал, — сказал молодой Лешка — Ленин. — А что такого?
— А то… — туманно ответил «брат Александр». — Что здесь в Германии, даже в ГэДээРе, очень сильная антисоветская еврейская община, которая может попытаться выйти с тобой на контакт…
— Я-то им зачем?! Как говорит мой дедушка, «я здесь вообще при п…е кувшинчик», — удивился «молодой Ленин».
— Ты даже не понимаешь, насколько это все серьезно! — огорчился «брат Александр». — Вот, например, где ты пропадал последние две ночи?
— Немецкую барышню трахал, — честно ответил Лешка.
— Еврейка?
— Не думаю. Не похоже. По-моему, нормальная хорошенькая давалка нашего демократического соцлагеря.
Тут Лешке показалось, что такого скупого определения Юта Кнаппе не заслуживает, и он с удовольствием добавил:
— Но как «исполнитель» она, скажу я тебе, брат мой, — богиня!!! Я такого еще не встречал.
— Ох, Леха… — с наигранным сочувствием и плохо скрытой завистью вздохнул «брат Александр». — Напрасно ты это.
— Да ладно тебе причитать, — досадливо прервал его Лешка. — Хватит.
— Нет, не хватит! — «Брат Александр» жестко понизил голос. — Ты находишься за границей и изволь…
Тут Лешка и перестал себя сдерживать. Просто сил не хватило.
— Пошел ты, знаешь куда?! Какая «заграница»?! Где ты эту «заграницу» увидел? За бетонным забором? За колючей проволокой?! Что ты мелешь?.. В зрительном зале наше офицерье полупьяное, солдатики дрыхнут… Спим в казармах, жрем в войсковых столовках… В военторговскую лавку зайти стыдно — пфеннига за душой нету! Артисты приехали… Спектакли шефские! Кто их выдумал, блядь?! К девке иду — на бутылку вина не наскрести, цветочков купить не на что! Артисты называется… вашу в душу, в бога мать! Тебя самого не тошнит от всего этого?
— Ну, предположим, я могу тебя понять, — осторожно произнес «брат Александр». — А ты не боишься, что кто-нибудь тебя услышит и…
— И что?! Вот в такую заграницу не пустят больше, да? Плевать мне! В гробу я ее видел и в белых тапочках, такую «заграницу»… Вернешься в Псков, так и передай своему человеку ОТТУДА!..
Но и «брат Александр» решил, что настала пора до конца прояснить ситуацию и расставить наконец все по своим местам.
— И тогда-то все только и начнется, Леха, дружочек ты мой, — мягко сказал он. — Вот тебя «Ленфильм» на пробы вызывал. Так они могут тебе и «Ленфильм» прикрыть, и по репертуару пройтись — думаешь, тебя заменить некем?.. И концертики отберут, и халтурки на радио, на телике… Квартирку ждешь? Они тебе и квартирку тормознут. Позвонят куда надо, шепнут — «несвоевременно». Или — «не рекомендуется». И все. На кого будешь жаловаться? Кому, Леха?.. Не гоношись. Ты ведь не только собой рискуешь. Родители у тебя в Ленинграде… Бабушки там, дедушки… Братишка младшенький вроде бы у тебя есть — сам говорил… Ты о них подумал? Им, думаешь, не аукнется, а? Мы ведь, Леха, как говорится, себе не принадлежим… Так что, смотри, как бы твои неугомонные яйца не завели тебя на опасную дорожку.
Вот тогда-то нервно взвинченный «молодой Ленин» — Алексей Сергеевич Самошников и сказал фразу, которая потом много раз фигурировала как в явных, так и в тайных отчетах о чрезвычайном происшествии, произошедшем во время шефских гастролей драматического театра по воинским частям и соединениям Западной группы советских войск в Германской Демократической Республике.
Вроде бы артист Самошников А. С. тогда рассмеялся и сказал «ленинским голоском» с легкой картавостью:
— А мы, старичок, пойдем другим путем!
— Ангел!.. Пожалуйста, выведите меня отсюда! Где вы, Ангел?!
Ах, как хотелось мне выбраться из душного и пыльного закулисья того давнишнего Дома офицеров второй половины восьмидесятых прошлого столетия!
Я понимал, что на моих глазах только что произошло привычно-омерзительное действо.
Оно не отличалось хитросплетением тщательно разработанной интриги, не блистало остроумием своих подлых ходов, не поражало оригинальностью четко рассчитанного предательства.
Никаких «Пещер Лихтвейса» и «Тайн Мадридского двора».
Способ — наипримитивнейший, первобытнообщинный.
Берется тяжелое, желательно сучковатое, сосновое полено, проштемпелеванное всего тремя буквами — «К», «Г» и «Б», и Человека, которого в настоящий момент необходимо в чем-то убедить или припугнуть, просто с размаху бьют этим поленом по голове.
Все. Эффект максимальный!
Чему я только что был свидетелем. Свидетелем, который ясно представил себе, что именно этим гаденьким ударом было положено начало подлинной и непоправимой трагедии.
Здесь я совсем запутался в темноте кулис и снова отчаянно позвал Ангела:
— Ангел! Послушайте… Мне никак самому не выбраться отсюда… Помогите мне, пожалуйста! Вы слышите меня, Ангел?..
Мне даже плоховато сделалось от кажущейся безысходности.
Неожиданно возник болевой спазм в пищеводе и висках, страшноватенькой пляской мелко и дробно расстучалось мое старое сердце, на мгновение я даже испытал что-то похожее на предсмертную панику, но в эту секунду я услышал дивный Ангельский голос…
И хотя последняя часть фразы — «…но в эту секунду я услышал дивный Ангельский голос…» — была словно выдернута из мистического романа позднего средневековья и сегодня могла вызвать только искреннее веселье, я настаиваю именно на этой фразе.
Ибо она графически четко отражала происходившее в этот момент событие: был «Я» — на краю жизни (так, во всяком случае, мне казалось!), действительно прозвучал «дивный голос», и принадлежал он неоспоримо настоящему Ангелу, протянувшему мне свою могучую «хранительную» руку!
— Владим Владимыч, ну что же вы там застряли? Давайте, давайте руку… Я уж давно жду вас здесь. Вот и сердчишко у вас что-то распрыгалось. Открывайте, открывайте глаза… Сейчас мы все приведем в норму.
С невероятным трудом и спасительным ощущением внутреннего высвобождения я открыл глаза, и вокруг меня постепенно стало возникать двухместное купе скорого поезда «Красная стрела».
Очертания деталей купе проступали в моем мозгу томительно медленно, как снимок на фотобумаге в ослабевшем, уже старом растворе проявителя.
Ангел держал меня за руку и приговаривал тоном доброго доктора Айболита, исцеляющего прихворнувшую мартышку:
— Вот и боль прошла. Правда?
— Да… — кажется, ответил я.
— Вот и сердечко стучит помедленнее.
Я прислушался к неожиданно ровному и спокойному ритму своего напуганного сердца и ожил.
— Спасибо, Ангел.
Позвякивала чайная ложечка. Под вагоном стучали колеса.
Я опустил ноги на пол, сел за столик, обхватил руками голову.
— Чайку? — спросил Ангел.
— Нет, спасибо. Знаете, Ангел… Когда мы с вами только что познакомились и вы сказали — кто вы… Нет. Не так. Вот как: когда я безоговорочно поверил в то, что вы — настоящий Ангел-Хранитель, я подумал, что такой вот забавный случай, как столкновение старого, ни во что уже не верующего человека вроде меня с неким мифическим, извините, персонажем, превосходно и реально существующим в сегодняшнем земном мире, мог бы лечь в основу смешного и симпатичного рассказика. А наше совместное путешествие ночью в одном купе подсказывало забавное название, прямо скажем, лежащее на поверхности: «НОЧЬ С АНГЕЛОМ». А внизу, для этакого литературного кокетства, — подзаголовочек маленькими буковками: «невероятная история».
— Однако историйка, рассказанная реально-мифическим существом некоему, извините, пожилому господину, оказалась не очень смешной и на веселый рассказик не тянет, да?
— Точно, Ангел. Не тянет.
— Не огорчайтесь, Владим Владимыч, в этой грустной повести, насколько я припоминаю, было немало и забавных моментов.
— Кстати, я уже давно жду, когда же вы лично наконец появитесь на мрачноватом небосклоне Самошниковых — Лифшицев. Ваша поразительная информированность…
— Прошу прощения, сразу же перебью вас. Все рассказанное мною до этого момента и о некоторых событиях, до которых мы еще не добрались, я узнал из материалов нашей школьной базы данных, поступавших к нам Снизу, с Земли. Пока у нас Наверху Научно-Педагогический Совет томительно долго решал вопрос о моем спуске Вниз и возможном прикомандировании к Леше Самошникову, я не терял времени даром и постарался вызубрить все, что касалось этой семьи. От момента отъезда Любови Абрамовны и Натана Моисеевича в Дом отдыха Балтийского морского пароходства и засорившегося Фирочкиного туалета, в результате чего Фирочка Лифшиц потеряла невинность и быстренько стала Фирочкой Самошниковой. Понятия не имею, как теперь обстоят дела Наверху с информатикой, но даже тогда наша Школа Ангелов-Хранителей обладала превосходной картотекой и удивительно полными досье, позволявшими заглянуть в историю предков наблюдаемого… или «опекаемого», как хотите, на несколько поколений назад. Причем, учтите, это я говорю всего лишь о нашей «школьной» библиотеке. А можете представить себе, какими гигантскими архивами располагало Главное управление нашей службы, подчиненное непосредственно Ему?!
— Погодите, погодите, Ангел… Но, насколько я понял, вам в ту пору было всего двенадцать лет?
— Да. Почти тринадцать. Я же говорил вам, что мы с Толиком-Натанчиком появились на свет одновременно. Но как родился Толик Самошников, было предельно ясно, а вот как возник я сам… Почему-то последние годы меня это очень занимает.
Впервые в голосе Ангела прозвучали нескрываемые горькие нотки.
Мне стало невыразимо жаль этого прекрасного взрослого парня, который никогда, даже в самом раннем детстве, не ощущал Материнского всепрощения и ласковой поддержки Отца.
Не очень ловко я тут же попытался перенастроить Ангела:
— Я заговорил о вашем возрасте того времени лишь потому, что потрясен тем объемом самостоятельной работы, которую произвели вы — мальчик двенадцати… пусть даже тринадцати лет!
Было слышно, как кто-то прошлепал по коридору вагона. Затем мы услышали, как щелкнула дверь туалета, промолчали всю характерную для кратковременного посещения горшка паузу, потом раздался яростный шум низвергающейся воды, снова щелчок двери и шлепанье сонных шагов в обратном вагонно-коридорном направлении.
Почему мы так внимательно прислушивались к этим чужим звукам, совершенно непонятно. Может быть, оттого, что именно эти звуки возвращали нас из душноватой ирреальности прошлого в сиюсекундную обыденность?..
Наверное, Ангел ощутил то же самое и поэтому благодарно мне улыбнулся. Да и мысли мои скорее всего прочитал, сукин кот!
И сказал:
— Во-первых, я очень неплохо учился. Отсюда и возникла моя кандидатура для почти взрослой командировки на Наземную практику. А во-вторых, не забывайте, Владим Владимыч, я все-таки был не «мальчиком двенадцати лет», а «двенадцатилетним Ангелом». А это вовсе не одно и то же!
— Да, да, конечно… Наверное… — растерянно пробормотал я, не очень представляя себе, чем так уж мог отличаться двенадцатилетний Ангел от обычного земного мальчика двенадцати лет. Наличием крыльев и отсутствием родителей, что ли?
Но спросил я совершенно о другом:
— Одно в голове не укладывается, Ангел, — как Лешка Самошников мог стать «невозвращенцем», зная о том, что Толик-Натанчик сидит в колонии, что на суде погиб дедушка Натан Моисеевич, что застрелился старейший друг семьи Ваня Лепехин, всю жизнь покупавший ему мятные пряники?.. Как это могло произойти?!
— Да не знал он ничего этого, Владимир Владимирович! В том-то и трагедия, что Леша стал, как вы говорите, «невозвращенцем» за месяц до всех этих печальных ленинградских событий!..
Вы видели когда-нибудь искренне взволнованного Ангела-Хранителя, который еле сдерживает рвущееся из глубины души отчаяние? А вот я в ту ночь имел возможность наблюдать такое. Признаюсь, это было не самое веселое зрелище в моей долгой и путаной жизни.
— Он ведь всего один раз сумел позвонить домой в самом начале гастролей!.. — нервно продолжал Ангел. — От этой Юты Кнаппе. Еще и расплатился с ней за этот звонок своими несколькими ничтожными восточными марками… Телефоны же всех воинских частей, в которых гастролировал театр, были так «засекречены», что и из Ленинграда к Лешке никто не мог прозвониться… Ведь о том, что Лешка остался на Западе, Самошниковы и Лифшицы узнали только тогда, когда к ним на дом пришли два вежливых сотрудника Калининского райотдела Комитета госбезопасности. Все пытались выяснить — не собирается ли вся остальная семья на выезд из Советского Союза. Скорее всего это известие о Лешке и суд над Толиком и добили старика Лифшица. Он одинаково боготворил своих очень разных внуков и без них просто не представлял себе дальнейшей жизни…
— Вы думаете, что если бы Лешка был в курсе ленинградских дел…
— Естественно!!! Никуда бы он не сорвался. Помня его достаточно хорошо, могу поручиться, что, узнав обо всех этих несчастьях, он плюнул бы в морду своему театру, поставил бы на уши всю Западную группу войск и заставил бы немедленно отправить его в Ленинград!.. Ведь какое-то время спустя, уже там, на Западе, когда Лешка все узнал и про деда, и про Толика, он через пол-Германии помчался в Бонн, в советское посольство и…
— Стоп, стоп, Ангел! — прервал я его. — Вы, я смотрю, так раздергались, что стали перескакивать через какие-то наверняка очень важные события… Я рискую элементарно многого не понять в дальнейшем. А уже скоро Бологое — половина пути, и, насколько я соображаю в драматургии, — это всего лишь половина рассказа?..
— Примерно, — согласился Ангел. — Что-то в этом роде. Простите меня, пожалуйста. Столько лет прошло, а я все никак не могу совладать с собой, когда речь заходит о Лешке Самошникове… О’кей, тогда по порядку. С незначительными купюрами соответственно не очень значительных событий. Просто чтобы не загружать вас излишними подробностями.
— Но сначала, пожалуйста, о себе, — напомнил я Ангелу.
— Нет, Владимир Владимирович, — возразил Ангел, — сначала я все-таки расскажу про Лешку. Потому что из-за нашей Высшей иерархической чудовищной бюрократии там, Наверху, из-за постыдной волокиты и зачастую трусоватой безответственности я вошел в жизнь Лешки Самошникова, к несчастью, слишком поздно… Вы хотите это услышать от меня, вот так, сидя за столиком? Или вы хотели бы поприсутствовать в Том Времени?
— Вен зи волен, — почему-то по-немецки ответил я Ангелу и тут же попытался пояснить: — Как хотите.
— В таком объеме я еще помню немецкий, — улыбнулся Ангел. — Может, приляжете?
Я послушно лег на свою постель и даже прикрыл глаза.
— Вот как мы сделаем, — услышал я Ангела. — Я начну вам рассказывать, а если вы сами захотите разглядеть что-либо поотчетливее, то стоит вам только проявить это желание…
— Вас понял, — сказал я, не открывая глаз.
— Льеша, — в предпоследнюю германско-демократическую ночь спросила Юта Кнаппе, — можно я буду называть тебя Алекс?
— Нет, — ответил Лешка. — Нельзя.
— Но здесь, на Западе, все русские Алексеи и Александры сразу становятся Алексами. Курцнаме — это очень удобно. Короткий имя.
— Хочешь короткое имя — продолжай называть меня Льеша. Короче только Том, Ким или Пит. Но это не русские имена. А я стопроцентно русский. Хотя наполовину и еврей… — рассмеялся Лешка.
— О!.. — воскликнула удивленная Юта, не выпуская из рук внушительные Лешкины мужские половые признаки — славное отцовское наследие Сереги Самошникова. — А кто? Мама одер… Мама или фатер?
— Мама, — с нежностью сказал Лешка.
— Зе-е-ер практишь!.. Это очень практично, — восхитилась Юта.
Лешка вспомнил закулисный разговор с актером, игравшим его «брата Александра» в обязательной репертуарной лениниане, и усмехнулся.
«Вот они — щупальца международного сионизма! Неужели этот подонок был прав?!» — подумал Лешка, а вслух сказал:
— Перестань шуровать у меня между ног. Убери руки. Ему тоже отдых требуется. Совсем заездили беднягу… А почему ты считаешь, что мама юде — это практично?
Но юная фрау Кнаппе и не собиралась выпускать из рук такую замечательную добычу. Она только слегка ослабила хватку и сказала трезвым, расчетливым голосом — таким, каким обычно разговаривала у себя на работе в кафетерии при Доме офицеров:
— Это практично потому, что свой еврейский националитет ты можешь утвердить — если юде твоя мама. Папа — нет.
— Мне-то это на кой? У нас с этим «националитетом» только заморочки всякие, — отмахнулся Лешка.
— Но ты можешь немножко съездить в Федеративные земли. Там везде есть «юдише гемайнде» — они помогают русским. Таким, как ты. Или на два дня. На субботу и воскресенье. Завтра и послезавтра тебе не надо играть театр. Генералы делают для вас парти. Шашлык и баня, — добавила Юта брезгливо. — А мы поедем туда…
— Мы?.. — Лешка наконец высвободился из цепких пальчиков Юты и уселся на ее постели.
— Да. Ты и я. И еще один поляк. Он меня туда возит. Я буду там немного работать, а ты гулять и смотреть. Хочешь?
«Чем черт не шутит? — подумал Лешка. — Когда еще такой случай представится?..»
— Это не страшно, — сказала Юта. — Два дня урлауп. Отдых. Я туда езжу два раза в месяц.
Деловитая и прехорошенькая Юта действительно два раза в месяц нелегально пересекала эту бредовую и жестокую границу, когда-то безжалостно разрубившую одну страну на две очень неравные части.
Происходило это следующим образом.
Из польской Познани в соответствии с условиями Варшавского Договора еженедельно в столовые различных советских воинских соединений, расквартированных на земле «нашей» Германии, приходили огромные автофургоны-рефрижераторы с овощами и фруктами.
В танковый корпус, где работала вольнонаемная фрау Кнаппе, всегда приезжал один и тот же польский водитель Марек Дыгало. Молодой и здоровый хитрюга Марек на потрясающей смеси польского, немецкого и русского тут же сговорился с хорошенькой немочкой, что та будет получать от него два неучтенных ящика любых овощей и фруктов, которые она сможет распродать через офицерский кафетерий, а вырученные денежки будет складывать в свой собственный карманчик.
За это представитель дружеского соцлагеря польский водитель Марек Дыгало, разгрузив свой фургон, будет оставаться ночевать у фрау Юты, пользовать ее во все завертки, а утром уезжать к себе в Познань.
«Ни любви, ни тоски, ни жалости… Даже курского соловья…», как писал один известный советский поэт.
«Товар — деньги — товар». Хрестоматийная марксистская экономическая схема, тщательно подогнанная Мареком и Ютой под условия Варшавского Договора того времени.
Через некоторое время оборотистый и наглый Марек Дыгало вместе со своим фургоном стал по совместительству сотрудничать и с небольшой польской фирмой, находящейся в городке Зелена Гура, что на полпути от Познани до гэдээровской границы.
Эта польская фирма изготавливала «итальянскую» мебель в стиле «позднего барокко». Отдавая должное полякам, следует отметить, что мебель эта была изготовлена превосходно! И с огромным успехом уходила в западногерманскую торговую фирму. Которая, щедро расплатившись с польскими умельцами, втридорога распродавала эту «только что полученную из Милана» мебель в богатые немецкие западные дома.
Мебельные зеленогурцы открыли для Марека Дыгало постоянно продлеваемую визу в Федеративную Республику Германию, и отныне Марек Дыгало загружал свой фургон наполовину польскими морковками и яблоками, а наполовину — «итальянской» мебелью в стиле «барокко».
Сгрузив несколько тонн овощей на продовольственных складах советских войск в ГДР и закинув пару ящиков Юте, Марек уже не спешил теперь обратно в Познань. Переспав на фрау Кнаппе, Марек на следующий день продолжал свое движение на Запад уже с одной только «итальянской» мебелью польского происхождения.
Обратный его путь лежал снова сквозь Юту Кнаппе. Что, в свою очередь, также находило отражение на ее скудноватом немецко-демократическом благосостоянии.
Но настал день, когда Юта попросила Марека свозить ее «на Запад». Вот и снова пригодилась двойная передняя стенка фургона, давно сотворенная Мареком для перевозки вполне невинной контрабанды из Германии в Польшу. Ибо до заключения контракта с польскими гениями итальянской мебели Марек промышлял исключительно в этой области. Только стиль «барокко» избавил его от постоянной нервотрепки при крайне небольшом наваре, остававшемся у него после расчетов со своей же таможней.
Перед пересечением границы Юта была упакована в эту двойную стенку, заставлена коробками с мебелью и таким образом оказалась на земле Федеративной Республики.
Там, в небольшом городишке, Марек позмакомил Юту с владельцем местного борделя и за небольшую сумму в западных марках передал ему права на фрау Кнаппе. С радостного согласия самой фрау.
В борделе работали уже две польки, три чешки, две немки из Баварии, одна украинка и одна русская — из Москвы. Городок был маленький, все было на виду у всех, и своих, местных, в бордель хозяин не брал. Во избежание разборок с властями и родителями.
Владелец борделя лично «проэкзаменовал» Юту, остался очень доволен и договорился с ней — два раза в месяц, на две субботы и два воскресенья, а также на праздничные дни, когда наплыв посетителей бывает особенно велик, фрау Кнаппе будет приезжать и обслуживать клиентов за вполне достойное вознаграждение.
Естественно, график приездов Юты Кнаппе на гастроли был тщательно выверен и согласован с рейсами фургона Марека Дыгало. За что тот получал десять процентов Ютиных доходов. Работа есть работа.
Четыре дня в месяц на Западе, после вычетов всех расходов, давали Юте весьма ощутимую прибавку к заработной плате, получаемой на Востоке. Она даже смогла снять очень недурную квартирку, рядом с Домом офицеров. Всего семь минут пешком!..
Именно в этой квартирке и произошел тот разговор между Лешкой Самошниковым и Ютой Кнаппе.
— Туда и обратно, — сказала Юта. — Всего два дня. Неужели тебе это неинтересно? Там совсем, совсем другая жизнь!..
Лешка припомнил все, что так доходчиво и назидательно втолковывал ему вчера за кулисами «его старший брат Александр», и в его душе вдруг с утроенной силой снова всколыхнулось гадливое отвращение к этому серенькому, слабенькому псковскому актеришке. Отвращение ко всему тому «секретному» омерзительному шлейфу его тайной деятельности, порученной ему и доверенной в компенсацию за отсутствие таланта, в награду за постоянную готовность к предательству.
— Всего на два дня? — переспросил Лешка.
— Да, только два! — радостно подтвердила Юта.
Лешка еще несколько секунд помолчал, подумал, а потом бесшабашно махнул рукой и сказал тогда:
— А-а-а… На все плевать! На два дня? Поехали!!!
… До границы с Федеративной Республикой Германией артист Самошников А. С. ехал запакованный в узкую потайную стенку фургона, а Юта обозревала проносящиеся мимо демократические окрестности из удобной и широкой кабины грузовика Марека Дыгало.
Лежа в не очень удобной позе в скрытном пространстве между одной явной и второй тайной стенкой фургона, Лешка слышал, как Марек трижды останавливал машину. Один раз — заправиться дешевым гэдээровским дизельным топливом, а два остальных раза исключительно в любовно-половых целях.
Что подтверждалось таким скрипом подвесной койки и сопровождалось такими знакомыми стонами, всхлипами и взвизгами фрау Кнаппе, пронзавшими все явные и тайные фургоновы стенки, что в действиях, совершаемых в кабине, не было никаких сомнений! А тяжелое дыхание Марека Дыгало и его же финальные взрыки лишь подтверждали Лешкино опасение, что хорошенькой фрау Кнаппе ну никак не удалось сохранить верность русскому артисту Самошникову…
Когда же перед самой границей с ФРГ фургон остановился в четвертый раз и Юта была упакована в потайную стенку рядом со взбешенным Лешкой, тот сказал ей на чистом русском языке:
— Ну и сука же ты! Знал бы, что ты такая блядюга…
— Льеша! — прошептала Юта и прижалась к Лешке потным, несвежим телом. — Это не был льюбовни секс. Это был бизнес. Вместо денги за проезд. А льюбов только с тобой!
— Иди ты на хер, — посоветовал ей Лешка и попытался отодвинуться.
Но это ему не удалось. Тайник не был рассчитан на комфорт и жизненное пространство.
Почему он тогда, на той последней остановке, не послал к свиньям собачьим этого польского жучилу Марека и его деловитую полупроститутку Юту и не пошел пешком обратно, по гэдээровской земле к своему привычному соцстрою, к своим советским войскам, к своему театру, наконец?.. Ну, не все же там стукачи и прохвосты! Раз-два — и обчелся… Остальные-то — прекрасные ребята. И Леха Самошников — один из них. Чуть ли не самый прекрасный… Что случилось? Какое затмение на него нашло?! Почему он не вылез тогда, перед самой границей, из этого идиотского тайника?..
Этого Лешка никогда не мог понять.
— Их арестовали сразу же, как только они пересекли границу Западной Германии, — сказал Ангел, мягко и бережно выводя меня из некого забытья.
Я даже не понял — слышал ли я всю эту историю сейчас от самого Ангела или присутствовал собственной персоной в том Месте и Времени, как это было в предыдущих эпизодах…
— Кто на них «стукнул» — понятия не имею. Знаю только, что Юту к вечеру вышибли обратно в Восточную Германию, и она уже с немецким водителем-дальнобойщиком, практически за ту же цену, счастливо поехала к себе домой. О поляке мне ничего не известно, а вот Лешку взяли в оборот достаточно круто. Сначала им занялась западногерманская контрразведка, а потом и американские спецслужбы. Разговаривали с Лешкой на хорошем русском языке, периодически меняя стиль отношения к нему. То — доводя до отчаянной истерики, то — поигрывая в этаких добрых, сочувствующих и ироничных дядюшек и парней-приятелей. Только спустя две недели, измотав до состояния полной и тупой прострации и убедившись в его абсолютной военно-стратегической и политико-идеологической никчемушности, Алексея Самошникова оставили в покое. Передали его обычным полицейско-правовым силам, которые перевезли Лешку на окраину одного большого города в центре Западной Германии и до рассмотрения его дела — «злостного нарушения государственной границы Федеративной Республики» — поместили в нормальную и достаточно благоустроенную тюрьму. Несмотря на то что на всех «собеседованиях» и допросах Лешка умолял отправить его обратно в Восточную Германию или, еще лучше, сразу же в Советский Союз, в нескольких газетках появилось трогательное сообщение о том, что молодой и «очень известный!» русский драматический артист Алекс Самошников, рискуя жизнью, сумел сбежать от милитаристско-коммунистического режима и попросил творческого убежища в Свободном Мире. Специальные службы этого Мира на всякий случай разослали эти газетные информашечки по советским Генеральным консульствам, не забыв и посольство Советского Союза в Бонне. Пусть представители «империи зла» знают, что людям искусства в их государстве дышать нечем! Вот вам очередной пример — актер А. Самошников…
— О, мать их в душу… — вздохнул я. — Какая-то безразмерная гнусность! Добро бы была значительная фигура — кагэбэшный разведчик, ученый с мировым именем, литератор, прозвеневший на весь белый свет! А то ведь несчастный молоденький актер провинциального театра, вся вина которого умещается в элементарном щенячьем любопытстве. Которое так естественно при постоянных глобальных запретах того времени… Он-то, Лешка, на хрен им сдался?!
— По-моему, вы, Владим Владимыч, должны были бы понимать это лучше меня. Вы жизнь прожили в «этом». Поэтому ваш справедливый гражданско-интеллигентский всхлип я буду считать вопросом риторическим. Ответа не требующим. Надеюсь, вы не забыли, что в то время в политике хороши были любые средства? Как, впрочем, сегодня в экономике…
— Вы не пробовали выступать с лекциями на собраниях пенсионеров в жэковских клубах «Кому за семьдесят»?
— Нет.
— Напрасно. Там вас обожали бы!
— Не задирайтесь. Короче. Все эти заметочки советские дипломаты уже по своим каналам переправили в ленинградские соответствующие органы, откуда на улицу Бутлерова к Самошниковым и пожаловали те два вежливых товарища: «Дескать, ваш сын, Эсфирь Натановна и Сергей Алексеевич, он же — ваш внук, уважаемая Любовь Абрамовна, Алексей Сергеевич Самошников, изволил сбежать на Запад. Что вы можете сказать по данному поводу?»
Я встал со своего вагонного диванчика и стал перестилать сбившуюся и скомканную постель. Взбил небольшую, жестковатую (подумалось почему-то — «тюремную»…) подушку, расправил простыню, аккуратно накрыл ее одеялом с пододеяльником и под затухающий шум колес притормаживающего состава сел напротив Ангела.
— Бологое, что ли? — спросил Ангел, вглядываясь в черноту оконного стекла.
Наверное, мы подъезжали к Бологому, единственной остановке «Красной стрелы» на этом пути, но на вопрос Ангела я не ответил. Другое занимало меня. И я сказал:
— Рискую повториться, Ангел: а вы-то где были? Простите, что я напоминаю вам, ведь с Лешкой Самошниковым все это происходило тогда, когда его младший брат Толик-Натанчик еще не был заключенным колонии строгого режима, еще не погиб от инфаркта на этом сволочном судилище его дед Натан Моисеевич и еще не застрелился одинокий и старый Ваня Лепехин… Когда ваше… Не конкретно «ваше», Ангел, а ваше всеобщее Божественное внимание не было рассредоточено по большому количеству очагов Людских несчастий в одной семье, а могло бы сконцентрироваться хотя бы на судьбе Леши Самошникова. Как-то помочь, отвести, упредить… Я не знаю, что делают в таких случаях Ангелы-Хранители. Я только хочу спросить: где вы были в это время — Всевидящие, Всезнающие и Всемогущие?!
— Владим Владимыч! Владим Владимыч!.. Я не собираюсь рваться в бой за честь мундира, но давайте будем справедливы. В самую первую очередь в службу Ангелов-Хранителей поступает информация о нуждающихся в помощи Верующих Людях! С Неверующими гораздо сложнее. Сведения о них приходят Наверх крайне скупо и выборочно. И в помощь Неверующим командируются обычно или совсем юные Ангелы-Практиканты, каким я был в то время, или очень пожилые и усталые Ангелы-Хранители, которые вот-вот должны отправиться на заслуженный отдых. Так сказать, последний мазок в уже законченном полотне Ангельского существования…
— Невероятно пышная фраза! — хмыкнул я. Но Ангел даже бровью не повел.
— Второе: как вы догадываетесь, штат Ангело-Хранительской службы намного меньше, чем Верующих, нуждающихся в помощи этой службы. Явление повсеместное и неудивительное.
— «Вас много, а я — одна!» — классический аргумент магазинной продавщицы незабвенной эры советизма, — желчно вставил я.
— Тоже весьма непрезентабельная фразочка, — мгновенно отреагировал Ангел. — Теперь о помощи Неверующим: делалось это в исключительных случаях…
— Как у классиков — «Пиво отпускается только членам профсоюза», — с легким раздражением скромненько проговорил я.
Но по всей вероятности, Ангел действительно обладал (не побоюсь некоторой тавтологии) поистине «ангельским» терпением. Он мягко улыбнулся мне и продолжал как ни в чем не бывало:
— …или когда произошедшее с Неверующим потрясало Небеса своей чудовищной несправедливостью. Тогда одним выстрелом убивались сразу несколько зайцев. На примере спасения Неверующего удавалось укрепить ослабленную жизнью Веру у остальных, а Неверующих таким образом почти бесповоротно обратить в Веру! Трюк чисто гуманитарно-пропагандистский, который когда-то с прелестной ироничностью лег в основу старого протазановского фильма «Праздник святого Йоргена».
Тут я чуть не брякнулся со своего диванчика! Вот это Ангел! Ай да молодец!..
— Вам-то откуда известно о Протазанове и его фильме?! — завопил я на весь спящий вагон. — Это же тысяча девятьсот тридцатый год!!! Его сейчас не все кинематографисты знают…
— Тс-с-с… — Ангел приложил палец к губам и опасливо прислушался. — Вы сейчас всех перебудите. Дело в том, что у нас в Школе Ангелов-Хранителей была превосходная фильмотека. И некоторые фильмы, снятые на Земле, были просто включены в наш учебный процесс, — с нескрываемой гордостью за «альма-матер» ответил Ангел. — А какая у нас была библиотека!.. Вашу «Интердевочку» я прочитал еще там — Наверху, в Школе, в пятом классе. В одиннадцать лет! Она у нас довольно долго ходила по рукам у младшеклассников.
— О Господи… — только и смог простонать я.
— Вот от Него мы эту книжечку как раз очень тщательно скрывали, — заметил Ангел.
Где-то впереди, в ночи, раздался вскрик нашего электровоза, и состав снова стал набирать ход.
Ангел посмотрел в оконную черноту, глянул на часы и сказал:
— Нет, не Бологое. Еще рановато. Ну, так что, Владим Владимыч, хотите, чтобы я поведал о дальнейшем своими словами или…
— Не буду скрывать, Ангел, мне безумно интересно вас слушать, но какие-то эпизоды я хотел бы все-таки увидеть, — искренне сказал я. — И если это возможно…
. — Без проблем, — прервал меня Ангел. — Тогда единственное, что я позволю себе, — это некоторые сокращения. Купюры, так сказать. Подробный рассказ о Лешкином бытии на Западе — не нужен. Эмиграция есть эмиграция, будь она случайной, как у него, или вынужденной, или сознательно и дотошно подготовленной. Об эмиграции столько написано-переписано, что сегодня эта литература уже утратила свою пряность, свой праздничный или трагический аромат запоздалых открытий мира. Поверьте, в этом действе со времен Тэффи, Аверченко и Алексея Толстого по сей день ничегошеньки не изменилось. Ну, разве, что помельчали фигуранты и причины их эмиграции. Плюс — катастрофически увеличилось количество постэмигрантского вранья! Что я вам-то рассказываю?! Простите меня ради всего святого. Ваши «Русские на Мариенплац», «Иванов и Рабинович…» и даже очень симпатичный мне «Кыся» — это все из той же эмигрантской оперы. Хотя и утешительно-сказочной.
— Вот теперь, Ангел, вы меня совсем добили! — еле выговорил я.
— Тем, что я пару лет назад читал ваши книжки?
— Да плюньте вы, не об этом я! Откуда вы знаете о Тэффи, об Алексее Толстом, об Аверченко?!
— Я же рассказывал вам, что там, Наверху, у нас была превосходная библиотека.
— Тогда вы были совсем ребенком!
— Но с возрастом я же не разучился читать! Ложитесь, Владим Владимыч. Так вас не смутит некоторая обрывочность того, что вы сейчас увидите?
— Нет.
— Конечно, что я спрашиваю… Вы же сами говорили, что в процессе создания фильмов вы неплохо научились смотреть отснятый, но еще не смонтированный материал.
— Ни хрена я вам этого не говорил! Я только думал об этом…
— Ну, думали, какая разница… Ложитесь, ложитесь! К Бологому я вас растолкаю. Что-нибудь приготовить к пробуждению?
— Ну, если вы будете настолько любезны…
— Буду, буду, — рассмеялся Ангел.
— Тогда немного джина, — сказал я, укладываясь на аккуратно застланную постель. — Желательно со льдом…
… Немецкая тюремная камера очень напоминала чистенькую больничную палату для двух пациентов…
Тут же у меня в глазах встала жуткая, грязная, вонючая и душная камера алма-атинского следственного изолятора, в которую меня бросили за групповой разбой и грабеж в сорок третьем, когда мне было пятнадцать…
Одновременно вспомнилось и мое второе посещение тюрьмы — ленинградских знаменитых «Крестов». Но уже не мальчишкой подследственным, а пятидесятилетним известным киносценаристом, который с особого разрешения разнокалиберного милицейского генералитета знакомился с советской пенитенциарной системой для возможного написания киносценария, где каким-то боком должна была быть упомянута современная тюрьма.
Отчетливо помню, что увиденное привело меня, в то время человека еще физически крепкого, добротно пьющего и далеко не трусливого, в состояние шока, от которого я не мог избавиться в течение нескольких недель.
Больничная благостность немецкой тюремной камеры даже не нарушалась наличием унитаза в этой «палате». Унитаз был стыдливо отгорожен намертво привинченной непрозрачной ширмой из матового толстого бронебойного стекла.
— Ты ж тупарь, Лешка! Ты ж их в жопу должен целовать!.. — на чистом русском языке с легкими одессизмами втолковывал Лешке Самошникову его сокамерник — сорокалетний Гриша Гаврилиди, четыре месяца тому назад сбежавший из какой-то высокопоставленной туристической группы и уже в третий раз попавшийся на воровстве в магазинах самообслуживания. — Люди под Берлинской стеной подкопы по триста метров роют — только бы попасть в Западную Германию! А ты кобенишься… Тебе предлагают попросить политического убежища, а ты, как Конек-Горбунек, выгибаешься!.. Шо ты там забыл в этом Советском Союзе?! Такой же случай, как у тебя, — раз на мильен!.. Один халамендрик даже лодку подводную для всей семьи сам построил, шобы только Шпрее переплыть! Это у них речка такая в Берлине. Обживешься, подзаработаешь. Шо-то ж переменится… Не может же быть так вечно, правильно? Так вызовешь сюда своих или сам к им поедешь… Ты ж артист, Леха! Не дури. Это я тебе говорю!..
А Лешка лежал на своей чистенькой коечке, уткнувшись незрячими глазами в белоснежный потолок, и ему хотелось только одного — умереть.
… Поздним тюремным вечером в специальной комнатке пожилой и доброжелательный немецкий следователь при помощи переводчика разговаривал с подследственным Алексеем Самошниковым.
Судя по тому, что немец говорил почти то же самое, что и беглый Гриша Гаврилиди, упоминал те же трехсотметровые подкопы под Берлинской стеной и, посмеиваясь, рассказал про семейную подводную лодку для преодоления Шпрее, я понял, что Лешкин сокамерник был примитивной «подсадной уткой».
Как мне показалось со стороны, в конце концов и Лешка это понял. А может быть, я и ошибаюсь…
— Выбор у вас невелик: или четыре года тюремного заключения за нелегальный переход границы с разведывательными целями, или… — бесстрастно вещал переводчик.
— Какими «разведывательными целями»?! — испугался Лешка.
— Следователь утверждает, что в суде ему удастся доказать вашу причастность к советской разведке. Или вы делаете заявление о предоставлении вам политического убежища по причине…
Переводчик вопросительно посмотрел на пожилого немца:
— Какую причину он должен указать в заявлении?
— Обычную — антисемитизм. Он же наполовину еврей.
— По причине антисемитских преследований у вас на родине, — уже по-русски сказал переводчик.
— Но меня никто никогда не преследовал, — растерялся Лешка.
Переводчик впервые с интересом посмотрел на него:
— Вы действительно хотите сидеть в тюрьме?
— Нет… Я хочу только домой, — сказал Лешка и горько заплакал, уронив голову на руки.
А потом я вообразил себе, какой разговор мог бы произойти между старым следователем и переводчиком после того, как Лешку Самошникова, подписавшего просьбу о предоставлении ему политического убежища, увели в камеру.
Переводчик мог бы спросить у следователя:
— Он же актер театра — какая «разведка»?
— Никакой, — ответил бы следователь, собирая свои бумаги.
— А обещанные ему четыре года тюрьмы?
— Полная ерунда. Максимум, что ему грозит, — депортация на Восток, а оттуда — в Союз. Вот русские ему уже этого не простят…
— Вас не тошнит от такого спектакля?
— Мне осталось сдерживать свой рвотный рефлекс еще ровно сто двадцать дней. Через четыре месяца я ухожу на пенсию и, как дурной сон, постараюсь забыть этого несчастного русского мальчика.
Так ведь не было такого разговора между старым следователем и тюремным переводчиком!
Никто из них не сказал ни единого слова.
Они слишком давно работали вместе по «русским делам» и привыкли очень бояться друг друга. Как, впрочем, все сослуживцы в Германии.
… Прошло четыре месяца. Это я понял несколько позже…
На окраине города, .по странному стечению обстоятельств недалеко от той тюрьмы, где в свое время пребывали Леха Самошников и Гриша Гаврилиди, на углу маленькой Фридрихштрассе и Блюменвег бросило свой якорь крохотное русское кафе «Околица», принадлежавшее бывшему выпускнику Мариупольского культпросветучилища Науму Френкелю.
Никакая эмиграция не могла погасить тот неукротимый огонь русской культуры, который Нема Френкель так привык нести в народные массы. Поэтому в своем кафе он организовал еще и так называемые «встречи с интересными людьми».
Сегодня в этом кафе должен был состояться дебют Лешки Самошникова. За сорок, теперь уже западных, марок. Двадцать — исполнителю русских романсов герру Самошникову, двадцать — его менеджеру и устроителю его гастролей герру Гаврилиди.
Если герр Самошников был выпущен из тюрьмы сразу же по подписании просьбы об убежище, то герра Гаврилиди продержали там еще три месяца.
Всего! Краткость срока наказания была определена в первую очередь гуманностью уголовно-процессуальной системы Федеративной Республики Германии; суммой украденного (а главное, возвращенного!), не превышавшей ста пятидесяти марок; и, конечно же, искренним и радостным сотрудничеством со следствием по делу артиста Самошникова.
Сейчас Гриша Гаврилиди вместе с Лешкой стояли в малюсеньком складском помещении кафе «Околица», ждали своего выхода.
Гриша был одет в тесноватый смокинг, купленный на фломаркте (барахолке) за семь марок, в бундесверовские камуфляжные штаны и тщательно вымытые старые кроссовки.
Лешка выглядел менее помпезно — черные брючки, черный свитерок и гитара, одолженная Гришей в общежитии у какого-то беглого албанца.
— Слушай сюда, — строго оказал Гриша. — Я выхожу, объявляю: «Заслуженный артист республики…»
— Я никакой не «заслуженный»! — зашипел на него Лешка.
— Заткнись, мудила. Здесь все «заслуженные», «доктора наук», «генеральные директора» и «лауреаты». «Ведущих инженеров» — как собак нерезаных, «главных врачей» — раком до Берлина не переставить. Не мешай людям слушать то, что они хотят услышать… Значит, как только я объявлю тебя, ты сразу же выходишь и… Дальше уже твой бизнес. Будешь выходить из-за стойки — не споткнись, там этот вшивый культуртрегер ящики с минералкой на проходе поставил…
Гриша одернул смокинг, вышел из подсобки за стойку кафе, где мадам Френкель готовила кофе и разливала напитки, а уже из-за стойки, широко и обаятельно улыбаясь, прошел в зальчик на семь столиков и роскошно объявил:
— А теперь заслуженный артист республики, театра и кино Алекс Самошников! Прошу аплодисментики!..
Раздалось несколько жидких хлопков.
Стараясь не споткнуться о пластмассовые ящики с минеральной водой и пивом, Лешка выбрался в зал и поклонился.
— Старинный русский романс таки, «Гори, гори, моя звезда…», — провозгласил Гриша Гаврилиди.
В этом неунывающем жулике, несомненно, присутствовал некий врожденный южнорусский артистизм, заквашенный на сумасшедшем смешении кровей, рас и эпох! Неожиданно Гриша услышал немецкую речь за одним столиком и тут же заговорил на невероятном немецком:
— А теперь для наших немецких гостей… В смысле — унд дан фюр унзере дейче либе гасте: берюмте кунстлер унд шаушпилер Алекс Самошников! Аль-тертюмлих руссише романце — «Бренд, бренд, май-не штерн…»!!! Битте, аплаус!..
Немцы вежливо поаплодировали и уставились на Лешку.
Тот тронул струны гитары и негромко запел:
Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная…
Ты для меня одна заветная,
Другой не будет никогда…
… — Не пей, Леха… Кончай! — тревожно говорил Гриша Газрилиди. — Сколько ж ты уже не просыхаешь, Лешка! Так же и сдохнуть недолго.
— А ты думаешь, что мне так уж хочется жить?
— Ну что ты болтаешь? Ты себя слышишь? Не дури, Лешенька… Второй-то пузырь «Корна» не открывай, тебе говорят! Хватит!..
— Пошел ты… «Корн» всего тридцать два градуса.
— Но ты же уже одну ноль семь охреначил. Может, хватит?
— Исчезни.
— «Исчезни»… А что ты без меня делать будешь?
— Тебе налить?
— Леха… Умоляю! Хочешь, на колени встану? Тебе же завтра стихи в Толстовском фонде читать! С какой рожей ты выйдешь на люди? Там же стольник корячится… По пятьдесят марок на рыло! Я уже обо всем договорился…
— Не боись, Гриня. Заработаем мы этот стольник…
— Придут наши документы из Франкфурта, легализуемся, встанем на социал, тогда пей сколько влезет. А сейчас…
— Тебе налить, я тебя спрашиваю?!
— О, шоб ты сказывся! Шоб тебя перевернуло тай хлопнуло!.. Ну, плесни сантиметра полтора. Все! Все, все, я сказал! Леха, Леха, уймись!.. Шо ж ты себе полный стакан наливаешь?! Шо же ты делаешь, сволочь?!!
— Да катись ты, менеджер херов…
… Строится, строится и без того большой западногерманский город! Одевается в новые дома, укутывается в новые сады и газоны…
Но прежде чем строить новое, прекрасное, ломают старое, уродливое.
Рушатся временные поспешные послевоенные постройки.
И нужно разгребать эти горы мусора, отправлять на свалку обломки перекрытий, рухнувшие истлевшие стены, искореженные оконные рамы, битую черепицу, сгнившие доски бывших полов, причудливо скрученные, изъеденные коричневой ржавчиной водопроводные трубы…
Все это необходимо погрузить в самосвалы, расчистить будущую строительную плошадку.
Двенадцать марок в час. «По-черному» — без налогов.
Тридцать сбежавших из отчих краев поляков, югославов, русских, турок, евреев и албанцев под палящим солнцем разбирают завалы, грузят строительный мусор в гигантские грузовики со стальными кузовами.
Тридцать немцев стоили бы в четыре раза дороже. Автопогрузчик с ковшом — вдвое дороже тридцати немцев.
Грязные, мокрые, измочаленные дикой усталостью, жарой, Леха Самошников и Гриша Гаврилиди загружают «свой» самосвал.
— Завтра работаем еще здесь, а послезавтра ты поёшь в культурном центре еврейской общины. Понял? — хрипит Гриша.
— Почем? — задыхаясь, спрашивает Лешка.
— По полтиннику…
Это значит — по пятьдесят марок на нос. Гриша Гаврилиди — гений мелкого администрирования.
Он и сейчас, на этой грязной, тяжелой и выматывающей все силы погрузке мусора, умудряется заработать больше, чем Леха Самошников. Из своих двенадцати почасовых марок Лешка отстегивает Грише две марки за каждый час. За то, что тот спроворил ему этот заработок. А как же иначе? «Волчьи законы капитализьма», как говорит Гриша. Таким образом, работая наравне, Гриша получает четырнадцать марок в час, а Лешка — десять.
Зато, когда Гриша договаривается с кем-нибудь о Лешкиных выступлениях, деньги делятся пополам. Поровну. Потому что Гриша любит искусство и очень уважает Лешкин талант…
Наверное, прошла еще пара месяцев…
… — Хватит пить, Леха! — в отчаянии восклицал Гриша. — Ты и так уже косой в жопу!.. Что ж ты себе еще наливаешь?! Завтра же в «Околице» надо быть… Я кручусь, как савраска, делаю тебе рекламу, а ты водку жрешь… Ну, уже генук, мальчик! Этот сраный «ун-бефристет гюльтик», эту бессрочную визу мы уже имеем, квартирку я тебе снял — зашибись! Ну, так однокомнатная… Агицентурбогенератор! Женишься — будет двухкомнатная. Шо ты пьешь, шо ты пьешь?.. Ты же уже сидеть не можешь, Леха… Ты же падаешь!
— Домой хочу… — еле ворочая языком, произнес Лешка.
— Таки ты ж дома! Боже ж мой!.. Что же ты рукавом утираешься? Ты нормально закусить не можешь? Кто же так пьет, Лешка? Ты же интеллигентный человек… Ну, видишь? А я что говорил? Давай, я помогу тебе подняться… Нет? Бога ради — лежи на полу, говнюк… Начнешь блевать — не захлебнись, не сдохни во цвете лет, артист гребаный!..
— Домой хочу, — неожиданно твердым голосом сказал Лешка и закрыл глаза.
… А спустя еще несколько недель к Леше Самошникову примчался очень возбужденный Гриша Гаврилиди:
— Я только что все узнал, Леха!.. Тебе нужно позвонить в Ленинград и попросить свою мамашу, чтобы она срочно выслала тебе дубликат своей метрики, где написано, что она еврейка! Тогда тебя примет местная еврейская община, и мы — в порядке!.. У них там, если мать — еврейка, таки нет проблем…
Лешка рассмеялся.
— И шо ты ржешь? — удивился Гриша.
— Помнишь, я рассказывал тебе про ту демократическую немку-поблядушку, из-за которой я влип во все это дерьмо? Вы могли бы с ней работать парный конферанс. Она мне говорила то же самое, только с немецким акцентом.
— Таки бляди почти всегда правы! Мне бы маму-еврейку — мне бы цены не было, — мечтательно произнес Гриша. — Как я фраернулся перед той туристской поездкой!.. Почему не купил еврейские документы, идиот?! Нужны мне эти греки в десятом колене!.. Ты-то хоть не будь кретином, звони в Ленинград! Получишь ихний статут…
— Статус, — поправил его Лешка.
— Нехай так… Получишь ихний статус, я тебя главным раввином города сделаю! И, как в том анекдоте, будешь еще немного прирабатывать русскими романсами. Бабок намолотим — немерено!
— Да, насчет бабок: дай пятнадцать марок. Отдам в пятницу.
— Зачем? — насторожился Гриша.
— Смотаюсь в «Альди» за пузырьком и закусевичем.
— А вот это ты видел?! — вскричал Гриша, и у Лешки под носом появилась довольно неаппетитная фига, сотворенная из толстых, волосатых Гришиных пальцев.
— Отлично, — произнес артист Самошников. — Когда у нас выступление на русской дискотеке?
— В пятницу, в восемь.
— Прекрасно. И по скольку на рыльце?
— Всего сто пятьдесят марок. По семьдесят пять. — Гриша не на шутку занервничал. — Но если ты настаиваешь, я отдаю тебе девяносто, а себе оставляю шестьдесят. Идет?
— Нет. Ты забираешь себе все сто пятьдесят. Но за них ты сыграешь на гитаре, споешь все романсы и сам будешь читать Пастернака и Заболоцкого. Да, и не забудь освежить в памяти последний монолог Чацкого. Я его как раз собирался исполнять в пятницу. А теперь вали отсюда!
Через час Алексей Сергеевич Самошников уже лыка не вязал. Сломался он сразу после второго стакана — будто его с грядки срезали…
— Очнись, Леха! Очнись, шоб тебе пусто было… — чуть не плакал Гриша Гаврилиди. — Ой, Боженька ж ты мой, надо же было так быстро нажраться! Ни за жизнь поговорить, ничего… Ты хоть слышишь меня, байстрюк?
Лешка поднял на Гришу бессмысленные глаза и что-то попытался сказать. Но звука никакого не произвел, только губы зашевелились было и замерли.
— Не спи, не спи, Лешенька… — по-бабьи причитал перепуганный Гриша. — Так ведь можно и не проснуться!
Лешка с трудом поднял веки, посмотрел сквозь Гришу Гаврилиди и прошептал:
— Ах, если бы…
— Что?.. Что ты сказал? — не расслышал Гриша.
Лешка помотал головой, попытался выпрямиться и снова уронил голову на грудь. Затем собрался с силами, как-то умудрился поднять подбородок, подпер его руками, положив локти на стол, и медленно, стараясь отчетливо выговаривать каждое слово, проговорил:
— Знаешь… Уже несколько раз… Старик в белом. Не то снится, не то наяву… Только не понять — на каком языке говорит. Но я его почему-то понимаю… Весь в белом… И волосы, и шляпа… Только глаза голубые. У белого старика…
— Хорошо, хорошо, Лешенька! Пусть будет белый старик, красный, зеленый… Хоть в крапинку! Ты только не пей больше, ладно? А я тебе сейчас чайку зелененького с жасминчиком замостырю — очень оттягивает!..
— А где этот белый старик с голубыми глазами?.. — вдруг почти трезвым голосом спросил Лешка и удивленно оглядел всю свою кухоньку. — Он же только что был здесь…
Гриша в отчаянии схватил бутылку с остатками «Корна», стал яростно выплескивать его в раковину, приговаривая:
— Так!!! Вот мы и до психушки уже докушались!.. Вот нам уже начинают голубые старики с белыми глазами мерещиться… Эй, ты, Артист Иваныч, твой старик не с хвостом и рогами был? А?
Возникла томительная пауза. Потом Лешка положил голову на стол и, засыпая, негромко произнес:
— Нет… не было. Но один раз… Ты только не смейся, Гриня. Один раз мне привиделись у него за спиной большие белые крылья…
— Владим Владимыч… Владимир Владимирович! Бологое! — услышал я голос Ангела, еле открыл глаза и с трудом приподнялся на локте.
Казалось, мое тело и мозг были буквально отравлены тяжким посталкогольным недомоганием несчастного Лешки Самошникова, которого я наблюдал еше несколько мгновений тому назад.
Первое, что оказалось на уровне моих глаз, — стоящий на купейном столике стакан с джином и кубиками льда, плавающими поверху.
Я сознательно упомянул про кубики льда, «плавающие поверху».
Лет двадцать пять тому назад мы с моей женой Ирой читали чью-то повестушку в модном тогда еще журнале «Юность». В этом сочиненьице было одно забавное описание. Виски (так же, как и джин) в то время еще считалось напитком отрицательных персонажей, и один вот из таких гадов в той повестухе «ПИЛ КАКУЮ-ТО ЖЕЛТУЮ МУТНОВАТУЮ ЖИДКОСТЬ ИЗ СТАКАНА, НА ДНЕ КОТОРОГО ПЛАВАЛИ КУБИКИ ЛЬДА…».
Автор этого замечательного сочинения мог никогда в жизни сам не видеть виски, а так как эта гадость была положена только зарубежным мерзавцам, то естественно, что автор назвал ее «МУТНОВАТОЙ». Очень, я бы сказал, выразительно! Но вот каким образом у этого сочинителя КУБИКИ ЛЬДА ПЛАВАЛИ НА ДНЕ СТАКАНА — это уже уму непостижимо! Нанести такой силы удар по начальной физике шестого класса средней школы — дано не всякому…
Итак, перед моим носом стоит почти целый стакан моего любимого джина со льдом — как и положено, плавающим сверху, а я, пожалуй, впервые в жизни, отворачиваюсь от этого стакана, стараясь даже не вдыхать его гордый можжевеловый аромат!
— Как заказывали, — улыбнулся мне Ангел.
— Спасибо, дружочек мой, — виновато ответил я. — А нельзя ли это поменять на стакан простого горячего и крепкого чая?
— Уже, — сказал Ангел.
Я клянусь, что не отрывал глаз от стакана с джином! Я отворачивался, но не настолько, чтобы потерять джин из поля зрения. Однако когда вместо джина и на его месте возникли чай, сахар, лимон и маленькие симпатичные крекеры, которые я обожаю, — я так и не смог понять… Чудеса, да и только!
— На Лешку насмотрелись? — сочувственно спросил меня Ангел.
— Угу… — ответил я, соединяя чай, лимон и сахар воедино.
Наш состав тихо стоял на своей единственной остановке в середине этого пути и ночи.
За окнами вагона слышны были негромкие голоса, металлические звуки, а потом все накрылось и увязло в хрипло-простуженном диспетчерском радиобормотании, в котором нельзя было разобрать ни одного слова. Однако кто-то все-таки понял эту диспетчерскую абракадабру, потому что наш поезд слегка лязгнул вагонными сцепками и почти неслышно стал уходить от желтых привокзальных фонарей…
Я еще немного приподнялся на своей железнодорожной постельке и стал прихлебывать удивительно душистый чай.
— «Эрл Грей»?
— А как же! — с удовольствием подтвердил Ангел. — С бергамотом. Как вы любите.
— Спасибо. А про соленые крекеры как вы узнали?
— Это уж такие пустяки, что просто совестно всерьез говорить о них…
Тогда я собрался с духом и спросил:
— Скажите, Ангел, а вот тот «белый старик с голубыми глазами» был действительно плодом алкогольного сдвига Лешкиного сознания?
Почему мне было так трудно задать этот вопрос? Может быть, оттого, что я боялся подтверждения опасениям Гриши Гаврилиди — «алкогольный психоз». Начало необратимых мозговых изменений. В двадцать-то пять лет от роду!.. Господи… Что может быть ужаснее?!
Ангел помолчал, медленно снял очки, аккуратно сложил «Московский комсомолец» вчетверо и положил газету на столик.
— Да нет… Старик был абсолютно реальной фигурой, — невесело произнес Ангел. — Если, конечно, старого, практически вышедшего в тираж Ангела-Хранителя можно назвать «реальной фигурой».
— Час от часу не легче, — вздохнул я. — Откуда же там взялся этот старый Ангел? Весь в белом и с голубыми глазами?..
Состав набирал ход. Вагон стало покачивать. Боясь, что горячий чай начнет выплескиваться, я сел по-турецки на одеяло и взял стакан двумя руками.
— Как бы вам это объяснить? — Ангел даже поднял глаза к потолку, словно именно там надеялся найти наиболее приемлемое для меня объяснение.
— Как-нибудь попроще, — попросил я.
— Хорошо, — сказал Ангел. — Я попробую прояснить ситуацию со старым Ангелом на примерной схеме сегодняшнего устройства Государства Российского…
— Предупреждаю вас, Ангел, тут вы можете наткнуться на мой полный идиотизм. Я в сегодняшних государственных делах не смыслю ни хрена!
— Не пугайтесь. Я попытаюсь нарисовать вам примитивнейшую сравнительную схему. В России есть Президент. Это вы знаете, да?
— Естественно.
— Уже хорошо… И есть представители Президента в различных регионах страны. Так?
— Да.
— Страна гигантская. Президенту не разорваться… На местных «хозяев жизни и населения» надежды никакой. Они взапуски врут и безжалостно разворовывают тот край, куда их, так сказать, «выбрали» на царствование. Поэтому Президенту необходимо иметь в тех землях своих людей — «Представителей Президента». Для чего? А чтобы получать беспристрастную информацию о происходящем там в действительности. Схема, целиком заимствованная у нас, — в Царстве Божьем. У нас Наверху есть Он, казалось бы. Всеведущий, Всевидящий и Всемогущий. И существуют его Представители Внизу на Земле. Потому что Ему, как и Президенту, за всем не уследить!.. Однако сегодня количество и разнохарактерность бед Человечества значительно превысили наши Небесные Охранительные возможности. Отсюда — незатухающие войны, эпидемии, катастрофы, маленькие, частные трагические катаклизмы разных Лифшицев — Самошниковых по всему миру…
— Так, значит, тот голубоглазый старик в белых одеждах, который причудился пьяному Лешке…
— Да, Владим Владимыч, это и был тот самый Небесный Представитель Всевышнего на Земле, который проинформировал Верх о судьбе Лешки Самошникова.
— А стариковские крылья Лешке спьяну пригрезились? — спросил я.
— Не думаю, — усомнился Ангел. — Скорее всего Старик заболтался с ним, потерял над собой обязательный в таких случаях контроль и нечаянно явил себя Лешкиным глазам в натуральном Ангельском виде. Чего, конечно, делать не следовало.
Я посмотрел в небесные глаза своего соседа и спросил:
— Скажите, а голубизна глаз среди Ангелов — это что-то вроде униформы, что ли?
— Пожалуй, — подтвердил Ангел. — Но только среди Ангелов-Хранителей.
— И еще. Почему же этот старый Ангел вызвал вас на помощь? Он сам не смог помочь Лешке?
— Видите ли, при одинаковой схеме «представительств», между Заоблачным Верхом и Земным Низом есть одна существенная разница. Президент назначает своими Представителями сильных, целеустремленных и весьма циничных мужиков средних лет, зачастую с крепким опытом спецслужб и постоянной готовностью «Держать и не пущать!». Наш же Заоблачный Мир командировал на Землю очень старых, уже почти немощных Ангелов — бывших Хранителей, душевная доброта которых усиливалась пропорционально старческой утрате профессиональной Охранительности. И Старик вызвал на помощь Леше не меня конкретно, а вообще кого-нибудь… Наверху впопыхах не разобрались в сложности Лешкиного случая и послали меня — двенадцатилетнего…
— И вы этаким растерянным, маленьким крылатым Маугли спустились из своих благостных и нежных Заоблачных джунглей в наш грохочущий и жестокий Цивилизованный Мир? — ухмыльнулся я.
— А вам хотелось бы именно это услышать? — насмешливо спросил Ангел.
— Нет, — ответил я. — С легкой руки певца английского колониализма мистера Киплинга этим сюжетом человечество уже перекормлено. Я бы с удовольствием послушал что-нибудь другое.
— «Другое» вам и будет, — пообещал Ангел. — Так вот — растерянности не было ни на грош! Уже на двенадцатом году после своего Духовно-Физического Возникновения мы были неплохо подготовлены для встречи с теми, над кем в будущем обязаны были, извините за пышность, расправить свои «крылья защиты». С подготовительного класса, сразу же после детсадовской Амуро-Купидонской вольницы, с нами проигрывались различнейшие ситуации, с коими нам предстояло столкнуться в будущих командировках на Землю… У нас даже был специально построен такой, я бы сказал, тренировочный «Земной мир в миниатюре». Что-то типа «Диснейленда», но без игр и аттракционов. Там было все: от уличных телефонных автоматов всех возможных конструкций до метрополитенов, аптек, аэропортов, закусочных, вокзалов, больниц, квартир, чердаков, тюрем, ну и так далее… Короче, со всем тем, с чем Человек сталкивается всю свою жизнь до ее логического, или совершенно алогичного, конца. Нам преподавали все — вплоть до начальной сексологии по Мастерсу и Джонсону…
— Забавно! — оживился я. — Перевод русского издания этого двухтомника когда-то редактировал мой старый-старый дружок доктор Лозинский Евгений Зигмундович! Вот уж поистине — мир тесен…
— Особенно это хорошо видно Сверху, — подтвердил Ангел. — Но нам читали этот весьма волнующий курс по американскому изданию в Бостоне — «Литтл, Браун энд Компани». Сейчас, вспоминая наших ведущих преподавателей — глубоко интеллигентных Ангелов-Хранителей Высшей категории, с гигантским опытом работы Внизу — с Людьми, я понимаю, что, посвящая нас, малолеток, в сексуальные азы, они вовсе не оставались равнодушными к теме. У асов Ангельской педагогики глаза горели… Тьфу, тьфу! Чуть не сказал бесовским огнем!.. Но что-то в этом роде было. Тем не менее они сумели нас поднатаскать за эти годы так, что, когда меня отправили на мою первую практику на Землю, на выручку Лешки Самошникова, маленький практикантишка, попав впервые Вниз, чувствовал себя в большом европейском городе гораздо увереннее, чем всякие там Тарзаны и Маугли — этакие чистые душой, диковатые ребята, попадающие в губительный и растленный мир ужасной Цивилизации…
— И вы будете утверждать, что, впервые попав в эту самую «цивилизацию», вы не совершили ни одной ошибки?! — откровенно усомнился я. — Только не пытайтесь мне ничего вкручивать!
— Я и не собираюсь, — улыбнулся мне Ангел. — Ошибок я совершил массу! Но не от незнакомства с Земными реалиями, а в силу своего мальчишеского экстремизма, непонимания простых Человеческих истин, до которых я в то время элементарно не дорос… Все мои промахи и ошибки того периода квалифицировались одним, ставшим уже классическим выражением известного государственного российского мыслителя: «Хотели — как лучше, а получилось — как всегда…»
— Ну хорошо, — чуточку устало проговорил я, — а быт?.. Где вы жили, что вы ели?.. Насколько я могу себе представить, вы же постоянно находились в состоянии экстремальном — по существу, вы были тайным, пардон, «засланцем» в категорически чуждой вам среде.
— Кое-что вы угадали… Но что касается быта — тут все было в полном порядке. В Наземной командировке Ангел-Хранитель независимо от ранга находится на полном Всевышнем Обеспечении и повседневная житейская бытовуха ничуть не отвлекает его от задания.
— Как у вас там все гладко Наверху, — завистливо и недоверчиво сказал я.
— Отнюдь, — возразил Ангел. — Почитайте внимательно Библию, загляните в Священное Писание — и вы найдете там кучу несообразностей и противоречий.
— Ох, Ангел!.. Неужели вы думаете, что небольшой остаток своей неверующей жизни я готов посвятить чтению Библии!.. Давайте про ошибки. Ошибки — основа драматургии. Обожаю ошибки! Вы заметили, что все отрицательные персонажи обычно выписаны гораздо сочнее и интереснее, чем положительные? Кстати, этот дисбаланс присутствует и в вашем рассказе. Так что да здравствует «Госпожа Ошибка»! Валяйте, Ангел…
— Вам рассказать или вы хотели бы посмотреть сами?
— Все зависит от того, что вы собираетесь мне поведать.
— Об избавлении Лешки от пьянства и одиночества. Это посоветовал мне наш Представитель. Резидент, так сказать. Тот самый белый старик с голубыми глазами.
— Вам удалось и то и другое?
— В какой-то степени…
— Тогда о вашей ангельско-горбачевской акции «Трезвость — норма жизни» мне достаточно устного пересказа. Я это и сам проходил. А вот как можно избавить Человека от Одиночества, от этого недуга вселенского масштаба, я хотел бы посмотреть. Тем более что и в том и в другом случае, как я понял, вы дали пенку…
— Не совсем. Кое-что удалось. Но не так, как хотелось бы… В первом случае я повел себя, конечно, излишне радикально. Я сделал так, что каждый глоток алкоголя вызывал у Лешки неудержимую рвоту, сопровождавшуюся острой язвенной болью…
— Да вы просто были маленьким мерзавцем! «Ангел-Мерзавец»… Ну, надо же! — возмутился я.
— Дети неосознанно жестоки, Владимир Владимирович, — холодно сказал Ангел. — Особенно дети, волей случая получившие некую власть над взрослым. И для достижения цели, даже во спасение этого взрослого, не останавливаются ни перед чем. Наверное, я не был исключением…
Я заметил — когда Ангелу что-то во мне не нравилось, он излишне отчетливо выговаривал мое имя и отчество. Не мягко и симпатично — Владим Владимыч, а жестко, не выпуская ни одной буквы — Владимир Владимирович. Сейчас я, наверное, действительно перехватил через край…
— Простите меня, Ангел.
— Ничего. В сущности, вы правы. Но, как острили раньше в Одессе — «Вы просите песен, их есть у меня…»
— В таком случае пойте дальше, — сказал я, подивившись Ангеловым познаниям старинных острот конца тридцатых — начала сороковых годов прошлого столетия.
— Две недели Лешка провалялся в Университетской клинике с кровоточащей язвой задней стенки желудка. К счастью, обошлось без операции. Это уже я организовал… Из клиники Лешка вышел сильно напуганным. Ему там с немецкой безжалостной прямотой втолковали, что следующая ступень его неумеренных возлияний — рак желудка и небогатые похороны за счет системы социального обеспечения…
— Но вы ведь могли погубить его! — не выдержал я.
— Нет. Я все-все рассчитал. Мне нужно было его только испугать. Что я и сделал. Но если бы он все-таки вдруг неожиданно стал отдавать концы, я бы тут же пришел на помощь.
— Каким образом?! Он — в больнице, вы — хрен знает где!
Невольно я отметил, что почему-то не могу при Ангеле воспользоваться такими общеупотребительными выражениями, как «черт его знает…», «Боже меня упаси!..», «леший его задери…». Что меня сдерживает — абсолютно непонятно.
— Почему же это я — «хрен знает где»?! — разозлился Ангел. — Я-то каждую секунду был рядом с ним! Начиная с первого момента моего прибытия на Землю. Просто он не видел меня… А то, пользуясь вашим же лексиконом, на кой «хрен» я вообще бы к нему прилетал, скажите на милость?!
— Не злитесь, Ангел. Я же не знал, что, организовав ему язву желудка, вы все это время торчали там в клинике, — примирительно проговорил я. — А как вам удавалось оставаться для него и для всех остальных невидимым?
— Владим Владимыч!.. — Ангел вздохнул так, что мне стало жалко самого себя — таким я себе показался несмышленышем. — Ну, вы же не спрашиваете — откуда появился джин в стакане, горячий «Эрл Грей» с бергамотом, соленые крекеры!.. Это все звенья одной и той же примитивной цепи. Наш, так сказать, Ангельский профессиональный инструментарий.
— Как на вашу первую Наземную акцию отреагировал Представитель Неба на Земле, тот старый Ангел с голубыми глазами?
— В принципе Старик был доволен — пить Лешка бросил. А вот за клинический метод я получил дикий нагоняй! На самом Верху даже возникла проблема — могу ли я продолжать Наземную практику, или меня следует немедленно отозвать Наверх…
— И что же?
— Ничего. Все как и в вашем мире: я покаялся, Старик вступился. Обошлось… Хотя именно тогда меня, двенадцатилетнего, впервые посетила крамольная мыслишка: а не вы ли там, Господа хорошие, сидящие Наверху, прошляпили Человека Лешку Самошникова? Еще когда Юта Кнаппе уговаривала его на пару дней смотаться на Запад… У нас на Небе прекрасно знали, что в Советском Союзе с этим не шутят! Почему тогда Лешку никто не Уберег, не Охранил?! А не заблуждался ли Михаил Юрьевич Лермонтов, не переоценил ли классик возможности Всевышнего, когда писал «…и мысли и дела Он знает наперед…»?!
— Надеюсь, что юный диссидент тогда ни с кем не поделился своими сомнениями во Всемогуществе Всевышнего? — осторожно спросил я. — В вашем случае это было бы равносильно нашей «антисоветчине».
— Отчего же? — небрежно ответил Ангел. — Именно этот вопрос я и задал Представителю Неба на Земле — тому Старику в белом. В конце концов, он хоть и номинально, но считался руководителем моей Наземной практики…
— И какова была его реакция?
— Старик чуть крылья себе не обмочил от страха. Но не заложил.
— Очень пикантная подробность, — пробормотал я. — Как же вы справились со второй задачей — избавить Лешку от Одиночества?
— Хотите еще чаю? — спросил Ангел.
— Нет, спасибо. Не увиливайте, Ангел!
— Да не увиливаю я. К сожалению, Старик мне ничем помочь не смог в силу переизбытка прожитых лет и естественного старческого склероза, а мне самому попросту не хватило наших школьных и чуточку прямолинейных познаний о вашем Мире. Кое-чего мы, к сожалению, там не проходили… Ложитесь, Владим Владимыч. Вы же хотели это увидеть своими глазами?
Я послушно улегся на свою постель, мчавшуюся в ночи.
Ангел приглушил свет в купе, не прикасаясь к выключателю, и негромко проговорил:
— Должен признаться, что в классическую схему «Избавления от одиночества» мы со Стариком воткнули один не больно классический, но обязательный пунктик — напрочь убрать языковой барьер. Ибо по‑немецки Лешка почти не говорил, а это могло бы разрушить весь букет наших наивных благих намерений…
— Стойте, стойте, Ангел, — встрепенулся я. — А что это за «классическая схема»?
— Ну, Владим Владимыч, мне ли вам объяснять? «Человек в Нужное Время, в Нужном Месте сталкивается с Нужным Человеком». Что я и СОТВОРИЛ…
… Я встретил вас, и все былое
В отжившем сердце ожило,
Я вспомнил время золотое,
И сердцу стало так легко… —
мягко и негромко пел Леша Самошников, аккомпанируя себе на пожилой, но уже собственной гитаре, приобретенной Гришей Гаврилиди у пожилого турка на субботнем окраинном фломаркте.
Теперь в мариупольско-западногерманское кафе Наума Френкеля «Околица» ходили в основном на русские романсы и русскую поэзию в исполнении Алексея Самошникова.
Посетителей в кафе заметно прибавилось, и после недельной яростной торговли герра Гаврилиди с герром Френкелем гонорар герра Самошникова был увеличен до пятидесяти марок за вечер.
Не забыл герр Гаврилиди и себя, любимого. Пригрозил разбогатевшему бедняге Френкелю тем, что уведет артиста Самошникова во вновь открывшийся русский ресторан с оригинальным названием «Калинка», и мариупольский герр Френкель был вынужден пойти на кабальные условия этого паршивца грека «с-под Одессы» герра Гаврилиди и прибавить ему еще пятнадцать марок к прошлым двадцати…
Благодаря популярности Лешиных выступлений бедному Неме Френкелю пришлось взять на службу какую-то совсем уж нищую родственницу-посудомойку, с диким трудом втиснуть в маленький зальчик еще четыре столика, а в коридорчике, предваряющем вход в зал, рядом с туалетной дверью, поставить автомат, продающий сигареты.
Вот этот сигаретный автомат и приоткрыл новую страничку в загрансудьбе артиста Самошникова…
В Нужное Время — было около десяти вечера, в Нужное Место — к международному мариупольско-германскому кафе «Околица», что неподалеку от городской тюрьмы, «совершенно случайно» подкатил белый «мерседес» стоимостью в семьдесят тысяч западногерманских марок, и из него вышел Нужный Человек — очень красивая, очень усталая молодая женщина в простеньких джинсиках, тоненьком красном свитерочке и светло-бежевой замшевой жилеточке. Звали ее Лори Тейлор.
У Лори кончились сигареты, и она точно знала, что в это позднее время в благовоспитанной Западной Германии сигареты можно купить только на редких круглосуточных автозаправках, вокзалах и в специальных сигаретных автоматах, стоящих в любом ресторанчике или кафе.
Лори открыла дверь «Околицы», увидела Нужный сигаретный автомат рядом с туалетной дверью и опустила в Нужную щелочку автомата Нужную денежку за пачку Нужных ей сигарет.
Собралась было вернуться в свою роскошную машину, как вдруг услышала тихую гитару и несильный, но очень приятный мужской голос, который пел:
… Уж не одно воспоминанье
В душе моей возникло вновь.
Все то же в вас очарованье,
Все та ж в душе моей любовь…
У Лори даже горло перехватило!
Еще стоя в коридорчике, она трясущимися, нервными пальцами раскрыла пачку сигарет, прикурила от дорогой зажигалки, глубоко затянулась и решительно распахнула входную дверь в маленький зальчик кафе…
— Ну, малыш!.. Ты просто секс-гигант! Тощенький, но гигант… Тебе бы чуть-чуть техники, да витаминчиками подкормить со специальными пищевыми добавочками, да слегка мышцу подкачать гантельками и тренажерами — цены бы тебе не было! А если бы и была, то очень, очень хорошая. Тем более при таких нестандартных размерах! — напрочь взламывая «языковой барьер», на чистом русском языке с характерным московским «аканьем» сказала под утро Лешке Самошникову восхищенная Лори Тейлор — в советском девичестве Лариска Скворцова по кличке Цыпа, одна из самых молоденьких и удачливых московских валютных проституток из команды гостиницы «Метрополь» середины восьмидесятых.
Удача Лариске сопутствовала всегда и во всем. То ей в последнюю секунду удавалось вручить взятку «неприступному» следователю, когда по восемьдесят восьмой статье уголовного кодекса тех лет ей грозили четыре года заключения за «нарушение правил о валютных операциях»; то исхитрилась женить на себе милого и глуповатого представителя одной американской авиакомпании Боба Тейлора, а тот вывез ее в Нью-Йорк и даже сделал гражданкой Соединенных Штатов Америки.
За четыре года, проведенных там, не только удачливая, но и несомненно талантливая Цыпа-Лариска насобачилась щебетать по-английски так, что отличить ее от настоящей американки смог бы только тот, с кем она переспала еще в Москве. А в этом бизнесе Цыпа была незабываема!
Благодарная верность мужу, счастливейшему служащему «Америкен Эрлайнс» Бобу Тейлору, оградила Цыпу от каких бы то ни было шашней с его приятелями. Что, правда, не помешало ей втайне от Боба сняться в семидесяти трех порнофильмах и заработать за четыре года в Нью-Йорке вдвое больше, чем высокооплачиваемый Боб смог бы принести в дом за ближайшие десять лет…
Но однажды, чтобы подхлестнуть свою слегка ослабленную возрастом и компьютерными излучениями половую функцию, Боб притащил домой три порнографические видеокассеты, купленные им «для дома, для семьи» в одном из лучших секс-шопов Квинса.
Семейный просмотр первой же кассеты сработал с точностью до наоборот! Боб начисто лишился остатков этой самой функции, тут же превратившись в импотента высочайшей пробы. Ибо главным действующим лицом в этом увлекательном фильмике была его горячо любимая и беззаветно преданная ему супруга — миссис Лори Тейлор! В московском просторечии — Цыпа из «Метрополя».
Итак: мистер Тейлор остался в Нью-Йорке один на один со своей беспросветной импотенцией, обретенной в результате стресса от удивительного открытия, а американская гражданка миссис Лори Тейлор мгновенно перевела все свои денежки, честно заработанные на каторжном ложе киносоитий, из «Бэнк оф Нью-Йорк» в западногерманский «Дрезднер банк» и оказалась в Европе, в самом центре Германии.
Где, как и положено в Старом Свете, «американская звезда» была принята с распростертыми объятиями в самых фешенебельных домах порнопродукции — «Беаты Узе» и «Терезы Орловски».
Не говоря уже о шведских и датских компаниях попровинциальнее и помельче…
— Ну, если ты не пьешь, то хоть поешь чего-нибудь? — спросила голая Лори у голого артиста Самошникова.
— Нет, — ответил Лешка.
— На нет — и суда нет, — сказала Лори.
Она привстала, завернулась в красное с гигантскими желтыми цветами покрывало, подняла валявшуюся на полу Лешкину гитару и, поджав под себя ноги, уселась напротив Лешки.
— Тогда давай споем вместе, — предложила Лори и со знанием дела прошлась пальцами по гитарным струнам.
— А что? — спросил Лешка.
— Галича.
— Что Галича? — попытался уточнить Лешка. Но ответа он не услышал.
Глаза Цыпы-Лариски уже уставились в какую-то только ей ведомую бесконечность, пальцы тихо, но тревожно тронули струны гитары, и Цыпа из «Метрополя», по милицейским протоколам — Лариса Ивановна Скворцова, она же — подданная США миссис Лори Тейлор, она же — знаменитая фрау Лори, популярнейшая в мире сексбизнеса порнозвезда, чьи двухнедельные гонорары намного превышали оклад министра обороны ФРГ, запела приятным, чуть хрипловатым от бессонной ночи голосом:
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой…
Лешка ошеломленно уселся на подушки, стыдливо прикрылся одеялом и тихо продолжил:
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет…
Так и лежим, как шагали, попарно, —
пели они уже вдвоем, —
Попарно, попарно.
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!
Резкий, жестокий аккорд… и снова еле слышно звучит гитара:
И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка.
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.
Ах, как рванула Цыпа гитарные струны! У Лешки даже мороз по коже…
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия…
слаженно, будто полжизни вместе, пели Цыпа и Леха.
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда! —
пел Лешка и понимал всю непозволительную и сентиментальную нелепость ситуации!
Не имела права эта песня звучать в роскошном доме самого богатого предместья одного из центральных городов Западной Германии.
Именно эта песня…
Именно в этом доме. Купленном бывшей московской валютной проституткой на деньги, полученные ею за тысячи и тысячи порнографических видеокассет, гуляющих по всему земному шару!
Но остановить эту песню Лешка тоже был не в силах.
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму… —
пели они оба уже в полный голос, —
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!..
Цыпа тренькнула одной струной, впервые посмотрела на сидящего, съежившегося под одеялом Лешку и тихо повторила:
— И мы — ни к чему… Алешенька.
И тогда Лешка простил и себе, и Лариске «эту песню в этом доме».
Показалось, что если представить себе, будто это не кровать, а некий крохотный мирок на двоих, изолированный от стен этого дома, от окружающего его сада, от города, на окраине которого раскинулся этот сад, от всей этой чужой страны, где и Лариска, и Лешка оказались выплеснутыми мутной волной дурацких и случайных обстоятельств, может быть, тогда они смогут иметь право хотя бы на редкие проявления сентиментальных нелепостей?..
— Ты когда последний раз звонил домой? — тихо спросила Цыпа.
Лешка смутился, потянулся за сигаретами.
— Ладно, — сказала Цыпа. — Твое дело. Хочешь хорошую работу? Не по двенадцать марок в час за разборку мусора, не по пятьдесят за вечер с гитаркой… По пятьсот за смену. Поначалу только. Дальше — больше. В смысле за съемочный день. Ты же артист, а это примерно одно и то же.
Лешка сообразил, что предлагает ему Лариска, отвел глаза в сторону:
— Но я же артист драматический.
— А кому ты нужен здесь «драматический»?! — Лариска от злости даже басовые струны на гитаре рванула. — Был бы ты цирковой, еще куда ни шло: встал вверх ногами, перевернулся через голову, и всем все понятно. А драматический ты артист или, еще чего хуже, писатель русский, — кому ты здесь на Западе сдался? Я четыре года в Америке прожила — знаешь, сколько я таких русских гениев повидала?! В Москве или в Ленинграде на них рот разевали, в киосках «Союзпечать» фотками торговали, за их автографами девки в драку, а там, в Нью-Йорке… Кто они? Где они?.. Сидят на грошовом вэлфере и не чирикают. И здесь то же самое. Что социал им бросит, то они и схавают. Мне партнер нужен, Алеха. На которого я бы по-настоящему заводилась. Чтобы в сердце хоть что-нибудь шевелилось!.. Любимый партнер, постоянный, а не случайный кобель с тупой харей и перекачанными мускулами. Сколько я еще продержусь в этой индустрии? Цех-то — вредный! Тут лошадиного здоровья не хватит. Пора свою фирму открывать — под американским флагом. Хочешь со мной?
Лешка загасил сигарету в пепельнице, сказал тихо, потерянно:
— Я домой хочу.
— Чего же ты не звонишь им? Они же там небось с ума сходят.
— Я звонил, — понуро сказал Лешка.
— Когда?
— Еще когда с театром по воинским частям между Лейпцигом и Эрфуртом ездили.
— А потом?
— Потом стеснялся…
— Ну и сволочь же ты! А посмотришь — и не скажешь… Звони немедленно! Вот тебе телефон — звони сейчас же. Вались в ноги, проси прощения, убалтывай их, как можешь. Это же родные люди! Елочки точеные, была бы у меня хоть какая-нибудь родня — я бы вообще с телефона не слезала бы! Так и висела бы на шнуре, как обезьяна на лиане… Звони, сукин кот, расскажи им, что жив-здоров, успокой.
— Да знают они, наверное, все, — сказал Лешка. — Мне один знакомый эмигрант в «Околице» говорил, будто бы в «Комсомолке» была заметка — дескать, такой-то и такой-то остался на Западе. Про меня. Так что они, наверное, прочитали.
— А то, что им из-за тебя КГБ кишки на барабан мотал, ты об этом подумал?
— Ну, и это, конечно…
Лариска отложила гитару в сторону, выпуталась из красного с желтыми цветами покрывала, спрыгнула голая с кровати, накинула длинный шелковый халат, пододвинула к Лешке телефон поближе:
— Звони, кайся. О бабках не думай — звони. Я их потом с налогов спишу. Сколько нужно, столько и разговаривай. И помни, Алешенька, что бы ни случилось, своих нельзя подставлять. Их беречь нужно. Звони. А я пока приму душ и приготовлю завтрак. А потом я тебя на ипподром свожу. Я до завтра совершенно свободна. Ни съемок, ни хрена. Проведем день любви, азарта и зрелищ!
Лариска взяла вчерашнюю вечернюю газету с туалетного столика, заглянула в последнюю страницу:
— Сегодня будет несколько очень загадочных и интересных забегов! Здешний ипподром, если не считать Московского и английского Эпсомского, — лучший в Европе… Ну, еще в Мадриде очень приличненький. Играл когда-нибудь? В смысле — на лошадок ставил?
— Нет. И не бывал никогда в жизни.
— Ура! Новичок — к счастью!.. И ничегошеньки в этом не тянешь?
— Ровным счетом. Что-то смутно припоминаю из классической литературы… Ты-то откуда такой специалист?
— Года два назад фильмик снимали — ипподром, конюхи, жокеи, конюшни и пара «светских» дам. Ну, дамы, естественно, мы с одной чешкой, жокеев и конюхов тоже наши изображали… Короче — свальный грех на конюшне. Кассета разошлась по всему миру! Я потом на ежегодном Эротико-Форуме за нее лауреатом золотого «Венуса» стала. Это порнографический «Оскар»… С тех пор «заболела» скачками, рысистыми бегами. Играю как ненормальная! Последнее время не везет, но… Только не терять надежды! Люди, знаешь, сколько оттуда бабок увозят — главное, лошадку угадать! Хотя для меня дело совсем не в деньгах — я, Алешик, там просто отдыхаю от всей этой своей блядской мототени… Звони в Ленинград, завтракаем и едем. Понял?
— Да.
— Код Союза и Ленинграда помнишь?
— Помню.
— Вот и звони. И учти — у нас там сейчас на два часа позже, чем здесь, в Германии…
Лори вышла из спальни, а Лешка подумал: «Забавная штука… Эта удивительная гражданка США миссис Лори Тейлор, „эротико-дива“, как называли ее бульварные газеты и журналы светской хроники, эта фантастически богатая „порнозвезда“ наипервейшей величины, американка, живущая в одном из пяти самых больших городов Германии, в собственном потрясающем доме, выстроенном в очень престижном районе, бывшая москвичка Лариска Скворцова по кличке Цыпа, спустя много лет жизни на Западе, говоря о Советском Союзе, где она была всего лишь хорошенькой валютной проституточкой, преследуемой всей гигантской советской милицейско-судебной машиной из-за пары сотен долларов, заработанных тяжким бабским трудом, она все-таки автоматически, даже не отдавая себе отчета об истинном смысле произносимого, сказала: „… У НАС ТАМ на два часа позже…“
«У нас там…» «Наверное, это из того же лукошка „сентиментальных нелепостей“», — подумал Лешка и стал набирать по международному коду домашний номер телефона в Ленинграде, на улице Бутлерова…
Нет, нет!.. Я не вернулся в сегодняшнее ночное купе «Красной стрелы», мчащейся из Москвы в Санкт-Петербург.
Каким-то образом я так и остался в Том Времени…
Сейчас я понимаю — это было дело рук Ангела, моего поразительного соседа по купе. Это он нашел единственно верный монтажный стык, исключающий долгие объяснения происходящего:
…вот Лешка Самошников здесь, в Западной Германии, набирает номер ленинградского телефона…
…а вот и я сам вместе с Лешкиным телефонным звонком оказываюсь тоже в Ленинграде Того Времени, на Бутлерова, в трехкомнатной квартире — «распашонке», где, к несчастью, уже не живет Натан Моисеевич Лифшиц; куда, к сожалению, больше никогда не придет старый-старый друг Ваня Лепехин; где Фирочка и Серега Самошниковы вместе с Любовью Абрамовной Лифшиц как чуда ждут какой-нибудь амнистии или Указа, которые дадут возможность их сыну и внуку — заключенному детской колонии строгого режима Толику-Натанчику — вернуться домой хоть на годик раньше отмеренного ему срока…
А как мечтают о весточке «оттуда», из этой проклятой Западной Германии, от их глупого, талантливого и любимого Лешки, который почему-то не может дать о себе знать уже несколько месяцев.
Только слухи, слухи, трепотня разная — как вокруг любого, кто за бугром оказался…
То будто бы Лешка уже в Голливуде снимается, то болтают, что он в Западном Берлине, в каком-то самом главном театре Гамлета репетирует…
Конечно, Лешке Самошникову в таланте не откажешь. Все может быть. Там тебе не псковский театрик.
А что, если это все вранье?..
— Господи всемилостивый! Если ты есть на белом свете, помоги нашим мальчикам, спаси их и помилуй! Они очень, очень хорошие…
Так шептала Любовь Абрамовна, протирая влажной тряпкой книжный стеллаж в «детской», где теперь жила она.
В большой комнате зазвонил телефон.
— Мама! Телефон!.. — закричала из кухни Фирочка. — Возьми трубку, пожалуйста! У меня руки в тесте. Это, наверное, Сережа с работы звонит…
Любовь Абрамовна вышла из «детской» в большую комнату, подняла трубку непрерывно звонящего телефона:
— Алло… Я вас слушаю.
— Двести сорок девять тридцать восемь одиннадцать? — спросил женский голос.
— Да, — ответила Любовь Абрамовна, и на мгновение ее сердце сделало пугающий кувырок.
Ноги у нее подкосились, и она тяжело опустилась на диван.
— Западная Германия вызывает, — с отчетливо неприязненными нотками в голосе сказала телефонная женщина. — Говорите.
— Фира… Фирочка!!! — слабенько прокричала Любовь Абрамовна. — Германия!..
На ходу вытирая руки кухонным полотенцем, в комнату влетела Фирочка. Перехватила телефонную трубку у матери, прижала к себе Любовь Абрамовну, чтобы та не упала с дивана на пол, и закричала в трубку:
— Я слушаю!.. Слушаю! Слушаю!..
И вдруг неожиданно — совсем тихо:
— Сынулечка… Маленький мой. Лешечка, родненький!.. Деточка моя любимая…
… Все-таки за последние три-четыре года я изрядно постарел.
Чувствую я это во всем: легко засыпаю, ночью чаще, чем раньше, хожу в туалет…
Просыпаюсь часам к пяти-шести утра (независимо от того, во сколько я лег — в полночь или под утро), долго не сплю, пытаюсь читать, смотреть немецкие и англо-американские предутренние телевизионные программы, задремываю, через двадцать минут снова просыпаюсь…
Все реже и реже посещают меня эротические сны. И хотя к Этому мужской интерес у меня еще не угас, теперь он больше питается воспоминаниями о моем прошлом молодечестве, вызывая некий суррогат возбуждения. А еще мой увядающий интерес к Этому стал носить некий «оценивающе-наблюдательный» характер. То есть подсознательно исключив себя из числа участников процесса, я как бы приподнялся над Этим и позволяю себе поглядывать на Это откуда-то сверху, с каких-то уже белых, предсмертных вершин.
Написав слово «предсмертных», я ничуть не раскокетничался. Этим привычно пугающим словом я напрямую обозначил свой сегодняшний жизненный этап.
И это все несмотря на почти ежедневную утреннюю зарядку, начинающуюся у меня, правда, часов в одиннадцать, — всякие там отжимания, велосипед без колес, гантельки по семь с половиной кило…
Бодрости это прибавляет всего лишь часа на полтора, два. А затем — быстрая, нормальная старческая утомляемость. От сидения в удобном, мягком рабочем кресле за пишущей машинкой дико устает спина, поясница буквально разламывается, и мой удачный рабочий день после бесчисленных придирок к самому себе, переделок и поправок к вечеру выплевывает всего лишь странички полторы машинописного текста, напечатанного начисто через два интервала в количестве двадцати восьми строк на стандартном бумажном листе.
Но главный признак сыплющегося на меня старения я обнаружил совсем недавно!
Я катастрофически стал терять ту самую ироничность, которая всю жизнь защищала меня и отгораживала от серьезного отношения к серьезным событиям.
Скорее всего это безнравственно, зато частенько мне помогало выжить в ситуациях, казалось бы, безвыходных. Ирония заслоняла понимание опасности, и от этого очень многие мои недальновидные друзья всегда считали меня человеком отважным. На самом деле это была элементарная недооценка угрозы…
Огорчительно еще то, что в последних писаниях моя постаревшая, почти немощная ирония стала уступать место примитивному сентиментализму. Да и сам я в обыденной жизни стал изрядно слезлив и сентиментален. Что нередко происходит с пожилыми (как я, однако, трушу произнести слово — «старыми»!) людьми, прожившими нелегкую и жестокую жизнь, нафаршированную тайными и постыдными компромиссами и яркими, поверхностными бескомпромиссными решениями, вызывавшими лишь на секунду нервный восторженно-победительный всплеск, а потом отравлявшими много лет последующего существования.
Ужасно, что с возрастом уходит юмор и появляется некая раздражительность. Ясно представляю себе, как нелегко моим близким жить рядом со мной. Откуда мне ведомо, что они прощают меня?..
Но самое страшное, что при чудом сохранившемся желании сочинять я почти утратил способность легко и элегантно, как раньше, выдумать смешной эпизод или неожиданный и веселый поворот в диалоге героев, сочинить изящную, остроумную реплику для симпатичного мне персонажа…
А сколько раз я всем пытался доказать, что «мелодраматичность и сентиментализм», если они остаются в пределах хорошего вкуса, — могучий двигатель драматургии! Сегодня же, когда я ощущаю невольную и неправомерную подмену трезвого, смешливого взгляда на выдуманные мною события жалостливым, надрывным и многословным описанием, я прихожу в ужас от того, что стало происходить со мной, любимым!..
Именно поэтому я, опасаясь перебора «трагизма», ничего не буду писать о том, как отреагировал Леша Самошников на все, что ему рассказала по телефону мать — Фирочка Самошникова. О судилище над его младшим братом Толиком-Натанчиком, о скоропостижной смерти любимого дедушки, о самоубийстве Вани Лепехина, об их поездках с папой на «дни свиданий» в детскую колонию строгого режима к маленькому Толику…
Рассказала быстро, скомканно. Потому что Любовь Абрамовне на радостях от Лешкиного звонка стало совсем плохо с сердцем и Фирочка была вынуждена закончить разговор с Западной Германией и вызвать матери «неотложку».
Вот тут я попросил Ангела вернуть меня из Того Времени в Это и поведать мне, как говорится, «своими словами» о том, что же происходило дальше. Мне очень нужно было отдохнуть от всего, что я увидел Там…
Думаю, в данном случае сработала некая подсознательная возрастная защитная функция: у меня уже не было сил видеть и слышать истерические рыдания молодого, сильного мужика!..
— Ох, Владим Владимыч… Как он кричал, как плакал, как бился в истерике!.. С какой неловкой лихорадочностью натягивал на себя джинсы, как тряслись у него руки, когда он пытался застегнуть рубашку! А что он кричал, Владим Владимыч!.. Как молил Толика, маму, отца, бабушку простить его, как проклинал себя за ничтожество, звал мертвого деда, неживого дядю Ваню Лепехина, как умолял Небо дать ему силы покончить с собой… Как он в эти минуты не хотел жить!.. — говорил Ангел. — Помню, меня это привело в состояние шока. Я и до этих-то криков был предельно взвинчен… Маленький дурачок-практикантишка наивно решил посмотреть, как это Лешка с его помощью будет избавляться от Одиночества! Надеюсь, вы понимаете, что я увидел ночью в спальне миссис Лори Тейлор?! С нашим Школьным теоретическим курсом азбуки секса по Мастерсу и Джонсону это не имело ничего общего!
— С ума сойти! — ужаснулся я. — Вам же было всего двенадцать…
— В том-то и дело! Голова пылает, все тело в каком-то огне, глаз оторвать не могу! Внизу… ну, там, между ног, все разрывается от дикой похоти, от неукротимого мальчишечьего желания! Меня и самого впору было отпаивать валерьянкой…
— Вот уж никогда не думал, что такие плотские штуки могут возникать и у Ангелов, — пробормотал я. — Мне всегда казалось…
— Обычные Земные идеалистические заблуждения, — очень мягко прервал меня Ангел. — Короче, мне не нужно вам объяснять свое состояние… А тут еще эта истерика!
— Ничего себе — нагрузочка на ребенка, — вздохнул я.
— Так вот: рыдания и слезы красивого взрослого мужчины я тоже наблюдал впервые! Припоминаю, что в цикле наших Школьных лекций «Особенности проявления Человеческих характеров и поведение Людей в различных формах ситуативных обстоятельств» говорилось, что плакать могут только Дети и Женщины. О Мужских слезах и рыданиях мы не слышали ни единого слова! Отсюда, естественно, и мой испуг, и моя растерянность в первый момент… К счастью, мне почти сразу же удалось установить связь с тем белым Стариком-Ангелом — номинальным руководителем моей Наземной практики…
Неожиданно меня заинтересовала система Ангельской связи.
— Каким образом?! — поразился я.
— Владим Владимыч, мне будет сложно вам это объяснить, еще сложнее вам будет это понять. Могу пояснить одно — на очень высоких частотах! Я сказал «к счастью», потому что Старик к тому времени уже был глух, как тетерев, и достучаться до него можно было только случайно. Мне повезло. Старик очень толково порекомендовал мне ни под каким видом не оставлять Лешку сейчас одного. И к создавшейся ситуации немедленно подключить Женщину! Что я и сделал — миссис Лори Тейлор, она же Лариска Скворцова, она же Цыпа, как фурия, примчалась из ванной комнаты на Лешкин захлебывающийся крик:
— Не хочу жить!!! Не хочу!..
— Скажите, Ангел… — неожиданно напряженно спросил я. — А вы не помните, когда Леша плакал, как он обращался к скончавшемуся Натану Моисеевичу? Ну, как он его называл, когда просил у него, у мертвого, прощения?..
Ангел немного помолчал, а потом поднял на меня свои голубые глаза, откинул длинную, свисающую на лицо прядь светлых волос и даже улыбнулся:
— Он называл его так же, как звал еще в раннем детстве. Точно так же, как по сей день вас называет ваша внучка Катя, — «дедуленька»…
Я уже ни хрена ничему не удивлялся. Даже тому, что Ангел знает, как зовет меня Катька в минуты внучачьей нежности. Лишь затосковал, что в неведомом, но скором будущем наша Катюха произнесет «дедуленька», когда меня уже не будет…
— Только, пожалуйста, никаких аналогий, — строго сказал мне Ангел. — У вас впереди еще минимум пара книжек. Насколько я знаю, вы теперь сочиняете их чрезвычайно медленно, так что времени у вас в запасе — предостаточно!..
Потом Ангел рассказал следующее.
Лори Тейлор заставила Лешку проглотить целую таблетку «бромазанила», половина которой с успехом могла бы успокоить взволнованного африканского слона, и срочно вызвала своего «хаузартца» — домашнего врача Уве Нитцше.
Тот не заставил себя ждать. Эта американская фрау умела быть благодарной.
— Уве! — сказала ему фрау Тейлор на хорошем немецком. — Мне нужно привести этого парня в порядок. Я, к сожалению, завтра днем на неделю вылетаю в Испанию на съемки. Ему, тоже завтра, но с раннего утра, необходимо быть в Бонне, в советском посольстве. Сегодня он уже пропустил часы приема. Да и вряд ли он смог бы сегодня с ними разговаривать в таком состоянии. Немецкий он почти не знает, так что все вопросы — ко мне. Ваши визиты к нему, Уве, будут оплачены мною «экстра». Понятно?
— Кайн проблем, Лори, — ответил доктор Нитцше и взялся за Лешку Самошникова.
После чего Лори Тейлор по телефону разыскала менеджера артиста Алексея Самошникова — герра Гришу Гаврилиди и срочно послала за ним свою служанку на ее собственном автомобиле «Мазда-323».
Когда Гриша был доставлен на виллу миссис Лори Тейлор и попытался было поприветствовать ее на своем немецком языке, Лори резко сказала ему по-русски:
— Заткнись и слушай меня внимательно. Ты за рулем когда-нибудь сидел?
— А двести семнадцать тысяч километров на ушастом «Запорожце» вам что-нибудь говорят? — нахально спросил Гриша.
— Тогда сто верст до Бонна и сто обратно осилишь, — сказала Цыпа. — Возьмешь у моей служанки «мазду» и фарцойгшайн — в смысле техпаспорт, получишь у меня триста марок на бензин и жратву и завтра в шесть утра повезешь Алешку в Бонн. В наше е…..е посольство. И сделаешь все, чтобы ему разрешили вернуться домой в Ленинград! Если у тебя ни хера не получится, я через неделю вернусь из Испании и займусь этим сама.
И через паузу тихо пробормотала по-английски:
— Хотя теперь мне еще больше хочется, чтобы он был всегда рядом со мною…
Когда-то доктор Нитцше год стажировался в Англии и поэтому с нескрываемым удивлением посмотрел на миссис Лори Тейлор. Она перехватила его взгляд, жестко сказала по-немецки:
— Доктор, вы должны его успокоить, но не настолько, чтобы он завтра в посольстве производил впечатление слабоумного!
Посмотрела на затихающего, всхлипывающего Лешку, на Гришу Гаврилиди, четко проговорила по-русски:
— А я буду Бога молить, чтобы вы там попали к человеку решительному и ответственному, а не к какому-нибудь трусливому чиновному кретину с сосисочной идеологией…
— Даже тогда, когда я в своем отрочестве был исполнен почти абсолютной Веры, я уже отчетливо представлял себе сложнейший путь молитвы или обращения к Нему Самому! — сказал мне Ангел. — Фильтрации, сортировки, разбор по тематическим направлениям, Ангелы по Внешним связям, Ангелы-Референты, Система Безопасности… И я был свято убежден, что обращение миссис Тейлор к Нему обязательно завязнет в одной из самых начальных инстанций и никогда не будет Им услышано… Но тогда на мне, двенадцатилетнем, лежала миссия быть Его Посланцем на Земле, и за исполнение Лориной молитвы я взял всю ответственность на себя!
… Эту поездку в Бонн, в посольство Советского Союза, я должен был увидеть своими глазами.
Не потому, что я не доверял рассказу Ангела — отнюдь, но я подумал, что в наших родных нюансах изощренного советизма, да еще вынесенного на такую сытно-притягательную почву, как Западная Германия, мне будет разобраться гораздо легче, чем честному и отважному Мальчику-Ангелу, который так мужественно пытался стать Хранителем.
Именно поэтому я и попросил уже сегодняшнего — взрослого и замечательного моего «сокупейника» Ангела разрешить мне посмотреть на то, как будут развиваться дальнейшие события.
Тем более что меня даже не нужно было перемещать из одного Времени в другое. Что, подозреваю, сильно облегчало Ангелу исполнение моей просьбы…
Я так и думал, что в нашем советском посольстве маленький, чистый и смелый Посланец Неба обязательно вляпается в какое-нибудь наше совковое дерьмо!
Бедный Мальчик впрямую воспринял просьбу Цыпы к Господу направить Лешку и Гришу к самому «ответственному и решительному» сотруднику советского посольства в Бонне.
Поэтому оба герра — и Самошников и Гаврилиди — оказались в кабинете действительно самого «ответственного и решительного». У начальника так называемой «Инспекции» — представителя Комитета государственной безопасности при любом советском дипломатическом корпусе, находящемся за рубежами нашей великой Родины…
— То вы, задравши хвост, убегаете и предаете свою страну самым бессовестным образом, а то, поджавши хвост, просите вернуть вас обратно — домой, — с ласковым упреком говорил «ответственный и решительный». — Как у вас, у артистов, все это легко и просто!
— Но я же объяснял вам, как случайно все это произошло, — упавшим голосом говорил Лешка. — Я никогда и не думал…
— Вот вы не думаете, а нам приходится расхлебывать.
«Ответственный» решительно встал, порылся в металлическом шкафу, достал оттуда тонкую картонную папочку с несколькими листочками и газетной вырезкой и спросил:
— А чего же это вы в свою организацию не обратились?
— В какую это «свою»? — удивился Лешка. — В ВТО, что ли?
— Куда? — не понял «решительный».
— ВТО — Всероссийское Театральное Общество.
«Ответственный» даже рассмеялся:
— Ну, зачем же… Я имею в виду вашу еврейскую общину по месту вашего сегодняшнего проживания на территории ФРГ.
— А я-то тут при чем?! — Внутри у Лешки стала подниматься мутная волна ненависти к этому «ответственному и решительному».
Хозяин кабинета раскрыл картонную папочку, перелистал бумажки и поднял на Лешку внимательные глаза:
— Мамаша же у вас, извините, так сказать, еврейской нации. А там таких, как вы, только и ждут, понимаешь.
— Ах вон оно что!..
Лешка скрипнул зубами, еле удержался, чтобы не вцепиться в глотку этому «решительному и ответственному»,
Гриша Гаврилиди мгновенно просек Лешкино состояние и быстро заговорил, стараясь сгладить внезапно возникшую напряженную ситуацию:
— Я, конечно, дико извиняюсь!.. Но вы поймите, у Алексея Сергеевича счас очень тяжелая обстановка в семье! Младший братик в колонию попал…
— Яблоко от яблоньки, как говорят по-русски, — усмехнулся «ответственный».
— Послушайте!.. — плохим голосом сказал Лешка Самошников и неожиданно стал приподниматься.
Но Гриша Гаврилиди рванул его сзади за куртку и усадил на стул, не прекращая своей тирады:
— Дед Алексея Сергеевича — в Великую Отечественную командир взвода разведки — умер от инфаркта, бабушка хворает, мать и отец разрываются между домом, работой и колонией… Ну, случилось такое!.. Ну, не вешаться же! Ну пожалуйста…
— А вы хотите, чтобы из-за вас мы все тут на уши встали, да? — «Решительный и ответственный» перестал играть в дипломата. — То — туда, то — обратно! Вы уверены, что ленинградские органы вас по головке погладят и с оркестром встречать станут?
— Будь что будет… Только верните меня, — хрипло проговорил Лешка и, перешагнув через самого себя, добавил: — Умоляю вас…
— А вы представляете себе, во что это влетит нашему советскому государству? Переписка, запросы, выяснения, депортация… Здесь, знаете ли, ничего даром не делается!
«Где это „здесь“ — в Западной Германии или в советском посольстве?» — хотел было спросить Лешка, но Гриша больно наступил ему на ногу и не оставил «решительному» ни малейших сомнений:
— Мы все оплатим! Мы за все рассчитаемся!
Ответственный начальник решительной «Инспекции» что-то прикинул в уме и спросил у Гриши Гаврилиди:
— А вы кто будете гражданину Самошникову? Я что-то не понял.
— Я его менеджер. Концерты его устраиваю, выступления… Гаврилиди моя фамилия.
Начальник призадумался. Гриша воспользовался паузой:
— Да, кстати! Алексей Сергеевич в театре молодого Ленина играл! Владимира Ильича…
Лицо «ответственного и решительного дипломата» окаменело от ужаса. Он напрягся, побагровел и, перегнувшись через собственный стол к Лешке и Грише, свистящим шепотом произнес:
— Этим не шутят!
— Чтоб я так жил, — тут же сказал Гриша. «Ответственный» помолчал, отдышался и, наконец, пришел в себя:
— Вы, гражданин Самошников, выйдите в коридорчик, посидите там. А вы, гражданин Гаврю…
— Гаврилиди, — услужливо подсказал Гриша.
— А вы, значит, задержитесь, — сказал начальник, не рискуя снова запутаться в неприятной ему нерусской фамилии.
— Десять тысяч!!! Десять тысяч западных бундесмарок, сука!!! — кричал Гриша Гаврилиди.
Несмотря на тихую, пустынную окольную дорогу — «ландштрассе», куда раздерганный Гриша впилился, так и не найдя в Бонне выезда на автобан, обратный путь был очень шумным, нервным и скоростным.
— Десять тысяч!!! Курва!.. Охереть можно! — вопил Гриша на скорости сто тридцать при ограничении в семьдесят километров.
— Десять тысяч… — потерянно повторял за ним Лешка.
— Да еще в течение пяти суток!.. Жлобяра советская!..
— И чтобы я еще публично всю Западную Германию обосрал… Как плацдарм американской военщины, — не мог оправиться Лешка.
— На это как раз можешь болт забить… Он же сказал, что они сами напишут, как надо. Тебе только подмахнуть…
— Но почему только «американской»?! — тихо возмутился Лешка. — А где мы были на гастролях? В детском садике с танками и самоходками?! Перестройка, мать их. Ни хрена не меняется…
— Как это не меняется?! — кричал Гриша, нагло обгоняя неторопкий фургон под испуганный, истерический сигнал встречной машины. — Очень даже меняется! Когда это было, чтобы такой «бугор» брал на лапу?! То есть, конечно, брали, но не от таких, как мы… А счас, е-мое и сбоку бантик! Рассказать в Одессе — никто ж не поверит!..
— Осторожнее, Гришка, не гони… Здесь ограничение по скорости. Семьдесят кэмэ.
— Ездить надо уметь! Ты о бабках думай! Десять тысяч!!! — кричал Гриша и гнал по узкой дороге бедную старую «мазду» со скоростью сто сорок.
… Потом ели жареные колбаски и пили кофе на придорожной автозаправочной станции в районе Берцдорфа.
— Почему же он говорил о деньгах не со мной, а с тобой? — удивлялся Лешка.
— Увидел делового человека, с которым можно сварить супчик, — достойно отвечал Гриша.
— Но речь-то шла обо мне! Зачем нужно было выставлять меня в коридор? — не понимал Лешка.
— Шлемазл! Ты же — свидетель!.. На кой черт ему в кабинете лишний глаз и лишнее ухо, когда речь идет о «капусте»? А от меня одного можно всегда отпереться — послать в жопу, сказать, что я — шантажист, психопат… Что хочешь! Элементарно… Кто я? Что я? Беглый грек с-под Одессы. Кому лучше поверят?
— Десять тысяч… С ума сойти! Нереально. — Лешка встал, вытер руки бумажной салфеткой.
— Отольем на дорожку? — спросил Гриша.
Пошли в туалет. Сделали свои дела, помыли руки, вышли к стоянке, где отдыхала несчастная служанкина «мазда», с которой от рождения никто не обращался так нагло, как этот беглый Гаврилиди.
Рядом со стоянкой — площадочка, где продавали разные подержанные автомобили. Машинки выглядели как новенькие.
Гриша остановился рядом, сказал Лешке:
— Пожалуй, выберу себе «фольксваген».
— Собираешься покупать машину? — удивился Лешка.
— Нет, конечно. Откуда у меня деньги?
— Тогда почему бы тебе не выбрать «мерседес»? — поинтересовался Лешка Самошников.
Вечером сидели у Немы Френкеля в «Околице».
К несчастью для Френкелей, народу в кафе не было, и Лешка не пел романсы, а Гриша Гаврилиди не сверкал лацканами старенького смокинга. Просто сидели за столиками и пили кофе с горячими бутербродами.
За кофе мадам Френкель с них не брала ничего, а за горячие бутерброды Нема взимал с Лешки и Гриши, как обычно, — половинную стоимость. Свои люди — сочтемся…
Сейчас мадам Френкель мыла пивные стаканы, а глава предприятия протирал их несвежим полотенцем.
— Я так и не понял, почему этот посольский тип дал нам всего пять дней? — спросил Лешка.
— Он в воскресенье улетает в Москву. В отпуск. Эти десять штук для него — как бы «подъемные».
— Он так и сказал?! — поразился Лешка.
— Он сказал про воскресенье, Москву и отпуск. Остальное было нетрудно додумать, — ответил Гриша и крикнул Френкелю: — Нема! Дай десять тысяч, через год отдам с процентами.
— Мишугинэ, — грустно произнес Нема, просматривая на свет только что вымытый стакан. — Тебе перевести на греческий?
— Не надо, я ж с-под Одессы.
— Смотри, почти рядом! — удивился Френкель. — Чего же ты не попросил у меня раньше, когда я заведовал столовой закрытого типа при Мариупольском исполкоме?
— А ты бы дал?
— Честно? Вряд ли.
Мадам Френкель полоскала стаканы в тазике с мутной водой, чтобы не открывать кран и не нести лишних расходов.
— А тогда было? — нахально спросил Гриша.
— О чем ты говоришь?! — трагически воскликнул Нема Френкель.
От этого возгласа мадам Френкель уронила руки в тазик с грязной водой и тихо заплакала.
— Аллее кляр, — пробормотал Гриша. — С вами все ясно.
Долго молчали. Гриша просчитывал в голове какие-то невероятные, фантастические комбинации, вплоть до ограбления сберегательной кассы в каком-нибудь маленьком провинциальном городке.
Лешка представлял себе маленького Толика в стальных наручниках, искаженное предсмертной мукой лицо дедушки… Плачущую маму, бабушку, растерянного папу… Полутемную квартиру на Бутлерова, институт на Моховой, напротив — Брянцевский ТЮЗ с открытой сценой, пустой зал с полукруглым амфитеатром… А в последнем верхнем ряду один-одинешенек сидит мертвый дядя Ваня Лепехин…
— Это верно, что Лори тебе предлагала работу актера за большие бабки? — спросил Гриша. — Ты намекал, когда в Бонн ехали…
— Правда.
— Ну и что же ты?
— Да так… Отказался.
— Почему?!
— Как тебе сказать?.. Ну, как если бы балерину заставили петь арию Каварадосси.
— «О, никогда я так не жаждал жизни…» — тут же спел Гриша.
— Правильно. Молодец, — сказал Лешка. — А теперь сразу же станцуй партию принца Зигфрида.
— Но это же разные вещи! — рассмеялся Гриша.
— Я так и сказал.
— А что нужно было делать-то? — не унимался Гриша Гаврилиди.
— Что, что!.. Трахаться за деньги! Причем — ежедневно.
— Е-мое! Где же их столько взять?! — поразился Гаврилиди. — За полтинник тебе только отстрочат, а по-настоящему потрахаться — меньше стольника и не суйся! Я уж приценивался как-то…
— Ты не понял, — сказал ему Лешка. — Это не ты должен платить, а это тебе… Нам будут платить за это! Мужикам.
— А нам-то за что? — искренне удивился Гриша.
— Ты порнуху когда-нибудь смотрел?
— А то! Я раз видел, как снимают простое кино… Так там вокруг такая мишпоха! Всякие кинооператоры, осветители, режиссеры, мать их за ногу… Да у меня и в жисть не встанет при посторонних!
— Вот за это и платят. Чтобы по команде вскакивал.
— Кошмар! — ужаснулся Гриша. — А если баба не того… Ну, не нравится, предположим.
— Тебя что, жениться на ней нанимают?! — разозлился Лешка. — Тебе платят за то, чтобы ты трахал ее! Остальное — твои проблемы. И потом, ты, Гриша, можешь не переживать. Тебя в этот бизнес все равно не возьмут.
Более оскорбленного и обиженного «грека с-под Одессы» мир не видел со дня его сотворения! Воздух в «Околице» сгустился до невероятной плотности. Казалось, сейчас сверкнет молния и грянет гром. И он грянул!
— Почему это?!! — заорал Гриша так, что у мадам Френкель в руках лопнул пивной стакан, к счастью, ничуть ее не поранив.
— Размер, — спокойно и коротко произнес Лешка.
— Какой еще «размер»?! — Гриша был совсем ошарашен.
— Не впечатляющий.
Гриша чуть не заплакал:
— Откуда ты знаешь, засранец?!
— Помнишь, на заправке в туалет ходили — отлить перед дорогой? Там и видел.
— Ты же серый, как штаны пожарного! Ты такой вид члена, как «нутрячок», знаешь? — Гриша даже задохнулся от злости.
— Нет. А что это?
— А это когда он в спокойном состоянии, он действительно маленький, еле выглядывает… А в возбужденном — изнутри вылезает на семнадцать с половиной!
— Чего «семнадцать с половиной»?
— Сантиметров, дубина!!!
— Не свисти.
Гриша хищно огляделся по сторонам:.
— Эх, жалко завестись не на кого! Я бы тебе показал, мудила…
Но этого Лешка уже не слышал. С недавних пор он заметил за собой одну странную особенность: в какой-то неуловимый момент оживленного разговора он вдруг умудрялся неожиданно и автоматически отключаться. Еще продолжал что-то заинтересованно спрашивать, что-то толково и остроумно отвечал, тонко и иронично поддерживал болтовню, но в то же самое время уже размышлял только о своем собственном, и голова его, до разламывающих болей, до бешеного стука в висках, была занята таким личным и сокровенным, куда не было входа никаким самым умным и симпатичным собеседникам. И в его глазах стояли только СВОИ…
«Я их больше никогда не увижу… — думал сейчас Лешка. — Как жаль… Как жаль!.. Я же еще тогда понимал, что Псков, этот театрик — временно… Знал, что когда-нибудь все равно уеду домой в Ленинград. Не на выходные, а совсем… В другой театр… И даже жить, может быть, буду не со своими на Бутлерова, а где-нибудь еще. В Ленинграде радио, телевидение, „Ленфильм“… Подработаю, куплю квартирку однокомнатную — пусть даже в Автово, на Охте, в Озерках…
Наплевать! Зато каждую секунду буду знать, что все мои рядом со мной. В любой миг позвоню, приеду, увижу… Они будут слушать мою хвастливенькую трепотню, и я буду точно знать, что им чихать на все, о чем я там болтаю, — им просто очень важно видеть меня. Своего старшего внука, сына, брата… Теперь я знаю, почему не любил Толика-Натанчика. Я это понял в тюрьме. Ночью он мне приснился, а утром я все понял! Оказывается, я ему всегда завидовал… Глупо, но это так… В нем, даже в маленьком, всегда было то, чего не было у меня, — он совершал Поступки!.. Какими бы они ни были… Потом все наши, и он в первую очередь, расплачивались за них его приводами в милицию, мамиными слезами, папиными затемнениями в легких, бабушкиными сердечными приступами и унизительной беготней деда со всеми своими орденами и медалями по знакомым генералам… Лишь я один не платил по Толькиным счетам… От нелюбви и зависти! Ах, если бы мне, как актеру, хотя бы к середине жизни ощутить ту меру популярности и признания, какую наш Толик-Натанчик имел в своей жестокой кодле в двенадцать лет!.. Как я был бы счастлив… Один раз в своей жизни я тоже попытался восстать и совершить Поступок. И вот я здесь… И восстания не получилось, и поступок обернулся каким-то безысходным фарсом!… Прости меня, Толинька-Натанчик!.. Знаешь, я когда-то читал книжку одного очень неплохого писателя. А там перед какой-то его повестью стоял эпиграф. Кажется, он звучал так: «Стоило ли пересечь полмира, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре?..» И хотя дальше там следовали совершенно другие, чужие события, я теперь почему-то все чаще и чаще вспоминаю — «Стоило ли пересечь полмира, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре?..» Никогда мне не достать эти вонючие деньги, чтобы заплатить за себя выкуп!.. Никогда мне больше не увидеть вас, а ведь вы были теми ниточками, которые удерживали меня рядом с собой… Как воздушный шарик. Две ниточки уже оборвались — дедушкина и дяди Вани Лепехина… Все! Я не хочу, чтобы рвались и остальные. Я лучше сам уйду из этой паршивой, дурацкой жизни!..»
Тут Лешка вдруг почувствовал излишнюю приподнятость и пышность своих размышлений и устыдился.
Хотя впервые возникшее в нем желание покончить с собой вторгалось в его мозг все настойчивей и настойчивей.
… Ко второй половине нашего пути, после остановки в Бологом, я как-то сам насобачился выбираться из Того Времени в Это.
Ну, будто бы я из темного, небольшого и душноватого просмотрового зальчика выползал покурить к лифту — на светлую лестничную площадку монтажного корпуса «Ленфильма»…
Сейчас ощущение было примерно то же, однако в купе я появился таким встрепанным и до предела нервно раздерганным, словно только что отсмотрел отвратительно снятый материал, напрочь искажающий замысел моего сценария! Это уже несколько раз случалось в моей долгой и не всегда радостной киножизни. Но такого состояния тревоги я не испытывал никогда.
— Вы должны мне помочь, Ангел! — быстро проговорил я. — У меня в Мюнхене, в банке есть кое-какие деньги, полученные за последнюю книгу… Кредитная карточка с собой… Вы можете каким-нибудь образом, по своим… не знаю, как это там у вас называется! Ну, по своим «ангельским каналам», что ли, немедленно снять с моего счета эти вонючие десять тысяч марок и срочно перевести их Лешке Самошникову туда, в То Время?.. Тогда он наверняка успеет заплатить в Бонне этой посольской сволочи и… Подождите! Лучше снять и перевести ему двенадцать тысяч! Ему же потом потребуются деньги на дорогу, на разные мелочи…
— Успокойтесь, Владим Владимыч, — тихо сказал мне Ангел. — Вон и сердчишко у вас распрыгалось, и давленьице подскочило… Вот сначала мы все это уберем, как говорят немцы, «к свиньям собачьим», а потом продолжим. Закройте глаза…
Я послушно зажмурился. Дыхание стало сразу же ровнее…
— Странно, правда? — где-то проговорил Ангел. — Свиньи — основной немецкий продукт и весьма уважаемое в Германии животное; собаки — самые обожаемые существа в немецких домах, а совершенно алогичное соединение этих двух симпатичных слов — оскорбительное ругательство!
Обруч, сжимавший мою голову, распался, а потом и вовсе исчез, унося с собою боль из затылка и пугающий гулкий стук моего старого сердца.
— Так лучше? — услышал я голос Ангела.
— Да. — Я открыл глаза. — Но времени терять мы не имеем права, Ангел! Там такое может случиться…
— Нет, — сказал Ангел. — Уже не может. Я это предусмотрел еще тогда — в То Время. По-моему, для двенадцатилетнего начинающего Ангела, по существу — всего лишь практиканта Школы Ангелов-Хранителей, я сотворил тогда очень занятный трюк, пытаясь найти деньги для Лешки! Правда, на эту неординарную мысль меня навела одна фраза, сказанная ночью миссис Лори Тейлор. И тем не менее я и по сей день мог бы гордиться идеей, которая в То Время пришла в мою мальчишечью голову…
Ангел помолчал. Потом нехотя добавил:
— И если бы не последующие события… Вам рассказать или вы сами досмотрите?
— Сам досмотрю, — обиженно буркнул я.
Не скрою, я был слегка огорчен тем, что мой искренний порыв не нашел в этой истории применения и как-то сам по себе ушел в песок.
— Не сердитесь, — мягко сказал мне Ангел. — Смотрите. Не буду вам мешать…
… На следующий день после возвращения из Бонна и грустных посиделок в «Околице», теплым вечером девятого августа, на пороге Лешкиной квартиры неожиданно возник Гриша Гаврилиди с бутылкой дешевого полусладкого венгерского вина с нежным немецким названием «Медхентраубе», что означало «Девичий виноград»!
— Чтоб я так жил, Леха, как я наконец понял, что такое родина и Советский Союз! — невесело провозгласил Гриша, продираясь сквозь узенькую кухоньку к небольшому столику с двумя табуретками. — Я тебе не наливаю, да?
— Ну почему же? — спокойно возразил Лешка и поставил на стол сыр, помидоры и булочки. — Полстаканчика и немного водички туда — ничего страшного. С такого коктейля не загуляю.
Выпили, закусили. Гриша налил себе еще. Лешка отставил свой стакан в сторону, накрыл его ладонью.
— Уважаю, — отметил Гриша. — Так вот, Лешенька, я тебе скажу, «с чего начинается Родина»! Таки не «с картинки в твоем букваре»! А с той секунды, когда ты звунишь…
— Звони΄шь, — поправил его Лешка.
— Нехай, «звон и΄шь»… А тогда, когда ты звон и΄шь соседке в дверь и говоришь: «Марь Ванна…» Или: «Софья Соломоновна! Магазин уже закрыт, а мне пара яиц нужна как воздух! Завтра верну три — с процентами…» Ну, так она, как полагается, над тобой пошутит, что мужик без яиц — вообще не мужик, но она таки даст тебе эти яйцы!.. И тебе сразу становится радостно, что вокруг тебя такие веселые и хорошие люди… Вот это я понимаю — Союз! Это — Родина, таки с большой буквы!..
— Очень тонкое наблюдение, — улыбнулся Лешка.
Гаврилиди моментально вздыбил шерсть на загривке, опрокинул стакан «Медхентраубе» в глотку и заорал с нарочитыми «одессизмами» в голосе:
— А шо такое?! Нет, вы посмотрите! Или я не прав?! Он еще лыбится!.. Шо я делал весь этот блядский день, прежде чем пришел сюда с бутылкой? Я, как последняя дворовая Жучка, весь город обегал в поисках денег под любые гарантии!..
— Ах, Гришенька, — вздохнул Лешка, — какие мы с тобой можем дать гарантии?
— О! — воскликнул Гриша Гаврилиди. — Это ж можно просто с дерева упасть — мне все отвечали твоими же словами! Я уже просил не десять тысяч, а хотя бы пять… Я придумал, что возьмем пять, поедем в Бонн, отдадим их этому посольскому крокодилу, а про вторую половину скажем: от когда у нас будут все документы на руках, тогда он и вторую пятеру получит. С понтом — мы таки боимся за свои бабки. А как только он нам все ксивы на твой отъезд замостырит — мы будем его видеть в гробу и в белых тапочках! Пусть попробует кому-нибудь на нас пожаловаться!.. Как я придумал? Детектив, бля!
— Гениально, — очень серьезно сказал Лешка. — Агата Кристи от зависти может утопиться в собственной ванне, а братья Вайнеры будут рыдать друг у друга на плече, завистливо приговаривая: «Ах, этот Гаврилиди! Как обошел нас, мерзавец… Как сюжет закрутил, сукин кот! Обалдеть можно!»
— Но пяти тысяч я тоже не достал, — упавшим голосом виновато признался Гриша.
— Я это понял, когда ты стал мне объяснять, «с чего начинается Родина», — спокойно сказал Лешка. — Рад за старуху Кристи и ребят Вайнеров. Ты не принесешь им творческих горестей. Нельзя бороться за счастье одного человека, одновременно доставляя массу неприятностей и неудобств всем остальным…
И подумал Лешка — хорошо бы Гриша ушел пораньше.
Потому что, если сегодня, девятого августа, он, Лешка Самошников, до полуночи не сделает ЭТОГО, потом у него просто может не хватить на ЭТО смелости…
— Послушай, «великий комбинатор», — сказал Лешка, — тут остались кое-какие денежки, которые Лори ссудила нам на дорогу. Сто семьдесят марок. Вот — сто, вот — пятьдесят и двадцатничек… Она в понедельник вернется из Испании, так ты поблагодари ее и отдай их ей.
— А у самого руки отвалятся? — спросил Гриша.
— Нет, конечно. Но я хочу завтра с утра пораньше электричкой смотаться на несколько дней в Золинген. Там у меня один дружок ленинградский объявился, — без малейшего напряжения тут же сочинил Лешка.
— Давай деньги и оставь телефон дружка. Мало ли что?..
— Видишь ли, Гриня, он меня сам разыскал. Сказал, что будет встречать на вокзале. А телефон и адрес его я забыл спросить. Я тебе сам позвоню, — легко и беззаботно соврал Лешка.
Гриша сгреб сто семьдесят марок, положил их в бумажник отдельно от своих, глянул на часы:
— Е-мое и сбоку бантик! Полвосьмого!.. Помчался. Я тут с одним жутко ушлым немцем карагандинского разлива договорился встретиться. Может, он чего присоветует?
— Вполне вероятно, — согласился Лешка. — Беги, беги, Гришаня.
«… Позвонить в Ленинград?..
Нет. Не нужно… Пусть все будет так, как есть.
Пусть ждут как можно дольше. Ожидание продлит им жизнь…
Но как ЭТО сделать?.. Как сделать «технически»?
Я же столько раз видел ЭТО в кино, в театрах… В двух спектаклях я и сам… В «Утиной охоте» и в выпускном — в «Ромео и Джульетте». Потом, правда, я выходил кланяться… Сегодня я вряд ли выйду на авансцену. Что же делать? Как ЭТО совершается?..
В Пскове после спектакля за кулисами повесился молодой рабочий сцены. Нашли его только к утренней репетиции. Говорили — от ревности… Как было страшно!.. Лицо черно-синее, в зубах наполовину прикушенный язык, серая пена из ноздрей, промокшие и обгаженные штаны, носки, ботинки. Лужа мочи внизу и… Запах! Какой-то жуткий, омерзительный запах…
Нет! Нет-нет… Господи… Боже, помоги мне уйти!.. Не хочу больше жить. У меня нет ружья, чтобы просто-напросто застрелиться…
Мне даже нечем себя отравить. Как же ЭТО сделать?..»
И тут Лешка вспомнил, что он не умеет плавать!
Вот… Выручит то, чего он так стыдился с мальчишечьих лет.
А еще он вспомнил, как прекрасно и бесстрашно плавал и нырял маленький Толик-Натанчик. С четырех лет!..
Скорее всего Лешка еще и поэтому его не любил…
«Наверное, нужно что-нибудь написать… Так все делают.
А что? Что я могу написать?.. И кто это потом прочитает? Полиция? Вызовут, наверное, кого-нибудь перевести последнее письмо утопленника…
Гришку Гаврилиди будут допрашивать. Нему Френкеля… Лори Тейлор. В смысле — Лариску Скворцову, умную и решительную, добрую и очень деловую москвичку, лауреата международного порнографического «Венуса». Обладательницу американского гражданства и американского паспорта. А также огромного запаса нерастраченной бабской нежности, не растоптанной и не стертой ежедневными профессиональными упражнениями… Ее обязательно допросят. Все видели, как она тогда увезла Лешку Самошникова из «Околицы».
Интересно, в Бонн, в наше посольство, сообщат? Чтобы этот говнюк, который запросил за возвращение домой десять тысяч, хоть поперхнулся бы!..
Да нет… Вряд ли. При чем тут наше посольство?
Не буду ничего писать. Любое слово, любая строчка из последнего письма самоубийцы могут невольно кому-нибудь напакостить. Не буду!
Пусть это выглядит, как «несчастный случай». Тогда никого не тронут. Может быть, так — для проформы — поспрашивают…
Как тогда в театре следователи нас всех опрашивали, когда тот паренек за кулисами повесился».
Который час? Лешка посмотрел на часы — дешевые, десятимарковые, купленные в «Вулворте», но очень похожие на дорогие: с секундной стрелкой, с календариком, со всякими прибамбасами для бедных турков и нищих советских туристов.
«09 авг.» — говорил календарик.
«11 часов 02 минуты» — сообщил циферблат.
«Господи! — подумал Лешка. — Неужели мне осталось жить всего лишь один час?.. Даже меньше».
Он выложил из карманов документы на кухонный столик, чьи-то визитные карточки, клочки бумажек с наспех записанными на ходу какими-то адресами и телефонами и единственную двадцатимарковую купюру.
Вздохнул и собрался было уже выйти из кухни, но остановился и вернулся к столу. Скомкал все визитные карточки, бумажки с телефонами и адресами, зашел в уборную, тщательно разорвал все на мелкие кусочки, ссыпал их в горшок и спустил воду.
Он подумал, что совершенно не нужно, чтобы потом, когда найдут его тело, по этим визиткам и адресам с телефонами ни в чем не повинных людей таскали бы на допросы. Или, еще чего хуже, на опознания…
При этой мысли Лешке неожиданно стало очень зябко, и он надел на себя легкую белую курточку. Подивился тому, что пытается унять озноб и согреться перед ЭТИМ, погасил повсюду свет, вышел на лестничную площадку и аккуратно запер квартиру.
Сел в лифт, спустился под козырек парадного подъезда и бросил ключи в свой же почтовый ящик. Падая, ключи не звякнули о металл. Они глухо стукнулись обо что-то мягкое, бумажное, да так и застряли на середине, не достигнув дна.
Лешка по привычке заглянул в три отверстия на передней стенке ящика и увидел там что-то похожее на письмо и рекламку вновь открытой пиццерии «с доставкой на дом».
Про рекламку он сообразил лишь потому, что вся урна, стоявшая рядом с почтовыми ящиками его подъезда, была забита уже выброшенными красивыми и веселыми желтыми рекламками этой пиццерии.
А вот что за письмо пришло ему — Лешке было наплевать.
К десяти часам вечера большие немецкие города уже спят.
Где-то еще что-то теплится — ночные клубы и клубики, редкие казино, бордели…
Какая-то суетня около «Хауптбанхофа» — Главного вокзала.
Но магазины уже закрыты, в кафе и ресторанчиках убирают испачканные скатерти со столов и тушат свечи…
На всех улицах и переулках дрыхнут автомобили, уткнувшись носами в попы друг другу…
В окнах домов почти нигде уже не видно света — спят мифически «правильные» и «праведные» немцы. Спят…
В одиннадцать исчезают запоздалые прохожие.
Без четверти двенадцать еще может промчаться по городу старый, вдрызг изъезженный «порше» с опущенными боковыми стеклами.
В этой в прошлом самой дорогой, а сейчас — копеечной машине будут сидеть гордые и глуповатые молодые турецкие люди, а из автомобильных динамиков во всю их многоваттную мощь в спящее немецкое небо будут нестись душераздирающие по занудливости очень восточные мелодии.
И старик «порше», и вопящие в ночи турецкие гордецы, и разрушительные звуки, взрывающие сны добропорядочных немцев, — это не разгульное, бьющее через край веселье, а всего лишь унылая и хамская демонстрация восточного презрения к приютившей их западной стране…
И еще: если через какой-нибудь немецкий город будет протекать хоть какая-нибудь речка, а через речку ляжет несколько мостов, соединяющих половинки города, один из них тщеславные жители этого города обязательно назовут «Кайзер-брюкке». Что будет означать — «Королевский мост».
Ну, точно так же, как в Советском Союзе не было городка без улицы Ленина или большого города — без Ленинского проспекта…
Вот именно посередине такого Кайзер-брюкке по-русски поздним вечером, а по немецким понятиям — глубокой ночью, без четверти двенадцать, девятого августа стоял очень-очень одинокий Леша Самошников, еще совсем недавно молодой, талантливый драматический актер, на которого когда-то, говорят, сам Товстоногов глаз положил, а Равенских специально заезжал в Псков — посмотреть, как Алексей Самошников играет горьковского Ваську Пепла.
А вокруг Лешки стояли: его мама Фирочка Самошникова, папа Сергей Алексеевич, бабушка Любовь Абрамовна, младший братишка Толик-Натанчик, почему-то в наручниках и ножных кандалах, мертвый дедушка Натан Моисеевич при всех своих орденах и медалях и покойный дядя Ваня Лепехин…
Ах, как они, и живые и мертвые, плакали, как умоляли Лешку не делать ЭТОГО, как упрашивали подождать хоть немного, в надежде на…
…вот только на что они с Лешкой могли бы надеяться — никто из них не знал.
Лешка горько плакал вместе с ними, отчетливо понимая, что все это наваждение всего лишь его предсмертный бред — что-то вроде прощальной картины последнего акта. И нету на этом мосту вокруг него никого из близких, ни живых, ни мертвых. И стоит он здесь один-одинешенек, и надежды у него нет никакой…
Он прижался грудью к прогретому за день теплому каменному ограждению моста, чуть перегнулся вперед, посмотрел вниз, стараясь разглядеть черную тихую воду вялой городской реки, а воды-то и не увидел.
Не к месту и не ко времени в глазах Лешки вдруг возникла недавно виденная телевизионная хроника — залитый светом нью-йоркский ночной Манхэттен. А в мозгу, уж совсем некстати, просквозила склочная мыслишка — как плохо и патологически экономно освещены немецкие города! Поярче был бы этот фонарь, под которым стоит сейчас Лешка, можно было бы и воду внизу разглядеть. А так неизвестно — есть она там или нет… Может быть, я сейчас туда брошусь и не утону, а только разобьюсь…
Господи?.. Да какая разница?! О чем это я?!
Лешка решительно выпрямился и неожиданно увидел некое движение с левой и правой набережных к середине моста.
С левой на мост медленно въезжала полицейская патрульная машина, сверкая синими проблесковыми мигалками, а с правой к Лешке мчался какой-то мальчишка, истошно вопя на бегу:
— Вечерние новости! «Абендвельт»!!! «Абендвельт»!.. Последние вечерние новости! Только в «Абендвельте» последние новости!..
Причем мальчишка явно старался опередить полицейский автомобиль и первым доскакать до Лешки! Наверное, он видел в Лешке своего единственного и последнего покупателя.
«Странно… — подумал Лешка. — Я и не знал, что здесь есть мальчишки-газетчики…»
На мгновение ему показалось, что маленький продавец вечерних газет не бежит к нему, а слегка летит в нескольких сантиметрах от поверхности моста. Причудится же такое!
Но больше всего Лешку беспокоила полицейская машина.
Не хватает еще, чтобы его спасала полиция! Или просто забрала бы его в участок. Что вполне вероятно: ночь, иностранец, почти не говорящий по-немецки, документов нету… Пока установят личность, пока все выяснят, пока отпустят, а там и решение расстаться с жизнью одним махом испарится, сменится унизительной трусостью и…
Маленький продавец вечерних газет неожиданно оказался совсем рядом. Наверное, Лешка слишком засмотрелся на приближающуюся полицейскую машину.
Этот голубоглазый и светловолосый мальчишка лет двенадцати-тринадцати с рюкзачком за спиной даже не запыхался!
«Как наш Толик-Натанчик…» — успел подумать Лешка.
Но мальчишка уже сунул ему в руку газету, а Лешка машинально полез в карман куртки за мелочью.
— Спасибо, не нужно! — счастливо улыбнулся ему голубоглазый пацан и помчался куда-то своим странным, парящим бегом, почти не касаясь земли…
И только тут до Лешки дошло (или показалось?..), что мальчишка-газетчик поблагодарил его по-русски…
А полицейская машина медленно приближалась.
Для того чтобы не вызвать лишних вопросов и подозрений, Лешка развернул газету и сделал вид, что просматривает последние вечерние известия ушедшего дня.
Ну, может же человек читать газету под одним из слабеньких фонарей, украшающих самый известный мост в городе — Кайзер-брюкке? Ну, не спится человеку, вот он и вышел пройтись по мосту с газеткой…
И вдруг!
Первая же страница вечерней газеты «Абенд-вельт», выходящей обычно во второй половине дня, часам к шести, действительно привлекла Лешкино внимание.
ЭТО БЫЛА ЗАВТРАШНЯЯ ГАЗЕТА!!! И датирована она была ЗАВТРАШНИМ числом — «10 АВГУСТА. СУББОТА»!!!
Под слабым светом фонаря Лешка вгляделся в циферблат своих часов и календарик.
На часах было без пяти двенадцать, а в календарике стояло — «09 авг.»!..
Лешка держал в руках газету, которая должна была выйти в свет только ЗАВТРА, после шести часов вечера!..
Но тут полицейская машина остановилась около него, и оттуда вылез молодой рослый парень в форме. Второй полицейский остался за рулем. Из автомобильной рации сквозь эфирные разряды неслось какое-то бормотание.
— Могу вам чем-нибудь помочь? — настороженно спросил Лешку рослый полицейский.
— Да… — неожиданно для себя самого хрипло сказал Лешка. — Какое сегодня число?
Полицейский придвинулся к Лешке поближе, на всякий случай принюхался к нему, внимательно заглянул в глаза и, не учуяв ни алкоголя, ни наркотиков, достаточно любезно ответил:
— Сегодня ДЕВЯТОЕ августа.
— А день?
Тут полицейский для верности посмотрел на свои часы. Его календарик на часах показывал и дни недели:
— Пока еще ПЯТНИЦА. Без двух минут двенадцать ДЕВЯТОГО августа. А почему это вас так интересует?
Лешка снова очумело глянул в газетную «шапку», увидел дату: «10 АВГУСТА. СУББОТА» и…
…увидел там КОЕ-ЧТО ЕЩЕ!., что на миг просто потрясло его воображение…
Он быстро сунул газету в карман куртки и, ни на секунду не задумываясь, ошеломленно сказал полицейскому:
— Какой ужас! Я совсем забыл поздравить свою подружку с днем рождения!
Это абсолютно лживое, но сыгранное с блистательной профессиональной актерской легкостью Лешкино заявление окончательно разрядило обстановку.
Полицейский облегченно ухмыльнулся и стал спокойно забираться в свой желто-зеленый автомобиль, насмешливо говоря Лешке:
— Если вы немедленно помчитесь к ней, она вас простит, уверяю. Но где вы в это время достанете цветы — даже представить себе не могу!.. Не вздумайте рвать их на чьей-нибудь клумбе. Хотя я на вашем месте сделал бы именно так…
От волнения Лешка даже не сумел оценить невероятную, почти «вольтерьянскую» широту полицейского совета.
Он смотрел вослед уезжавшей патрульной машине и, как только ее синие проблесковые фонари свернули с Кайзер-брюкке на набережную, выхватил газету из кармана и развернул ее трясущимися пальцами.
На первой полосе этой самой волшебной ЗАВТРАШНЕЙ газеты он снова увидел то, что так потрясло его пять минут тому назад! Это была информация городского ипподрома о результатах ЕЩЕ НЕ СОСТОЯВШИХСЯ ЗАВТРАШНИХ рысистых испытаний!!!
Десять заездов…
…десять имен жокеев…
…десять номеров «качалок»…
…десять кличек лошадей, пришедших ПЕРВЫМИ в каждом заезде…
Сегодня, в начале ночи, Лешка держал в руках список ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАВТРАШНЕГО ип-подромного дня!!!
Все сходится…
Лешка вспомнил, что Лори хотела отвезти его на ипподром в среду. Она сказала тогда, что играют там в среду и субботу.
В среду Лешка позвонил в Ленинград и уже ни о каком ипподроме не могло быть и речи. Истерика…
В четверг Лори улетела в Испанию на съемки, а Лешка с Гришей на «мазде» Лориной служанки поехали в Бонн, в советское посольство.
Вернулись в тот же день. Отдали машину, посидели в «Околице».
Сегодня с утра…
Нет. Со вчерашнего вечера, почти всю ночь и весь сегодняшний день Алексей Самошников готовил себя к уходу из жизни…
Значит, сегодня действительно была ПЯТНИЦА. А скачки или бега — как их там называют — на ипподроме только в среду и субботу!
Следовательно, СУББОТА — завтра. А он, Алексей Сергеевич Самошников, уже СЕГОДНЯ знает победителей всех десяти ЗАВТРАШНИХ заездов!..
Как жаль, что Лори, превосходно ориентирующаяся во всех этих лошадиных заморочках, вернется из Испании только в понедельник…
А может быть, самому попробовать? Не боги горшки обжигают! Самое главное — выучить наизусть список ЗАВТРАШНИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, чтобы нигде не засвечивать эту потрясающую газетку. Лори говорила, что там крутятся очень большие бабки! Десятки тысяч… Тогда и тому посольскому засранцу хватит, и Гришку можно обеспечить, и самому не с пустыми руками домой вернуться!..
Обязательно взять с собой на ипподром Гришку Гаврилиди. Он хоть и паршиво, но достаточно нагло говорит по-немецки. Только о газете Гришке — ни слова! А то этот экспансивный «грек с-под Одессы» наверняка что-нибудь не вовремя ляпнет при посторонних.
Что же соврать для начала разговора с Гришей? Что же ему соврать, черт подери?! Как ему объяснить, зачем они едут на ипподром?
Лешка засунул газету за пазуху, под рубашку, подтянул брючный ремень, чтобы газетка ненароком не проскользнула в штанину, и наглухо застегнул курточку.
А потом неожиданно для себя обнаружил в кармане брюк монету в одну марку. Он удивленно посмотрел на эту марку, точно помня, что выложил из карманов все на кухонный столик, когда уходил умирать. Откуда взялась эта марка — одному Богу известно…
На набережной Лешка зашел в прозрачную будку телефона-автомата, опустил марку и набрал Гришкин номер.
После пятого гудка Лешка услышал кашляющий, хриплый со сна голос Гриши Гаврилиди:
— Алло…
— Гришаня, — сказал Лешка, — у меня две новости. Одна хорошая, одна плохая.
— Леха, ты, что ли?.. — сонно спросил Гриша.
— Я. С какой начать?
— Валяй с плохой. Что сегодня может быть хорошего? Ну, уже!.. Не тяни кота за хвост.
— Вышел прогуляться перед сном — потерял ключи от квартиры. Не могу попасть домой.
— Приезжай. На одной параше сидели, что же, Гриша тебе места не найдет? — сказал Гаврилиди о себе почему-то в третьем лице.
— Спасибо, — поблагодарил его Лешка. — А хорошую новость я тебе расскажу при встрече.
— Могу себе представить… — кисло проговорил Гриша. — Давай, двигай.
Ночью сидели в одних трусах друг против друга — Гриша на своей кровати, Лешка на узеньком диванчике напротив. Пили горячий чай из толстых фаянсовых кружек.
— …а перед самой моей вечерней прогулкой, мать ее за ногу, вдруг позвонила из Испании Лори, — вдохновенно сочинял Лешка, — и говорит: завтра суббота, на ипподроме скачки… Или бега, понятия не имею. И у меня, говорит, там есть один знакомый паренек жокей. Зовут его Клаус Вальтершпиль… Он будет ехать…
— Скакать, наверное, — неуверенно предположил Гриша.
— Один хрен… Он будет скакать на кобыле по кличке Дженифер.
Имя наездника и кличку его лошади — победителей первого ЗАВТРАШНЕГО заезда — Лешка вызубрил еще по дороге к дому Гриши Гаврилиди.
— Как лошадь зовут? — вдруг переспросил Гриша.
— Дженифер!
— Надо же!.. — чему-то удивился Гриша.
— Не перебивай. И Лори сказала, что это будет самый первый заезд. А Клаус вроде бы обещал ей этот заезд выиграть! У них там своя кухня… Как в любом бизнесе. И Лори мне говорит…
— Слушай, Леха! Какая она для нас Лори? Лариска она…
— Ты можешь заткнуться?! — рявкнул Лешка. — Тебе какая разница? Слушай дальше! Если, говорит она, у вас остались хоть какие-нибудь деньги от тех трехсот марок — поезжайте на ипподром и поставьте их на этого Клауса с его Дженифер. Проиграете — хрен с ним, выиграете — все ваше! А дальше, говорит, смотрите по обстоятельствам… Вот такие пирожки, repp Гаврилиди. Ты когда-нибудь играл на бегах?
— Не-а, — отрицательно мотнул головой Гриша. — В «буру» играл, в «очко» шпилил, в «дурака», естественно, в «рамс»… Да и то, когда это было! Я ж с-под Одессы, а у нас море, пляжи, пароходы… С лошадями у нас было не очень… Как-то не уважали мы это. То ли дело — берешь лодочку, сажаешь в ее от такую классную чувиху, пудришь ей мозги, загребаешь в камыши и… Объяснять дальше?
— Не надо, — сказал Лешка. — Давай спать.
Гриша захрапел секунд через тридцать.
Лешка лежал на узеньком диванчике, широко открытыми глазами смотрел в черный потолок. Газетка, которая должна была появиться на свет только завтра, через восемнадцать часов, УЖЕ была у него под подушкой!
Теперь Лешка задалбливал в память клички выигравших лошадей и очередность их победных заездов:
«Первая — Дженифер. Второй — Шагал. Ничего себе кликуха для жеребца! Третий — Клиф, четвертый… Кто же четвертый? Мать-перемать!..»
Воспользовавшись тем, что Гриша храпел, уткнувшись носом в стенку, Лешка осторожно вытащил из-под подушки спрятанную там газету и при свете лунной полоски, просочившейся в темную комнату, отыскал четвертую строчку в информационной сводке с ипподрома.
«Четвертый — Бобо!.. Ну, правильно же! Черт бы его побрал… Четвертый — Бобо. Бобо!..»
Боясь шелестеть страницами, Лешка осторожно сложил газету и снова засунул ее себе под голову. Дальше пошло легче:
«…пятый — Вилли, шестой — Адонис, седьмой — Чарли-Браун, восьмая — Пикулена. Пикулена-Аку-лена… Девятый — Тимбер, десятый — Томми!.. Уф… Итак, сначала: первая — Дженифер, второй — Шагал… Простите, дорогой Марк Захарович, я тут совершенно ни при чем… Третий — Клиф…»
Здесь механическое заучивание лошадиных кличек как-то само собой было внезапно вытеснено мыслью, что все происходящее с Лешкой Самошниковым за последнее время странным и дивным образом трансформируется из гнусного, опасного и губительного в некое подобие случайных удач!
Будто кто-то незримый пытается спасти Лешку, уберечь, охранить.
Вот только с советским посольством ничего не вышло… Ну, так ведь эту систему никому не сломить! Ни Богу, ни дьяволу.
А так во всем остальном просто чудеса какие-то: загулял было Лешка по-черному от беспросветицы и беспомощности, и вот на тебе — как отрезало!
Затосковал по теплу человеческому, по слову доброму, по ласке женской, захандрил от одиночества — Лори появилась нежданно-негаданно!..
А сегодня на мосту?.. Будто кто-то за шкирку удержал его на этом свете!
Словно следит за Лешкой могучая, невидимая, потусторонняя сила! Вот откуда… откуда появился сегодня на Кайзер-бркжке в такой поздний час голубоглазый мальчишка с длинными белыми волосиками и этой потрясающей ЗАВТРАШНЕЙ газеткой?!! Откуда? Откуда он примчался своим фантастическим, удивительным летящим бегом?! Кто он? Кто его послал?.. Да!.. Совсем забыл! А как оказалась у меня в кармане монета в одну марку?! Я же прекрасно помню, что все дочиста выгреб из карманов и оставил на кухонном столе. Дескать, ничто мне уже больше никогда не понадобится… Откуда марка-то?! Тем более что для телефона-автомата было достаточно тридцати пфеннигов…
Лешка и не заметил, как задремал.
И тут же приснился ему тот голубоглазый мальчишка с Кайзер-брюкке. Он держал Лешку за руку, как когда-то доверчиво цеплялся за него совсем маленький Толик-Натанчик, смотрел на длинного Лешку снизу вверх и говорил негромко, словно извинялся:
— А я и не знал, что для звонка из телефонного автомата нужно всего тридцать пфеннигов — три монетки по десять. Этого мы еще не проходили…
— Владим Владимыч… Владимир Владимирович! Откройте, откройте глаза. Вот так… — услышал я голос взрослого, сегодняшнего Ангела. — Возвращайтесь, возвращайтесь, Владим Владимыч.
Характерные звуки бегущего в ночи поезда стали проступать все явственнее, возникли очертания нашего уютного купе, приглушенный свет над противоположным «Ангельским» лежбищем, пустой стакан на столике, и, наконец, сам Ангел в своей веселенькой пижамке стал вырисовываться на экране моего сознания…
Лицо маленького — лет двенадцати — белобрысенького мальчишки с голубыми глазами, которого я только что видел во сне Леши Самошникова, стало преображаться, взрослеть, голос его уже разительно отличался от ломкого, мальчишечьего голоса, светло-голубые глаза потемнели до синевы, а большая и сильная ладонь его легла мне на плечо в осторожном и бережном желании вернуть меня из ночи Того Времени в ночь Времени моей сегодняшней старости.
— То вы сами рветесь из Того Времени в Это, то вас буквально за уши не вытащить оттуда, — улыбнулся мне Ангел. — Простите меня, пожалуйста, что я прервал ваш просмотр, но — не помню, говорил я вам или нет, — подолгу находиться в Том, Ушедшем и Прошлом Времени для пожилого человека вредно и небезопасно. Утрачивается четкое ощущение сиюминутной реальности, появляется некая ностальгическая растерянность, сбивается шкала оценок… Да мало ли?
Как и любой неисправимый курильщик, я долго кашлял после пробуждения и, получив наконец возможность вдохнуть полной грудью, сказал:
— Слушайте, Ангел! С этой «Завтрашней газетой» — трюк совершенно феноменальный! Да еще в двенадцать лет — уму непостижимо!
— В тринадцать, — поправил меня Ангел. — Нам с Толиком-Натанчиком исполнилось по тринадцать лет одновременно. Но ему стукнуло тринадцать в колонии строгого режима, а мне в Германии, именно в тот день, когда мы с Лешей Самошниковым и Гришей Гаврилиди были в Бонне, в советском посольстве.
— Мне, Ангел, безумно интересны ваши впечатления от посещения нашего посольства того времени. Сохранились ли они в вашей памяти?
— Еще как! — воскликнул Ангел. — Да так явственно, будто это происходило на прошлой неделе…
— Валяйте! — скомандовал я.
— Как ответил бы вам незабвенный Гриша Гаврилиди — «не могу сказать за все посольство». Наверное, там были и хорошие ребята, но при посещении кабинета этого «спецдипломата» от КГБ мне впервые захотелось иметь в своем Ангельском активе не только Хранительские функции, но и Карающие! Я до сих пор свято убежден, что наряду с Ангелами-Хранителями должны существовать и Ангелы-Наказатели. Что-то вроде Ангельского СПЕЦНАЗа. Ибо только в одних Охранительных функциях есть нечто пресное и однобокое… Кстати! Мысль о «завтрашней газете» мне подсказало именно пребывание в этом посольском кабинете!.. Вот вам и парадокс — подлость одних рождает творческое озарение у других. Звучит не очень неуклюже?
— Вполне приемлемо. Но почему бега? Неужели вы не могли бы придумать иной способ достать деньги для Лешки?
— Достать — это значит у кого-то отнять. Этот способ разрушал нравственные устои всей нашей Системы. Оставалось два выхода — заработать или выиграть. Я тут же подсчитал: чтобы Лешка Самошников смог заработать десять тысяч марок для того посольского подонка, ему пришлось бы за два года выступить в «Околице» двести девяносто шесть раз (из расчета — три раза в неделю!) и спеть две тысячи девятьсот шестьдесят русских романсов — по десять штук за вечер. И прочитать столько же стихотворений Блока, Мандельштама и Заболоцкого!.. Тогда за два года он получит четырнадцать тысяч восемьсот марок, из которых четыре восемьсот должен будет отдать Грише Гаврилиди как своему менеджеру. Но на это ушло бы два года! А посольский жучила—«инспектор» улетал в Москву уже через пять дней. Оставалось только выиграть эти деньги. Тем более что утром у Лори, когда внизу моего живота полыхал пожар неутоленных мальчишеских желаний… Не очень пышно?
— Для «неутоленных желаний» — в самый раз, — уверенно сказал я.
— Так вот, когда утром я услышал, как Лори предложила Лешке поехать на ипподром, я уже тогда немедленно связался с нашим Небесным «Отделом Ангелоинформатики» и получил все материалы о бегах и скачках в закодированном виде. Половины не понял, а в половине разобрался, слетал на ипподром — ознакомился с обстановкой, а уже потом в Бонне, когда этот… «спецдипломат» запросил десять тысяч, мне и пришла в голову идея с «завтрашней газетой» для Лешки… Ну а все остальное вы сами видели. Эта же газета сработала, когда Леша Самошников попытался свести счеты с Жизнью.
Мне уже давно хотелось в туалет — слишком много жидкости я влил в себя в эту ночь, но я никак не мог пересилить свою неугомонную старческую тягу к познанию таинственных явлений! Вполне вероятно, что во вразумительных ответах на мои бестолковые вопросы я всегда подсознательно искал надежду на продолжение собственной жизни вопреки естественным срокам, отпущенным нам природой и стоптанным здоровьем. Но с каждым годом ответы становились все менее вразумительными, а мои вопросы — все более бестолковыми. И все же, и все же!..
— Но как вы узнали победителей еще не состоявшихся заездов?!
Легко представить себе, что произошло бы со мной, если бы Ангел пустился в подробные и пространные объяснения Необъяснимого! Но к счастью, он был краток:
— Владим Владимыч, дорогой вы мой… А каким образом я сейчас помогаю вам гулять из Одного Времени в Другое?.. В каждой профессии существует свой набор технических средств и приемов. И вообще, идите вы наконец в туалет! А то получится как в старом еврейском анекдоте — «…у вас лопнет мочевой пузырь, и вы обварите себе ноги».
… Когда я вернулся в наше купе и облегченно брякнулся на постель, Ангел спросил:
— Вы сами когда-нибудь играли на бегах?
— Ни в жисть, — ответил я.
— А на ипподроме бывали?
— Один раз, лет сорок тому назад, в Москве. С барышней, которую безуспешно пытался склонить к греху, обедал в ресторане ипподрома на Беговой. Помню, был сильно «взямши», а посему грех в очередной раз не состоялся.
— Но что-нибудь о бегах, о скачках, о системе ставок, о легендарных выигрышах и трагических проигрышах вы, надеюсь, слышали?
— Что-то я, конечно, читал, видел на экране. Но это всегда носило некий мелодраматический или детективный характер. «Фаворит» Дика Френсиса, какие-то рассказы Иоанны Хмелевской, «Чемп» Франко Дзеффирелли с потрясающим Джоном Войтом и гениальным мальчиком лет семи — забыл имя!.. — в двух главных ролях. Что-то еще… Не помню, Ангел.
— Жаль, — закручинился Ангел. — Тогда вам на том немецком ипподроме делать нечего. Попытаюсь рассказать вам про тот день самыми простенькими и доступными словами, а когда игра закончится, я отпущу вас в То Время, чтобы вы сами могли увидеть дальнейший ход событий. Хорошо?
— Прекрасно, — сказал я, поудобнее укладываясь.
— Для начала — маленький ликбез, — сказал Ангел. — Все сведения — из материалов, полученных мною в тринадцатилетнем возрасте Сверху и в тот самый единственный день моего пребывания на ипподроме вместе с Лешей и Гришей. Больше я на ипподромах ни разу в жизни не бывал по причинам, которые вы поймете позже. Итак: в «игровой» день при хорошей погоде на ипподроме собирается несколько тысяч человек. Ипподром — это особый замкнутый мир. Публика самая разношерстная! Естественно, что этот мир криминализирован в совершенстве. В день от восьми до пятнадцати заездов. В каждом заезде до пятнадцати лошадей. Дистанции заездов зависят от возраста лошадок — тысяча двести метров, тысяча шестьсот — миля и две четыреста. Самое главное — ставки! В ставках сумасшедшее разнообразие комбинаций. На том ипподроме существовал некий лимит ставок. Вы могли поставить на один заезд не меньше двадцати и не больше пяти тысяч марок. Новичкам рекомендуется примитив: «одинар» — ставка на победителя забега. Определение выигрыша препростейшее. Объем ставок делится на сумму билетов, в которых угадан правильный приход лошади к финишу. Сообразили, Владим Владимыч?
— Почти, — честно признался я. — Значит, если какая-нибудь кобыла Дунька, которую никто в расчет и не принимал, вдруг неожиданно для всех обойдет фаворитов этого забега, то сумасшедший тип, который сдуру поставил на эту Дуньку, получит огромную сумму денег?
— Совершенно верно! — воскликнул Ангел. — И наоборот: все поставили на какого-нибудь элитарного жеребца Молодца, тот пришел, конечно, первым, и каждый поставивший на него получает копейки… Хорошо, если при своих останется. Уяснили?
— Более чем.
— Вообще-то бега — это, как сейчас помню, поразительное зрелище!.. Ваш коллега и тезка Владимир Владимирович Набоков когда-то сказал: «Если бы к нам прилетели инопланетяне, они решили бы, что Земля — планета деревьев и лошадей, потому что не встретили бы здесь ничего красивее»…
— Батюшки светы! — воскликнул я. — Как вы образованны, Ангел! С ума сойти…
И по привычке подумал: «Вот такого бы парня нашей Катьке!..»
Но тут же задавил в себе эту шкурническую мыслишку. Вспомнил, старый дурак, что Ангел вот сейчас прочтет это мое невысказанное и я буду себя чувствовать полным идиотом! Не хватает мне еще на старости лет заниматься «этими» Катькиными делами!..
Однако Ангел был не только хорошо образован, но и превосходно воспитан. Ни словом, ни жестом он не дал мне понять, что просек мой дурацкий внутренний всплеск. И я слегка успокоился.
— Так как же прошел первый заезд? — спросил я.
— Первому заезду предшествовало много событий, — ответил Ангел. — Лешка и Гриша специально приехали на ипподром почти за час до начала бегов, или, как их там называли, — «рысистых испытаний». На этом настоял осторожный и расчетливый Гриша. «Чтобы понять, с чем это кушают», — сказал он. Лешка молчал. Еще не вышедшая и не напечатанная газетка уже со вчерашнего вечера лежала у него под рубашкой на груди, изредка предательски шелестела при Лешкиных движениях, щекотала Лешку и сообщала ему нервную дрожь, которая, не скрою, передавалась и мне. И хотя я — то был совершенно уверен в успехе дела, нервничал я чудовищно… У меня просто кончики крыльев тряслись от волнения! Гриша усадил Лешку на дешевые места, а сам умчался куда-то. Куда — я понятия не имел. Не скрою, в тот день на Гришу Гаврилиди мне было наплевать. Мне важны были Лешкино спокойствие и удача, которые, как мне казалось, я достаточно подстраховал, сотворив вчера сегодняшнюю газету с перечнем победителей всех десяти заездов. Вы согласны?
— Безусловно! — горячо согласился я с Ангелом.
— В конце концов, Владим Владимыч, я был послан Вниз Ученым Советом Школы Ангелов-Хранителей на практику именно к Алексею Самошникову, и здесь, Внизу, я отвечал за него уже перед всем Небом, перед Самим Господом и в первую очередь — перед самим собой! Потому что привязался к нему, как мне тогда казалось, на веки вечные. Когда же до первого забега, до первого удара в колокол оставалось минут двадцать, прибежал запыхавшийся Гриша Гаврилиди, принес Лешке картонную тарелочку с ужасно аппетитной жареной колбаской и кетчупом, а в бумажном стаканчике вполне приличный кофе.
С собой Гриша привел странного человека лет пятидесяти пяти. Человек был одет в сильно поношенный синий клубный пиджак с тусклыми «золотыми» пуговицами, в серые старенькие, но тщательно отглаженные брюки, не очень свежую рубашку с желтеньким галстуком-бабочкой, а на ногах у него были почти новенькие кроссовки фирмы «Фила». Без носков.
— Знакомься, Леха, — радостно сказал Гриша. — Это Виталий Арутюнович Бойко. Можно просто Арутюныч. Уже девять лет здесь кантуется. С Москвы.
— Из Москвы… — в тысячный раз поправил его Лешка.
— Нехай «из». А это, Арутюныч, заслуженный артист РэСэФэСэРэ Алексей Самошников.
— Как же, как же! — восторженно соврал Арутюныч и протянул Лешке руку. — Очень, очень наслышан!.. Когда-то это был мой мир — ипподром на Беговой, Михал Михалыч Яншин, Крючков Николай Афанасьевич, Ванечка Переверзев!..
— Никакой я не «заслуженный», — смутился Лешка. — Здравствуйте.
— Леха, — зашептал Гриша, таинственно оглядываясь по сторонам, — у этого Арутюныча здесь все схвачено!.. Всякие там жокеи, наездники, тренеры, конюхи… Он здесь свой человек и с этого живет! Мы счас врезали по пивку, я угощал, у него мелких не было, так с им все здоровкались, я не знаю как! А один хмырь сказал: «Арутюныч — легенда ипподрома…» Чуешь?! Он согласился нам помогать… То есть наводить на «верняк»! Он нам будет говорить, на кого ставить. И всего за пять процентов…
Арутюныч откашлялся, выпятил свою грудку, красиво наклонил голову:
— Я, если позволите, Алексей… Виноват, как по батюшке?
— Просто — Леша.
— Я, если позволите, Лешенька, легенда не только этого ипподрома, но и московского, — скромно расширил границы своей популярности Арутюныч «с Москвы». — Меня сам Тимофеев боялся!..
Тут Гриша стал выгребать из карманов кучу разных разноцветных красивых бумажек и буклетов.
— Вот, — сказал Гриша, — это Арутюныч велел держать в руках. Тут программки сегодняшних бегов, информации про наездников, про лошадей все сказано — чего, где, когда… Всякие скаковые биографии, престижи лошадей… Короче, мы в порядке!
— Со мной, Алешенька, как за каменной стеной, — ласково заверил Арутюныч.
Знаете, Владим Владимыч, когда я это услышал, я дико перепугался за успех дела! По материалам, присланным мне Сверху, я уже все знал об ипподромных «жучках», «советчиках» и разномасштабных жуликах всех ипподромов мира. И сейчас мне было необходимо сурово оградить Лешку от малейшей попытки этого потасканного Арутюныча оказать хоть малейшее влияние на предначертанный мною ход событий!
Только я было собрался применить одно сильнодействующее средство из нашего ЭВАА — «Экстренного Волевого Ангельского Арсенала», — как вдруг совершенно неожиданно Лешка Самошников перестал трястись от волнения и заявил Арутюнычу и Грише Гаврилиди твердым, хорошо поставленным голосом:
— Никаких советов. Мы будем играть так, как этого захочу я.
Арутюныч мгновенно произвел переоценку своих услуг:
— Хорошо… Пусть не пять, пусть три процента! Для такого человека…
— Стоп! — жестко прервал его Лешка. — Сколько вы рассчитывали сегодня заработать у нас? Быстро и честно!
Так как Арутюныч уже давно отвык что-либо говорить честно, а Лешкин тон и напор не оставляли ему иного выбора, то впервые за много лет он честно ответил:
— Марок двадцать…
— Гриша, дай Виталию Арутюновичу двадцать марок и поблагодари его за желание нам помочь, — непререкаемо произнес Лешка и решительно откусил большой кусок жареной колбаски.
Потрясенный Гриша Гаврилиди безропотно вынул из бумажника двадцать марок и протянул их старому ипподромному «жучку» в бабочке и кроссовках.
— А теперь, — продолжал Лешка ледяным тоном, запивая колбаску горячим кофе, — пойди, Гриша, в кассы и поставь в первом заезде на Дженифер сто марок.
Арутюныч в ужасе схватился за голову:
— Сто марок на эту клячу?!! Что вы делаете?! Это же кошмарная профанация!!! — простонал он и, от греха подальше, постарался моментально исчезнуть.
— Сто марок, Леха… — Гриша был вконец раздавлен. — Стольник!
— Да. Пойди и поставь на Дженифер сто марок, — с металлом в голосе повторил Леша Самошников.
Я только диву давался, Владим Владимыч!.. Впервые я видел Лешку таким уверенным в себе и непреклонным. Ах, как я им гордился, как желал ему удачи, которая, может быть, вернет его домой — в Ленинград…
Сейчас я могу вам признаться, что, сочинив «завтрашнюю газету», я грубо нарушил одну из важных статей КАХа — Кодекса Ангелов-Хранителей. Это, знаете ли, что-то среднее между «Уголовным кодексом» и «Уставом внутренней службы»… Так вот, КАХ категорически запрещал Ангелам-Хранителям искусственно создавать заведомо неправедные или безнравственные ситуации даже во спасение Охраняемого! Я же своей «завтрашней газетой» заставил Лешку Самошникова отказаться от самоубийства за две минуты до его вероятной гибели, но в то же время вконец попрал запретительную статью КАХа! Я обеспечил Лешке возможность получения денег по заранее известному списку победителей завтрашних бегов, что было явно неправедным, а затем спровоцировал безнравственную дачу взятки должностному лицу. И совершенно не важно, что это «лицо» было мордой подонка и чиновного бандита, а моя мальчишеская, довольно остроумная выдумка с газетой уберегла Нашего же Общего, Опекаемого Небом Алексея Самошникова от смерти. И могла вернуть Лешку в Ленинград, домой, к родным и любимым. Ко всему тому, из чего и состоит так называемая родина… Тогда я ни о каком КАХе и не думал. Я был занят только вызволением Лешки из беды, в которую он попал по собственной дурости. Мне очень нужно было вернуть его домой! Что-то мне тогда подсказывало, что цепь семейных несчастий Самошниковых еще не размоталась до конца. Что-то им еще грозит… И хорошо было бы, чтобы Лешка к этому времени был уже дома!
Ангел замолчал.
Я вдруг увидел, как этот очень неглупый, ироничный, красивый голубоглазый здоровенный парняга так и не сумел скрыть своего волнения!
И тогда я подумал о том, какой душевной тонкостью, какой редчайшей сердечной изысканностью должен обладать очень современный молодой мужик, чтобы у него перехватывало дыхание и появлялся предательский комок в горле, когда он вспоминает свои далекие детские годы…
— Спасибо вам большое, Владим Владимыч, — тихо проговорил Ангел. — Простите меня, пожалуйста, — я невольно вторгся в ваши размышления, но они столь сильны и открыты, что не могли пройти мимо меня. И я вам очень признателен…
— Все в порядке, Ангел, — поспешил сказать я. — Так как прошел первый забег? И естественно, все последующие.
Ангел поднял соскользнувший на пол «Московский комсомолец», аккуратно положил его на столик и придавил пустым стаканом в тяжелом подстаканнике. Наверное, Ангелу нужно было время, чтобы окончательно прийти в себя.
— Я не думаю, что вам необходимы специфические ипподромные подробности. Нам с вами в них все равно не разобраться. А мы от этого будем оба чувствовать себя униженно. Это же вредно в любом возрасте… Вас устроят конечные результаты забегов? — спросил Ангел.
— Вне всякого сомнения! Лапидарно — в отчетно-телеграфном стиле.
— Тем более что этот телеграфный стиль будет тоже достаточно драматичен, — подхватил оправившийся Ангел. — Слушаете?
— Развесив уши! — заверил я Ангела.
— Итак. Дженифер, конечно же, победила и привезла в своей «качалке» геррам Самошникову и Гаврилиди одиннадцать тысяч триста восемьдесят две марки.
— С ума сойти!..
Я был в полном восторге.
Тут же за их спинами с истошным криком «А я вам что говорил?!» появился Арутюныч. На что сильно прибалдевший Гриша, как писали классики, «с прямотой римлянина» коротко сказал ему:
— Пошел на хер!
Этим воспоминаниям Ангел даже улыбнулся и стыдливо признался:
— А я на радостях даже сделал круг над всем ипподромом!
Во втором заезде на Шагала поставили максимальный лимит ставок — пять тысяч марок.
С Гришей была истерика. Он попытался устроить маленький бунт, но Лешка жестоко подавил Гришин революционный порыв, и в результате второго заезда жеребец с гордой еврейской кличкой Шагал опередил всех своих соперников почти на корпус и привез для Лешки и Гриши уже совсем непомерную сумму в сорок семь тысяч марок!!!
Ипподром ахнул… А потом застонал от зависти.
Арутюныч натурально упал в обморок и сильно ушиб себе копчик.
Гриша вернулся из касс с полиэтиленовым пакетом продуктовой фирмы «Альди», до половины набитым деньгами…
Сумку с деньгами Грише Гаврилиди помогали тащить двое огромных полицейских с пистолетами и радиостанциями. Сели они сзади герров Самошникова и Гаврилиди.
— Каких мальчиков я отобрал?! Потрясающая страна!.. Плати бабки и получай наряд полиции в свое распоряжение! Причем совершенно официально!.. Теперь, когда у нас денег, как у дурака махорки, они таки будут нас сопровождать. А то здесь столько разных халамендриков!.. Упаси нас Господь. Вот квитанция, держи. Пусть у тебя будет… На кого ставим?
… В третьем заезде Клиф выиграл для Леши и Гриши еще сто шесть тысяч марок…
Ипподром бился в конвульсиях!!!
Общая сумма выигрышей всего от трех заездов у двух русских новичков, которых никто не знал и никогда не видел даже рядом с ипподромом, уже составила двести четыре тысячи триста восемьдесят две марки. Что, конечно же, потребовало резкого усиления полицейского наряда за официально удвоенную плату.
Теперь для Лешки главное — не забыть клички лошадей-победителей! Не будешь же у всех на глазах вытаскивать из-за пазухи свою волшебную газетку…
В четвертом заезде жеребец Бобо увеличивает общий выигрыш двух русских герров еще на триста тысяч марок!!! Потому что они уже оба поставили по максимальной лимитной ставке в пять тысяч.
Вот когда ипподром встал на дыбы!
Дирекция ипподрома сходила с ума и трясла всех своих служащих от последнего конюха до Главного тренера, включая фуражиров, кельнеров ресторана, продавцов сувениров, распространителей программок, служителей навоза и ветеринарной службы!..
Вопрос был единственный — КТО ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ???
Не может один и тот же игрок выиграть четыре заезда подряд без чьей-либо помощи…
— Я, Владим Владимыч, должен признаться, буквально порхал от счастья! Раз даже чуть не задел Лешку по носу кончиком своего левого крыла!.. Он, бедняга, ничего не поняв, так шарахнулся, что два полицейских тут же схватились за пистолеты.
Срочно были перетасованы заезды…
На некоторых лошадях заменены наездники…
Специально поменяли очередность выхода лошадей на беговую дорожку…
Были предприняты все меры предосторожности и безопасности, вплоть до того, что заведомо слабым лошадям вкалывали сильнодействующий допинг, а могучим фаворитам каждого заезда — транквилизаторы, способные усыпить жеребца на бегу!
Все это делалось для того, чтобы всех и вся сбить с толку, не дать этим невероятным русским выиграть еще хоть один заезд! Чтобы потом не пойти по миру, ведя на поводу оставшуюся от распродажи ипподромного имущества парочку жалких одров…
Так вот, в пятом заезде старик Вилли, которого на следующей неделе уже должны были списать за полную старческую и профессиональную непригодность, нафаршированный пятью шприцами с мощными олимпийскими допингами, оставил «за флагом» всю свою лошадиную братию, состоявшую из одних чемпионов Европы и рекордсменов мира, и подарил ленинградцу Алексею Самошникову и его другу Григорию «с-под Одессы» еще полмиллиона западногермайских, очень твердых в то время, замечательных бундесмарок!!!
Бездыханную «легенду русских и немецких ипподромов» Арутюныча с жутковатым воем сирены увезла «скорая помощь», примчавшаяся из специализированной психиатрической клиники.
В шестом забеге Адонис и в седьмом — Чарли-Браун удвоили выигрышную сумму от предыдущих пяти заездов, и Лешка с Гришей стали обладателями девятисот шестидесяти четырех тысяч трехсот восьмидесяти двух марок. Почти — миллиона…
Больше геррам Самошникову и Гаврилиди уже не приходилось бегать в кассы — делать ставки, а потом мчаться — получать выигрыши.
Из Главного управления полиции была вызвана бригада опытных детективов — их в приказном порядке сдернули с субботнего отдыха, — по распоряжению главы всей полиции города они обязаны были четко выполнять ставки герров Самошникова и Гаврилиди, получать причитающиеся им суммы и запирать в специально привезенный ими какой-то особый полицейский сейф. Естественно, за отдельную плату!
Два детектива этой группы в совершенстве владели русским языком, а еще один, на всякий случай, — не пригодившимся ивритом…
После Чарли-Брауна, победившего в седьмом заезде, дирекция ипподрома решила прекратить бега. О чем и объявила по громкой трансляции на весь ипподром.
Что тут началось — словами не описать!
Решением обербургомайстера города по тревоге было поднято специализированное подразделение, натасканное на разгоны уличных нацистских демонстраций и других массовых беспорядков городского типа.
Чтобы не провоцировать жителей своего города на волнения и гражданское неповиновение, мудрый и осторожный бургомаистер запретил руководителям ипподрома прерывать бега, обещая им в дальнейшем поддержку Ратхауза. По-нашему — Горсовета.
В восьмом заезде красотка Пикулина, придя первой к финишу, вынула из отощавших касс ипподрома еще триста тысяч марок и презентовала их нашим героям — поразительно спокойному Лешке и почти сбрендившему Грише.
Ипподром рыдал! Молился и рыдал, рыдал и молился!..
В девятом и десятом заездах, как я и ожидал, победили соответственно Лешкины Тимбер и Томми. Чем укрепили финансовое положение герров Самошникова и Гаврилиди еще на четыреста тридцать тысяч западногерманских марок…
Тут Гриша очнулся, пришел в себя и стал в привычную позу менеджера артиста Самошникова: с полицией он подписал все договора на охрану и сопровождение, вызвал специальную бронированную инкассаторскую машину для денег и представительский, длиною с трамвайный вагон, белый лимузин «мерседес» — для себя и Лешки.
— Инкассаторский броневик я нанял только на сегодня, — небрежно сказал Гриша. — Доехать до банка. Мало ли шо?.. Ни за кого же поручиться нельзя. А лимузин этот… Не, ты только посмотри! Тут же по три двери с каждой стороны! Это таки — «мерседес»! Так он у нас на неделю. Мы на нем завтра в Бонн поедем, повезем эти поганые десять косых той посольской курве!.. Не возражаешь?
Сознания того, что отныне он обладает гигантской, неслыханной суммой денег, у Лешки не было.
Отчетливо он понимал лишь одно — теперь у него есть те десять тысяч марок, которые он должен заплатить за возвращение домой.
— А попроще нельзя было? — тоскливо спросил измученный Лешка.
Ответить Гриша не успел…
В сопровождении прессы и телевидения на ипподром въехал сам обербургомайстер. Он лично поздравил русских героев с неслыханной удачей и произнес небольшую речь о неразрывных связях русского и немецкого народов. Начал он с того, что Кандинский и Тютчев жили и творили в Мюнхене, Тургенев в Баден-Бадене, русская эмиграция времен революции семнадцатого года осела в Берлине, а закончил свою речь трогательным сообщением, что его папа в сорок втором был похоронен под Смоленском на краю деревни Липки.
Тут же из своей машины обербургомайстер позвонил Президенту местного отделения знаменитого «Дойче Банка» и попросил в порядке исключения открыть в субботу один из филиалов, чтобы наши новые русские друзья смогли бы положить на свой счет…
— Как, у вас нет своего счета? Кайн проблем! Сейчас будет!..
…который для них сейчас немедленно откроют, всего лишь пару миллионов марок, честно выигранных ими на ипподроме и не облагаемых ни одним пфеннигом подоходного налога!..
Вот так-то, Владим Владимыч! Последовавшие за этим события, насколько я помню, вы хотели увидеть своими глазами.
— Если можно.
— Как сказал бы Гриша Гаврилиди, «он еще будет спрашивать?!» — рассмеялся Ангел. — Укладывайтесь поудобнее и…
Я зажмурился. Так было легче переноситься из Этого Времени в То. В связи с частыми сменами Временного Пространства к середине ночи у меня уже выработался некий комплекс привычных приемов.
— Поехали? — услышал я голос Ангела.
— С Богом… — машинально сказал я.
— Ну, уж дудки! — на удивление неприязненно возразил Ангел. — Я бы хотел, чтобы вы наблюдали произошедшее беспристрастным писательским глазом.
— «Беспристрастного» глаза у писателей не бывает, Ангел, — сказал я. — Все мы в плену у самих себя, любимых… И про кого бы мы ни сочиняли, мы вольно или невольно пишем о себе. Тщательно скрываемые от постороннего глаза пороки, темные и ужасные стороны своей души мы зачастую приписываем выдуманным нами же отрицательным персонажам, а наши положительные герои совершают поступки, так и не совершенные нами в нужные и критические моменты нашей жизни. То же касается и прекрасных черт характеров наших придуманных симпатяг. Это те свойства души и характера, которые мы сами безумно хотели бы иметь. Так что ждать от сочинителя беспристрастности — дело тухлое, Ангел. А со Всевышним, я смотрю, у вас складывалось не все гладко, да?..
Но ответа Ангела я уже не услышал.
… Ипподром располагался на окраине этого большого города, и организованный Гришей Гаврилиди кортеж, двигающийся по предместьям к центру, выглядел очень внушительно и помпезно!
Впереди шел патрульный полицейский желто-зеленый автомобиль, мигая всем, чем может мигать полицейская машина, оснащенная по последнему слову техники Того Времени…
…за ним неторопливо двигался бронированный инкассаторский автомобиль с маленькими круглыми бойницами по всему корпусу для стрельбы изнутри по злодеям, затеявшим напасть на инкассаторов снаружи…
…а за инкассаторским броневиком плыл «мерседес» неправдоподобной длины, в котором сидели усталый, потухший Леша Самошников — будто из него, как из детского шарика, выпустили воздух — и чрезвычайно оживленный Гриша Гаврилиди.
Пассажирский салон лимузина был отделен от шофера толстым стеклом с занавесками, а двухсторонняя связь с водителем осуществлялась через микрофоны и динамики.
По бокам этого сказочного «транспортного средства» и позади него ехали полицейские мотоциклисты в роскошных кожаных светло-зеленых комбинезонах, белых космонавтских шлемах и в белых высоких жестких крагах.
Лешка тоскливо посмотрел на окружавших машину мотоциклистов и устало спросил Гришу:
— Эти-то на хрена?
— А для понта! — радостно прокричал Гриша. — Причем, заметь, за те же бабки! Они спросили: «Вам сопровождение нужно?», а я говорю: «А как вы думаете?», а они говорят: «Нет проблем!» Красиво жить не запретишь, Леха… Не, но какой фарт?! Это шобы так повезло? Кому-нибудь рассказать — можно же с дерева свалиться! Шоб десять заездов подряд?.. Шоб такая везуха?!
— Не ори, — тихо сказал Леша. — У меня голова раскалывается. Не было никакой везухи, Гриня. Я еще со вчерашнего вечера знал победителей всех заездов.
— Я тебя умоляю, Леха! — заржал Гриша Гаврилиди.
— Ну, тише ты, Господи, — досадливо повторил Лешка. — Я говорю правду: я все знал еще вчера.
— Значит, с тобой это на нервной почве, — убежденно сказал Гриша. — Конечно, такие бабки! Кто это может выдержать?!
— Погоди. Не трещи. Какое сегодня число?
— Шо с тобой, Леха? Ты, часом, не перегрелся там на трибунах? С утра было десятое…
— А день? Какой день недели сегодня?
— Ну, суббота же ж! Не пугай меня, Леша… Прими соточку. Здесь такой коньячок… Умереть! — И Гриша распахнул дверцы лимузинного бара.
— Я в завязке. А вчера какое было число?
— О, шоб тебя!.. Ну, девятое — пятница!
— А времени сейчас сколько?
— Без десяти пять… — Гриша тревожно посмотрел на Лешку.
— А во сколько обычно выходит вечерняя газета «Абендвельт»?
— Я знаю?! В шесть, в семь!..
— Так, по-твоему, она еще не вышла?
— Конечно, нет! А при чем здесь газета?..
— А при том, что вот эту СЕГОДНЯШНЮЮ газету «Абендвельт» я получил еще вчера — девятого августа, в пятницу, без пяти минут двенадцать ночи. И там уже был полный отчет о сегодняшних бегах на ипподроме. Со списком всех десяти победителей…
Лешка расстегнул рубашку и вытащил из-за пазухи смятую, пропотевшую, слипшуюся газету, полученную им вчера от голубоглазого мальчишки-газетчика в полночь на Кайзер-брюкке.
Он только одного не сказал Грише. Что эта волшебная, поразительная газета сыграла еще одну немаловажную роль — она уберегла его от банального и пошлого эмигрантского самоубийства на «чужбине».
Лешка сунул газету в руки Грише Гаврилиди, тоскливо посмотрел сквозь боковое стекло лимузина и…
…на мгновение ему показалось, что на противоположной стороне неширокой окраинной улицы он вдруг увидел того самого светловолосого мальчишку-газетчика с рюкзачком за спиной!..
Мальчишка радостно улыбался и вприпрыжку бежал в ту же сторону, куда катился длинный белый лимузин…
Бежал мальчишка так же странно, как бежал и вчера на Кайзер-брюкке, — будто не касаясь земли ногами!
Лешка хотел было закричать, позвать этого удивительного пацана к себе в машину! Он даже махнул ему рукой и увидел, как мальчишка рассмеялся и помахал Лешке в ответ…
Но тут встречный поток машин плотно остановился перед светофором, перекрыл противоположную сторону улицы, и Лешка потерял этого замечательного пацана из виду.
Когда же пробка под светофором рассосалась и встречные машины сдвинулись с места — не было на той стороне улицы никакого мальчишки-газетчика с рюкзачком за плечами.
А может быть, Лешке все это померещилось?..
Но сидел рядом Гриша Гаврилиди, тупо вглядывался в первую страницу газеты, где был напечатан список победителей только что завершившихся ипподромных заездов, покачивался, как старый еврей на молитве, и уже в совершенно сомнамбулическом состоянии повторял:
— Ой, мамочка… Ой, мамочка, роди меня обратно!..
… Кортеж имени А. Самошникова и Г. Гаврилиди уже выбирался из окологородского предместья.
Оставалось лишь пересечь неширокое шоссе, «ландштрассе», опоясывающее тот красивый западногерманский город, который через полторы-две недели Алексей Самошников, нагруженный самыми замечательными подарками для мамы Фирочки, для папы Сереги, для бабушки Любы и для младшего братика Толика-Натанчика, наконец-то покинет навсегда и уедет домой, в Ленинград, оставив Грише гитару и миллион очень твердых западногерманских марок.
А там, в Ленинграде, — будь что будет… Не расстреляют же!
Гриша же Гаврилиди на этот миллион начнет в Германии новую, обеспеченную и зажиточную жизнь русского грека «с-под Одессы», оказавшегося в капиталистическом окружении, но не «давшего маху», не сгинувшего там, а энергично вписавшегося в это чуждое нам доселе окружение.
За инкассаторско-лимузинно-полицейской процессией с Лешкой Самошниковым внутри, тщеславно организованной герром Гаврилиди, тянулся длиннющий шлейф автомобилей, в которых сидели те, кто был сегодня на субботнем ипподромном шоу, и в каждой машине только и было разговоров об этих русских, которые умудрились выиграть все десять субботних заездов и получили…
… Вот тут в каждой машине назывались совершенно разные цифры от трех до пятнадцати миллионов марок!..
А более прозорливые и осведомленные владельцы автомобилей и некоторые пассажиры автобусов, направлявшихся от ипподрома к центру города, считали, что сегодня, в субботу, десятого августа, они стали свидетелями небывалого, феерического и грандиозного жульничества!!! Организованного, вполне вероятно, самим ипподромом совместно с той самой знаменитой «русской мафией», о которой теперь говорят во всей Европе и, страшно сказать, даже в Америке!..
И конечно, те двое русских на трибунах, со своими умопомрачительными беспроигрышными ставками, не более как мелкие шавки этой грозной мафии, выполняющие ничтожную, отвлекающую на себя роль ипподромных «новичков», которым по всем игроцким преданиям обязательно должно «повезти» в «первый» раз!..
Вот какие страсти бушевали вокруг Леши и Гриши, сидевших внутри роскошного белого лимузина…
Гриша уже пришел в себя, вовсю хлебал лимузинный коньяк и лихорадочно перелистывал потную, мятую газету.
— Это же фантастика! — восклицал он в совершеннейшем восторге. — Я держу в руках вечернюю газету, которая еще не вышла из типографии! Невероятно!..
— Вероятно, — тихо сказал Лешка. — Я ее держал на груди еще со вчерашнего вечера.
Гриша расхохотался, сунул Лешке под нос смятую газету:
— Оно и видно! Не, Леха, тебе явно кто-то ворожит, шоб я так жил!..
Вся колонна остановилась и замерла перед красным сигналом светофора при пересечении с окружной ландштрассе.
— Это же потрясающе! — кричал Гриша. — Мы с тобой уже сейчас можем узнать все, что произойдет сегодня вечером! Ручаюсь, что они не забудут про наш выигрыш! Нет, это что-то особенное… Гляди!
Гриша ткнул пальцем в какую-то страницу:
— «Сегодня, десятого августа, в семь часов тридцать минут начинаются гастроли знаменитого мюнхенского цирка „Крона“ с международной программой цирковых звезд всего мира…» Айда вечером в цирк, Леха?
— Нет. Неизвестно, сколько мы еще в банке провозимся… А завтра поутру в Бонн, в посольство ехать нужно.
— Как скажешь, — легко согласился Гриша. — Читаем дальше…
Красный светофор сменился на желтый, затем на зеленый, и вся процессия медленно двинулась через перекресток ландштрассе.
Первой стала пересекать дорогу полицейская машина с мигалками, за ней — инкассаторский броневик, потом парочка мотоциклистов…
— Отдел происшествий, Леха!.. Сдохнуть можно… Кого-то ограбили… сгорел дом депутата бундестага — подозревается умышленный поджог… — прихлебывая коньяк, читал Гриша отдел будущих городских происшествий. — Представляешь, Леха? Тот чувак еще не ограблен, у депутата еще никакого пожара, а мы уже знаем, чего с ними будет?.. Во где цирк! Слушай дальше: «Сегодня вечером, возвращаясь с ипподрома с небывалым в истории рысистых бегов выигрышем, двое русских эмигрантов — А. С. — 25 лет и Г. Г. — 31 год…» Это про нас, про нас, Леха!..
НЕПРЕРЫВНО СИГНАЛЯ И МИГАЯ ВСЕМИ СВОИМИ ФАРАМИ, ПО ОБОЧИНЕ ЛАНДШТРАССЕ МЧАЛСЯ ОГРОМНЫЙ БЕНЗОВОЗ ФИРМЫ «АРАЛ» С ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ ТОННАМИ БЕНЗИНА В ГИГАНТСКОЙ СТАЛЬНОЙ БОЧКЕ…
— «… На перекрестке окружной ландштрассе и дороги, ведущей к центру города…» — читал Гриша.
НЕ БЫЛО, НЕ БЫЛО НИКАКИХ ТОРМОЗОВ У ЭТОГО СТРАШНОГО БЕНЗОВОЗА! ЧТОБЫ НЕ ВРЕЗАТЬСЯ В СТОЯЩИЕ ПОД СВЕТОФОРОМ АВТОМОБИЛИ, ОН ПРОДОЛЖАЛ СВОЙ БЕГ ПО РЕЗЕРВНОЙ ЗОНЕ, ПО ОБОЧИНЕ, И…
— «…бензовоз фирмы „Арал“ с отказавшей тормозной системой не смог остановиться и на полном ходу врезался в наемный лимузин, в котором сидели русские пассажиры — А. С. и Г. Г.»…
Гриша ошеломленно посмотрел на Лешку и, еще не веря своим глазам, успел дочитать до конца:
— «Оба погибли».
Лешка закрыл глаза и откинулся на белоснежную кожаную спинку сиденья. Подумал: «Простите меня, родные мои…»
— Нет!!! Нет!!! Нет!.. — пронесся над перекрестком дикий мальчишеский крик. — Не-е-е-ет!!! Не смей!
НО В ТО ЖЕ МГНОВЕНИЕ РАЗДАЛСЯ СТРАШНЫЙ, СКРЕЖЕЩУЩИЙ, ВЗРЫВНОЙ УДАР!
НА ПОЛНОМ ХОДУ, ПОД ЗВУК СОБСТВЕННОГО ПАНИЧЕСКОГО СИГНАЛА, БЕНЗОВОЗ БЕЗЖАЛОСТНОЙ ЧУДОВИЩНОЙ ГИЛЬОТИНОЙ РАЗРУБИЛ ДЛИННЫЙ БЕЛЫЙ ЛИМУЗИН, КОТОРЫЙ ТУТ ЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В БЕШЕНЫЙ, РВУЩИЙСЯ ВВЕРХ ФАКЕЛ…
… Последнее, что я видел в Том Времени, — это взлетающий вверх столб смертельного огня…
…а в самом верху этого жуткого костра из бензина, металла и людей, метрах в сорока над землей, где ослабевающие языки пламени уже теряли свои страшные переменчивые очертания, мне причудился тот самый светловолосый и голубоглазый мальчишка с Кайзер-брюкке, который еще совсем недавно бежал рядом с белым лимузином…
Только вместо рюкзачка теперь у него за спиной были большие белые крылья с темными, обгоревшими по краям перьями.
Сейчас мальчишка кругами ЛЕТАЛ над местом катастрофы, задыхался от дыма, кашлял, судорожно взмахивал опаленными крыльями, громко и безутешно плакал, грозил кулачком в бескрайнее Небо и с ненавистью кричал куда-то Вверх:
— За что?! За что, Господи?!! Как Ты мог?! Да будьте вы все прокляты!!!
Теперь я сознательно опускаю описание моих переходов из Одного Времени в Другое.
Столько раз я уже рассказывал о своих ощущениях, когда погружался в Прошлое или возвращался в Настоящее, такими значительными мне казались подробности моего физического и нервного состояния в момент этих перемещений во Времени, что иногда мои эгоцентрические стариковские переживания по этому сказочному поводу вдруг начинали превалировать над событиями, происходящими в то Время, ради которых Ангел и затевал эти мои дивные передвижения.
Однако к концу первой половины нашей невероятной «ночи с Ангелом» я неожиданно понял, как я был мелочен и эгоистичен в описании собственных неудобств при смене Времен в сравнении с теми событиями, которые разворачивались перед моими глазами в маленьком Ангельском «просмотровом зальчике»…
Я искренне устыдился такой неправомерности и решил воспользоваться, может быть, отнюдь не «прозаическим», но от этого не менее ценным элементом конструкции подобных вещей: обычным, жестким, совершенно кинематографическим «монтажным стыком». Резким уходом в ретроспекцию и таким же прямолинейным возвращением из нее в Настоящее Время.
… Мы еще долго молчали, лежа на своих диванчиках в купе скорого поезда под старинным советским названием «Красная стрела».
— Светает? — спросил я.
Ангел слегка отодвинул репсовую занавеску со своей стороны. Ответил глухо, грустно, негромко:
— Пока нет. Хотя ночи осталось совсем немного. Летом было бы уже вовсю светло.
Опять полежали молча. Слушали разные вагонные скрипы, перестук колес под полом. А еще каждый вслушивался в самого себя.
— Где его похоронили? — наконец решился спросить я.
Ангел пожал плечами:
— Нигде. Нечего там было хоронить, Владим Владимыч. Вы же сами видели…
«Старый кретин! — обругал я себя. — Кто угодно мог задать такой идиотский вопрос, но не ты… В сорок третьем тебя так быстро научили взрывать и убивать, и ты так долго этим занимался во славу Отечества и еще чью-то славу, что мог бы припомнить, как это все должно выглядеть после такого столкновения и взрыва…»
Ангел незамедлительно откликнулся на мой мысленный укор себе:
— Не расстраивайтесь, Владимир Владимирович. Нелепые вопросы, которые мы часто задаем при столь очевидных событиях, — простейшая форма подсознательной защитной реакции.
Я нервно закурил сигарету.
Ангел снова «выставил» невидимую защиту своей половины купе от моего дыма, сказал, будто продолжил прерванное на секунду плавное течение собственного рассказа:
— …почти сутки я отлеживался у старого Ангела-Хранителя — милого и доброго руководителя моей Наземной практики, одного из древнейших представителей Неба на Земле. Несмотря на дряхлость, в некоторых наших трюках старик был еще достаточно силен. Поэтому на следующий день я уже встал на ноги.
— Волей Всевышнего и решением Ученого Совета Школы твоя Земная практика прекращена и тебя срочно вызывают Наверх, — испуганно сказал мне старый Ангел-Хранитель. — Боюсь, что у тебя там могут быть неприятности…
Но тут мне вдруг стало ясно, что из ТОГО потрясения я вышел совершенно ДРУГИМ! И обратной дороги у меня нет.
— Ничего хуже того, что произошло, уже не будет, — помню, ответил я Старику. — А на все остальное мне теперь наплевать!
В ту же секунду в абсолютно ясном, без единого облачка небе жутковато сверкнула молния и раздался отдаленный, но от этого не менее грозный раскат грома…
Ах, как перепугался этот несчастный, добрый Старик-Ангел!.. Он-то знал, что означают такие раскаты и сверкания в чистом безоблачном небе!
А мне, Владим Владимыч, ни на секунду не стало страшно! Даже если бы я тогда услышал Трубный Глас — я такое сказал бы Ему в ответ, такими Земными словами, что Они бы все Там на облаках попадали от ужаса!..
После того взрыва на шоссе, после чудовищной смерти Леши Самошникова, которого я, тринадцатилетний Ангел-недоучка, пытался уберечь то от одного, то от другого (а Они, Всемогущие и Всесильные, Верой в которых толькои живы миллионы наивных Землян, не захотели и пальцем шевельнуть, чтобы сберечь прекрасного и талантливого Лешку… И Гришу Гаврилиди — верного Лешкиного вассала, с каждым днем становившегося все чище и лучше от общения с умным, добрым и интеллигентным Лешкой), — меня уже ничем нельзя было напугать…
Старика же сильно потряс этот грозный окрик Неба. С возрастом у него, по всей вероятности, очень ослабли сдерживающие функции сфинктеров мочеиспускательной системы, а может быть, это был результат застарелого двухсотлетнего простатита, но… Старику-Ангелу ничего не оставалось делать, как прошлепать в ванную, подмыться и сменить тунику, в которой он обычно ходил по дому.
Я деликатно сделал вид, что ничего не заметил.
Когда Старик вернулся в комнату в сухой и чистенькой «ангельско-форменной» одежде, лицо у него было салатного цвета, а глаза такие тревожные, что тут уже я разволновался не на шутку:
— Что с вами, Учитель?!
Старик даже ответить сразу не смог. А когда чуточку пришел в себя, то в своей стариковской простоте и открытой бесхитростности еле-еле вымолвил:
— Малыш… Только что, когда я застирывал тунику в ванной, Сверху поступил приказ Всевышнего немедленно отправить тебя на Небо в распоряжение АООКаКа!..
Впервые я услышал эту аббревиатуру:
— А что это?
Старый Ангел жалостливо погладил меня по голове:
— Бедненький ты мой… Это же — Ангельский Особый Отдел Конфликтной Комиссии! Ну, да авось Господь сжалится…
— Как же! — презрительно сказал я с интонациями покойного Гриши Гаврилиди. — Держи карман шире!..
— Тише, тише, деточка! — вконец перетрусил Старик. — Так что возносись и возвращайся, мальчик мой. Ради всего Святого!..
— Вот ради того, что я теперь считаю для себя Святым, — я и останусь на Земле! — прервал я Старика-Ангела. — После смерти Леши нет для меня ничего более Святого, чем еще живущие на Земле Самошниковы… И не собираюсь я никуда ни возноситься, ни возвращаться! Хватит… У меня все эти наши «нектары» и «амброзии» уже поперек горла!.. В смысле и на фиг мне не нужны!
— Деточка! — в смятении вскричал Старик. — Что ты говоришь? Нектар и амброзия дают нам бессмертие и вечную юность… Не веришь мне, загляни в энциклопедию!
— Дедушка-а-а! — завопил я в отчаянии. — Какая «вечная юность»?! О чем вы говорите? Посмотрите на себя в зеркало!.. И потом, как я могу продолжать служить Ему, если я потерял в Него Веру?!
— Прекрати немедленно! — в ужасе завизжал Старик-Ангел. — Я не хочу этого слышать!..
Крылья у него затряслись, панически зашуршали старые, пожелтевшие, пересохшие, ломкие перья, и старый Ангел — бывший Хранитель, а теперь, в силу своего почтенного возраста и былых заслуг, лишь номинальный Представитель Неба на Земле — упал в кресло, схватившись за сердце слабенькими сухонькими ручонками. Ротик его судорожно открылся, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, но…
Недаром я тогда дни и ночи торчал у Лешки в больнице!!!
Насмотрелся, наслушался… Какое там «бессмертие»?! Чушь собачья.
Я мгновенно «сотворил» небольшую бутылочку нитроглицеринового спрея, подлетел к уже синеющему Старику-Ангелу и пару раз пшикнул из бутылочки в его старый, судорожно открытый беззубый рот.
Откачал я Старика, успокоил, как мог, даже «вознестись» пообещал — только бы он не нервничал. А когда он слегка очухался, приготовил ему укрепляющую смесь из сгущенного нектара и порошковой консервированной амброзии — мы их регулярно получали Сверху в очень красивой упаковке, — напоил Старика, накормил, уложил под плед, дождался, когда он задремлет, и помчался туда, где последние месяцы жил Леша Самошников.
Сквозь стену дома я проник очень легко — дом был блочный, панели тонкие, с шумопоглощающей ватой…
Вошел в Лешкину квартирку, увидел на столе все, что он позавчера оставил, когда собирался на Кайзер-брюкке сводить счеты с жизнью, лег на Лешину тахту, накрыл голову его подушкой и расплакался чисто по-человечески!
Однако плакал я очень даже осмысленно: все прикидывал и так и этак — не я ли сам виноват в том, что произошло? А может быть, не эту дурацкую «завтрашнюю газету» нужно было сочинить, а что-нибудь другое?.. Но я же спасти хотел! И не только уберечь его от самоубийства, но и дать возможность заплатить тому посольскому «инспектору», чтобы уехать домой в Ленинград! В конце концов, это и было основной задачей моей Наземной практики — постараться максимально оградить и без того уже исстрадавшегося Лешку Самошникова от лишних, как он сам говорил, «…болей, бед и обид». И потом… Вот это столкновение с бензовозом, этот взрыв на ландштрассе при въезде в город — что это было?! Кара Небесная?!! Если да — то за что?! Или это нужно квалифицировать как самое обычное дерьмовое ротозейство и равнодушие? Неужто эта Земная зараза достигла и наших Высших Сфер?.. Значит, вся эта всемирная трепотня о Его Высшей Справедливости, Всемогуществе и Всесилии — сказочка? Миф?.. Где же была «Могучая длань Господа», когда гигантский бензовоз мчался на счастливых и окрыленных Лешку и Гришу?! Где же ты был, Господи?!! Да и есть ли ты вообще?.. — плакал я безутешно.
Но доплакать до каких-либо логических умозаключений мне не дал неожиданный приход сотрудников криминальной полиции во главе с хаузмайстером. Это что-то среднее между русским дворником и управдомом… Да что я вам-то объясняю? Вы это лучше меня знаете, Владим Владимыч.
С книжного стеллажа я прихватил две аудиокассеты с Лешиным голосом — на одной русские романсы, на второй — поэзия: Пастернак, Заболоцкий, Мандельштам, Блок.
Спрятал их в свой рюкзачок, в который обычно запихивал крылья, когда для дела приходилось «являться» людям на глаза, утер слезы рукавом и тем же путем — сквозь блочную стену дешевого немецкого новостроя — вылетел на свежий воздух.
Лечу над городом и думаю — как бы мне в навчу резиденцию влететь поаккуратнее, потише, чтобы Старика не потревожить. Уж так он перепугался моего Вероотступничества! Хорошо, что я ему лишнюю ложечку амброзии подмешал в тот коктейль. Амброзия в таких случаях очень успокаивает. Просто превосходный релаксант…
Прилетаю, а там — здрасте, пожалуйста!
Старик мой не спит, сидит в углу нахохлившись, физиономия покрыта нервным склеротическим румянцем, на меня не смотрит, а за нашим обеденным столом восседают три строгих взрослых Ангела!
Вернее, двое по бокам в белом — Ангелы, а третий в середине весь в красном — Архангел. Главный среди них.
— Вот он, — говорит им мой Старик и указывает на меня левым крылом.
Белые Ангелы промолчали, а красный Архангел кивнул Старику и сказал так небрежно:
— Угу, — и в какую-то толстую папку углубился. Проглядывает Архангел разные бумажки в папке, то левому Ангелу что-то там покажет, то правому. Те головами кивают, на меня даже и не смотрят.
— Доигрался? — шипит мне мой Старик. — Вот и «тройка» из самого АООКаКа прилетела…
— Что за «тройка»? — тихонько спрашиваю я.
— «Тройка» — выездная сессия Ангельского Особого Отдела Конфликтной Комиссии! Я тебе говорил, а ты все мимо ушей… — шепчет мне Старик.
И я вижу, его буквально трясет от страха! Я только взялся его успокаивать, как вдруг красный Архангел захлопывает папку и громко говорит:
— Тэк-с… Как выражаются жители этого кусочка Земли — немцы: «Аллес кляр». Все, дескать, ясно. Начнем, пожалуй?
Ну и, простите меня, Владим Владимыч, за непарламентскую лексику, начинает мне кишки на барабан мотать!..
— Напрасно извиняетесь, Ангел, — говорю я со своего диванчика. — Для большинства членов нашего сегодняшнего парламента подобный образец фольклорного речения — признак достаточно высокого интеллектуального уровня. А пословица, несомненно, точная. Подозреваю, что родилась она во времена испанской инквизиции в результате поисков истины, потом трагически повторилась в Советском Союзе конца тридцатых, а уже спустя пять-шесть десятков лет, как в вашем случае, превратилась в некое ироничное определение допроса без применения так называемых «спецсредств»…
— Чего действительно не было, так это «спецсредств», — согласился Ангел. — О них, к счастью, я знаю только из литературы. Думаю, что знаю не все… Возвращаясь же к тому судилищу надо мной, должен признать, что оно шло хоть и в «ангельской» манере, но жестко и примитивно. Ошибочно ориентируясь на мой, как вы говорили, «щенячий возраст», «тройка» нашего Особого Отдела совершенно не учла моего нервного состояния и готовности к сопротивлению, которые во мне бушевали после смерти Леши Самошникова. Его гибель я открыто назвал «убийством» и обвинил Всевышнего в глухоте и равнодушии. И даже позволил себе усомниться в ЕГО существовании…
Короче, я повторил им все то, о чем час тому назад горько плакал на Лешкиной тахте, накрыв голову Лешкиной подушкой, которая еще хранила тонкий запах Лешкиного одеколона «Хеттрик».
На время недолгого совещания для вынесения мне приговора меня попросту усыпили, ибо выставить было некуда. Наша «резиденция» являлась обыкновенной, крайне недорогой однокомнатной квартирой. Небо чрезвычайно скупо расходовало средства на содержание своих Представителей на Земле. Я, например, всю свою Наземную практику спал на раскладушке в кухне стариковского казенного жилища…
Когда меня привели в чувство, чтобы объявить приговор, первое, что я увидел, открыв глаза, это беззубую улыбку моего милого Старика Ангела-Хранителя, Руководителя моей Наземной практики. Он даже весело, как-то-очень по-свойски подмигнул мне — мол, не трусь, малыш, — все окей!..
А дальше в довольно занудливой и бесцветной речи Архангела в красном чиновничье-суконным языком излагались все мои прегрешения перед Всевышним и Верой в Него, перечислялись смягчающие мотивы — безукоризненная предыдущая учеба в Школе, хорошая спортивная подготовка, отменная характеристика Руководителя моей Наземной практики…
Кстати, на этой фразе Архангел так неодобрительно посмотрел на моего добрейшего Старика, что тот, бедняга, аж съежился!..
Короче, мои «заблуждения» были признаны хотя и значительными, но подлежащими исправлению. А посему я должен немедленно покинуть Землю и вознестись в лоно своей «альма-матер», где уже Педагогический Совет Школы подвергнет меня специальному тестированию, чтобы решить — оставить меня на второй год или дать возможность перейти в следующий класс. Наземная же практика решением Ангельского Особого Отдела Конфликтной Комиссии мне не засчитывается!..
Наверное, мой Старик ожидал худшего. Услышав окончательный вердикт АООКаКа из уст Председательствующего Архангела, Старик не смог себя сдержать и как-то излишне верноподданнически, восторженно вскричал со слезами на глазах:
— ОН простил тебя, мой мальчик!.. ОН тебя простил!!!
Вот, Владим Владимыч, когда мне стало тошно, чуть ли не до обморока…
Старика жалко было — ну, прямо глотку перехватило! В это мгновение он был так похож на всех наших сегодняшних несчастных Земных стариков, когда-то воевавших за свою Землю и так отвратительно преданных ею! Они же по сей день, голодные и обворованные, из последних сил таскают по митингам древние портреты страшных и жестоких лгунов и проклинают всех, кто утратил их Веру. Веру в своих собственных палачей! Вот что дико и непонятно…
Наверное, «тройка» решила, что я молчу, обалдев от счастья.
Красный Архангел торжественно встал из-за нашего колченогого обеденного стола, расправил свои могучие крылья, поднял указательный палец в потолок и веско произнес «специальным» голосом:
— ОН ПРОСТИЛ ТЕБЯ, МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ.
А у меня в глазах — счастливая, красивая Лешкина физиономия, когда он махал мне рукой из окна белого длинного лимузина, даже не зная — кто я, что я…
Потом — дикий, ужасающий удар, невероятной силы взрыв, и над перекрестком безжалостный столб огня, рвущийся в Небо!!!
— Ты понял, малыш?.. — переспросил меня старый, уже никчемушный Ангел — бывший Хранитель. — ОН простил тебя…
И заискивающе улыбнулся всей «тройке» Особого Отдела. Это было каплей, переполнившей чашу моего смирения!
Кажется, я тогда совсем неплохо для тринадцатилетнего пацана разрушил весь этот многозначительный и фальшивый спектакль!
Я внимательно, совсем новыми глазами оглядел эту карнавальную «тройку», своего несчастного и жалкого Старика и твердо сказал:
— НО Я НЕ ПРОСТИЛ ЕГО. И НИКОГДА НЕ ПРОЩУ!
… Последнее, что я слышал и видел, — это жуткий раскат грома, потрясший стены нашей служебной квартиры, и бело-синий зигзаг молнии, яростно ворвавшийся в комнату…
… Когда я очнулся, выяснилось, что лежу я на нашем обеденном столе, за которым только что заседала судебная «тройка» Ангельского Особого Отдела Конфликтной Комиссии.
Лежу я под пледом, почему-то на животе, спиной вверх, прижавшись щекой к маленькой подушке-думочке, которую мой Старик-Ангел обожал просто до одури и даже никогда не давал мне до нее дотронуться. Говорил, что эта маленькая подушечка показывает ему замечательные, почти исчезнувшие из его стариковской памяти, молодые, полные сил и желаний, удивительные цветные сны!..
А тут — на тебе! Сам поправляет у меня под носом эту подушечку, гладит меня по затылку и причитает:
— Ах ты, мой маленький героический мальчик… Да как же это тебя угораздило?.. Ну зачем, зачем ты с ними вот так — в открытую?!
Нет никакой «тройки» Особого Отдела. Только мы со Стариком в квартире. Да еще запах такой благовонно-противноватый. Как в дешевой парикмахерской.
Но Старик все равно трусит, наклоняется ко мне совсем-совсем близко, еле слышно шепчет мне в ухо:
— Думаешь, я со всем согласен?.. Думаешь, мне все так уж нравится в нашем Мире? Но ведь молчу. А когда-то по молодости тоже хотелось высказаться… Последний раз в тыща девятьсот семнадцатом на Высшем Ангельском Совете попытался выступить — как, дескать, можно допустить, чтобы такой страной, как Россия, кухарки управляли?! Так Всевышний на меня так раскричался, что даже выстрела «Авроры» никто не услышал! Да еще и в Германию сослали, как мальчишку. А мне тогда уже за сотенку лет перевалило… Думаешь, не обидно?
Я его не слушаю, лежу на животе и пошевелиться не могу. Такая слабость по всему телу, и спина ужасно чешется! Зудит, будто пo мне муравьи ползают…
— Вы не могли бы мне спину почесать? — спрашиваю.
— Нельзя. Потерпи, деточка. Скоро пройдет, — говорит мне Старик и смотрит на меня так жалостливо. — Я тебе сейчас ложечку амброзии сотворю, оно и успокоится.
— Ну уж нет! — заявляю я так мятежно, а сам пошевелиться не могу. — Хватит с меня этих «Даров Неба». Я сосиску хочу!
— Что ты, что ты?! Сам подумай — откуда в Ангельской резиденции могут быть эти… Как их?..
— Сосиски, — подсказываю я ему.
— Да, — говорит Старик. — Вот именно! — Подумал, пожал плечами и говорит мне так смущенно: — Хотя теперь, после того, что с тобой сделали…
— А что со мной сделали? — испугался я.
Старик присел на стул возле меня, поправил на мне плед и давай рассказывать…
… Оказывается, Гром и Молнию на меня наслал САМ. Услышал, что я обвинил его в убийстве Лешки и Гриши, узнал, что перестал в Него Верить, вот и решил показать себя Всеслышащим, Всевидящим и Всесильным. В смысле — ВСЕВЫШНИМ. Обиделся и шарахнул по мне со всей силой!
Этот Знак Божий был воспринят «тройкой» АООКаКа как «Перст Указующий» на мягкость приговора.
«Тройка» нашего Особого Отдела чуть не обгадилась от страха и тут же хором предала и нарушила все статьи и законы Небесного Кодекса — лишь бы умилостивить Небо! Ну и выдала мне по полной программе:
1. Исключили из Школы Ангелов-Хранителей.
2. Отобрали крылья.
3. Лишили меня Ангельского чина.
Начали было отбирать у меня Ангельскую возможность «Ухода в Невидимость», но в самом начале этого карающего процесса Сверху вдруг неожиданно поступил приказ — всей «тройке» АООКаКа мгновенно вылететь в Соединенные Штаты Америки, в Лас-Вегас, где местный Представитель Неба на Земле, Ангел-Хранитель с солидным стажем и великолепным послужным списком за последние полтораста лет, не выдержал сумасшедшего напряжения этого города, проиграл какие-то Священные ценности в казино, да еще и совершенно по-человечески спутался с роскошной темнокожей танцовщицей из постоянной концертной группы отеля «Мираж»!..
В панике и лихорадочной спешке Архангел напрочь позабыл, чем еще меня наказать и чего лишить в угоду Всевышнему, и все трое моментально умчались в Лас-Вегас вершить Божий Суд над «наперсником разврата», оставив мне весь набор моих ученических, немудрящих трюков. Часть из которых вы уже наблюдали, Владим Владимыч. Я имею в виду джин, чай, невидимую перегородку купе от дыма вашей сигареты, ну и так далее…
К концу рассказа старого Ангела спина у меня действительно перестала чесаться. А еще через десять минут я уже сам, без малейшей помощи сумел слезть со стола, взял у Старика несколько марок и отправился в ближайший магазин «Альди» за сосисками…
— И началась новая жизнь! — воскликнул я. — Да, Ангел?
— Если иметь в виду сосиски — да. Во всем остальном — нет. Началось томительное ожидание документов, которые Старик заказал мне в наших «кадрах». А этот процесс, к сожалению, обычно бывал затяжным… Однако чтобы вам все не показалось в таком уж черно-бюрократическом свете, справедливости ради следует заметить, что вместе с документами, без которых Человечество обойтись не может, Небо предоставляло отлученным и уволенным Ангелам так называемую «способность натурализации». То есть легальное и беспрепятственное внедрение в Человеческое общество без каких-либо проверок — кто ты, что ты и откуда. Такое своеобразное «выходное пособие», что ли…
— Но об этом же можно только мечтать, Ангел! Это я вам говорю, как бывший советский, а ныне российский гражданин, к тому же проживающий за границей! — искренне восхитился я. — Если бы вы знали, сколько сотен анкет я заполнил в своей жизни!.. На сколько тысяч дурацких вопросов я должен был в них ответить разборчивым почерком!..
— Да, я много слышал об этом. Но к сожалению, даже такая редкая светлая сторона нашего Небесного делопроизводства обязательно омрачалась какой-нибудь путаницей или невероятно долгим оформлением, — грустно проговорил Ангел. — Два месяца я ждал документы на имя Ангела Алешина и не мог тронуться без них с места. Хотя мне так нужно было в это время быть в Ленинграде! Около Самошниковых…
— Как им сообщили о гибели Леши? — спросил я.
— В том-то и дело, что никак!.. Они сами узнали об этом. Сначала из «Комсомолки», а потом из молодежной ленинградской газетки «Смена».
— Как?!
— А вот очень просто. Вам рассказать или вы сами посмотрите?
— Если вас не затруднит — начните рассказывать. Когда я захочу что-то увидеть своими глазами, я прерву вас. Хорошо?
— Договорились. Тогда — протокольно. Советского консульства в городе не было, и криминальная полиция сообщила о смерти гражданина Советского Союза герра Алекса Самошникова, временно находящегося на территории ФРГ, прямо в Бонн — в посольство СССР.
Обычно такие сообщения регистрировались и ложились на стол не настоящим дипломатам, а представителям «инспекции» посольств — негласным, но штатным сотрудникам Комитета государственной безопасности.
Стол, на который легло это полицейское сообщение, принадлежал именно тому «инспектору», который так хотел получить десять тысяч западных марок за вызволение Леши Самошникова и возвращение его домой в Ленинград…
Но этот «дипломат» от КГБ уже неделю как вместе с семьей пребывал на берегу Черного моря, в Мисхоре, в своем комитетском санатории, наслаждаясь вполне заслуженным отпуском, положенным каждому честному трудящемуся Советского Союза.
Когда же он через месяц, загорелый и отдохнувший на родных черноморских берегах, вернулся в чуждую ему капсистему Западной Германии и стал разбирать накопившиеся за время отпуска документы — различные указания МИДа, перехваты внутренних телефонных разговоров, серьезные донесения доверенных лиц и мелкие доносы лиц, не заслуживающих доверия, — наткнулся и на сообщение о Лешиной смерти.
Он тут же вспомнил о неполученных десяти тысячах и лишний раз уверовал в свою профессиональную интуицию — эти двое артистов ему и тогда уже показались несерьезными «клиентами». Так что он на них особо и не рассчитывал…
А когда в стенах посольства появился корреспондент «Комсомольской правды», чтобы создать широкое полотно, строк этак на триста пятьдесят, о тяжелой и мужественной работе советских дипломатов во враждебно-реваншистском окружении, посол тут же направил его к «дипломату-инспектору». Тот знает, что можно сказать журналисту, а чего можно и не говорить…
Он и сказал:
— Сначала, понимаешь, бегут за длинной бундесмаркой в эту эмиграцию, думают, что для них тут медом намазано, а потом у нас в ногах валяются — «Отправьте на Родину! Верните нас в Советский Союз!..» Десятки тысяч суют, только бы мы им помогли! А потом нанюхаются какой-нибудь гадости или напьются, и вот вам, пожалуйста…
И «дипломат-инспектор» положил перед журналистом русский перевод сообщения криминальной полиции о смерти Леши. Этому «инспектору» все всегда переводили на русский. Он немецкого не знал принципиально.
Журналист проглядел сообщение и понял, что на этом можно сделать классный политический материал, так необходимый сейчас, в период повальной эмиграции из Союза. Тогда-то он точно станет заведующим международным отделом газеты!
И он маханул в тот город, откуда и пришла эта полицейская бумажка. Тем более что там уже три года жила его бывшая жена-еврейка с их пятилетним сыном. Жаль, конечно, что пришлось с ней развестись, но времена тогда были такие, что еврейская жена для русского журналиста центральной партийной прессы была тяжкими кандалами на всей его будущей карьере…
Примчавшись в город, где погибли Леша и Гриша, этот журналист на кухне у своей бывшей жены, держа сына на коленях, узнал все, что было сокрыто за сухими полицейскими строчками. И про ипподром, и про фантастический выигрыш в два миллиона, и про самого Лешу Самошникова — бывшего драматического актера, который когда-то в псковском театре играл то-то и то-то, потом по недоразумению попал сюда и прекрасно пел русские романсы в «Околице». А как он читал стихи!..
Журналист даже послушал любительские записи, которыми еще недавно из-под полы торговал предприимчивый Гриша Гаврилиди.
Так в «Комсомолке», помимо большой статьи о героической работе советских дипломатов, подписанной полным именем дотошного журналиста, появилась и звонкая заметка с вычурно назидательным заголовком — «Печальный конец погони за длинной бундесмаркой…».
Внизу стояли только инициалы автора, что не помешало ему спустя месяц возглавить международный отдел газеты.
— Дерьмо вонючее! Сволочь… — пробормотал я и от волнения прикурил сигарету другим концом.
Закашлялся едким дымом горящего фильтра, раздавил сигарету в пепельнице, отдышался и закурил вторую. Затянулся, сказал Ангелу:
— Несчастные родители, бедная бабушка Любовь Абрамовна… Могу представить, что с ними было.
— Думаю, что не все, — тихо сказал Ангел, глядя в черноту вагонного окна.
— Что «не все»? — не понял я.
— Я полагаю, Владим Владимыч, что даже вы не все можете себе представить, что с ними было.
— Боже мой, что же может быть трагичнее потери собственного ребенка?.. Пусть даже взрослого.
— Хотите посмотреть?
— Нет, нет. Продолжайте, пожалуйста. Мне очень нравится ваша манера такого… я бы сказал, «спрессованного» рассказа. Только, если не трудно, — стакан чаю.
Тут я немножко слукавил: я просто дико устал от «просмотров» тех событий и своего невольного свидетельского участия в них…
— «Эрл Грей»? — спросил меня Ангел.
— Если можно.
— Пейте, — коротко сказал Ангел.
И я тут же почувствовал запах моего любимого «Эрл Грея»! Стакан прекрасно заваренного чая стоял передо мной на столике.
— Спасибо, Ангел. Я счастлив, что когда-то лас-вегасский Ангел-Хранитель оказался настоящим нормальным мужиком и трахнул танцовщицу-негритянку, а ваш Особый Отдел полетел наказывать его, в спешке позабыв лишить вас вот таких способностей! — сказал я, прихлебывая «ангельский» чай.
— Я тоже очень рад этому, — улыбнулся Ангел. И тут, глядя на молодое, красивое, очень «мужчинское» лицо Ангела, я снова беспечно упустил из виду еще одну «Неземную» способность этого типа — слышать мысли своего собеседника!
Старый дурень, я, как всегда, пошел на поводу у своих сиюсекундных эмоций и в который раз неосторожно подумал: «Вот бы нашей Катюхе такого парня…»
То ли Ангел деликатно сделал вид, что не ущучил меня в откровенной дедовской корысти для счастья собственной внучки, то ли, вспоминая о печальном прошлом, действительно не услышал моих шкурнических мыслишек, но он, как говорится, и ухом не повел. Поглядел на меня так серьезно и спросил:
— Не устали, Владим Владимыч?
— Устал, — честно признался я. — Но сна — ни в одном глазу.
— Хотите, я вам достану еще одну подушку?
— Тоже «сотворите»? Как тот джин? Или как этот чай?
— Нет, зачем же… Просто встану и сниму с багажной полки. Там еще два одеяла и пара подушек на всякий случай.
— Спасибо, не нужно.
— Тогда слушайте. С мощной подачи «Комсомолки» эту заметку ТАСС пустили по всем молодежным газетам Союза. Чтобы неповадно было за границы бегать. Перепечатала эту заметочку и ленинградская газета «Смена».
Очень, очень многие, знавшие Лешу, прочитали «Комсомолку» или «Смену» и в Пскове, и в Ленинграде…
Но одной из первых углядела эту подленькую статеечку тринадцатилетняя дочь заместителя начальника управления «спецслужбы» милиции при ГУВД города Ленинграда (гостиницы, иностранцы, проститутки, валюта…) подполковника Петрова — Лидочка.
Та самая ушлая девочка-отличница и примерная общественница, которая еще в пятом классе обучила Толика Самошникова целоваться по-взрослому — «взасос» и сама таскала его в лесок за спорткомплекс для страстных половых утех без нарушения «запретного рубежа» — до первой боли…
Итак, это была та самая Лидочка Петрова, которая в роковой для Толика-Натанчика день, когда в шестой класс на урок труда к ним ввалился приблатненный пэтэушник по кличке Заяц, послала этого страшноватенького Зайца таким извозчичьим матом, что даже Толик опешил!
Правда, это не помешало ему всадить Зайцу отвертку в живот, когда тот обозвал его маму Фирочку «жидовкой».
Это я просто напоминаю вам, Владим Владимыч, о ком пойдет речь.
— Разве после того, как Толик попал в колонию, она продолжала занимать какое-то место в его жизни? — удивился я.
— Больше, чем когда бы то ни было, — с удовольствием ответил Ангел. — Она стала своим человеком в доме Самошниковых… Не было ни одного «впускного» или «родительского» дня в колонии, чтобы там не появилась Лидочка Петрова.
Добиралась она туда или самостоятельно на электричке, а потом еще минут тридцать на раздолбанном загородном автобусе, или в самошниковском «Запорожце» вместе с Фирочкой, Серегой и Любовью Абрамовной.
В колонии Толик-Натанчик был у начальства на хорошем, а у пацанов — на грозном и непререкаемом счету.
Вокруг него, как когда-то на воле, сама собой образовалась жестокая банда двенадцати — и тринадцатилетних пацанов, единогласно и безоговорочно провозгласивших Толика Самоху своим «авторитетом».
Рукастый и технически образованный собственным отцом, Толик-Натанчик возглавлял строительную бригаду по возведению на территории колонии часовни и парникового комплекса. Кроме того, он хорошо и с интересом учился в закрытой школе. Но самым главным было то, что Толян Самоха сам вел секцию вольной борьбы, был очень силен физически, неустрашим и мог «оттянуть» любого пятнадцатилетнего отморозка!
Самостоятельно он приводил приговоры в исполнение лишь первые полтора месяца своей отсидки. После единодушного «коронования» ему было достаточно шевельнуть бровью, как волчья стая его бойцов чуть ли не в клочья раздирала «возникающего».
Толик выстроил свою банду по муравьиной структуре, с учетом бывших профессиональных навыков: из ворья была создана группа «обеспеченцев»; из «отвязанного» хулиганья — бойцовская бригада; угонщики, взломщики и форточники объединялись в строительный подотряд.
И когда около проходной колонии, с виду мрачного и унылого, а на самом деле бурлящего и раздираемого внутренними мальчишеско-блатными страстями «воспитательного» учреждения, появлялась Лидочка, каждый из пацанов считал за честь первым сообщить об этом самому Толику:
— Самоха!!! Твоя приехала!.,
Не «телка», не «мочалка», даже не «чувиха», а «Твоя».
Кто-то в самом начале Толиковой посадки назвал Лидочку «телкой» и потом две недели взирал на мир одним левым глазом. У Толика-Натанчика был очень сильный удар справа.
… Первой мыслью Лидочки Петровой была немедленная поездка к Толику в колонию.
Вторая, тут же пришедшая на смену первой, оказалась более мудрой — Лидочка позвонила отцу на работу:
— Папа! Я сейчас приеду к тебе.
— Почему не в школе? — с интересом спросил подполковник.
— Мотаю, па. Но по жутко уважительной причине. Можно взять такси?
— У тебя так много денег?
— Ни копеечки. Но ты меня встретишь, па.
— У меня самого ни гроша. Мама все выгребла. Черт с тобой — бери таксярник. Сейчас у кого-нибудь перехвачу…
Через двадцать минут Лида примчалась на угол Лиговки и Обводного канала, где на четвертом этаже размещалась папина «спецслужба». Подполковник Петров встретил дочь у обшарпанного подъезда, расплатился за такси и спросил:
— Что стряслось?
А когда прочитал заметку в «Смене», брезгливо скривился, сплюнул, с трудом подавил в себе желание выматериться и сказал:
— Дешевка!..
— Что делать, па? — спросила Лидочка.
— Молчать в тряпочку. В колонию — не ездить. А то он там чего-нибудь еще натворит и схлопочет дополнительный срок. И амнистия ему накроется…
— А что, будет амнистия?!
— Ждем после Нового года. Как раз для таких засранцев, как твой Толик. Ты лучше узнай — не попалась ли эта дерьмовая газетка родителям на глаза? Если уже… сходи к ним вечерком, побудь с ними. Хочешь, я могу им позвонить?
— Не надо. Я сама, — твердо сказала Лидочка и ткнула пальцем в середину заметки «Печальный конец в погоне за длинной бундесмаркой…». — Смотри, па… Они же пишут, что «…скорее всего большую часть из двух миллионов западных марок А. Самошников сумел переправить в Союз через криминальные структуры…».
— Ага… Как же! Разевайте рот пошире. Так тебе немцы и выпустят из рук такие деньги! Нет человека — нет проблемы. Нет проблемы — нет и денег! И общий привет. А то я не знаю!.. Понапишут хрен знает что. — И подполковник Петров сплюнул еще раз.
— И вы знаете, Владим Владимыч, — сказал мне Ангел, прервав стройное течение своего рассказа, — Петров-то был абсолютно прав! На эти деньги тут же наложило лапу городское финансовое управление, а потом они тихо и элегантно исчезли в бездонном кошельке городского бюджета. Но не все… Насколько я помню, треть суммы обросла какими-то неведомыми параграфами и якобы совершенно законно разбрелась по карманам нескольких «отцов» города.
— Симпатичная подробность, — заметил я.
— Ну а вдруг? — с надеждой спросила Лидочка.
— Ну ты-то не повторяй глупостей за дураками! — разозлился подполковник милиции. — Они же, раздолбай, сами себе противоречат: пишут, что Самошников погиб, когда ехал с ипподрома, где выиграл два миллиона. Откуда он отправлял эти марки сюда — с того света, что ли?! Подумай сама, Лидка. Поднапряги головку-то…
Лида не успела ответить отцу. К подъезду подкатил ужасающего вида, расхлябанный «Москвич». Вылезли из него трое молодых сотрудников «спецслужбы», смахивающих на не очень удачливых фарцовщиков.
— Здравия желаем! — сказали они подполковнику. — Привет, Лидуня!..
— Здорово, — сказал Петров, — Маслов! Игорь, погоди. Отвези Лидку на Гражданку, на Бутлерова. К школе. Она покажет.
— Нет вопросов, начальник! Садись, королева красоты, — сказал капитан Маслов, с удовольствием поглядывая на уже выпуклую грудку тринадцатилетней Лидочки Петровой. — Как там твой Толик? Все еще чалится?
Самошниковы уже знали все: им позвонили из Пскова — театр выражал соболезнование.
На работе Эсфири Анатольевне и «Комсомольскую правду» вручили. Как положено — с оханьем и аханьем, но с таким нескрываемым животным любопытством! Пытаясь понять — получила она от погибшего старшего сына-артиста те деньги, про которые в газете было рассказано? А в газете зря не напишут!..
Вечером папа Сергей Алексеевич сидел один на маленькой кухне, цедил водку из граненого стакана, плакать старался как можно тише. Только изредка постанывал и сморкался…
Фирочка лежала в спальне, сухими глазами смотрела в низкий потолок. Время от времени надевала очки, вчитывалась в гладкие строчки «Комсомолки», пыталась что-то еще понять за этими ловкими фразочками, снимала очки, откладывала газету в сторонку и ловила себя на том, что никак не может отчетливо представить Лешину улыбку, не может вспомнить его голос… И очень пугалась этого.
А в бывшей «детской» стоял запах корвалола, тревожно дополнявший чистенькие женско-старушечьи запахи, пропитавшие бывшую лежанку Толика-Натанчика — складное кресло-кровать, в котором сидела сейчас его бабушка Любовь Абрамовна, и плотные недорогие портьеры, и тюлевые занавески. Лешка их еще на третьем курсе сам вешал.
Рядом с креслом Любови Абрамовны, на старом вытертом гобеленовом пуфике, сидела Лида Петрова. Любовь Абрамовна показывала ей детские фотографии Леши и Толика-Натанчика, доставала из тумбочки разные забытые мальчишечьи «драгоценности» — рогатки, пробитые большие медные монеты, самодеятельно рисованные географические карты придуманных стран, сломанные зажигалки…
Неожиданно из всего этого детского хлама Любовь Абрамовна вытащила толстый некрасивый золотой перстень и протянула его Лиде.
— Что это, Любовь Абрамовна? — спросила Лидочка и удивилась ощутимой тяжести этого нелепого кольца.
Любовь Абрамовна собралась с силами, ответила прерывисто, с одышкой:
— Перстень… Дедушки Леши и Толика — Натана Моисеевича… Помнишь его?..
— Конечно, — тихо сказала Лидочка.
— Ему на шестидесятилетие наш дружок покойный Ванечка Лепехин подарил… А Натан даже обручального-то кольца не носил… И перстень этот надевал только тогда, когда Ваня к нам в гости приходил. Чтобы не обидеть Ваню… А мне все говорил потихоньку — «пусть этот уродец потом Лешке достанется на черный день…» Вот, Лидуня, и пришел этот черный день… А Леши и нету… Кому теперь этот перстень? — спросила Любовь Абрамовна и заплакала.
— Толику, — сказала Лида и вложила в руки Любови Абрамовны тяжелый перстень.
— Да, детка… Правильно. Подружка ты моя… — сквозь слезы улыбнулась Любовь Абрамовна.
Она ласково погладила Лидочку по голове, поцеловала в макушку и положила перстень на тумбочку рядом с узким диванчиком, на котором когда-то спал ее внук Леша Самошников, а теперь мучилась бессонницами его бабушка…
— Стоп, Ангел!.. Подождите, — спохватился я, очнувшись от какого-то странного состояния полудремоты, полубодрствования. — Это вы мне все еще рассказываете? Или я все уже сам вижу?!
— Ну, в какой-то степени, наверное, чуточку и то и другое… — замялся Ангел. — Конечно, рассказываю вам это я, но вы, то ли в силу своей профессии, то ли это у вас врожденное, вы — человек с сильно обостренным восприятием. Поэтому вы невольно и как бы мысленно начинаете иллюстрировать мой рассказ своим воображением. И от этого вам иногда кажется, что вы не только слышите меня, но и видите то, о чем я вам рассказываю.
— Простите, что прервал вас, но последние минут двадцать я пребывал в некотором смятении… — извинился я.
— То, что вы прервали меня, это как раз неплохо. Не скрою, я уже давным-давно хочу в туалет, — ответил Ангел и спустил ноги на пол.
— Елочки точеные! Чтоб не сказать чего похуже, — удивился я. — Этим заявлением вы безжалостно искромсали мое любительское представление безбожника о житии святых, херувимов, серафимов, купидонов и ангелов!.. Так вам, оказывается, как и нам, грешным, по детсадовскому выражению, иногда «пи-пи» хочется?!
— Не только «пи-пи», но и «ка-ка» даже, — заявил Ангел, встал и сунул босые ноги в красивые кожаные шлепанцы. — Мало того, Владим Владимыч, у таких Ангелов-расстриг, как я, и расстройства желудка бывают! Особенно после какой-нибудь уличной харчевни…
— Совсем добили! — простонал я. — Валите, валите в темпе, а то не ровен час…
Ангел ухмыльнулся и вышел из купе.
Я отодвинул занавеску, попытался увидеть начало рассвета.
Не удалось. Наверное, для рассвета просто еще час не подоспел.
… А потом, когда Ангел вернулся в купе и забрался под одеяло, я, чтобы избежать того тревожного и двойственного состояния, когда ты не понимаешь, мерещится тебе все происходящее или ты слышишь рассказ об этом, — решительно попросил Ангела отправить меня в То Время…
И тут же я увидел злобно и отчаянно рыдающего Толика-Натанчика!..
Он лежал в недостроенной часовне на плоских бумажных мешках с сухим цементом, отгороженный от всего мира кучей просеянного песка для раствора и толстыми стенами будущего маленького молитвенного домика, пока еще без крыши, без икон и лампадки…
А вокруг, по периметру всего двора колонии, вытоптанного ежедневными построениями, шел высокий забор, затейливо украшенный серпантином колючей проволоки и гирляндами сильных фонарей. Но вышек с автоматчиками не было. Какие-никакие, а дети, мать их!..
Лежал Толик Самоха на цементных мешках, а рядом валялись обрывки газеты «Смена», которую он растерзал в припадке дикой, звериной и горестной ярости…
У входа в часовню покуривали двое мрачных «бойцов» из Толиковой хевры. Сейчас никто не смел приблизиться к этим недостроенным стенам часовни, где куполом пока еще было холодное синее небо…
— Кто же ему эту газетку дал сраную?! — орал в телефонную трубку Лидочкин отец подполковник Петров со своей «спецслужбовской» Лиговки. — Я же вчера звонил тебе, мудаку, просил же!.. Это же твое прямое дело! Ты же в этой колонии, в вашей кузнице преступных кадров, — зам по воспитательной! Политрук, извини за выражение, мать твою в душу… Просил же, как старого друга, — проследи, Витя! Не дай пацану вразнос пойти… Амнистия ж на носу для малолеток. Сбереги его, блядь! Просил же, Витя, — будь человеком!.. Там ведь вся его семья в осадок выпала от этой статейки е…..й! Они ж думают, что пацан еще ничего не знает про брата… Ну, все. Все, сказал! Кончай там блеять. Верю, верю… Давай, Витя, сделай. С меня пузырь. Ну, будь… Будь, говорю!..
Положил трубку, передохнул, сплюнул и сказал кому-то из сотрудников:
— И опером был говенным, и воспитатель из него, как из моего хера пулемет…
Но тут в кадре моего сознания вдруг возник бывший приблатненный пэтэушник Зайцев по немудрящей дворовой кличке Заяц.
Он заполнил собою весь экран обозримого мною пространства, и я сразу же вспомнил связанные с ним события, которые уже видел в ранее «отснятом материале»…
Странно, что я, давненько отошедший от кино, все еще продолжаю мыслить экраном, въевшимися в меня его законами, и в моих конструкциях того или иного эпизода при тщетных попытках выстроить их прозаическими средствами обнаруживаются торчащие уши монтажно-сценарных стыков. Неужто мне от этого уже никогда не избавиться?..
Но так удобнее. Увидел этого паршивца Зайца и сразу услышал, как в прошлом году на уроке труда в школе его обложила матом шестиклассница Лидочка Петрова — любимая девочка Толика Самошникова.
Вспомнил, как этот Заяц обозвал мать Толика «жидовкой»…
…за что Толик и всадил Зайцу отвертку в живот…
А потом решением районной Комиссии по делам несовершеннолетних был отправлен в воспитательную колонию усиленного режима на пять лет. Толик. А Заяц в больницу — на две недели…
Вижу я, как стоит заматеревший и хорошо одетый Заяц на углу проспекта Науки и улицы Бутлерова, на ступеньках кинотеатра «Современник», вместе со своим младшим братишкой — тихим и болезненным мальчиком, одноклассником Лидочки и Толика в То Время.
И слышу, как младший Зайцев говорит старшему:
— Дай пятерочку…
— Перетопчешься, — отвечает старший.
— Жалко, да? — ноет младший.
— Жалко у пчелки в жопке.
— Ну, трюндель дай… Чего скажу!
— Сначала скажи, а я посмотрю — давать ли еще.
— Нам сегодня после уроков училка «Комсомольскую правду» читала. Про Тольки Самошникова брата-артиста.
— Это который за границу дрыснул?
— Ну!
— И за что тебе треху давать? Подумаешь!.. Сейчас все бегут, — презрительно сказал старший Заяц.
— Накрылся артист тама. Взорвали его с подельником, — уточнил младший Зайцев. — А перед этим два мильона ихних денег сюда переправил.
— Ври больше, — насторожился старший.
— Век свободы не видать! — побожился младший. — Сам почитай. Позавчерашняя газета.
Видно было, как у старшего Зайца в голове со скрипом зашевелились мозги. От такой непривычной работы Заяц сощурился, загуляли желваки под нечистой кожей скул. Переспросил на всякий случай:
— В какой, ты сказал, газете?
Младший понял, что вожделенные три рубля уже плывут ему в руки, и с поспешной готовностью ответил:
— «Комсомолка» за позавчера. И во вчерашней «Смене» — слово в слово! Только я не помню, как называется…
Старший Заяц достал трешку, протянул младшему, сопроводив акт расплаты воспитательно-педагогическим напутствием:
— Будешь опять клей «Момент» нюхать — яйца оторву! Понял?
И стал спускаться со ступенек кинотеатра.
— А ты куда? — спросил младший, любовно расправляя смятую трехрублевку.
— На кудыкину гору, — остроумно ответил старший. — Отвали!
И мне стало очень неуютно от недоброго предчувствия…
Сергей Алексеевич Самошников уже второй день температурил и не выходил на промозглые, холодные ленинградские улицы, чтобы совсем не расхвораться в такое нелегкое время.
А в «детской», на Лешкином диванчике, лежала Любовь Абрамовна с прыгающим давлением. Каждое движение вызывало у нее сбой нормального сердечного ритма, и в этот момент ей казалось, что сердце ее делает какой-то акробатический кувырок, а потом на пару секунд само замирает от испуга и удивления… И это было очень страшно!
Но Любовь Абрамовна — бывший участковый доктор — знала, что все сердечные недомогания обычно вызывают повышенное чувство страха, и поэтому уговаривала себя не впадать в панику.
— Я вам корвалол накапал, мама, — говорил ей Серега.
— Сколько?
— Сорок капель.
— Можешь еще десять добавить, Сереженька.
И «Сереженька» добавлял в рюмочку еще десять капель.
— Ты принял аспирин, сынок? — спрашивала его Любовь Абрамовна.
Только что на кухне Серега принял полстакана водки с перцем и поэтому бодро отвечал:
— Аспирин?.. А как же?! Естественно, принял. Что это мы вместе расхворались, мама? Ну, прямо Кот Базилио и Лиса Алиса…
Фирочка вернулась с работы на полтора часа раньше обычного времени, увешанная продуктовыми сумками.
— Как мама? — спросила она с порога.
— Ничего, — ответил Серега. — Не хуже, слава те Господи…
— Что у тебя с температурой?
— Нормальная.
— Нормальная — это сколько?
— Тридцать семь и восемь. Но было же больше!
— Ты-то хоть не свались, Серенький…
— Иди к матери, а я тебе поесть приготовлю, — сказал Сергей Алексеевич.
— Не нужно. Я на работе перекусила. Я сейчас возьму машину и поеду в колонию к Толику-Натанчику. Мне звонил Лидочкин отец и сказал, что договорился с заместителем начальника колонии по воспитательной работе — нам в порядке исключения дают внеочередное свидание с Толиком. А ты оставайся дома и паси маму. И завязывай с водкой…
— Лечусь, Фирка… Лечусь, родненькая, — дрогнувшим голосом ответил ей Серега и отвел в сторону глаза, полные слез.
Фирочка поцеловала Серегу в небритую щеку, на мгновение прижалась к нему, резко выдохнула и пошла в «детскую» к матери.
… А еще через пятнадцать минут Фирочка уже выходила из подъезда к своему «Запорожцу» с сумкой, полной разных вкусностей для Толика-Натанчика.
Сопровождал ее пожилой сосед с третьего этажа, которого Фирочка встретила на выходе и пообещала подкинуть до станции метро «Академическая»…
Очень, очень внимательно следил за ней Заяц!
Он сидел на подоконнике лестничной площадки второго этажа противоположного дома и не спускал глаз с подъезда Самошниковых.
Дома здесь стояли плотно, метрах в сорока друг от друга, разделенные «садовой» полоской у одного фасада и таким же «приусадебным» участком — у другого, стоящего напротив.
А между этими чахлыми городскими признаками природы-матушки шла узкая, с выломанными уродливыми проплешинами бывшего асфальта, искореженная до безобразия проезжая часть, где и притулился самошниковский «Запорожец».
Одет был Заяц, как и положено слесарю-сантехнику в свободное от квартирных краж и уличных грабежей время — грязная телогрейка, черный рабочий комбинезон, сапоги с вывернутыми голенищами и кокетливый вязаный разноцветный «петушок» на голове. Такая модная в То Время шерстяная шапочка для горнолыжников.
Через плечо — сумка с инструментами.
Несколько серых деревьев с голыми ветками, стоявших перед наблюдательным пунктом Зайца, слегка перекрывали подъезд Самошниковых. Поэтому лиц, садящихся в «Запорожец», Заяц так толком и не разглядел. Увидел только мужчину и женщину. И уверовал в то, что в «запор» сели матка и пахан этого полужидка Тольки Самохи и того артиста гребаного, который, перед тем как его замочили, успел «слить» бундесмарки — эту «капусту» заморскую — в Ленинград, своим…
«Два мильона! Это же обосраться можно от таких денег!.. Правда, в газетке было написано — „через криминальные структуры…“ А счас, бля, никто ничего даром для тебя делать не станет. Так что, считай, пол-мильона, как минимум, на „отмазки“ и „отколки“ разные ушло… Но полтора-то остались?!» — рассуждал Заяц.
Заяц проследил за уезжающим «Запорожцем» и спрыгнул с подоконника. Он знал, что теперь в квартире Самошниковых одна старуха — бабка того дохлого артиста и Тольки — врага до смерти!
«Счас ты у меня до жопы расколешься, жидяра старая!..» — подумал Заяц.
Вынул на всякий случай из инструментальной сумки тяжелый слесарный молоток-ручник, переложил его рукояткой вверх за пазуху, под телогрейку, и тихо стал спускаться вниз по лестнице.
На кухне Серега заварил чай из сушеного шиповника для Любови Абрамовны, налил в ее любимую кружку, положил на блюдце чайную ложку и только было собрался отнести чай в «детскую», как у входной двери раздался звонок.
— Сейчас, мама, подождите! — крикнул Серега. — Фирка, наверное, что-то забыла!..
Осторожно взял блюдечко с кружкой в одну руку, а второй открыл дверь.
Никогда в жизни Сергей Алексеевич Самошников и в глаза не видел этого шестнадцатилетнего паренька-работягу.
Не знал Сергей Алексеевич — кто стоит сейчас перед ним…
Ну, уж и конечно, не ведал, что кличка этого юного сантехника — Заяц.
Вспомнил Сергей Алексеевич, как когда-то сам таким же молоденьким водопроводчиком ходил по квартирам, улыбнулся пареньку в разноцветном «петушке» и сказал:
— Здорово! — и вопросительно посмотрел на паренька.
Вот такой встречи Заяц уж никак не ожидал!!!
На мгновение он растерялся, перетрусил чуть ли не до обморока и машинально ответил дрожащим голосом:
— Здравствуйте…
Хотел было тут же наплести, что ошибся номером квартиры, но тут с блюдца, которое Сергей Алексеевич держал одной рукой, соскользнула чайная ложечка и упала прямо на резиновый коврик в узкой прихожей.
— Извини, парень. Заходи… — сказал Зайцу Сергей Алексеевич и наклонился за чайной ложкой.
Заяц сделал шаг вперед, прикрыл за собою дверь и…
…увидел Серегину нестриженую голову у своих колен…
Не понимая, что сейчас произойдет, Заяц выхватил тяжелый слесарный молоток из-за пазухи и изо всей силы ударил Сергея Алексеевича Самошникова молотком по затылку!..
Серега выронил блюдце и кружку с заваренным шиповником и безмолвно ткнулся лицом в резиновый коврик прихожей. Но кровь его брызнула так высоко, что буквально окатила лицо и телогрейку ничего не соображающего Зайца!
Наверное, Заяц убил Серегу первым ударом…
…но он уже не мог совладать с собой и в истерическом и бессознательном исступлении продолжал бить мертвого молотком по голове…
— Это Фирочка? — послышался слабый голос Любови Абрамовны из «детской». — Фирочка, Сережа, зайдите ко мне на секунду…
Голос Любови Абрамовны вывел Зайца из состояния истерики и даже подействовал на него отрезвляюще.
«Я тебе счас покажу „Фирочка“, жидовня пархатая!..» — промелькнуло в голове у Зайца.
Он хозяйственно засунул в сумку мокрый от крови молоток с прилипшими волосами Сергея Алексеевича Самошникова и закрыл входную дверь на ригельную задвижку.
Сбросил сумку с инструментами с плеча, оставил ее у двери в прихожей и пошел на крик Любови Абрамовны.
Когда он появился в дверях «детской» с брызгами Сережиной крови на лице, с окровавленными от рукоятки молотка руками, с бурыми кровавыми пятнами на телогрейке, Любовь Абрамовна онемела от ужаса.
— Деньги!.. — просипел Заяц.
Трясущейся рукой Любовь Абрамовна приоткрыла верхний ящик тумбочки, где лежали остатки ее жалкой пенсии, и попыталась привстать.
Но Заяц подскочил к ней, толкнул в грудь, бросил Любовь Абрамовну на подушки и липкой от крови рукой зажал ей рот:
— Только открой пасть, сучара еврейская!..
Заглянул в тумбочку, увидел там обыкновенные советские рубли, сгреб их, засунул в карман и хлестко ударил Любовь Абрамовну по лицу:
— Ты мне, падла, лапшу на уши не вешай! Где германские деньги?!
Ничего не понимающая Любовь Абрамовна попыталась что-то сказать, но Заяц снова сильно ударил ее по лицу:
— Быстрей, сука!.. Быстрей!!!
И тогда Любовь Абрамовна собралась с силами и вдруг громко позвала на помощь:
— Сережа!.. Сереженька…
Непокорность старухи перепугала Зайца и привела к приступу оголтелой злобы. Он выхватил из-под головы Любови Абрамовны подушку, одной рукой схватил ее за горло, а второй притиснул подушку к ее лицу. Да еще и навалился всем телом, для верности!
— Будешь говорить?! Блядюга старая! Где бундесовые деньги?!
Но тут по телу Любови Абрамовны пробежала короткая судорога, высунулись из-под одеяла и затряслись старые худенькие ноги и замерли… А из-под подушки раздался короткий приглушенный всхрип.
— Говори, морда жидовская!.. — крикнул Заяц и сдернул подушку с головы Любови Абрамовны.
Широко открытые, навсегда застывшие, красивые глаза Любови Абрамовны, почти не искаженные предсмертной мукой, смотрели в забрызганную кровью физиономию Зайца…
Заяц бросился к платяному шкафу. Он знал то, что обязан знать каждый «домушник», — деньги лохи всегда прячут в середине стопок чистого постельного белья с правой стороны. Почему с правой? Потому, что прячут в большинстве случаев правой рукой.
Зайца лихорадило… В шкафу ничего не было! Справа, между чистыми простынями и пододеяльниками, обнаружил было какой-то толстый пакет, но это оказались фронтовые письма покойного Натана Моисеевича. И письма любимой бабушке от Толика-Натанчика из колонии…
Заяц рванулся в другую комнату, к буфету… Перерыл все — и снова ничего не обнаружил! Лишь семьдесят пять рублей, отложенных на хозяйство, лежали на виду в ящике с ложками, ножами и вилками.
Только Заяц запихнул их в карман, как тут же услышал, как под окнами остановился какой-то автомобиль. Осторожно выглянул из-за занавески — не «Запорожец» ли? Неужто и бабу мочить придется?!
Но это была мусороуборочная машина. Заяц успокоился, пошел в ванную, пооткрывал там все шкафчики, ничего не нашел, но заодно и помылся. Вытерся махровым полотенцем, рукавом попытался затереть пятна крови на телогрейке…
Потом прошел в кухню, увидел на столе остатки водки, которую так и не успел допить Сергей Алексеевич, поминая старшего сына.
Нашарил в холодильнике кусок докторской колбасы, выпил оставшуюся водку прямо из горлышка, закусил колбаской, а потом вспомнил, что недавно видел в каком-то кино, как убийца протирает все, к чему прикасался. Чтобы не оставить отпечатков пальцев. И сделал так же.
Потом зачем-то вернулся в «детскую», накрыл с головой мертвую старуху одеялом — с понтом, вроде бы сама сдохла, — и вдруг увидел на тумбочке толстый некрасивый золотой перстень.
Как он его не заметил, когда возился со старой жидовкой?!
Тот самый перстень, который Ваня Лепехин когда-то подарил Другу Натану Лифшицу на шестидесятилетие. Перстень, предназначавшийся «на черный день» Лешке Самошникову — старшему внуку, не дожившему до получения этого «наследства». Отныне принадлежащий Толику-Натанчику, младшему внуку — последнему из поколения Лифшицев — Самошниковых…
Ах, как понравился Зайцу этот уродливый золотой перстень! Он еле удержался от того, чтобы сразу не надеть его себе на руку.
Бережно засунул Заяц этот перстень в нагрудный карман рубашки под свитером и телогрейкой, прошел в прихожую, переступил через мертвого Серегу Самошникова, поднял сумку с инструментами и, стараясь не вляпаться в черную лужу крови, выскользнул из квартиры на улицу, где грохотала мусороуборочная машина, опрокидывая в себя гниющее и вонючее содержимое мусорных баков…
— Все… Все! Все!!! — задыхаясь, прокричал я. — Не хочу… Не хочу больше ничего видеть!.. Не могу, Ангел! Я этого просто не выдержу…
— Успокойтесь, Владим Владимыч, успокойтесь, дорогой вы мой… — испуганно проговорил Ангел. — Пожалуйста… То, что вы видели, произошло больше десяти лет тому назад. Сейчас уже все хорошо…
— Выпить… — пробормотал я.
Я все еще видел неподвижные, широко открытые глаза мертвой Любови Абрамовны… Видел большую черную, кровавую лужу в маленьком коридорчике… А в этой луже — неузнаваемое кошмарное месиво вместо четко очерченного профиля когда-то красивого Сереги Самошникова…
— Ангел… Послушайте!.. Сотворите мне какую-нибудь выпивку. К черту тоник! Никакого льда… Просто стакан водки! Умоляю…
— Владим Владимыч… Ну, возьмите вы себя в руки. Ради всего, что вам дорого. Я все для вас сделаю… Вы только подумайте — вас будет встречать ваша внучка Катя. А от вас перегаром… Или, еще чего хуже, вы и протрезветь не успеете. Представляете себе?
— Ничего, ничего, Ангел!.. — быстро сказал я. — Катька поймет! Я ей потом все объясню, и она поймет… Она очень понятливая девочка!..
— Я и не сомневаюсь, — пожал плечами Ангел. — Если вы настаиваете…
— Настаиваю, настаиваю… Не хотите же вы, чтобы я сейчас отбросил копыта?! А это вполне может произойти.
— Ну, этого-то я вам не позволю, — жестко отрезал Ангел.
— Ах, вот как?! — закричал я. — Что же вы тогда-то ушами прохлопали, когда Заяц убивал Серегу и Любовь Абрамовну?
Я никому не пожелал бы такого взгляда, каким посмотрел на меня Ангел! Неприязненно — было бы самым мягким определением.
— Вы не забыли, что я тогда находился в Западной Германии и ждал документы для легализации? — наконец холодно спросил меня Ангел, отчетливо выговаривая каждое слово. — А, Владимир Владимирович?
— Простите… Я не хотел вас обидеть, Ангел. Но ОН-то куда смотрел?! Ему что — Лешки Самошникова было мало?!!
— Владим Владимыч, это все праведные заклинания, сотрясающие воздух, — не более. Сейчас вы вспомните одиннадцать тысяч убитых в Афганистане, Чечню, иракскую «Бурю в пустыне»; палестинцев, взрывающих себя в толпах израильтян; и пакистанцев с индусами, держащих пальцы на ядерных кнопках!.. А потом по привычке обматерите всех сильных мира сего российского, которые теперь взапуски бегают по церквям и соборам, крестятся и ставят свечечки, стараясь не смотреть в телевизионные камеры. Мы это все уже обсуждали в начале нашего путешествия…
Конечно, я не имел права разговаривать с Ангелом в таком тоне!
Именно с этим Ангелом… Который в тринадцать лет своего отрочества открыто возмутился ЕГО равнодушием и невниманием и отказался ЕМУ служить. За что был лишен крыльев и Ангельского чина!..
Для такого поступка в тринадцать лет необходимо гораздо больше мужества, чем для усталого, привычного брюзжания в семьдесят с гаком…
— Ну, будет вам, будет, Владим Владимыч, — примирительно сказал мне Ангел, беспардонно вторгаясь в мои покаянные сомнения.
Я откашлялся, нарочито грубовато спросил:
— Где водка?
— Обещайте, что будете закусывать…
— Обещаю, обещаю. Где водка?
— Перед вами.
Невесть откуда передо мной действительно возникла тарелочка с севрюжьими бутербродами, а рядом стоял полный стакан с характерным запахом высокосортного джина.
— А что, водки не было? — тупо спросил я.
— Почему же? Просто я подумал — а стоит ли смешивать?
— Тоже верно… — Я поднял стакан. — Еще раз, простите меня, Ангел, и… в память о хороших людях. Так и хочется сказать «Господи…», а теперь и язык не поворачивается…
— Ну, это вы напрасно, — улыбнулся мне Ангел. — Важно то, что вы лично вкладываете в это — «Господи…».
Я залпом выпил половину стакана, посидел зажмурившись, дождался «внутреннего оттаивания», открыл глаза и потянулся за сигаретой.
— Вы обещали поесть немножко, — мягко остановил меня Ангел.
— Да, да… Конечно'
Я с трудом откусил от бутерброда, с еще большим трудом разжевал и проглотил этот кусок и все-таки закурил сигарету.
Ангел слегка отодвинул занавеску, посмотрел в окно, тихо произнес:
— Скоро светать начнет…
В этой фразе я почему-то углядел некий второй, скрытый смысл. Взял стакан с остатками джина, слегка отхлебнул и попросил Ангела:
— Пожалуйста, расскажите мне все остальное… Вторгаться сейчас в То Время у меня просто нету сил.
— Я не буду пересказывать все, что происходило с момента возвращения Фирочки из колонии от Толика домой и до получения ею из крематория двух урн с прахом матери и мужа… Но некоторые подробности этого чудовищного периода вы должны знать, — сказал Ангел. — На этот раз криком, матом, лестью, взятками и молитвами Лидочкиного отца, подполковника милиции Петрова, заключенный… виноват, «воспитанник» колонии усиленного режима для несовершеннолетних Самошников Анатолий Сергеевич, статья сто восьмая, часть вторая, в сопровождении двух «воспитателей» был отпущен из колонии на похороны своего отца Самошникова С. А. и своей бабушки Лифшиц Л. А., убитых при невыясненных обстоятельствах… Это — раз.
Второе: Самошникова Эсфирь Анатольевна (по паспорту — Натановна), дочь убитой Лифшиц Л. А. и жена убитого Самошникова С. А., по просьбе своего сына Самошникова А. С. не стала захоранивать эти урны в предложенных ей местах, а отвезла урны к себе домой. После чего Самошников Анатолий Сергеевич был возвращен в колонию, а его мать — Самошникова Эсфирь… не то Натановна, не то Анатольевна — с тяжелым психическим расстройством была госпитализирована в клинику неврозов имени Павлова по адресу Васильевский остров, 15-я линия, дом номер четыре.
В течение полутора месяцев пребывания в этой клинике уход за больной осуществлялся, помимо штатных сотрудников клиники имени Павлова, исключительно членами семьи сотрудника милиции подполковника Петрова Николая Дмитриевича: его женой Петровой Натальей Кирилловной и их дочерью — бывшей знакомой осужденного Самошникова А. С., ученицей седьмого класса Петровой Лидией Николаевной…
— Простите, что перебиваю вас, Ангел, — сказал я, прихлебывая «ангельский» джин и постепенно приходя в себя. — Но у меня сразу же возникают два вопроса.
— Пожалуйста, Владим Владимыч.
— Объясните мне, почему вы, сами назвав этот период чудовищным, а я бы добавил — трагическим, рассказываете мне об этом каким-то гнусным протокольным языком, старательно сохраняя в своем рассказе немеркнущий стиль детального доноса? Затем второй вопрос…
— Секунду, Владим Владимыч! — прервал меня Ангел. — Сразу же отвечаю на первый: уж если на то пошло, то это стиль не доноса, а «донесения». Я вам почти дословно процитировал донесение сотрудника отдела Комитета государственной безопасности Калининского района города Ленинграда своему непосредственному начальнику. Какой нормальный, человеческий пересказ, исполненный горечи справедливых и трагических эмоций, может соперничать по точности и лапидарности с обычным служебным донесением оперативника, честно исполняющего порученное ему задание?!
— Значит, к этому двойному убийству подключился и КГБ?
— Нет, — ответил Ангел. — Комитет, как и эта сволочь Заяц, был введен в заблуждение лихой газетной строкой о возможном перемещении огромных по тем временам денег из Западной Германии на территорию Советского Союза!.. И естественно, вел в этом направлении собственную разработку. Пока не убедился в подлости автора заметки и идиотизме собственных предположений…
— Откуда вы про все это знаете? — напрямую спросил я.
— Работа у меня такая, — коротко ответил Ангел. — И второе: вас смутила фраза — «…убитых при невыясненных обстоятельствах». Так?
— Да…
— В тот момент, к несчастью, это было правдой… Замордованная диким количеством уголовных дел славной эпохи мелкого капитализма начала девяностых годов, милиция так и не смогла никого отыскать. Такой вот классический «висяк», как говорят симпатяги-сыщики из сериала «Улицы разбитых фонарей». Арестовали поначалу двух грузчиков и водителя той мусороуборочной машины, под шум которой Зайцу так легко удалось выскользнуть из квартиры Самошниковых. Продержали несколько суток, потрясли их, да и выпустили «за недоказанностью».
Я зло опрокинул остатки джина в глотку, запил неизвестно откуда появившимся горячим чаем, уже с лимоном и с сахаром, и сказал:
— А Заяц остался безнаказанным!..
Тут Ангел как-то очень нехорошо ухмыльнулся и возразил мне:
— Э, нет!.. Заяц был вычислен и казнен.
И в его голосе неожиданно прозвучали жестокие и мстительные нотки, так не соответствующие моим любительским представлениям об «ангельских» голосах.
— Слава Богу!.. — машинально воскликнул я.
— Вот уж КТО был тут совершенно ни при чем! — тут же проговорил Ангел. — Уж если кому и нужно поклониться в пояс, так это Лидочке… Лидочке Петровой.
Помолчал, словно раздумывал, говорить или не говорить, и добавил:
— И Толику-Натанчику…
— Как?! — поразился я.
Сексуально-половой опыт Зайца исчислялся полугодом и не блистал разнообразием.
Шесть месяцев тому назад соседка Зайцевых по лестничной площадке, владелица однокомнатной квартиры, сорокалетняя алкоголичка Тамарка, ничего не соображая, накинула драный халат на свое голое, дряблое и дурно пахнущее тело, вышла на лестницу, ухватилась за собственную дверь, чтобы не упасть, и увидела идущего к себе домой Зайца.
— Эй, пацан!.. — окликнула она его. — Выпить есть?..
— Нет, — ответил Заяц и в распахнувшемся халате узрел отвислые Тамаркины груди с коричневыми сосками и толстые желтые ляжки.
— Чего зыришь? — сказала Тамарка. — Волоки поддачу на похмела — отсосу в лучшем виде.
Так с бутылки портвейна «Алабашлы» для Зайца началось постижение Извечного.
Обычно после первого стакана Тамарка отключалась, и Заяц уже ползал по ней, как хотел. Иногда даже лупил ее, чтобы она очнулась и стала подавать хоть какие-нибудь признаки половой жизни.
Зато у стихийного базарчика около станции метро «Академическая», где вечерами собирались такие же, как и Заяц, пятнадцатилетние «отморозки», Заяц со своими бесстыдно-подробными «трахательными» рассказами был в большом и завистливом почете. Тем более что в этих легендах-сказках для онанистов каждый раз присутствовали самые разнообразные объекты Зайцевых упражнений — девочки «целки-невидимки», и опытные красотки-стюардессы, и богатые зрелые матроны, так охочие до юного Заячьего тела… И даже одна молодая жена генерала. Имен Заяц не называл — мужчина должен оставаться мужчиной. Только говорил, что шворил их как хотел — во все дырки!
На самом же деле все легендарные дамские персонажи из рассказов Зайца о половых утехах имели одно и то же опухшее от пьянства лицо сорокалетней несчастной Тамарки — грязной, неизлечимо больной алкоголизмом, вконец спившейся бабы.
Больше у Зайца никогда никого не было. В этом смысле.
Поэтому, когда Заяц, болтаясь вечерком у «Академической», неожиданно увидел Лидочку Петрову, он буквально прибалдел!
После того, что произошло в квартире Самошниковых, Заяц какое-то время отсиживался под Вырицей — у бабки. Проведал старуху, помог по хозяйству.
Первые пару недель на каждый стук вскакивал, руки тряслись, сердце из груди выпрыгивало…
Ночами во сне кричал, плакал, дергался, дышал тяжело.
— Ты чего? — удивлялась бабка.
— Живот разболелся, — отвечал ей Заяц.
А сам все пытался вспомнить — куда он тот молоток выбросил? То, что он его, с окровавленной ручкой и прилипшими седоватыми волосами, кажется, выкинул, — это он вроде бы помнил… А вот куда, когда — совсем из башки вылетело. Как отрезало. Бывает же…
На третью неделю затих, только еще во сне разговаривал. А днем все перстень тот золотой втихаря примерял.
А потом и вовсе вернулся в Ленинград. И снова зачастил к кинотеатру «Современник» и к станции метро «Академическая», где кучковались свои — «деловые».
Слова «крутой», «прикольный», «продвинутый» в то время еще не появились в журналистском словаре «великого и могучего». Они только-только входили в полублатные и частно-торговые круги.
Но после того, как Заяц раздробил голову взрослому мужику и задушил старуху еврейку (при вскрытии выяснилось — он ей еще и шейные позвонки сломал!..), он вполне законно мог называть себя «крутым». Но где? Кому об этом скажешь?! Тамарке? Так она по пьяни и не врубится, лярва старая… Да и не будет ее теперь долго.
Заяц, как вернулся от бабки из-под Вырицы, тут же захотел потрахаться. Взял в магазине пузырь портвешка «Три семерки», позвонил к Тамарке, а той и нету. Отправили, беднягу, на принудительное лечение.
Пошел к «Академической», с одним корешком приняли из горла этот портвешок, и тут Заяц увидел выходящую из метро Лиду.
Из-под зазывно коротенькой расклешенной юбочки выглядывали замечательно красивые Лидкины ноги. Вся ее стремительная, ладненькая, рано сформировавшаяся фигурка произвела на Зайца неизгладимое впечатление!
И пошел Заяц за Лидочкой по всему Гражданскому проспекту до улицы Фаворского, где жили Петровы.
Шел хмельной и распаленный — все воображал, как будет задирать ей юбчонку, трусики стаскивать, как вломится в нее, как…
А если «по-хорошему» не даст, так Заяц и «перо» к боку может приставить… Не посмотрит, что ее пахан в ментовке амбалит. Куда она, сучка, денется?! Это еще доказать надо, что не по «обоюдному согласию»… Заяц — крутой! Заяц подкованный — будьте-нате!
Но Лидочка уже заметила идущего за нею Зайца и крепко сжала в кармане милицейский баллончик с «Черемухой», которым ее снабдил отец за счет спецслужбы Главного управления внутренних дел Ленинграда и Ленинградской области.
Шел Заяц за Лидочкой Петровой и думал, что если так уж получилось, что, замочив Толькиного пахана и бабку, он вроде как бы начал мстить Самохе за тот удар отверткой в живот, то вот и эту телку Толикову нужно будет отхарить так, чтобы все пацаны об этом узнали, тогда Самоха закается за отвертку хвататься!.. А то пацаны вчера базарили, что вроде малолеткам амнистия корячится и этот хмырь болотный Самоха вполне может до срока выскочить. Говорят, его даже на похороны привозили под конвоем.
Вот когда Заяц вдруг почувствовал, что панически боится встречи с этим полужидком — Толькой Самохой! Его даже затошнило от страха, но…
… Но тут я прервал Ангела:
— У меня такое впечатление, Ангел, будто мне насильственно поменяли соседа по купе.
— То есть? — не понял Ангел.
— В рассказе об этом страшненьком и омерзительном Зайце я слышу другой голос, иную лексику… Целые фразы — будто выдернуты из отвратительного мира пятнадцатилетних Зайцевых, которым, наверное, и по сей день несть числа…
— Тут вы ошибаетесь, Владим Владимыч, — не согласился со мной Ангел. — Сегодня и лексика сменилась, и детки стали другими — с приглушенными эмоциями, расчетливее, прагматичнее. Может быть, от этого — еще страшнее. А то, что в моем рассказе вам послышался чужой голос и иной язык, так это вы в очень небольшой степени услышали самого Зайца, ощутили ход его мыслей… Как говорится, «для полноты постижения внутреннего мира героя». Еще раз повторяю: в очень небольшой степени! Не вошли в его Заячий мир, а всего лишь прикоснулись к самому его краешку…
— Ага… Понятно, — сказал я, прихлебывая остывший чай. — Но этого прикосновения мне оказалось вполне достаточно.
— Я так и думал, — кивнул мне Ангел. — На чем мы остановились?
— Вы сказали, что Зайца даже затошнило от страха, но… И тут влез я.
— Ясно! Будете дальше слушать или передохнёте?
— Я весь внимание.
… Однако впереди Зайца шли такие прелестные ножки, что Заяц подавил в себе мучительное состояние испуга от возможной встречи с Толиком Самошниковым и решительно окликнул Лидочку:
— Эй, Петрова!
Лидочка словно ждала этого окрика. Остановилась, повернулась к Зайцу, сказала насмешливо:
— Вот и ладушки!.. А то я все думаю — чего это Заяц от самого метро за мной плетется? Может, чего сказать хочет?
Заяц подошел к ней. В холодном воздухе почувствовал тонкий аромат взрослых, женских духов, которые ко дню рождения Лидочке подарила Эсфирь Анатольевна.
Потянул Заяц носом, блаженно прикрыл глаза и, не скрывая своего восхищения, сказал фразу, исполненную глубочайшего и многогранного смысла:
— Ну, ты даешь, Петрова!
На что Лидочка приветливо улыбнулась Зайцу и тут же ответила:
— Но не всем.
Начиная с пятого класса у девчонок это была «школьно-домашняя» заготовочка, но действовала она на мальчишек безотказно!
Заяц заржал, придал голосу искусственную хрипотцу, эту обязательную блатнячковую детальку, и спросил с ухмылочкой:
— Ну а мне?
Лидочка подавила приступ отвращения, зачем-то еще приветливее включилась в игру. Не понимала — зачем, но откуда-то знала: «Сейчас так нужно!..»
Заяц шикарным жестом достал из кармана пачку «ВТ» и зажигалку:
— Аида за киоск, покурим.
— Бросила, — сказала Лидочка.
— Давно? — весело спросил Заяц.
— Четырнадцатый год уж пошел.
Заяц осмыслил шуточку, рассмеялся шагов через десять:
— Ну, давай, я покурю в затишке. Побазарим…
— Некогда, Заяц, некогда, домой пора.
— Чего ты все Заяц и Заяц?.. Я же — Митя.
— Ну, Митя, — согласилась Лидочка. — Какая разница, Заяц?
— Я провожу?
— Проводи, черт с тобой.
Заяц почти уверовал в успех своего будущего полового предприятия и подумал: «Недельку сам ее буду дрючить, а потом соберу пацанов, и на „хор“ пустим. То-то Самоха обрадуется, когда узнает, как его сучку в очередь драли!..»
Дошли до Лидочкиного дома, остановились у подъезда. На лестницу Лидочка Зайца не пустила.
— Отец выйдет — никому мало не будет, — сказала Лидочка, точно зная, что отец сегодня до утра не вернется домой.
— А ты откуда так поздно? — спросил Заяц.
— С Васильевского. Из больницы, — устало проговорила Лидочка. — Ты разве ничего не знаешь про Самошниковых? Брат не говорил?
— Чего-то слышал… — У Зайца даже спина похолодела. — Но меня в это время в городе не было. Я ничего не знаю…
«ОН УБИЛ!!!» — вдруг промелькнуло в голове у Лидочки.
Заяц раздергался, снова достал сигареты. Нервно прикурил от зажигалки, и вот тут, при свете грязной, слабенькой лампочки, висящей под козырьком подъезда, Лидочка увидела на правой руке Зайца, на среднем пальце, хорошо знакомый ей толстый некрасивый золотой перстень!..
Тот самый перстень, который месяц тому назад еще живая, не убитая Любовь Абрамовна показывала Лидочке и рассказывала о нем грустную семейную историю. Историю именно этого толстого золотого не очень красивого кольца…
Внутри у Лидочки все затряслось, задребезжало, истошный крик буквально рвался у нее из груди, но она с величайшей мукой сдержала себя, потрясенно покачала головой и мягко взяла правую руку Зайца в свои теплые ладони.
Подняла руку Зайца с кольцом к несильному свету лампочки, освещавшей подъезд, сказала медленно, распевно:
— Ну ты и крутой, Заяц… Ах ты ж Заяц, Заяц… Ну, крутизна!.. Так ты, говоришь, — Митя?.. Да?
— Ага, — подтвердил Заяц.
И все разглядывала и разглядывала Лидочка этот перстень на среднем пальце Заячьей правой руки… И все пыталась представить себе — как этот Заяц убивал Сергея Алексеевича и Любовь Абрамовну.
— Нравится? — тщеславно спросил Заяц.
Лидочка перевела дух, с трудом выговорила:
— О… О… очень!..
Близость Лидочки и запах ее взрослых духов сводили Зайца с ума! Такого с ним еще никогда не было… Интересно, Самоха уже сломал ей целку или он, Заяц, будет у нее первым?..
Он воровато оглянулся вокруг, никого не увидел и притиснул Лидочку к стенке. Задышал ей в лицо табаком и портвейном:
— Будешь со мной — все твое будет!..
— Буду, — словно эхо, шепотом откликнулась Лидочка. — А где?
— Не боись, завтра придумаем…
Он уже чувствовал тугие Лидочкины бедра, через куртку мял ее грудь левой рукой, а правой хотел было залезть ей под юбку, но Лидочка так и не выпустила из своих рук его пальцев, средний из которых был так великолепно украшен толстым золотым перстнем!
— Ах какой ты крутой, Заяц… — шептала Лидочка. — Ты не думай — где… Приходи завтра на Гжатскую, в десять вечера… В гаражи. Я тебя там буду ждать… Папа все равно нашу тачку продал, и гараж пустой. Хорошо?
— Нет вопросов!.. — прохрипел Заяц.
— Только приходи вот так же, как сейчас… — прошептала Лидочка Зайцу и осторожно высвободилась из его объятий.
— Это как? — не понял Заяц.
А Лидочка все никак не могла выпустить правую руку Зайца!
— Ну, вот как сейчас — с этим колечком… Оно тебе так идет! Ты с ним такой крутой… Мужчина. Только никому… Слышишь? Никому! А то все испортишь…
— Об чем базар, Петрова?! Сукой буду… Век свободы не видать, в натуре!..
— Слушай, как тебя… Митя! По тебе, наверное, все девчонки с Гражданки сохнут? — Лидочка даже улыбнулась кокетливо и наконец выпустила руку Зайца.
— Есть маленько! — польщенно соврал Заяц.
— Так вот, Митя-Заяц. — Лидочка набрала код замка своего подъезда. — Попрощайся с ними. Теперь я к тебе больше никого не подпущу…
— А мне, кроме тебя, никто и не нужен! — искренне воскликнул Заяц.
— Ну, вот и ладушки, — почти спокойно сказала Лидочка. — Завтра в десять, на Гжатской. Гараж номер шестьдесят четыре. Не опаздывай. И чтобы — никому!.. Понял?
— Поддачу взять? — деловито спросил Заяц.
— А как же?! — сказала Лидочка. — Не на сухую же… Привет!
И вошла в свой подъезд, оставив на улице ликующего и распаленного Зайца.
— Дай червончик, мамуль. Мне нужно за школьные завтраки в столовку заплатить за две недели вперед, — утром, перед уходом в школу, попросила Лидочка.
— Тихо ты, чучело! Отец только недавно заснул после дежурства, — цыкнула на Лидочку Наталья Кирилловна и выдала Лидочке десять рублей.
Лидочка чмокнула мать в щеку и выскочила из дому.
Но ни о какой школе сегодня не могло быть и речи!
Через десять минут Лидочка уже по-хозяйски открывала пустую, осиротевшую самошниковскую квартиру ключами, которые ей оставила Эсфирь Анатольевна.
В большой комнате Лидочка вывалила на стол из своей спортивной сумки все учебники и тетрадки, карандаши, ручки и аккуратный мешочек со «сменной обувью».
Прошла в бывшую «детскую» и распахнула створки платяного шкафа с «вольной» одеждой Толика-Натанчика…
… А еще спустя три часа, примерно в то время, когда у Лидочки Петровой в школе на Бутлерова должен был начаться четвертый урок…
…в шестидесяти километрах от славного города трех революций Ленинграда, в воспитательной колонии усиленного режима для несовершеннолетних преступников «воспитаннику» Самошникову кто-то тихо шепнул на ухо:
— Вали к «амбразуре». Там твоя приехала…
«Амбразурой» назывался тщательно закамуфлированный лаз под бетонным забором, опоясывающим всю территорию колонии. Скрывался лаз прямо за строящейся часовней.
Толик был бригадиром на этой «стройке века», пользовался высоким расположением и покровительством священника местного прихода — идейного вдохновителя возникновения часовни на этом островке «детских заблудших душ»…
А посему появление там Толика Самохи даже во внеурочное время ни у кого не могло вызвать больших подозрений.
В недостроенной часовне Лидочка рассказала Толику все…
Толик стоял перед ней в своей казенной серо-зеленой робе с белым тряпочным номерком отряда, пришитым над левым нагрудным карманом «клифта». Молчал тяжело, смотрел в землю, себе под ноги.
Лидочка прохянула ему сумку: .
— Переоденешься, когда поедешь, а то в этом — загребут.
Толик молча взял сумку с вещами.
— Вот тебе семь рублей. На автобус и электричку. В оба конца.
Так же молча Толик сунул деньги в карман.
— Ключ будет под резиновым ковриком у входа. Там навесного замка нет — ригель. Откроешь, положишь ключ обратно под коврик. Войдешь и запрешься изнутри. Заяц придет, я сама снаружи гараж открою. Но ты будешь там за час, понял? Мало ли что?.. Одной мне, наверное, с ним не справиться… — виновато сказала Лидочка.
— Совсем спятила? Это МОЕ дело, — впервые произнес Толик.
— Наше, — твердо поправила его Лидочка. Подумала и добавила:
— А может быть, лучше папе сказать? Они его возьмут и запросто расколют. Он очень психует…
— Сама же сказала — это НАШЕ дело, — ответил ей Толик. — Иди. Я жду вас в гараже. Деньги есть на билет?
— Есть, есть, не волнуйся. Шестьдесят четвертый. Запомнил?
— Да. Но в шестьдесят четвертом ведь…
— Вот именно поэтому! — прервала его Лидочка.
Она очень привычно, как мужняя жена, поцеловала Толика и через лаз выскользнула с территории колонии «усиленного режима».
Не оставалось у Лидочки ни одной копейки ни на автобус, ни на электричку. Она добралась до шоссе и стала, весело улыбаясь, махать рукой проходящим легковым машинам.
Тут же притормозила черная «Волга» с областными номерами. Молоденький паренек открыл пассажирскую дверцу, крикнул:
— В Ленинград?
Лидочка весело кивнула ему головой. Ах, как понравилась шоферу эта девочка…
— Залезай!
Лидочка моментально запрыгнула на переднее сиденье, скромно одернула юбочку и спросила:
— Это ваша собственная?
Парень рассмеялся, не стал врать:
— Была бы моя собственная, стал бы я калымить?!
— А вы за деньги возите? — Лидочка сделала удивленные глаза.
— А ты как думаешь?
— Тогда остановите, пожалуйста, — «огорченно» попросила Лидочка. — У меня нет денег расплатиться с вами.
Трюк был двухступенчатым, проверенным и безотказным.
— Платы бывают разные, — проворковал шофер и положил руку на Лидочкино колено.
Вот и подоспело время для второй ступени!
Лидочка ласково и осторожно убрала руку шофера со своего колена и сказала так, будто это только что пришло ей в голову:
— Ой, я знаю, что мы с вами сделаем!.. Вы довезете меня до Литовского проспекта угол Обводного — там Управление «спецслужбы» милиции ГУВД, а мой папа заместитель начальника этого Управления. Я возьму у него деньги и заплачу вам. Хорошо?
— О, чтоб тебя… — вздохнул шофер и легкомысленное настроение сразу же его покинуло. — Какие деньги?.. О чем вы? Шутка.
— Да? — радостно переспросила Лидочка. — Ой, спасибо! Вы такой милый… Можно я музычку включу?
Лидочка просто светилась благодарностью!
— Ну, прохиндейка! — поразился парень. — Включай, куда денешься…
В трех рядах одноэтажных кооперативных гаражей на Гжатской улице, граничащих со знаменитым и ужасно секретным научно-исследовательским институтом, гараж номер шестьдесят четыре не принадлежал никому.
Там была автомастерская для членов кооператива. Со всем, что положено и необходимо — «смотровая яма» со ступеньками вниз и освещением, верстаки с тисками, баллоны с газом и кислородом для сварки металла, а под потолком, на вмазанной в стены двутавровой балке, электрический тельфер с блоками и крюком для поднятия тяжестей…
Еще в позапрошлом году майор Петров (тогда Николай Дмитриевич был еще майором…) попросил у председателя кооператива ключ от шестьдесят четвертого ремонтного бокса — заменить диск сцепления на своем очень стареньком «жигуленке» первой модели.
В этом поистине советском «гаражном празднике жизни», позволяющем хоть на время забыть обо всем на свете, включая постоянную нехватку денег, дураков-начальников, мелкокалиберные семейные неурядицы и пустынную ясность магазинных полок, участвовали друг-приятель и соученик дочери майора Петрова, одиннадцатилетний Толик Самошников, и его отец — высокий, спокойный и застенчивый Сергей Алексеевич.
По окончании ремонта дети получили на кино и мороженое, а отцы вскрыли баночку «частика в томате», нарезали хлебца, по-братски разделили одну луковицу пополам и, как говорится, разлили по стаканам…
Оба помнили, как в полночь закрывали гараж-мастерскую на все замки, как шли по домам, тихонько неся по пням и кочкам всю, мать ее, Власть Советов, а вот куда потом делся ключ от шестьдесят четвертого бокса, никто из них дня три и вспомнить не мог!
Тогда майор Петров позвонил председателю кооператива и повинился:
— Олег Васильич! Петров Николай Дмитриевич беспокоит. Тут такая накладочка получилась, понимаешь… Ключ я от ремонтного бокса посеял. Но ты, Олег Васильич, не волнуйся. Будешь менять замок — я все оплачу, что потребуется.
— А ни хрена не потребуется, Николай Дмитриевич, — успокоил майора председатель. — Я ж тоже — не с крыши упавший! Я когда этот замок делал у себя на заводе, я ж к нему трое ключей заготовил. Так что ты, Николай Дмитриевич, не убивайся. Хрен с ним, с тем ключом…
Спустя полгода ключ нашелся. Он был обнаружен в старой курточке Николая Дмитриевича, которую он надевал только во время возни с автомобилем. Но к тому времени Петров уже счастливо продал свою развалюху и безуспешно копил деньги на новый, хоть, какой-нибудь автомобильчик.
Он тут же позвонил председателю гаражного кооператива и радостно сообщил, что ключ от ремонтного бокса все же отыскался!
— Нехай у тебя будет, — сказал Олег Васильевич. — Купишь новье, захочешь повозиться, а ключ у тебя уже есть…
… Лидочка вернулась домой, когда родители были еще на работе. Она тут же разыскала этот ключ в отцовском столе, а заодно прихватила оттуда настоящие наручники с ключиком. Наручники сунула в карман куртки, а крохотный ключик — себе в лифчик. Лидочка уже полгода, как гордо носила лифчики…
Отложила кусок батона и, жуя на ходу, помчалась на Гжатскую.
Счастье, что гаражи были неохраняемы и в это время дня там не было ни одной живой души! Никто не видел, как Лидочка положила ключи под почти истлевший резиновый коврик у шестьдесят четвертого бокса.
Чтобы ни на кого не наткнуться на обратном пути, Лидочка перелезла через институтский забор, нахально прошлась по всей совершенно секретной территории института и благополучно оказалась на Гражданском проспекте.
До условленного «свидания» с Зайцем оставалось четыре часа.
Для стопроцентного успеха затеянного предприятия по обоюдосогласному совокуплению с Лидочкой Петровой — «лицом, не достигшим половой зрелости», статья 119 УПК РСФСР 1964 года: лишение свободы до трех лет, а сопряженное с удовлетворением половой страсти в извращенных формах (на что Заяц рассчитывал особо!) до шести лет, тьфу-тьфу, чтобы не накликать!.. — Заяц не поскупился на тридцатиградусный желто-зеленый ликер «Бенедиктин» и пятидесятиграммовую плитку шоколада «Аленушка».
А там, как положено, — телке полстакана в глотку и… понеслась по проселочной!..
Вооруженный столь сильнодействующими средствами «любви», Заяц прибыл к гаражу номер шестьдесят четыре ровно без пяти минут десять вечера.
Был приодет в «фирмовое» шмотье с последнего «скока» в хату одного фраера из филармонии. Так повезло — размер в размер! Что-то толкнул, чего-то себе оставил… Ну, и перстенек — «рыжье» старухино — на среднем пальце. Перед выходом из дому глянул на себя в зеркало. Права эта сучоночка ментовская — круто выглядывает Заяц! Очень круто.
От мыслей о том, что он будет с этой Петровой через полчаса делать, весь низ живота заломило, мошонка затвердела, как каменная.
— Вот и Зайчик явился… — неожиданно услышал он сзади.
Заяц резко повернулся. Лидочка стояла перед ним, улыбалась приветливо, а сама очень внимательно оглядывала Зайца.
— Ты чего? — насторожился Заяц.
И ведь точно уловил Лидочкино напряжение и нервозность!
Но она уже сумела взять себя в руки, увидела на пальце Зайца толстый золотой перстень, еще раз осмотрела Зайца с головы до ног и, как вчера вечером, сказала протяжно:
— Ах какой ты крутой, Заяц… Ну, просто отпад.
Заяц подумал: «Прибалдела телка!..» И сказал севшим от желания голосом:
— Красиво жить не запретишь!
— И сказал-то как здорово, — удивилась Лидочка. Она нагнулась, отбросила старенький резиновый коврик у входа в гараж, увидела, что ключ лежит не на том месте, куда она положила его четыре часа тому назад. Значит, Толик-Натанчик уже там, внутри…
— Чего же это вы так лохово ключи оставляете? — хозяйственно спросил Заяц. — А если кто чужой надыбает?
— У нас брать нечего, — беспечно сказала Лидочка. — Машину мы продали…
Руки у нее предательски тряслись, она никак не могла вставить большой плоский и длинный ключ в прямоугольное отверстие металлической двери гаража.
— Дай-ка сюда, тетеря! — грубовато, по-мужски сказал Заяц.
Забрал ключ у Лидочки, ловко воткнул в отверстие, утопил его до самого конца и распахнул двери в темный гараж. Вытащил ключ, отдал Лидочке и спросил:
— Где у вас свет зажигается?
— Подожди, — прошептала Лидочка. — Двери только закрою…
Она прикрыла тяжелую железную дверь, обшитую изнутри толстыми досками, закрыла ее на ригельный засов и для верности завинтила внутренний стопор замка.
Потом осторожно, чтобы не звякнуть, вынула из кармана милицейские наручники, прижалась сзади к спине Зайца и провела свободной рукой по вздыбившейся ширинке Зайцевых брюк.
— И все-то ты можешь, Зайчик… — прошептала она ему сзади на ухо.
Ошалевший от желания Заяц боялся пошевелиться. В невиданном блаженстве он даже зажмурился в темноте. Только протянул руки назад, цепко ухватил Лидочку за бедра и еще крепче притиснул ее к себе.
Но Лидочка слегка высвободилась из рук Зайца, заведенных назад, и аккуратно защелкнула наручники на его запястьях.
— Эй!.. — в диком испуге рванулся Заяц. — Ты чего?! Ты что, блядюга?!! Зарежу суку!!! Шуточки, в рот вас всех!..
Но тут в гараже зажегся свет и Заяц увидел Толика-Натанчика с газовой горелкой в руках. Толик стоял спиной к двери, перекрывая собою замок. Он спокойно чиркнул спичкой и зажег сварочную горелку. Отрегулировал подачу газа и кислорода и установил на конце горелки короткое синее пламя, способное пополам разрезать автомобиль.
— А-а-а-а!.. Падлы поганые!.. — в ужасе закричал Заяц и бросился к выходу.
Но Толик ногой отбросил Зайца от дверей в глубину гаража, подошел к нему, поднес к носу Зайца горелку, подвывающую жутковатым голубым пламенем, и негромко сказал:
— Не ори, сявка. Закрой пасть. Дернешься, весь фейс сожгу. Лидуня, подставь под него табуретку.
Лидочка усадила Зайца на табурет, обрывком электрического провода примотала его ноги к нижним перекладинам и посмотрела на Толика. Увидела его в домашней «вольной» одежде и уж совсем не во время подумала: «Боже мой, как он из всего вырос!.. Ему же все коротко — и рукава, и брюки…»
Толик передал грозно шипящую горелку Лидочке:
— Подержи-ка. Осторожнее — не обожги себя. Будет дергаться — сразу по глазам ему!
— Ребята… В натуре!.. За что?! — рыдал от страха Заяц.
Толик пошуровал у него за пазухой, вытащил бутылку с ликером. Откупорил ее и сунул горлышко бутылки в рот Зайцу:
— Пей.
Заяц стал судорожно глотать густую зеленоватую жидкость. По гаражу разливался аромат карамели. Попытался было Заяц отдернуть голову, полился ликер по подбородку за воротник курточки того фраера из филармонии.
— Пей! — негромко приказал Толик-Натанчик. Заяц захлебнулся, закашлялся:
— Дай передохнуть, Самоха… Не могу… Помоги-те-е-е-е!.. Я больше никогда не буду…
— А больше и некого, — тихо сказал ему Толик. — Все уже мертвые.
— Я не убива-а-ал!!! Я не… Вы чё?! Я не убивал никого!.. Это не я… — хрипло и тоненько завизжал Заяц.
— Пей. — Толик снова воткнул в рот Зайца горлышко бутылки.
Заяц забулькал, его вырвало, но Толик был неумолим. Он заставил Зайца допить бутылку всю до конца и аккуратно поставил ее на верстак.
— Колечко не жмет? — спросил он у Зайца.
Тот сидел прикрученный к табуретке, со скованными сзади руками, глаза вылезали из орбит, подбородок и куртка были залиты рвотными массами и липким ликером.
— Я спрашиваю, колечко моего деда, Натана Моисеевича Лифшица, тебе не жмет? — почти неслышно снова спросил Толик. — В самый раз?
— Снять? — деловито спросила Лидочка.
— Сними. Он же тебе вчера обещал все сам отдать. Да, Заяц?
Лидочка зашла за спину Зайца, легко стянула большое нелепое золотое кольцо с его тощего пальца, отдала Толику. И сказала Зайцу:
— А теперь расскажи нам, как ты убивал Сергея Алексеевича и Любовь Абрамовну.
— Я не убивал… Так получилось… Я не хотел!.. Отпустите меня!.. — пролепетал Заяц.
— Сейчас отпустим, — пообещал ему Толик. — Дай горелку, Лидочка. Чего зря кислород тратить. Он у нас теперь послушный будет. Да, Заяц?
Заяц молчал. Он был в полуобморочном состоянии от ужаса и просто не мог ответить.
— Да, Заяц? — уже громче повторил Толик и перекрыл подачу газа и кислорода в горелку. В гараже воцарилась тишина.
Заяц согласно закивал головой.
— Поверни голову, Заяц. Посмотри на тельфер. Знаешь, что такое «тельфер»? — тихо говорил Толик, но в его голосе время от времени проскальзывали нервные, звенящие нотки.
Заяц послушно обернулся и увидел, что на крюке подъемного тельфера закреплен белый капроновый буксировочный автомобильный трос, с большой, мягкой, скользящей петлей на конце.
— Это чё?.. Чё это?! Вы чё?.. — быстро забормотал Заяц и неожиданно тоненько прокричал: — Я же привязанный!..
— Ничего, — сказал ему Толик-Натанчик. — Мы тебя потом развяжем.
Он взял колодку включения тельфера на длинном кабеле. На колодке были две кнопки — черная и красная. Толик нажал на черную кнопку: тельфер включился, загудел и стал медленно опускать крюк с закрепленным на нем капроновым тросом с петлей.
Когда петля опустилась совсем низко, Толик отпустил черную кнопку. Гудение электрического мотора под потолком гаража прекратилось, и стало слышно тихое, почти бессознательное оханье Зайца.
Толик поднял капроновую петлю, накинул ее на шею Зайцу и снова взял в руки колодку включения с двумя кнопками — черной и красной.
И в полный голос Толик-Натанчик Самошников приказал Зайцу:
— Посмотри на меня, тварь! Подними голову! Смотри на меня!!!
Заяц очнулся, поднял бессмысленные глаза на Толика.
— Ты мою мать «жидовкой» обозвал, помнишь? А потом из-за тебя умер мой дед. Ты задушил мою бабушку и убил моего отца. И мы тебя приговорили, Заяц.
Толик легонько нажал на красную кнопку. Снова загудел электрический тельфер и подтянул провисающий капроновый трос с петлей на шее у Зайца.
Когда трос натянулся и Зайца стало опрокидывать вместе с табуретом, Толик отпустил красную кнопку.
Лидочку трясло, как в лихорадке! Она тяжело дышала, руки были сжаты в кулаки так, что костяшки пальцев стали иссиня-белыми…
— Ты все понял, Заяц? — Голос Толика вибрировал от напряжения и срывался на крик. — Все?!!
Но Заяц уже не мог ответить. Только просипел жалкую фразу из детства:
— Я больше не буду…
— Это точно, — почти спокойно произнес Толик-Натанчик и нажал на красную кнопку.
Последний предсмертный хрип Зайца слился с гудением электрического мотора гаражного тельфера.
Когда тело перестало содрогаться и повисло неподвижно, искореженное судорогой смерти, Лидочка достала из лифчика маленький ключ от наручников и Толик снял их с рук мертвого Зайца.
Ноги Зайца все еще оставались привязанными к нижним перекладинам табуретки. Освобожденная от веса Зайцева тела, табуретка опрокинуто болталась вверх тормашками и скреблась о дощатый пол ремонтного бокса.
Толик размотал электрический провод, которым Лидочка привязывала ноги Зайца к табуретке, свернул его и бросил на верстак. А табуретку аккуратно поставил на прежнее место.
И тут увидел, что Лидочка едва стоит на ногах и не может отвести глаз от тихо покачивающегося тела. Толик взял ее за руку, усадил на ту же табуретку, сказал:
— Не смотри. Скоро пойдем. Отвернись…
Он пошарил под верстаком, где стояли несколько канистр.
Брал одну за другой, взбалтывал, слушал — есть ли там горючее. В третьей канистре услышал всплеск. Вытащил ее, открыл, намочил тряпку бензином и протер колодку тельфера. А потом все, к чему прикасались и он, и Лидочка…
Остатками бензина полил почти весь пол. Помыл и бутылку от «Бенедиктина». Вытер насухо, всунул внутрь бутылки отвертку и, не прикасаясь к ней, несколько раз плотно прижал ее к мертвым ладоням и пальцам Зайца. Да так, отверткой, всунутой в горлышко, и поставил бутылку на пол. Вытер ручку отвертки, этой же тряпкой взял тельферную колодку с кнопками, отпечатал на ней следы рук Зайца и повесил кабель с колодкой на его мертвое плечо…
Лидочка следила за всем этим и ощущала, что в замедленно-расчетливых действиях и движениях Толика-Натанчика нету сейчас никакого мужественного спокойствия! Наоборот, у нее на глазах с Толиком сейчас происходила страшная внутренняя истерика, поставленная с ног на голову!!!
У кого-то от сознания содеянного и непоправимого такое проявляется в слезах, криках, рыданиях… А у кого-то — вот так, как сейчас у Толика-Натанчика. И от этого не менее жутко! Может быть, это и есть самое чудовищное состояние паники? Но если она сейчас не взрывается изнутри, не выплескивается наружу, то, вероятно, в этот момент присутствует еще более могучее ощущение — сознание Исполненной Справедливости! Как бы это ни выглядело со стороны…
— Я не уверен, Владимир Владимирович, что в тот момент Лидочка рассуждала именно так — логически выстраивая сиюсекундную линию психологического поведения Толика Самошникова. Но то, что она чувствовала это подсознательно, за это я вам ручаюсь! В конце концов, спустя несколько лет она сама говорила мне об этом… — сказал мне Ангел.
— Дальше… — еле выдохнул я.
…Свет в гараже потушили, дверь оставили незапертой и ушли напрямик, через забор научно-исследовательского института.
В квартиру Самошниковых явились к одиннадцати.
— Пойду руки помою, — смущенно сказал Толик и заперся в ванной.
Через тонкую дверь Лидочка слышала, как его рвало. Выворачивало наизнанку…
Позже слышала, как Толик глухо и надрывно рыдал, наверное, зарывшись лицом в старый махровый халат своей бабушки — Любови Абрамовны. Уж как Толик не хотел, чтобы Лидочка слышала его рыдания!.. А они все рвались и рвались у него из груди…
Потом затих. Пустил душ… Наверное, стал раздеваться.
А Лидочка Петрова стояла, смотрела на две некрасивые крематорские урны с прахом Сергея Алексеевича и Любови Абрамовны и думала о том, что вполне может не получиться похоронить эти урны в деревне Виша, в доме, который подарил Толику Самошникову старый друг их семьи — дядя Ваня Лепехин. А Толик так хотел этого… Потому и упросил мать оставить урны пока в доме. Он, дескать, освободится, переедут они в деревню, а там в саду и похоронят. Чтобы всегда были рядом.
А вот если теперь все откроется и они оба попадут в тюрьму?..
Но в эту секунду из-за двери ванной раздался голос Толика:
— Лидуня! Принеси чистое полотенце. И трусики. Они лежат…
— Знаю я, где они лежат! — крикнула ему Лидочка.
… Из ванной Толик вышел в одних трусах и в бабушкиных шлепанцах. Прилизанный, розовый, с запухшими веками. Одежду нес в руках.
— Так душно в ванной, не продохнуть, — сказал Толик, отводя глаза в сторону. — Пойду к бабуле, там оденусь…
— Подожди! — вдруг решительно и нервно сказала Лидочка. — Подожди ты одеваться!..
Она подошла к нему вплотную, обняла, прижала к себе его сильное, тренированное, мальчишеское тело и, целуя его в шею, глаза, нос, плечи, зашептала срывающимся голосом:
— Толик… Миленький мой! Любимый!.. Давай поженимся!.. По-настоящему… Ну пожалуйста, давай поженимся! Я умру без тебя…
— Ты что, Лидка?! — опешил Толик. — Кто же нам разрешит?! Нам же еще столько ждать надо…
— Да наплевать!.. Наплевать мне… Я не могу ждать! Мы через неделю уже в тюрьме сидеть будем за этого Зайца… Я не хочу ждать! Не хочу, чтобы кто-то другой!.. Я только с тобой хочу… — бормотала Лидочка, тащила Толика к дивану и на ходу лихорадочно стаскивала через голову свитер, маечку, срывала с себя свой дурацкий лифчик. — Расстегни сзади! Помоги, Толинька… Пусть все будет по-взрослому! Я с тобой хочу быть всегда. Ты меня любишь? Ты любишь меня, скажи, Толинька, Натанчик ты мой родненький?! Ну, давай… Давай, не бойся! Я все вытерплю… Я даже не крикну, Толька! Не думай ни о чем, Толинька-а-а!..
Спустя час одетая и причесанная Лидочка позвонила домой.
— Ты где шляешься? — закричал Николай Дмитриевич. — Хочешь, чтобы я тебя выдрал как Сидорову козу?!!
— Не кричи, — строго сказала ему Лидочка. — Так надо было. Мама дома?
Что-то в голосе дочери заставило подполковника милиции сбавить тон:
— Нету мамы! К счастью… На дне рождения у тети Вали. А то бы она уже с ума сошла!..
— Очень хорошо, — сказала Лидочка. — Оставь ей записку, что я с тобой. Придумай, что хочешь. А сам одевайся и иди к Самошниковым.
— Что случилось?
— Папуль, все потом. А сейчас мы ждем тебя здесь.
— «Мы»?!
— Да. И документы не забудь.
— Какие еще документы? — не понял Николай Дмитриевич.
— Права водительские, «ксиву» свою, как ты сам ее называешь! — уже раздраженно пояснила Лидочка. — И не задерживайся, пап.
Во втором часу ночи самошниковский «Запорожец» мчался по пустынному загородному шоссе к колонии «усиленного режима».
За рулем сидел подполковник милиции Петров. Рядом — дочь Лидочка. Сзади, накрытый с головой клетчатым пледом, лежал Толик Самошников.
— Ты понимаешь, что пролетаешь мимо амнистии, как фанера над Парижем?! — нервничал Николай Дмитриевич. — А за побег тебе еще и срок добавят! И будешь ты сидеть, как цуцик, с последующим переводом во взрослую колонию. А там…
— Мы должны были увидеться, дядя Коля! — донеслось из-под пледа. — Иначе…
— Что «иначе», что «иначе»? Вам вот-вот по четырнадцать, а мозги у вас, как…
— Как у взрослых, — резко прервала его Лидочка. — Только вы с мамой к этому никак привыкнуть не можете! И не гони так. Впереди — пост ГАИ.
— Ты-то откуда знаешь?! — окрысился на нее отец.
— Я столько раз уже проехала по этой дороге на этой же машине с Сергеем Алексеевичем или с Фи-рочкой Анатольевной, что все ваши милицейские заморочки знаю на этой трассе. То, кретины, в кустах прячутся, то за трюндель готовы паровоз остановить!
— Ну, знаешь!.. — Подполковник милиции понятия не имел, что нужно сказать в ответ, но скорость сбавил.
На КП их остановили. Откозыряли подполковничьему удостоверению, удивились такому автомобилю при такой должности, льстиво похихикали и пожелали счастливого пути.
Петров снова разогнал «Запорожец» чуть ли не до ста километров в час и попросил:
— Толька… Ответь мне на один вопрос…
— Без проблем, дядя Коля, — ответил Толик из-под пледа.
— На что ты надеялся, когда рванул в Ленинград? Что не хватятся? Да? Тебя уже наверняка в розыск объявили!..
— На пацанов надеялся. Обещали прикрыть. И потом… Дядя Коля, я был обязан сегодня быть в Ленинграде!
— Да, — подтвердила Лидочка.
— Перед кем обязан? Перед ней? — в отчаянии закричал Петров и даже дал легкий подзатыльник сидящей рядом Лидочке. — Так она бы все равно никуда от тебя не деласьГЧто же мы с матерью, слепые, что ли?! Обязан он был…
Но Лидочка совсем не обиделась на отцовский подзатыльник.
Наоборот, она наклонилась к рулю, поцеловала правую отцовскую руку и ласково потерлась носом и щекой о его плечо.
Толик лежал под пледом, ничего этого не видел. Поэтому сказал жестко, вызывающе:
— Да, был обязан… Перед Лидкой, перед мамой, перед самим собой. Перед дедом, бабулей, отцом…
— Ну ладно, ладно, — смутился Петров. — Ты на меня-то не напрыгивай! Ничего я такого не сказал. Я же за тебя боюсь.
— Спасибо, па, — сказала ему Лидочка. — Мы теперь на всю жизнь одна семья. А своих закладывать — последнее дело…
Вспомнила висящего в гараже скрюченного мертвого Зайца и добавила:
— Чем бы это ни кончилось.
Какое-то время Петров испуганно пытался понять истинный смысл слов, сказанных дочерью, но тут Толик сбросил с себя плед и выпрямился на заднем сиденье:
— А еще, дядя Коля… Только вы не смейтесь. И ты, Лидуня… Я тебе не говорил… Знаете, мне прошлой ночью один пацан причудился… Приснился, наверное. Не из наших. Может, к нам его по новой кинули… Ни его статьи не знаю, ни его самого. Но уже в робе, в «прохорях» казенных… А рожа до ужаса знакомая! И никак не могу вспомнить — на кого он так похож?.. И вроде бы этот пацан называет меня полным именем, которого здесь никто и не знает, смотрит на меня так странно и говорит: «Толик-Натанчик… Ты совсем не похож на своего старшего брата… Что-то есть общее, но все другое!..» А я его будто спрашиваю: «А ты откуда его знаешь?», а он говорит: «Я его очень любил…» Дает мне две кассеты магнитофонные: «Вот, возьми… На одной он поет, а на другой стихи читает. И не бойся, нужно будет — поезжай домой и сделай все, что тебе покажется необходимым. А я здесь за тебя побуду…» Я взял Лешины кассеты и… Вот не помню — снилось мне это или… Что?.. Утром стал чистить зубы, посмотрел в зеркало и узнал того пацана! Будто бы это был я сам!!! Приснится же такое, думаю… Застилаю свою койку, а под матрасом — две кассеты заграничные!.. Я до развода отпросился на секунду в Ленкомнату, сунул одну кассетку в магнитофон — нам шефы-погранцы подарили, — а там Лешкин голос…
Из-за поворота показался высокий бетонный забор, ярко иллюминированный сильными лампами.
— Все, дядя Коля, приехали, — сказал Толик. — Разворачивайтесь. Я здесь уже сам доберусь — как говорится, задами и огородами. Спасибо вам, Николай Дмитриевич. Не вылезай из машины, Лидуня. Вот, возьми эти кассеты. Я в Ленинграде забыл их оставить. Мама выпишется — отдашь ей. Хорошо?
Лидочка развернулась в кресле лицом к Толику, встала на колени, взяла кассеты, спрятала их в карман, а потом перегнулась через спинку сиденья и, ничуть не стесняясь отца, обняла и нежно расцеловала Толика-Натанчика.
— Хотела бы я посмотреть на того пацана… — сказала Лидочка. — Иди, Толян. И ни черта не бойся — мы с тобой. До самого, самого конца…
Толик заглянул Лидочке в глаза, сказал с кривой усмешечкой:
— Все. Теперь будем ждать.
Выскользнул из машины и тут же растворился в черных высоких кустах, преграждавших путь к бетонному забору с затейливыми гирляндами колючей проволоки.
И снова, как и во фразе дочери «Чем бы это ни кончилось», в последних словах Толика подполковнику милиции Петрову послышался скрытый, пугающий, таинственный смысл.
Он прозвучал из неясного, давно забытого им мира — мира полувзрослых четырнадцатилетних, куда, при всей симпатичной видимости благодарной доверчивости, его пока не впускали…
— Хотел бы и я посмотреть на того пацана, — сказал я.
— Он перед вами, — рассмеялся Ангел.
— Об этом я уже догадался. А как вам все это удалось? Я имею в виду этот трюк с подменой — когда вы, на время отсутствия Толика, остались изображать его в колонии. Разве вы не рисковали столкновением противоречивых показаний людей, которые могли увидеть Толика в Ленинграде или по дороге туда, с утверждениями, что Толик именно в это время находился в колонии? Что само по себе уже могло вызвать кучу подозрений…
— Нет. — Ангел отрицательно покачал головой. — Тут все было чисто. Здесь мы заранее просчитали, что в Ленинграде Толика-Натанчика увидят всего лишь три человека.
— Какие еще «три»? — удивился я. — Ну, Лидочка, ее отец…
— Третий — Заяц.
— Ах да… Но вы обмолвились — «мы просчитали». Так вы не один провернули всю эту комбинацию?
— Нет, конечно. Такое мне в То Время было еще не по силам. Помните старенького Ангела-Хранителя — резидента Неба и Представителя Всевышнего в Германии того Времени? Руководителя моей Наземной Школьной практики?..
— Естественно, помню.
— Могу сейчас признаться, что тогда мне, юному Ангелу-недоучке, жалкому практикантишке, постигшему всего лишь азы «ангельского» ремесла, этот старый Ангел-Хранитель казался ни на что не годным! Что совершенно не умаляло моих искренних симпатий к нему, как к доброму и милому старику… Но оказалось, что пока я пребывал в состоянии печальной прострации — гибель Леши Самошникова и Гриши, моя маленькая и сугубо личная революция, лишение меня чина и крыльев, долгое ожидание легализационных документов, — Старик не терял времени даром! И вообще, все это Сотворил он… Потом, когда мы с ним уже расставались навсегда, он признался мне, что именно мое восстание, мой детский бунт и мое категорическое отречение от Веры во Всемогущество Всевышнего вдохнули в него те силы, которые, как ему казалось, он уже давно утратил. Старик по своим каналам связался с тогдашним Представителем Неба на Земле по Ленинграду и Ленинградской области — очень интеллигентным Ангелом-Хранителем…
— Стоп!.. Ради всего святого, простите меня, Ангел, что я прерываю вас, но вы только что сказали, что в Ленинграде был Ангел-Хранитель?!
— А как же? Шутка ли — пять миллионов человек оставить без присмотра!.. О чем вы говорите, Владим Владимыч?! Конечно! — воскликнул Ангел.
— Он существует и сейчас? — с надеждой спросил я.
— Нет… К сожалению, несколько лет тому назад новая команда Всевышнего резко сократила ассигнования на Земное Представительство, и целый ряд больших городов и даже стран лишились Его Защиты. Уйма Наземных Ангелов-Хранителей оказались вне зоны своей привычной деятельности и, честно говоря, подрастерялись. Кто-то вознесся и оказался в «резерве» Всевышнего, кто-то ушел на преподавательскую работу, а кто-то, не будем скрывать, и «перекрасил» свои крылышки! И очень успешно существует на прямо противоположном поприще. Кстати, эти не очень-то праведные успехи бывших Ангелов в определенный момент вызвали даже очень ощутимую эмиграцию с Неба на Землю. Ну, надоело квалифицированным Ангелам-Хранителям сидеть без дела на голодном пайке! Кое-кто вообще пустился во все тяжкие. Сейчас, правда, наблюдается некоторый обратный отток…
— А это чем вы объясните? — поинтересовался я.
— Изменением курса. Например, в стране бурно расцветает чуть ли не государственный клерикализм. Почти насильственно насаждаемой и достаточно воинственной Верой осуществляется гипнотическая попытка отгородить Людей от повседневных «болей, бед и обид». А такая кампания требует достаточно серьезных и профессиональных кадров. Как на Небе, так и на Земле. Отсюда и эмиграция, отсюда и реэмиграция!
— О, чтоб вас!.. Какой вы умный — прямо спасу нет! — не выдержал я.
— Не злобствуйте.
— Я не злобствую. Просто, разговаривая с вами, я постоянно слышу внутри себя попискивание моего собственного комплекса неполноценности.
— Вы сейчас сказали чушь, но это простительно — в вашем возрасте столько выпить и не спать всю ночь!.. — подивился Ангел.
— Кстати о птичках! — воскликнул я.
— Нет, — решительно ответил Ангел. — Только чай.
— Чай пейте сами.
— Владим Владимыч!..
— Сто граммов, — потребовал я. — Как сатисфакция за мою униженность!
— Хорошо! — сказал Ангел. — Сто, и вы уходите в глухую завязку! Через полтора часа Петербург.
— Уговорил, — согласился я.
— Пейте, вымогатель!
Я поднял стакан, отхлебнул. Там был действительно джин со льдом.
— Что же это вы столько льда набухали? — нахально проворчал я. — Откуда в вас эти «барменские» замашки? Явный же недолив…
— Не выдумывайте! Ровно — сто. И потом, я не вожу с собой «Книгу жалоб», — сказал Ангел. — Слушайте дальше!
— В оба уха.
— Так вот, мой Старик-Ангел, собрав остатки своих «ангельских» сил, связался с ленинградским Ангелом-Хранителем, резиденция которого находилась ни больше ни меньше, как в левом крыле Эрмитажа. Этот истинно интеллигентный старопетербургский Ангел-Хранитель по совместительству был еще и блистательным ученым-искусствоведом! Прекрасным знатоком эпохи Возрождения…
И мы стали получать подробнейшую информацию обо всех действиях Толика Самошникова и Лидочки Петровой. К несчастью, контакт с Ленинградом был установлен только после убийства Любови Абрамовны и Сергея Алексеевича. На месяц бы раньше — и можно было бы воспрепятствовать этому кошмару.
В тот день, когда Лидочка вышла из метро «Академическая» и этот подонок Заяц увязался за ней, мне наконец спустили Сверху Вниз мои долгожданные документы. Времени оставалось с гулькин нос, и мой Старик развил сумасшедшую деятельность! Он потребовал у Неба моего немедленного перемещения в Ленинград, в колонию Толика-Натанчика за счет средств Школы Ангелов-Хранителей. Он напомнил нашей крылатой финчасти, что уж коль мне, как практиканту, полагалось перемещение в оба конца — Небо — Земля и Земля — Небо, то теперь, в условиях моего Невозвращения на Небо, они обязаны взять на себя расходы за мое передвижение из одного Земного государства в другое. Что практически и было сделано.
— Мальчик мой, — сказал мне Старик-Ангел на прощание. — Лишен ли ты чина, отобраны ли у тебя крылья, поверь, это все лишь внешняя атрибутика — не больше. Ты все равно остался Ангелом. Ангелом-Хранителем! С достаточно серьезным запасом чистых и праведных профессиональных приемов и навыков, арсенал которых будет пополняться всю твою жизнь. Но это уже будет зависеть только от твоего собственного самосовершенствования, ибо ты будешь находиться вне Школы Ангелов, где тебя этому просто обучили бы… И запомни: главное — сохранить постоянное состояние внутренней Справедливости! К сожалению, мы с тобой лишены Карательных и Наказующих функций, а они очень пригодились бы тебе сейчас на Земле. Особенно в России. Попробуй, малыш, отыскать для себя некий действенный эквивалент тому, что в нашем «ангельском» просторечье называется — «Кара Небесная»…
— Простите, Учитель, но я не очень понимаю, что вы имеете в виду… — помню, тогда робко сказал я.
— Окей! — отвечает мне Старик-Ангел. — Пример: известно, что Лидочка и Толик собираются мстить Зайцу. Мы с тобой свято убеждены в Справедливости этого намерения… Так?
— Да.
— Сами принять участие в этом акте отмщения мы не имеем права. Как бы нам этого ни хотелось. Так?
— Так…
— В таком случае мы обязаны создать для Охраняемых нами условия максимальной безопасности при исполнении ими Справедливой акции возмездия. Понял?
— Да. Но как? — растерялся я.
— Проще пареной репы, — говорит мне старый Ангел-Хранитель. — Скорее всего Толику придется уехать из своего узилища в Ленинград. Никто не должен знать, что в то время, когда этот подонок Заяц будет Справедливо уходить из Жизни, Толика не было в колонии! Ибо подозрение в смерти Зайца может сразу же пасть на него… Наоборот — десятки мальчиков-заключенных, воспитатели и охранники должны будут потом на следствии подтвердить, что именно в это время Толик-Натанчик Самошников — младший брат нашего покойного Леши — находился в колонии у всех на глазах! И для этого «Толиком» станешь ты… Это не очень сложно. Сейчас я покажу тебе, как это делается!
… Так я появился в колонии. Оставаясь невидимым, день я присматривался и впитывал все, что могло бы послужить на пользу дела, а потом ночью принял облик Толика и явился в его сон. А чтобы он мне поверил, я отдал ему те две Лешины кассеты и стал ждать приезда Лидочки.
Единственное, с чем я не справился, Владим Владимыч, это с голосом Толика. Наверное, взбудораженный предстоящим перемещением в Ленинград, я не очень внимательно слушал своего Старика, и описание достижения полной идентификации голосов я прошляпил…
От этого мне приходилось хрипеть и сипеть, ссылаясь на простуду, подхваченную, наверное, в продуваемой всеми ветрами недостроенной часовне. Изображал я это так талантливо, что чуть не загремел в медпункт колонии. Еле отговорился.
А к трем часам ночи в колонии снова появился Толик. И я, к счастью, был лишен необходимости врать, что вообще-то Ангелам категорически противопоказано!
Труп Зайца обнаружили на вторые сутки.
Когда ключ подполковника Петрова от шестьдесят четвертого ремонтного бокса в гаражном кооперативе по Гжатской улице, а также его личные и тщательно протертые милицейские наручники давно лежали на своих привычных местах.
Надо сказать, тут криминальная милиция оказалась на высоте. Они сразу же отвергли версию пьяного самоубийства. Слишком очевидными были попытки представить дело именно таким образом. И разлитый бензин на полу, чтобы собачка не могла взять след, и маленькая плитка шоколада «Аленушка», найденная нераспечатанной в кармане Зайца, которой он наверняка закусывал бы ликер «Бенедиктин». И кстати, излишне протертые бутылка и колодка включения тельфера с отпечатками пальцев Зайца, сделанными явно после его смерти!.. Ибо углы наложения отпечатков не совпадали с естественными направлениями при пользовании бутылкой или колодкой еще живым человеком.
Так много блох было в этом деле! Блох много — времени мало…
Похватали всех дружков Зайца. Те в один голос рассказывали, что последние дни, после возвращения из Вырицы, Заяц ходил с большим золотым перстнем на среднем пальце правой руки. А при обнаружении трупа — перстня уже не было!..
Что за перстень? Куда он делся? Кому принадлежал раньше?!
Опрашивали всех, ктo имел доступ к ремонтному боксу номер шестьдесят четыре. Не избежал этой участи и заместитель начальника Управления «спецслужбы» милиции подполковник Николай Дмитриевич Петров.
Конечно, его никто никуда не вызывал! Вежливо позвонили прямо домой, представились, попросили разрешения зайти поболтать. Рассказали о существе дела. Попросили посмотреть — не потерялся ли ключ от ремонтного бокса. Нет, ключ оказался на месте…
Спросили, когда Николай Дмитриевич последний раз ремонтировал там свою машину. Ах, год тому назад вы ее продали… Ясненько. А больше никто не мог воспользоваться этим ключиком?
— Ребята! — сказал подполковник милиции Петров. — Не крутите мне яйца. Ну кто в моем доме может воспользоваться этим ключом? Жена? Дочка? Не смешите меня. Давайте лучше треснем…
И выставил пару бутылок «Столичной» на кухонный стол.
Нарезал краковской колбаски, подал миску с квашеной капустой, плетеную корзинку с хлебом и…
…пошел нормальный мужской разговор о нищенских милицейских жалованьях, о несправедливых задержках званий, о подлости коллег, о дурах-бабах, о болванах-начальничках и о том, что очень скоро наступит время, когда из «ментовки» нужно будет бежать куда глаза глядят — хоть в охранные структуры, хоть в частные телохранители, хоть — в бандиты!.. Потому как в стране бардак, а дети хотят кушать каждый день…
Когда-то, по молодости лет, Николай Дмитриевич Петров был очень неплохим и думающим опером.
Вот даже сейчас, проводив гостей и пряча от глаз подальше пустые бутылки из-под «Столичной», сваливая в раковину грязную посуду после своих кухонно-милицейских посиделок, Николай Дмитриевич все думал, думал и думал…
И поэтому, когда вымотанная и усталая Лидочка еле приплелась с тренировки из бассейна домой, Николай Дмитриевич зашел к ней в комнату и тихо спросил открытым текстом:
— Где золотое кольцо?
— Какое кольцо? — От усталости Лидочка даже не в силах была сообразить, о чем спрашивает ее отец.
— Кольцо, которое вы с Толькой Самошниковым сняли с убитого вами Зайцева.
У Лидочки ноги подкосились самым настоящим образом. Она плюхнулась на кушетку, где были аккуратно рассажены ее старые детские куклы, возглавляемые огромным, вытертым до жалких проплешин плюшевым медведем, подаренным Лидочке почти одиннадцать лет тому назад к ее третьему дню рождения…
— Откуда ты знаешь? — покорно спросила Лидочка.
— Откуда, откуда… От верблюда! Кольцо у тебя?
— Нет.
— У Тольки?
— Нет, нет, что ты!..
— Где кольцо, я тебя спрашиваю?
— У тебя.
— Не понял, — насторожился Николай Дмитриевич.
— В твоей старой наплечной кобуре. На антресолях.
Утром Николай Дмитриевич дождался ухода Натальи Кирилловны на работу, а Лидочки — в школу, позвонил своему начальнику Управления на Лиговку и предупредил, что приедет попозже: вода в унитазе не уходит, и квартира вполне может быть затоплена чужим дерьмом! Вот он сейчас все прочистит собственноручно и сразу же двинет в «Управу»…
Получив «добро» от начальника спецслужбы милиции города Ленинграда и его окрестностей на ремонт собственного сортира, Николай Дмитриевич действительно вытащил ящик со всякими домашними инструментами, но к унитазу и не прикоснулся, боясь нарушить его бесперебойную работу.
Зато он прикрутил к кухонному столу небольшие тиски с наковаленкой, мощными кусачками перекусил толстый некрасивый золотой перстень и при помощи пассатижей развернул его в одну неровную линию. Начисто лишив перстень его первоначальной округлости.
Вот теперь без всяких помех Николай Дмитриевич смог прочитать гравировку на бывшей внутренней стороне бывшего перстня: «Другу Натану в день его 60-летия от друга Ивана».
Николай Дмитриевич зажег самую сильную горелку на газовой плите, взял пассатижами этот нелепый кусок золота и стал нагревать его на синем кухонном пламени.
Раскалил докрасна, положил на наковаленку и молотком стал перековывать бывший некрасивый золотой перстень во вполне симпатичную золотую пластинку. Из которой, как сказала ему вчера Лидка, потом можно будет сделать дарочку тоненьких обручальных колец: одно ей, а второе — Толику. Если они им вообще когда-нибудь понадобятся…
А обычный кусочек золотого металла запросто может быть в любой советской семье! Мало ли… От бабушек и дедушек, переделанные из «николаевских» десятирублевиков конца прошлого века, за хранение которых в середине тридцатых расстреливали, а сегодня уже даже не приравнивают к статье восемьдесят восемь — «Нарушение правил о валютных операциях»…
Важно, чтобы этот кусочек золота никогда и никому ничем не напоминал тот самый толстый некрасивый золотой перстень, который очень многие видели на среднем пальце правой руки тогда еще живого Зайцева. Иначе, если подраскинуть мозгами, будет очень нетрудно вычислить тех, кто повесил эту сволочь в шестьдесят четвертом ремонтном боксе кооперативного гаража на Гжатской улице…
… А спустя еще несколько дней отыскался и молоток Зайца, которым он убивал Сергея Алексеевича…
Шестилетний пацанчик выгуливал в кустах возле самошниковского дома своего приятеля-котенка. Лазали они там по кустам друг за другом, пока пацанчик не наткнулся на этот молоток. Деревянная ручка бурая, захватанная, а сам молоток волосами облеплен — седыми и не очень.
Бабушка этого пацанчика — когда-то бессменный народный заседатель в нарсуде, дама опытная, — положила этот молоток в полиэтиленовый мешочек и — в милицию.
Там с рукоятки сняли отпечатки, прогнали через картотеку, и на тебе! Отпечатки-то Зайцева Дмитрия Васильевича, рождения такого-то, проживающего там-то. Три бесполезных привода в милицию: два за хулиганство и одно — по подозрению в квартирной краже. Вот тогда-то, когда отпускали Зайца «за недоказанностью», на всякий случай — запас карман не тянет — и «прокатали пальчики» ему! Оказалось, не зря. Хотя и поздновато…
Все это Николаю Дмитриевичу по телефону рассказали те двое из местного отделения милиции, с которыми Петров еще недавно «квасил» у себя на кухне. Николай Дмитриевич поблагодарил за информацию и попросил держать его в курсе дела. Естественно, если это не будет мешать следствию.
На что ему ответили, что следствия, по всей вероятности, уже больше никакого не будет, что «замочили» Зайцева скорее всего подельнички — там у них законы волчьи, товарищ подполковник это не хуже нас знает, и вообще рыба гниет с головы… Дело они пока прикрывают и еще раз хотят сказать Николаю Дмитриевичу спасибо за… Товарищ подполковник сам знает за что!
— Ночами я незримо ухаживал за Фирочкой Анатольевной Самошниковой в этой «психушке» на Васильевском острове и изо всех сил старался помочь ей прийти в себя. Делал я это точно так же, как когда-то пытался помочь ее старшему сыну Леше в немецком «кранкенхаузе»…
К счастью, та выездная сессия Архангельской «тройки», которая судила меня в Западной Германии за Неверие во Всемогущество Всевышнего и отказ возвращаться на Небо и лишила меня Ангельского чина и крыльев, по запарке оставила мне и возможность «Невидимости», и еще несколько Потусторонних приемчиков…
Тут Ангел увидел почти пустой стакан в моей руке и продолжил:
— …одним из которых вы, Владим Владимыч, бессовестно пользуетесь! На вас джина не напасешься…
— Нашли, чем упрекнуть, — довольно презрительно заметил я. — Как у вас язык еще повернулся?! Из-за трех капель выпивки развести такую склоку.
— Из-за «трех капель»?!! — возмутился Ангел. — Всю ночь…
— Ангел, не отвлекайтесь на пустяки и не разрушайте стройность рассказа всплесками мелкой сквалыжности. Лучше добавьте немножко джина…
— Ну, знаете!..
Тут у Ангела просто не хватило слов! Но стакан мой немножко пополнился…
— Как вы легализовались, хотел бы я понять? — спросил я, прихлебывая из стакана…
— Я не уверен, что сумею вам толково объяснить техническую сторону моего ленинградского внедрения, — сказал Ангел. — Но соединенными усилиями двух опытнейших Ангелов была выработана некая абсолютно непроверяемая легенда, с которой я и предстал перед всеми, кого вы уже знаете. А предстал я в качестве отпрыска очень дальних, уже покойных родственников ближайшего друга семьи Лифшицев — Самошниковых — Ивана Лепехина.
— Что значит «непроверяемая легенда»? — усомнился я. — Вы, предположим, утверждаете, что прибыли из Егупеца, и туда сразу же идет милицейский запрос, или еще чего лучше — от Комитета госбезопасности: существовал ли в вашем замечательном, заслуженно воспетом городе такой-то мальчик вот таких-то родителей? А оттуда…
— А оттуда, — подхватил Ангел, — моментально приходит ответ — да, существовал! И родители его существовали, и Егупец стоит на месте, чего и вам желает от имени Шолом-Алейхема!
— Каким образом?!!
— Я же предупреждал вас, что не смогу объяснить вам технику этого фокуса. Такие штуки с непроверяемыми легендами у нас даже в старших классах Школы Ангелов не проходили, Владим Владимыч. Это уже… Как бы это назвать?.. Это уже, если хотите, «высший ангельский пилотаж»! Такие трюки под силу только очень опытным Ангелам-Хранителям…
— Минутку! Но, насобачившись делать «такое», можно же докатиться черт знает до чего! Тут вам и промышленный шпионаж, и политические интриги, и коммерческий разбой — с гарантией совершенной безопасности!
— Владим Владимыч! Я же вам рассказываю о делах, «творимых» Ангелами-Хранителями, а не разбойниками с большой дороги! — нервно возразил мне Ангел.
— Но вы же сами говорили, что часть Ангелов, оставшихся не у дел, прекрасно вписалась в сегодняшнюю Земную жизнь, изменила окрас крыльев и стала заниматься хрен знает чем!
— Я и сейчас это утверждаю. И чтобы быть до конца Справедливым, спешу доложить вам, что Всевышний, к которому, как вы знаете, у меня очень много претензий, лишил всех этих переметнувшихся бывших Ангелов способностей «творить» что-либо вообще! Кого-то лишил всего ассортимента трюков, кому-то оставил возможность творить только деньги. И если когда-нибудь правительство рискнет проверить их легенды — сделать это будет проще пареной репы. Как говорил старый Ангел-Хранитель — Руководитель моей Наземной практики.
Я усмехнулся:
— Мне еще очень понравилось, что ваш старый Ангел говорил: «Окей!» Это несколько примиряет меня с утверждением о существовании «Потустороннего мира». Простите, Ангел, но я грубый реалист…
— Я тоже, — заметил Ангел. — Поэтому я сейчас еду с вами в купе «Красной стрелы», а не «…по небу полуночи Ангел летел…». Будете слушать дальше или продолжим спорить ни о чем?
Я не ответил. Раздернул плотные оконные занавески и увидел, как, обгоняя нас, за окном уже вовсю несется рассвет нового дня.
Я отчетливо представил себе, как не хочет сейчас просыпаться моя Катька! Как, еще не выпутавшись из глубокого и теплого сна, она проклинает себя за свой вчерашний искренний порыв встретить меня на вокзале, когда я вечером, перед отъездом, звонил ей из Москвы…
Я все это себе живо вообразил и даже авансом слегка обиделся!
— Будет вам клепать на ребенка, — улыбнулся Ангел! — Она уже давно стоит перед зеркалом и вовсю сандалит свою хорошенькую мордочку каким-то невероятным количеством косметики…
— А вы откуда знаете?! — окрысился я.
«Мало того, что он без разрешения влез в мои мысли, он еще умудрился подглядеть за нашей полуодетой Катькой!» — подумал я.
— Да одета она уже, одета! Успокойтесь. Будете слушать? У нас всего лишь час в запасе.
Я снова посмотрел в окно. Мимо нас низко пролетали клочки утреннего тумана.
— Рассветные истории лучше всего видеть собственными глазами, — решительно заявил я.
Ангел пожал плечами:
— Какие проблемы? Устраивайтесь поудобнее. И пожалуйста, оставьте стакан в покое. Не будете же вы вторгаться в То Время со своей посудой?
Я поставил стакан с остатками джина на столик, прилег на подушку, прикрыл глаза, и в ту же секунду…
…небольшой экран моего сознания стал заполняться массой бритоголовой мальчишни в единой тюремно-сиротской форме…
В уши стал вползать гул голосов, сквозь который внезапно прорезался истошный крик:
— Самоха!!! Самоха!.. Тебя отец Михаил зовет!..
Часовенка, строительством которой руководил священник местного прихода отец Михаил, а бригадиром строителей был заключ… воспитанник колонии усиленного режима Анатолий Самошников, статья сто восьмая, часть вторая, была уже закончена и торжественно освящена в присутствии начальства колонии для несовершеннолетних преступников и прибывших из Ленинграда представителей Главного управления внутренних дел и Областного отдела народного образования.
Симпатичная часовня четко и благостно впечатывалась в фон высокого серого бетонного забора с витыми спиралями колючей проволоки по самому верху.
Открытие и освящение часовни случайно совпали с указом о частичной и выборочной амнистии, что позволило отцу Михаилу всенародно объявить это Волей Божьей!..
При этих словах отца Михаила две сотрудницы ОблОНО и один полковник милиции, боязливо поглядывая по сторонам, стыдливо перекрестились.
М-да… В То Время — начало девяностых — обращение к Богу еще не стало таким массовым и фальшивым явлением, как в последние несколько лет, и поэтому я ничуть не усомнился в искренности этих троих смельчаков…
— Звали, Михаил Александрович? — негромко произнес Толик за спиной у отца Михаила.
Тот вздрогнул от неожиданности, повернулся.
— О Господи… Как ты меня напугал, Анатолий. Я и не слышал, когда ты подошел, — улыбнулся священник.
— Это они могут! — сказал один высокопоставленный ленинградский милиционер в штатском, дохнув на отца Михаила хорошим коньяком. — А вот чтоб священнослужителя «отцом Михаилом» или, на худой конец, «батюшкой» назвать, так это у них, вишь ли, язык не поворачивается!
Вгляделся в слегка семитские глаза на русопятой физиономии Толика-Натанчика, заподозрил неладное и добавил с нехорошей улыбочкой:
— А может, тебе какая другая вера это не позволяет?
Толик посмотрел в сторону, тоскливо ответил:
— Нет у меня никакой веры.
Отец Михаил положил руку на плечо Толика, сжал покрепче, сказал ласково тому, в штатском:
— Он мальчик уважительный, хороший. Часовню строил. Вы уж извините нас. Пойдем, Анатолий, пойдем.
Завел Толика за часовню, прижал к себе, по голове погладил:
— Успокойся, сынок. Успокойся. Мало ли неумных, ограниченных и недобрых людей на свете… Их жалеть надо.
— Не надо, Михаил Александрович, — жестко сказал Толик. — Жалеть надо умных и добрых.
— Знаю, знаю… Все, мальчик мой, знаю. Вот что хотел сказать тебе: ты мамочку свою поддержи. Ты у нее один остался. Уж она, бедная Эсфирь Анатольевна, горькую чашу всю до дна осушила. Теперь лишь на тебя надежда.
— Это точно, — сказал Толик. — Спасибо вам за все, Михаил Александрович. Пацаны слышали, как вы с начальником колонии про мою амнистию говорили…
— Ладно, ладно. Дай тебе Господь, Анатолий, разума, спокойствия и Веры.
— Михаил Александрович, а можно я на прощание спрошу вас… Только вы не обижайтесь на меня.
— Спрашивай, конечно.
Отец Михаил знал, какой сейчас последует вопрос. Он его сам себе задавал тысячи раз!..
Знал, о чем сейчас спросит Толик. И не ошибся.
— Вот вы, Михаил Александрович, университет кончали, исторический факультет…
— И Духовную Академию тоже, — улыбнулся отец Михаил.
— Хорошо, пускай… А вот вы сами-то в Бога верите?
Отец Михаил помолчал, подумал, как лучше ответить, и спросил:
— Ты такую писательницу Веру Панову читал?
— Нет.
— Хорошая была писательница. У нее в повести «Времена года» у одного нашего архиепископа за границей, на каком-то конгрессе, спросили: «Ваше преосвященство, вот вы такой известный ученый, философ, современный человек, вы сами-то в Бога верите?» А он и ответил: «Я сопровождаю уходящую из мира идею, и в этом моя общественная функция». Сейчас, Толя, времена меняются с точностью до наоборот. Поэтому я отвечу тебе так: в наступающие дни Беззакония и Неверия я должен защищать возрождающуюся идею Веры, полагая это не только священным, но и своим чисто человеческим долгом… Не очень сложно?
— Ну, чего тут сложного, Михаил Александрович? — усмехнулся Толик-Натанчик. — Нужно просто кому-то очень-очень верить… Так?
Услышав ясность понимания Толиком своего хотя и искреннего, но чуточку помпезного заявления, отец Михаил на мгновение устыдился собственной нечаянной высокопарности и честно ответил:
— Да. И пожалуй, прав ты…
Как я понял из всего дальнейшего, это был последний день Толика-Натанчика Самошникова в колонии усиленного режима для несовершеннолетних преступников.
Ах, с каким наслаждением я воспользовался бы старинным кинематографическим приемом: детские (или юношеские…) годы героев повествования уходят в «затемнение», и спустя три-четыре секунды экранного времени на темном фоне появляется простенький, как мычание, титр:
«ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ».
Или — вариант номер два. Тоже достаточно оригинальный:
«ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Это уже что-то из Дюма, но вполне приемлемо. На экранах всего мира появлялось сотни тысяч раз. Особенно в немом кино.
Третья редакция того же спасительного титра тоже была частенько использована, но несла уже более кокетливую и интригующую интонацию:
«А СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ…»
После такого драматургического изыска автор и режиссер обычно легко и спокойно переходили к событиям, происходящим с уже повзрослевшими героями…
Если же по ходу развития второй половины сюжета неожиданно становилось непонятно, «кто есть кто?» и «кто кому дядя?», а объяснение этому провальчику нужно было искать именно в том легкомысленно выброшенном десятилетии, на выручку приходил еще один свеженький и спасительный приемчик — «информация в диалоге»:
ГЕРОЙ. А помнишь, дорогая, как мы с тобой отдыхали в санатории Совмина и встретили там одну даму с таким пушкинским именем?
ГЕРОИНЯ. Людмила? В смысле — «Руслан…».
ГЕРОЙ. Нет.
ГЕРОИНЯ. Татьяна Ларина?
ГЕРОЙ. Нет!
ГЕРОИНЯ. Ольга?
ГЕРОЙ. Нет, нет! У нее еще муж в то время был секретарем Свердловского обкома партии…
ГЕРОИНЯ. Наина?!
ГЕРОЙ. Да! «О витязь! То была Наина…»
Все… И больше ничего не надо. За этими скупыми строками сразу же встает широкое полотно политической жизни всей страны того времени…
И совершенно не нужно тоскливо перечислять приметы опущенных десяти лет, так ловко вычеркнутых всего тремя словами:
«ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ».
Я клянусь, что ничего подобного не говорил!
В свое время я был достаточно опытным киносценаристом, чтобы не пользоваться такими обветшалыми и проржавевшими элементами сюжетных конструкций, как пояснительные надписи на экране.
«ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ». Это сказал Ангел!
Этот здоровенный, белокурый и голубоглазый сукин кот деловито посмотрел на свои, прямо скажем, неслабенькие часы фирмы «Радо» — тысячи за две с половиной долларов — и объявил, что до Питера осталось минут пятьдесят и он лучше быстренько доскажет мне эту историю, потому что я из-за своего дурацкого любопытства могу вообще застрять в Том Времени на веки вечные!..
Что, между нами говоря, меня бы вполне устроило! Таким образом мы с Иришкой продлили бы себе жизнь на десяток лет и попытались бы избежать тех ошибок, которые успели наделать за это время. Да и Катюха-внучка стала бы восьмилетним ребенком. С этим ее возрастом у меня связаны самые радужные воспоминания! Мы снова показали бы ей Канны, Ниццу, Париж… Опять свозили бы ее в Зальцбург, в Испанию… Ей тогда так понравилась Испания! Когда мы привезли ее туда во второй раз, уже десятилетней, она разразилась целым потоком стихов — для ее тогдашнего возраста, по-моему, вполне пристойных:
… Ла-Мата, Мурсия, Мадрид…
И кровь бесчисленных коррид,
Стук каблучков танцовщиц томных,
Испанский берег в теплых волнах…
Дома — как в сказочной стране,
Как будто белые игрушки…
И в зачарованной земле…
Последняя строка напрочь вылетела из головы, помню только рифму: «подружки…». Для десятилетнего ребенка — шикарные стишата!.. Хотя в этом я понимаю совсем немного.
— Чьи, чьи это стихи? — вдруг переспросил Ангел. — Вашей десятилетней внучки?! Но вы же говорили, что ей уже восемнадцать…
И, даю честное слово, в последней фразе Ангела я уловил некоторое разочарование.
— Слушайте! — сказал я. — Уж если вы вторгаетесь в то, о чем я всего лишь думаю, то хотя бы извольте быть внимательнее! Чтобы не задавать идиотских вопросов. Когда она сочиняла эти стихи, ей было десять. А сейчас — восемнадцать! И потом — вы обещали мне больше не лезть в мои мысли…
— Простите, Владим Владимыч, но своими воспоминаниями о внучке вы заполнили буквально все купе! Продохнуть невозможно. А при моем профессионально обостренном восприятии…
— Экая вы у нас тонкая штучка с «обостренным восприятием»!..
Я чувствовал, что еще недостаточно протрезвел, и поэтому вел себя несколько более агрессивно, чем следовало.
— А мыться, зубы чистить вы не пойдете? — проворчал я.
— Уже! — мягко ответил Ангел, не обращая внимания на мой хамоватый тон. — Даже побриться успел.
— Это когда же? — недоверчиво спросил я.
— А вот пока вы были в колонии у Толика-Натанчика и слушали его разговор с отцом Михаилом за часовней. Так вам интересно, что было дальше?
— Еще бы!
Слышно было, как открывались и захлопывались двери купе, кто-то тяжело топал по коридору вагона, за окном мелькали знакомо-забытые областные картинки, а на столике, без малейшего участия проводника, уже стояли два стакана с крепким чаем. И в воздухе купе витали совсем не мои воспоминания о внучке Кате, а превосходный аромат свежезаваренного «Эрл Грея»…
— Ну, так вот, — сказал Ангел, садясь за стол. — Итак, ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
— Эй, эй! — придержал я его. — Мне нужно знать, что происходило и в этот период!..
— Хорошо. Если вы настаиваете, тогда — вкратце…
В пятнадцать лет Лидочка Петрова основательно забеременела.
Матери исполнителей этого эпохального события — Эсфирь Анатольевна (по паспорту — Натановна) Самошникова и Наталья Кирилловна Петрова, — как две усталые лошади, положили головы на плечи друг другу и рыдали ровно сорок пять минут — академический час.
После чего внутри них прозвучал звонок об окончании обязательного в таких случаях плача и возникло обоюдоприемлемое непоколебимое решение: «РЕБЕНКА — ОСТАВИТЬ!!!»
С готовностью защищать это свое решение до последней капли крови они явились к единственному взрослому мужчине в их уже почти общей семье — к полковнику милиции Николаю Дмитриевичу Петрову.
Стояла невыносимая жара, и худенький, жилистый полковник в одних трусах, на которых веселенькие медвежата били в маленькие барабанчики, сидел на раскаленной, душной кухне и пил холодное пиво.
— Чего это вы обе такие зареванные? — спросил полковник Петров. — Лидка влипла, что ли?
— Да… — хором сказали вероятные в недалеком будущем бабушки. — Но мы решили…
— Я не знаю, что вы там решили, — жестко перебил их полковник в трусах с медведиками. — Но ребенок останется!!! Никаких абортов! Фирка! Прекрати плакать… Наташка, возьми себя в руки немедленно! Будет так, как сказал я!
Тогда Фирка и Наташка все-таки еще немножко поплакали друг у дружки на плече и тоже стали пить холодное пиво вместе с очень решительным полковником Петровым.
— Конечно, — рассуждал Николай Дмитриевич, — Лидку за это надо было бы выдрать как Сидорову козу, но тут мы малость припозднились. Они, по-моему, уже лет с тринадцати трахаются…
— Коля!!! — в ужасе воскликнула Наталья Кирилловна.
Но Петров даже внимания не обратил на этот стыдливо-праведный всплеск своей жены. Подлил всем троим холодного пивка и мечтательно предложил:
— А Тольке хорошо было бы морду набить.
Фирочка с сомнением посмотрела на очень худенького полковника в трусах и робко произнесла:
— Коля… Ты же сам был на Зимнем стадионе, когда он выиграл юношеское первенство республики по вольной борьбе в среднем весе. В нем же семьдесят два килограмма страшных мускулов!.. Это в пятнадцать-то лет… Умоляю тебя, будь осторожен, Коля!
— Тоже верно… — Полковник сам подивился легкомысленности своего предложения и полез в холодильник за очередными бутылками…
Все мы, Фирочка и Толик, Николай Дмитриевич с Натальей Кирилловной и Лидочкой и ваш покорный слуга, жили практически на три дома — в квартире Самошниковых, у Петровых и в сорока километрах от Ленинграда, в деревне Виша, что между Куйвозе и Вартемяги, в бывшем доме дяди Вани Лепехина, подаренном им Толику-Натанчику.
Там же у дома, в тенистом уголке сада, под единственной яблонькой, среди кустов дикорастущей сирени, похоронили все четыре урны с прахом Вани Лепехина, Натана и Любови Лифшиц и Сереги Самошникова…
С урнами Любови Абрамовны и Сергея Алексеевича никаких хлопот не было — их в свое время домой принесли, где они и стояли до перевоза их в деревню, в свой садик при собственном доме…
А вот урны Натана Моисеевича и Вани Лепехина, уже вмазанные в специальную «похоронную» стену крематория, никак не хотели выдавать. Ссылались на какие-то правила, раздраженно листали инструкции, разговаривали пренебрежительно и невежливо. Обхамили даже Николая Дмитриевича Петрова, несмотря на его удостоверение полковника милиции!..
Помню, я тогда очень рассердился! И хотя Ангелам это совершенно противопоказано — я ничего не мог с собой поделать. А может быть, во мне уже начали происходить какие-то Земные качественные изменения?.. Это после двадцати к нам приходит некая взвешенная терпимость, а в пятнадцать лет из тебя рвется навстречу всему миру такой заряд самоуверенного максимализма, что можно ожидать чего угодно…
Я поехал в крематорий, нашел тех людей, которые отказали Фирочке, Толику и полковнику Петрову в возврате урн с прахом двух закадычных дружков — Вани Лепехина и Натана Лифшица, и…
…на следующий день эти же люди привезли к нам домой на Бутлерова уже слегка покрытые плесенью, вынутые из крематорской «стены плача» эти две урны. И были так любезны, что Фирочка, святая душа, растрогалась и даже дала им двадцать пять рублей…
— Ага! — Я очень обрадовался своему открытию. — Значит, Ангелы-Хранители все-таки имеют право на «карающие» действия?!
— Нет, нет! — возразил мне Ангел. — Может быть, в самом крайнем случае, в самом экстремальном, ради спасения кого-то, когда уже нет иного выхода… Но в крематории я просто сделал так, что эти недобрые люди сами… заметьте себе, господин писатель, сами почувствовали свою мелкотравчатую ничтожность и в корне, опять-таки — сами, решили изменить свое отношение к людям, приходящим к ним за помощью!..
Кстати, с захоронением этих четырех урн в нашем саду тоже были свои заморочки. Однако тут мне не пришлось даже пальцем шевельнуть…
Вечно нетрезвые, я бы даже сказал — постоянно не просыхающие, деревенские власти в количестве трех человек — бывший секретарь парткома сельсовета, «главный», но единственный бухгалтер и бывший Председатель сельсовета, ныне Глава местной администраций — очень возмутились таким фактом абсолютно незаконного захоронения! Дескать, при местной церкви есть небольшое сельское кладбище, там и извольте совершать свои погребения! А чтоб на собственном подворье, в саду — где это видано, где это слыхано?!! Вот вызовем санэпидстанцию из района и посмотрим, как вы будете эти свои урны перезахоранивать! Да и то если наш батюшка, отец Гурий, разрешит вам такое захоронение…
Потому как есть сигналы, что нынешний несовершеннолетний владелец бывшего лепехинского дома — уголовник, а в некоторых урнах — не больно-то христианский пепел!
Но спустя два дня из Ленинграда… он теперь Санкт-Петербург называется, приехал новенький микроавтобус Рижского завода с бортовой надписью «Олимпийская надежда» по обоим бокам и из него вышли с десяток молоденьких крепеньких пареньков.
Расторопные пареньки почти добровольно собрали всех противников «частных» захоронений, остаток набежавших из деревни жителей, а заодно мягко и почтительно пригласили принять участие в совещании отца Гурия и местного милиционера-участкового по прозвищу, конечно же, Аниськин!
Начали пареньки с того, что вежливо поинтересовались у священника — все ли равны после смерти перед Богом? Отец Гурий ответил утвердительно. «А при жизни?» — спросили пареньки.
Вконец обнищавший за последнее время отец Гурий заколебался. Но против Веры идти испугался и взял грех на душу — сказал «Да».
— Значит, национальный вопрос и вопрос социального равенства мы с вами решили, — сказал один паренек, шириною в невысокий платяной шкаф. — Теперь о стихийных бедствиях. Лето обещает быть жарким и засушливым, в натуре. Возможны пожары. Дом Анатолия Сергеевича Самошникова и его матушки Эсфири Анатольевны стоит на отшибе и заслонен сосняком. Ваши же дома все страшно близко друг от дружки и открыты всем ветрам. Загорится один дом — сгорят все остальные. Вам это надо?
— Нет!!! — закричали все в один голос.
— Делайте выводы, — сказал юный шкаф.
Он широко улыбнулся участковому милиционеру и попросил его как «свой — своего»:
— Ты проследи, браток, чтоб нашего корешка тут не напрягали.
— Об чем базар, братва? Все будет в лучшем виде! — пообещал дальновидный участковый.
Пареньки выставили на стол Главы поселковой администрации ящик водки и подарили отцу Гурию на «святые» нужды невиданную в деревне бумажку в сто долларов.
Пить вместе с вновь обращенными союзниками отказались наотрез и уехали, напомнив, что лето может оказаться очень жарким и засушливым…
Ну, что вам еще рассказать, Владим Владимыч?..
Лидочка из-за беременности перешла в вечернюю школу…
Спортивные боссы города на Неве безоговорочно посчитали Толика Самошникова «олимпийской надеждой» и без экзаменов зачислили его в техникум физкультуры и спорта «Трудовых резервов».
По таинственным и диковатым извивам мышления ленинградского административно-партийного аппарата середины пятидесятых этот техникум нашел себе приют почему-то в знаменитой Александро-Невской лавре, и топать к нему от Староневского троллейбусного кольца нужно было через Некрополь, минуя Духовную академию, Троицкий собор и Благовещенскую церковь…
— Я оканчивал ту самую школу, в которой когда-то учились Толик-Натанчик и Лидочка и где продолжал учиться несчастный, тихий, замордованный родителями-алкоголиками младший Зайцев — брат повешенного Зайца, — сказал мне Ангел. — В пятнадцать лет мне разрешили сдать экстерном за девятый и десятый классы, и в ожидании выпускных школьных экзаменов я параллельно готовился к поступлению в университет на юридический…
— Почему именно на юридический?! — удивился я.
— А куда, по-вашему, должен поступать какой-никакой, но все-таки Ангел-Хранитель? — не менее удивленно спросил меня Ангел. — На физмат, что ли?
… К шестнадцатилетию Толик-Натанчик получил дивный подарок — Лидочка родила маленького Се-регу.
Правда, пока не было получено особое разрешение властей на «брак лиц, не достигших восемнадцати лет», ни в чем не повинный младенец назывался не в честь своего покойного дедушки — Серега, а просто и грозно: «отягощающее обстоятельство».
Однако справедливости ради следует сказать, что появление на свет именно этого «отягощающего обстоятельства» и разрешило его шестнадцатилетним маме Лидочке и папе Толику вступить в этот самый законный союз и уже официально — во всех документах — переименовать «отягощающее обстоятельство» в Сергея Анатольевича Самошникова.
В результате скромного акта регистрации и получения метрического свидетельства о рождении ребенка Самошниковых сразу стало четверо, а Петровых осталось всего лишь двое…
Был при них еще и я — по документам, спущенным Сверху, Ангел Иванович Алексеев.
Вот, даже вы сейчас улыбнулись, Владим Владимыч… Конечно, звучит нелепо, фельетонно. Как и название любой профессии, возведенное в ранг имени собственного! Что-то вроде Артист Прокофьевич или Шофер Васильевич… Бред, казалось бы. Но, как ни странно, мое отчество и фамилия имели, как модно сейчас говорить, «знаковое» происхождение. Когда Наверху было решено воспользоваться мифическим дальним родством с Иваном Лепехиным, возникло отчество — Иванович. На фамилии Алексеев настоял я сам. Хотелось, чтобы у меня осталось что-то от Леши, ради которого я и оказался на Земле.
Вы знаете о моих разногласиях с Небом, Владим Владимыч. Но только Ему я обязан тем, как удивительно просто и счастливо я вошел в круг Самошниковых и Петровых. Без малейших расспросов, без воспоминаний о несуществующем прошлом…
Мое возникновение среди них было данностью Неба, а уже к деталям моего существования на Земле в почти Человеческом качестве приложили свои руки два старых и мудрых Ангела-Хранителя…
В дверь нашего купе постучали. Ангел открыл.
На пороге стоял проводник, удивленно разглядывая крепкий чай на нашем столике, явно пытаясь припомнить — приносил он нам эти стаканы или нет.
В коридоре вагона уже шла бурная утренне-туалетная жизнь.
— Чайку не желаете? — спросил проводник упавшим голосом.
— Спасибо, нет, — поблагодарил его Ангел.
Даже на вид, не говоря уже о запахе, его чай отличался от нашего.
— Через полчасика прибываем, — проинформировал нас проводник и осторожно прикрыл дверь нашего купе.
— Вот, — с упреком сказал я Ангелу. — А я так ни хрена и не знаю, чем все это кончилось.
— Тогда — телеграфно: в восемнадцать лет, когда маленькому Сереге исполнилось два года, Толик-Натанчик выиграл первенство России во взрослом среднем весе и получил долгожданное звание «Мастер спорта». Но к тому времени наш знаменитый, вдрызг политизированный советский спорт стал катастрофически разваливаться. Хоккеисты, фигуристы, пловцы и легкоатлеты с гимнастами рванули в Америку, в Австралию, в Германию… Невостребованными остались тяжелоатлеты — борцы, боксеры, штангисты. Никому «там» они были не нужны! Так же, как и русские литераторы, поэты и драматические актеры. Мы уже с вами об этом говорили…
Итак: русский спорт умирал. Но у Толика-Натанчика под началом уже находилось более полутора сотен вполне обеспеченных бойцов…
— Как, опять банда?! — ужаснулся я.
— Нет, — твердо ответил Ангел. — Не «банда». Я бы сказал — «команда». С момента возникновения перестроечных частнопредпринимательских ужимок нашего родного нэпа пророс и знаменитый жестокий российский рэкет. В этот промысел и повалила большая часть растерявшихся и никому не нужных спортсменов. А также малое и среднее звено нашей доблестной милиции… Вот Толик-Натанчик Самошников — Самоха, мастер спорта, чемпион России, признанный и легендарный со школьных времен «авторитет» — и создал некий «заградительный отряд», который должен был противостоять этому бесчинству. Он, так сказать, «выстроил крышу» чуть ли не для всего частно-ремесленно-торгового мира Калининского района!..
— А на что существовал этот «бедный самаритянин», этот Робин Гуд районного масштаба? Все-таки — мать, жена, детеныш…
Ангел весело рассмеялся:
— Деятельность «команды» Толика была, да и сейчас осталась, крайне далека от намека на благотворительность! Отчисления «крыше» были чуть меньше, чем требовал рэкет, но за эти же деньги Самоха гарантирует каждому «крышуемому», извините за выражение, здоровье и неприкосновенность. А это, согласитесь, дорогого стоит…
К тому времени Николай Дмитриевич Петров стал полковником запаса. Кому-то в Смольном очень потребовалась его должность для молодого родственника-милиционера, уволенного из райотдела за взятки, и полковника Петрова отправили на пенсию.
Теперь почти все операции мы разрабатывали втроем — Толик, Николай Дмитриевич и я.
Николай Дмитриевич отвечал у нас за разработку действий против сотрудников милиции, замочивших свой хвост на взяточничестве, предательстве, а иногда и на открытом бандитизме. Мы же с Толиком строили козни остальным «отморозкам». Независимо от того, на кого они были «завязаны»…
— Стоп, Ангел. Подождите, — встрепенулся я. — Ваша-то какова роль в этом, с моей точки зрения, все-таки полубандитском триумвирате? Чем вы там можете быть полезным?!
— Обижаете, начальник, как сказали бы наши пацаны, — рассмеялся Ангел, попытавшись скопировать хрипловатую блатную манерочку. — Диапазон моих возможностей, когда-то данных мне Небом, оказался вполне достаточным для этой работы. Начиная от «предвидения» замышляемого нашими противниками до устранения прямой угрозы жизни наших сотрудников или их семей… Наша задача не уничтожать физически тех, против кого мы работаем, а довести их до законного — подчеркиваю — законного суда! Это я вам как юрист говорю. Одновременно я вынужден признать, что не все наши суды так уж безгрешно следуют духу и букве закона… Вот когда начинается мое основное вмешательство, уже как Ангела-Хранителя! Я должен своими Способностями, заложенными в меня еще в начальных классах Школы Ангелов, суметь «незримо повлиять» на ход следствия и на течение судебного процесса. Да так, чтобы уберечь следствие, а потом и суд от нечаянно или заведомо неверного решения. Чтобы избежать несправедливого осуждения невиновного и оправдания подонка!.. Иногда и у меня происходят срывы. И тогда мне приходится ездить в Москву, в Верховный суд… Вот как в данном случае, например. Так что, Владим Владимыч, вы уж не катите бочку на наш триумвират!..
— И Толик стал невероятно богатым и уважаемым человеком? Да? Так ведь должны кончаться все сегодняшние святочные истории? Так, Ангел?.. — может быть, даже излишне саркастично спросил я.
Неожиданно мне стало тоскливо и обидно от угадываемых банальностей.
— Уважаемым — да, а вот богатым… Нет, богатым он не стал, — ответил мне Ангел. — Очень большие расходы… Он перестроил церковь в Више, которая вот-вот должна была завалиться… Сам закупил все материалы, сам работал на этой перестройке, как когда-то в колонии, когда возводил часовню для несовершеннолетних правонарушителей. Платит фиксированную зарплату священнику отцу Гурию. Из своих… Дороги в деревне привел в порядок, водопровод проложил во все дома Виши. Пристроил к сельскому клубу спортивный зал с душевыми и медицинским кабинетом — сам тренируется там, мальчишки к нему из окрестных поселков на занятия ездят. Там у него борьба и акробатика… Сейчас бассейном двадцатипятиметровым бредит! Он вообще почти переехал в деревню. Лидочка бросает маленького Серегу двум бабушкам, которые, как мне кажется, просто растворились во внуке, а сама чуть ли не каждый день мотается из Виши в Питер, в свою Академию художеств. Она там что-то по искусствоведению… А дома занимается иконописью.
— Чем?! — переспросил я.
Мне показалось, что я ослышался.
— Иконы пишет, — повторил Ангел. — Но, как говорится, «для дома, для семьи». Короче, для внутреннего употребления.
Вот Лидочку мне стало вдруг безумно жалко!
Когда красивая, решительная, остроумная и невероятно отважная девочка неожиданно начинает барахтаться в мутной волне модного течения и «уходит в Бога», как это произошло с некоторыми моими знакомыми, мне от этой фальши становится так худо, что и не высказать!
— Ни в какого «Бога» она не ушла, — прервал мои мысли Ангел. — На иконах она пишет только тех, кого ЕЙ хочется на них видеть… Вы к утру стали как-то неоправданно агрессивны, Владим Владимыч!
— Наверное, немного устал, Ангел. Простите меня, — чуточку лживо пробормотал я.
— Да! Забыл вам сказать еще одну замечательную вещь! Толик купил маленькому Сереге персональную корову каких-то фантастических кровей! Теперь у ребенка каждый день свежее молоко.
— Что вы говорите? — Я вяло сыграл некий интерес к сообщению.
— И Фирочка сама доит эту корову, — гордо сказал Ангел.
Это мне уже так приглянулось, что даже настроение исправилось.
— Вот что мне хотелось бы увидеть! — Я вопросительно посмотрел на Ангела.
Тот глянул на свои роскошные часы и быстро проговорил:
— Только не задерживайтесь, Владим Владимыч. Питер на носу…
В коровнике, облицованном розовым кафелем, Фирочка действительно доила большую чистую корову с очень красивыми и добрыми глазами…
С тех пор как я видел Фирочку в последний раз, она заметно пополнела, но, как принято было изъясняться раньше, «не утратила следов былой красоты».
Тут же, будто специально для меня, в коровник заглянул квадратненький мальчик лет девяти с Лидочкиной детской физиономией. Наверное, это и был маленький Серега.
— А где все? — растерянно спросил он Фирочку.
— Нас с коровой тебе недостаточно?
— Что ты, бабуль!.. Я проснулся, а дом пустой…
— Выпей-ка вот молочка натощак. — Фирочка протянула Сереге стакан с молоком.
— Бабуля! Бабулечка!.. Бабуленька!!! — заныл Серега. — Ты же знаешь, как я ненавижу парное молоко!..
— Поговори об этом с папой.
— Ты что?! Ты представляешь, что будет?! Особенно если мамы не окажется рядом…
— Тогда пей и не кобенься!
С демонстративным отвращением Серега выпил стакан молока, утерся рукавом и снова спросил:
— А куда они все делись?
— Мама и папа поехали в город на Московский вокзал встречать Ангела. И захватили с собой бабушку Наташу, чтобы до вокзала забросить ее на работу…
— А дедушка?
— А дедушка твой любимый еще с вечера оставался в городе. Его сегодня на восемь утра пригласил к себе сам губернатор.
— Зачем?
— Не знаю. Кажется, его хотят ввести в какой-то координационный совет по всяким криминальным вопросам… Иди мойся, чисть зубы, прибери постель и пропылесось свою комнату. Скоро наши вернутся с вокзала…
Серега рассмеялся и взял в руки кончик коровьего хвоста.
— Что ты ржешь, мой конь ретивый? — спросила Фирочка. — Оставь корову в покое!
Серега сделал вид, будто кончиком коровьего хвоста, как взрослый, намыливает себе щеки перед бритьем и, давясь от смеха, еле выговорил:
— А я знаю, что дедушка скажет губернатору!
— Ну, что? — Фирочка устало вытерла пот со лба.
— Ты будешь сердиться…
— Не буду.
— Чесслово?
— Да, да…
— Дедушка скажет губернатору: «Да идите вы все в жопу!»
— Серега!!! — в панике закричала Фирочка. — Как ты смеешь…
— Я?! — удивился Серега. — Это дедушка так скажет. Он это уже раз сто говорил. Даже по телефону!..
Я подумал, что, пока бабушка Фира и внук Серега будут выяснять отношения, смогу хоть мельком, но осмотреть дом людей, о которых теперь столько знал.
Однако, как только я, невидимый для всех, некий старенький фантом, вышел из розового коровника, за мной сразу же выскочил и маленький Серега.
Он посмотрел мне в глаза и молча поднес палец к губам, прося не произносить ни звука.
Не скрою, я был ошеломлен!
Еще ни разу во всех моих путешествиях во Времени я лично не принимал участия ни в каких событиях, происходящих на моих глазах!.. Я был всего лишь Зрителем в этом Просмотровом Зале Прошлого…
Но сейчас… Сейчас маленький и очень цепкий девятилетний мальчик Серега Самошников тащил меня в глубину дома, подальше от входа в розовый коровник.
— Не бойся, — наконец тихо шепнул мне Серега, когда по скрипучей деревянной лестнице мы взобрались на второй этаж. — Кроме меня тебя здесь никто не увидит. Ты чей дедушка?
— Катин… — туповато и покорно ответил я.
— Она в каком классе?
— Она в университете кино и телевидения.
— А-а-а… Уже взрослая? — разочарованно протянул Серега.
— Да, — растерянно сказал я. — А откуда ты узнал, что я здесь?
— Ангел сказал.
— Как?!!
— Не знаю. Я услышал только его голос: «Проснись, Серый! Сейчас к вам придет один дедушка — покажи ему мамины иконы». Я пошел тебя искать и нарвался на парное молоко. А бабулю неохота было пугать… Она же не может знать, что ты здесь. Ты же для нее — невидимый.
— А каким образом ты это знаешь и видишь?
— Ангел научил. Пойдешь смотреть мамины иконы?
— Да, да… Конечно!
Я много раз читал о чудесах загородных домов новых русских, всяческих богатеньких людишек, олигархов, нефтяных королей и газовых принцев, зарвавшихся ворюг-генералов и обалдевших от собственной популярности так называемых звезд шоу-бизнеса.
Кто-то из авторов таких описаний захлебывался от восторга, кто-то исходил завистливой желчью, кто-то дымился негодованием, а кто-то достаточно едко иронизировал по поводу торжества роскоши и безвкусицы…
В этом доме разножанрово пишущим ребятам и бичующим господам делать было нечего. Разве что похихикать над розовым кафелем в коровнике. И все.
В этом старом, добротном доме все было подчинено здравому смыслу. Очень я обрадовался этому!
Ну а уж когда маленький Серега, соблюдая все правила детской конспирации, привел меня в Лидочкин кабинет — тут я совсем опешил!
У окна наклонный рабочий стол с недописанной иконой, краски, кисти, штихели, растворители. Репродукции древних икон.
Большая и хорошая библиотека. Масса альбомов по живописи и архитектуре. Много хороших гравюр. Фотография Любови Абрамовны…
«Святой угол» завешан готовыми иконами. А под ним вместо лампадки — превосходный компьютер, принтер, сканер и куча разных бумаг.
Я водрузил на нос очки и стал внимательно рассматривать иконы, писанные Лидочкиной, несомненно, очень талантливой, рукой…
Две иконы я узнал сразу!
На первой — некий парафраз «Божьей матери с младенцем». Лик «матери» был написан с фотографии молоденькой Фирочки, а «младенец» оказался вылитым Лешкой в трехлетнем возрасте!!!
Я же прекрасно помнил, как они выглядели в То Время!
Вторая икона потрясла меня еще больше… Это была икона «Мученика Ионофана». Из прекрасного, чеканного оклада старинного серебра на меня смотрел иконописный Натан Моисеевич Лифшиц!
Я даже вспомнил, откуда был взят этот лик великомученика. Эта фотография в То Время висела на Доске почета ателье индпошива на Лиговке…
Я схватил лежащий на столе сборник «Имена святых, упомянутых в месяцеслове» с подзаголовком «Указание дат празднования их памяти (по старому стилю) и объяснение значений их имен», раскрыл его, отыскал имя Ионофан и узнал, что это древнееврейская трансформация имени Натан…
С третьей иконы — «Святого Иоанна Милостивого» — лучилось доброе, запьянцовское и самоотверженное лицо верного Ванечки Лепехина…
На наклонном рабочем столе Лидочки была укреплена незаконченная иконка. Однако даже в ее незавершенности уже можно было угадать черты покойного Сергея Алексеевича Самошникова…
— Дедушка! Дедушка!!! — услышал я голос маленького Сереги и почувствовал, как он дергает меня за рукав пиджака. — Дедушка, тебя Ангел к себе зовет!..
«УЖЕ?..» — подумалось мне, и предсмертная тоска охватила мою душу!
Я так всегда боялся этого…
Особенно последние годы, после семидесяти!..
Я уже давно скрупулезно высчитываю расстояние от рождения до смерти под чужими портретами в музеях и мемуарах, на гранитных кладбищенских плитах, в газетных некрологах.
И когда это «расстояние» оказывается короче моего сиюминутного возраста, я откровенно и зримо пугаюсь.
Когда же чья-то жизнь бывала прожита намного дольше моего существования, я по-детски радуюсь тому, что, может быть, и мне удастся… вот так же… хотя бы еще несколько лет!..
Боже мой, что же будет с Ирочкой, когда она узнает?..
И Катька должна встречать меня на перроне…
…но тут я снова услышал быстрый и настойчивый шепот маленького Сереги:
— Дедушка… Дедушка!.. Наш Ангел очень просит тебя скорее вернуться в вагон!
«НАШ АНГЕЛ»?..
Ах, всего лишь?! Я, кажется, что-то явно напутал… В горле запершило. Я откашлялся и отчаянно закричал в никуда:
— Иду, Ангел, иду!..
— Я же предупреждал вас, Владим Владимыч!.. — с упреком и досадой проговорил Ангел. — Одевайтесь быстрее! И посмотрите в окно…
Наш поезд неслышно и еле заметно крался мимо перрона…
…по которому неторопливо шла моя элегантная внучка Катька, улыбалась мне и Ангелу и постукивала в оконное стекло нашего купе своими излишне длинными, тщательно наманикюренными коготками.
— Вас тоже встречают, — сообщил я Ангелу.
— Я знаю, спасибо, Владим Владимыч, — улыбнулся Ангел и помог мне надеть мою теплую куртку. — Вас подвезти?
— Не стоит, благодарю вас. Мы с Катюхой, наверное, сначала пройдемся по Невскому, подышим воздухом, а потом я возьму такси.
— Как скажете, маэстро. Но я надеюсь…
— Вне всякого сомнения. — Я протянул Ангелу свою визитную карточку. — Тут оба телефона — и мюнхенский, и петербургский.
— Спасибо. Двинулись?
Я перекинул сумку через плечо, и мы с Ангелом стали протаптываться к выходу из вагона. А потом и вовсе выползли на перрон.
— Дедуленька!.. — проворковала Катька и повисла у меня на шее, откровенно стреляя намазанными глазками в появившегося за мною Ангела.
— Познакомьтесь, пожалуйста, — сказал я им. — Это моя внучка Катя. Я вам о ней рассказывал. Катюня, а это мой замечательный сосед по купе с прелестным именем — Ангел!
Катька протянула Ангелу руку, вгляделась в него и слегка испуганно сказала:
— А ведь я вас откуда-то уже знаю…
— Возможно.
Ангел глуповато улыбался и растерянно поглядывал то на меня, то на Катьку своими голубыми «ангельскими» глазами. На Катьку чаще.
Я и не подозревал, что неожиданно «втрескавшийся» в Катьку Ангел может выглядеть вот именно так! А то, что он «запал» на нашу Катьку, у меня не было никаких сомнений. Когда-то я имел некоторый опыт в подобных делах.
Мимо нас шел народ с портфелями и сумками, с чемоданчиками на колесах, мимо катились тележки носильщиков, в конец состава бежали опоздавшие встречающие с цветочками…
Ангел судорожно перевел дыхание, как-то уж больно смущенно улыбнулся и очень неуверенно и негромко сказал:
— Я был очень рад с вами познакомиться…
До меня мгновенно дошло, что эта фраза ко мне не имеет ни малейшего отношения! Она целиком была адресована нашей Катьке.
— …и очень надеюсь… — проговорил Ангел.
— Конечно! — тут же нервно поспешила сказать Катя. — Да, дедушка?!!
Я, как старая ученая цирковая лошадь, закивал головой. Наверное, я бы тряхнул и гривою… Но где взять гриву?
— Обязательно… — повторила наша Катька таким голосом, что я понял — «пропала девка!». — Тем более что я только сейчас сообразила, откуда я знаю вас, Ангел!
— Откуда? — уже подозрительно и строго спросил я.
Но Катька ответила не мне, а самой себе:
— Вы же мне сегодня снились всю ночь, Ангел!..
Ангел счастливо улыбнулся, крепко пожал мне руку и очень нежно поцеловал длинные, красивые Катькины пальцы.
И исчез.
Растворился…
Его просто не стало!..
Я понимал, что этот последний трюк Ангел «сотворил» только ради нашей внучки.
Меня распирала гордость, слегка отравленная дедовско-мужской ревностью, которая в пропорциональном отношении с гордостью была столь ничтожна, что я забыл о ней уже через три секунды.
Особенно после того, как Катька потрясенно сказала:
— Обалденный парень!!!
… Как я теперь сумею объяснить моей жене Ире, Катькиной бабушке, что нашей Катьке, кажется, предстоит роман с настоящим Ангелом? Понятия не имею.
Подозреваю, что Иришка все выслушает и, как обычно, невозмутимо скажет:
— Вовик, прости меня, пожалуйста, но ты уже в том возрасте, когда имеет смысл немножко поберечься и меньше пить джин. Или хотя бы разбавлять его тоником со льдом…