Книга: Впусти меня

Мие, моей Мие посвящается
Блакеберг.[1]
Первое, что приходит на ум, — это шоколадные пирожные в кокосовой стружке. Ну, может, еще наркотики. «Достойная жизнь».[2] Станция метро, окраина города. Вот вроде и все. Люди живут, как везде. Для того и строили, чтобы людям было где жить.
Он не из тех районов, что вырастают постепенно. Здесь с самого начала все четко поделено на жилые единицы. Новые жильцы занимают уже имеющуюся жилплощадь. Бетонные дома землистого цвета, утопающие в зелени.
К моменту описываемых событий Блакеберг как населенный пункт просуществовал вот уже тридцать лет. О, дух первопроходцев! «Мэйфлауэр». Новая земля. Да. Представьте себе пустые дома, ожидающие первых поселенцев.
Да вот и они!
Тянутся цепочкой через мост Транебергсбрун с лучезарными улыбками и взглядами, полными надежд. Матери прижимают детей к груди, везут в колясках, ведут за руку. Отцы несут не лопаты и кирки, а кухонную технику и функциональную мебель. Скорее всего, они что-то поют. Может, «Интернационал». А может, «Иерусалим, к тебе грядем!», в зависимости от пристрастий. На дворе 1952 год…
Смотрите, какое здесь все большое! Новое! Современное!
Только все было не так.
Они приехали на метро. Или на машинах. Или на грузовиках. По одному. Просочились в новые типовые квартиры со своими вещами. Разложили их по стандартным отсекам и полкам, расставили мебель в ряды на пробковом покрытии. Докупили недостающее, чтобы заполнить пустоты.
Закончив, они подняли головы и взглянули на землю, им дарованную. Вышли из домов и увидели, что целина уже поднята. Оставалось лишь осваивать то, что есть.
А был здесь городской центр. Огромные детские площадки. Обширные парки под боком. Многочисленные пешеходные дорожки.
Хорошее место. Так они и говорили друг другу за кухонным столом, пару месяцев спустя после переезда. «Хорошее мы выбрали место».
Не хватало лишь одного. Прошлого. В школе детям не задавали докладов по истории Блакеберга, потому что истории не было. Хотя нет, было что-то такое про мельницу. Про короля жевательного табака. Про странные покосившиеся постройки на берегу. Но все это было давно и не имело никакого отношения к настоящему.
Там, где теперь стояли трехэтажки, раньше был только лес.
Тайны прошлого не коснулись этих мест, даже церкви — и той не было. Город с населением в десять тысяч человек — и без церкви.
Это лишний раз говорит о духе современности и рациональности, царящем здесь. О том, сколь эти люди чужды призраков и ужасов прошлого.
Это также частично объясняет, до какой степени все происшедшее застигло их врасплох.
*
Никто не заметил, как они появились.
Когда полиция в декабре наконец отыскала водителя грузовика, перевозившего их вещи, ему оказалось нечего вспомнить. В путевом журнале за 1981 год значилось лишь: «18 окт.: Норрчёпинг — Блакеберг (Стокгольм)». Он вспомнил, что это были отец и дочь, красивая девочка.
— Ах да… У них почти не было вещей. Диван, кресло, вроде еще кровать. Можно сказать, налегке. И еще… они непременно хотели ехать ночью. Я предупредил, что это выйдет дороже — ну, внеурочные там и все такое. Но они сказали, что это не проблема. Лишь бы ночью. Это вроде как было самое главное. А что случилось-то?
Водителю рассказали, в чем дело, объяснив, кого он вез на своем грузовике. Выпучив глаза, он уставился на запись в путевом листе.
— Твою мать!..
Рот его скривился, словно от внезапного отвращения к собственному почерку.
«18 окт.: Норрчёпинг — Блакеберг (Стокгольм)».
Значит, это он их привез. Мужчину и девочку.
Вот уж чем он никому не станет хвастать. Никогда.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Счастлив тот, у кого есть такой друг
Любовные муки
Не дают вам покоя,
Мальчики!
Эта кровь не нужна мне, я же, в общем, не злой —
Просто сделал свой выбор,
Чтоб ты видела смысл оставаться со мной.
Значит, козырь не выпал?..
— Как вы думаете, что это такое?
Гуннар Холмберг, комиссар полиции из Веллингбю, продемонстрировал небольшой пакетик с белым порошком.
Ясное дело — героин. Но подать голос никто не осмеливался. Кому охота признаваться, что ты знаком с подобными вещами? Особенно если этим балуется твой брат или его приятели. В смысле, ширяются. Даже девчонки молчали. Полицейский потряс пакетиком:
— Ну, кто-нибудь? Может быть, сода? Или мука?
Несогласный ропот. Он что, принимает шестой «Б» за идиотов?! Конечно, по виду точно не определишь, но, если урок посвящен наркотикам, не так уж трудно сделать соответствующие выводы. Полицейский обернулся к учительнице:
— Чему вы их вообще учите на уроках домоводства?
Учительница с улыбкой пожала плечами. По классу пробежал смешок — а чувак вообще ничего. Даже дал кое-кому потрогать пистолет перед уроком. Незаряженный, конечно, но все равно круто.
Оскара так и распирало. Он знал ответ. Невыносимо было сдерживаться, когда он точно знал. Ему хотелось, чтобы полицейский посмотрел на него. Посмотрел и сказал что-нибудь, похвалил. Осознавая, что совершает глупость, он поднял руку.
— Да?
— Это ведь героин, правда?
— Правда. — Полицейский одобрительно посмотрел на него. — Как ты угадал?
Все головы повернулись в его сторону, с любопытством ожидая, что он на это ответит.
— Ну, много читаю и все такое. Полицейский кивнул:
— Это хорошо, что много читаешь… — Он потряс пакетиком. — А вот если свяжешься с этой дрянью, будет не до чтения. Как думаете, сколько это может стоить?
Оскару больше незачем было поднимать руку. Он получил свою долю внимания — его заметили, удостоили ответом и ему даже удалось сообщить комиссару полиции, что он много читает. На такое везение он и не рассчитывал.
Он погрузился в мечты, представляя, как после урока полицейский подойдет к нему, сядет рядом, начнет расспрашивать о жизни. И он все ему выложит. И тот поймет. Погладит по голове, назовет молодцом, обнимет его и скажет…
— Мудак!
Йонни Форсберг больно ткнул его пальцем в бок. Его брат тусовался с торчками, так что Йонни знал кучу словечек, быстро подхваченных мальчишками в классе. Уж кто-кто, а Йонни точно был в курсе, сколько стоил такой пакетик, однако языком трепать не стал. Не раскололся перед легавым.
Началась перемена. Оскар нерешительно потоптался у раздевалки. Он знал, что Йонни так это дело не оставит, и теперь обдумывал, что надежнее — остаться в коридоре или выйти на улицу. Йонни и все остальные высыпали во двор.
Ах, ну да, там же полицейская машина, и всем желающим разрешили на нее посмотреть. Вряд ли Йонни посмеет тронуть его при полицейском.
Оскар подошел к застекленной двери и выглянул наружу. Точно, весь класс столпился вокруг машины. Оскар бы многое отдал, чтобы тоже оказаться там, но об этом нечего было и думать — уж кто-нибудь обязательно отвесит ему пендель или натянет трусы до ушей, никакая полиция не поможет.
По крайней мере на этой перемене можно было спокойно вздохнуть. Он вышел во двор и незаметно свернул за угол, к туалетам.
В туалете он прислушался, прокашлялся. Звук гулко прокатился над кабинками. Оскар поспешно вытащил из штанов ссыкарик — поролоновый шарик размером с мандарин, вырезанный из старого матраса, с отверстием нужного размера. Понюхал.
Ну конечно, так он и думал — немного, но обоссался. Он промыл шарик под краном, выжал как следует.
Энурез. Вот как это называется. Он вычитал это в брошюре, украдкой подобранной в аптеке. Им обычно страдали дряхлые старухи.
И я.
В брошюре говорилось, что от этого существует лекарство, но не затем он копил карманные деньги, чтобы топтаться в аптеке, подыхая со стыда. И уж конечно он не мог рассказать об этом маме — она бы его потом замучала своей жалостью.
У него был ссыкарик, и пока этого хватало, лишь бы не стало хуже.
Шаги за дверью, голоса. Сжимая шарик в руке, он метнулся в кабинку и заперся там. В ту же секунду открылась входная дверь. Он бесшумно забрался на унитаз с ногами, чтобы его не заметили, если им придет в голову заглянуть в щель под дверью. Затаил дыхание.
— Хрю-юша?
Йонни, конечно же.
— Поросенок, ты там?
И Микке. Двое самых опасных мучителей. Нет, Томас, пожалуй, хуже, но он редко участвовал в затеях, чреватых синяками и царапинами. Для этого он был слишком умен. Небось стоит сейчас у полицейской машины, подхалимничает. Если бы они узнали про ссыкарик, уж Томас бы точно превратил его жизнь в ад. А Йонни и Микке просто надают ему по шее, и дело с концом. Так что в каком-то смысле ему еще повезло.
— Поросе-енок? Мы знаем, что ты здесь.
Они подергали ручку двери. Потрясли. Начали колотиться в кабинку. Оскар обхватил руками колени и крепче сжал зубы, чтобы не закричать.
Уходите! Оставьте меня в покое! Что вы ко мне пристали?!
Йонни ласково произнес:
— Поросеночек, милый, если ты не выйдешь, нам же придется тебя после школы подсторожить. Ты этого хочешь?
Повисла тишина. Оскар тихонько выдохнул.
Они продолжали что есть силы колотить в дверь руками и ногами. Грохот разносился над кабинками. Дверная защелка прогнулась. Пожалуй, стоило открыть и выйти к ним, пока они окончательно не разозлились. Но он не мог, и все тут.
— Поросе-енок?
Оскар поднял руку в классе, заявил о себе. Похвастал знаниями. Это было запрещено. Ему такое не прощалось. Они выискивали малейший повод для издевательств — он был слишком толстым, слишком уродливым, слишком противным. Но главное — он существовал, и каждое напоминание об этом было преступлением.
Скорее всего, они просто устроят ему «крестины»: макнут головой в унитаз и спустят воду. Что бы они ни придумали, каждый раз после экзекуции он испытывал невероятное облегчение. Так почему же он не может открыть защелку, которая и так вот-вот поддастся, и дать им отвести душу?
Он смотрел, как защелка со стуком вылетает из паза, как распахивается дверь, грохнувшись о стенку кабинки, как в проходе возникает ликующий Микке, и знал ответ.
Потому что у этой игры свои законы.
Он не открыл замок, а они не перелезли через стену кабинки, потому что у этой игры другие правила. Каждому — своя роль.
Им — раж преследователей, ему — страх жертвы. Когда он попадался им в руки, лучшая часть игры оставалась позади, само наказание было лишь формальностью. Сдайся он раньше времени — и вместо погони им бы пришлось направить свою энергию на наказание. А это гораздо хуже.
Йонни Форсберг заглянул в кабинку:
— Если собрался срать, крышку подними! А ну-ка повизжи!
И Оскар завизжал. Это тоже было частью игры. Иногда, если он слушался, ему удавалось избежать наказания. Сейчас он особенно старался — из страха, что они разожмут его руку и обнаружат позорный секрет.
Он сморщил нос пятачком и принялся хрюкать и визжать, визжать и хрюкать. Йонни с Микке заржали:
— Молодец, Поросенок! А ну давай еще!
Оскар продолжил верещать, зажмурившись и сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Потом умолк. Открыл глаза.
Они ушли.
Он остался сидеть, съежившись на крышке унитаза и уставившись в пол. На кафельной плитке под ним виднелась красная капля. Пока он смотрел на нее, из носа упала еще одна. Он оторвал от рулона кусок туалетной бумаги и прижал к носу.
Иногда с ним такое случалось — от страха начинала идти носом кровь. Это даже пару раз спасало его от побоев: увидев, что он и так в крови, его в последний момент отпускали.
Оскар Эрикссон сидел, скорчившись на унитазе, с туалетной бумагой в одной руке и обоссанным шариком в другой. Мальчик, страдающий кровотечением, недержанием и словесным поносом. Да у него же течет изо всех дыр! Еще немного — и он будет какаться в штаны. Свинья.
Он встал, вышел из туалета. Капли крови на полу он вытирать не стал. Пускай кто-нибудь увидит и задумается, что здесь произошло. Решит, что здесь кого-то убили. Потому что здесь и правда кого-то убили. Снова. В сотый раз.
*
Хокан Бенгтссон, мужчина сорока пяти лет, с пивным брюшком, заметной лысиной и неизвестным властям местом жительства, сидел в вагоне метро, выскочившем из туннеля, и разглядывал в окно район, где ему предстояло жить.
Не самое красивое место. Норрчёпинг был куда приятнее. И все же западное направление лучше, чем захолустья вроде Щисты, Ринкебю и Халлонбергена, которые ему приходилось видеть по телевизору. Этот район заметно от них отличался.
«СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ: РОКСТА».
Здесь все казалось более плавным, округлым, даже невзирая на местный небоскреб.
Он наклонил голову, чтобы разглядеть последний этаж офисного здания компании «Ваттенфаль». Таких высоченных домов в Норрчёпинге он не припоминал. Правда, он так ни разу и не побывал в центре города.
Вроде ему на следующей? Он взглянул на схему метро над дверями. Да, на следующей.
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ».
Никто на него не смотрит?
Нет, в вагоне сидело всего несколько человек, да и те уткнулись в свои вечерние газеты. Завтра в них напишут про него.
Взгляд его задержался на рекламе нижнего белья. Женщина, позирующая в черных кружевных трусиках и лифчике. Господи, ужас какой. Кругом разврат. И как только такое допускают. Куда катится этот мир, куда девалась любовь?
Руки его дрожали, ему пришлось положить их на колени. Он страшно нервничал.
— И что, совсем нет другого выхода?
— Думаешь, я бы тебя на это толкала, если бы существовал другой выход?
— Нет, но…
— Другого выхода нет.
Выхода нет. Значит, остается взять и сделать. И желательно ничего не запороть. Он изучил карту в телефонном справочнике, выбрал участок леса, с виду подходивший лучше всего, и отправился в путь.
Эмблему «Адидас» он срезал ножом, теперь лежавшим в сумке, зажатой между ног. Это была одна из его ошибок в Норрчёпинге. Кто-то запомнил логотип на сумке, а потом полиция нашла ее в мусорном контейнере неподалеку от их квартиры, куда он сам же ее и выбросил.
На этот раз он возьмет сумку домой. Изрежет на куски и, например, спустит в унитаз. Интересно, так делают?
А как вообще делают?
«КОНЕЧНАЯ…»
Поезд исторг из своего чрева толпу пассажиров, и Хокан последовал за всеми, неся сумку в руке. Она казалась тяжелой, хотя единственным весомым предметом внутри был газовый баллон. Хокан старался идти как можно небрежнее, а не как приговоренный, бредущий на собственную казнь. Нельзя привлекать к себе внимание.
Но ноги подкашивались, словно желая врасти в перрон. А что если взять и остановиться? Встать на платформе — и не двигаться. Стоять здесь до самой ночи, пока его не заметят, не позвонят… кому-нибудь, кто приедет и его заберет. Увезет подальше отсюда…
Он продолжал идти, не сбавляя шага. Правой, левой. Нет, нельзя раскисать. Стоит допустить какую-нибудь оплошность — и случится непоправимое. Самое страшное, что только можно себе представить.
Наверху, у турникетов, он огляделся по сторонам. Он не очень хорошо здесь ориентировался. Интересно, где тут лес? У прохожих, понятное дело, не спросишь. Оставалось идти наугад. Лишь бы идти, поскорее со всем этим разделаться. Правой, левой.
Должен же быть какой-то другой выход!
Но в голову ничего не приходило. Существовали четкие правила, условия. И это был единственный способ их выполнить.
Он делал это дважды, и оба раза прокалывался. В Вэкшё промах был не особо серьезным, но им тем не менее пришлось переехать. Сегодня он все сделает правильно. Заслужит похвалу.
А может, и ласку.
Два раза. Он был уже обречен. Разом больше, разом меньше — какая разница? Никакой. Приговор общества все равно один. Пожизненное заключение.
А приговор совести? Сколько взмахов хвоста, царь Минос?[3]
Аллея сворачивала в сторону там, где начинался лес. Похоже, тот самый, что он видел на карте. Баллон и нож бряцали в сумке. Он старался нести ее как можно ровнее.
На дороге перед ним показался ребенок. Девочка лет восьми, идущая домой после школы, с подпрыгивающей на боку сумкой.
Нет! Никогда в жизни!
Всему есть предел. Только не ребенка! Уж лучше пусть берет у него, пока он не рухнет замертво. Девочка что-то напевала. Он ускорил шаг, нагоняя ее, чтобы расслышать слова.
Неужели дети до сих пор это поют? Может, у девочки была старушка-учительница. Как хорошо, что эту песенку еще помнят. Ему захотелось подойти поближе, чтобы лучше расслышать, да, еще ближе, чтобы различить запах волос…
Он замедлил шаг. Осторожность прежде всего. Девочка свернула с аллеи и продолжила путь по лесной тропинке. Наверное, живет по ту сторону леса. И как только родители позволяют ей ходить здесь одной, такой крохе?
Он остановился, дожидаясь, пока девочка исчезнет из виду.
Иди, иди, милая. Не останавливайся и не играй в лесу.
Он выждал около минуты, слушая пение зяблика на соседнем дереве. И последовал за ней.
*
Оскар шел домой из школы с головой тяжелой, как чугун. Ему всегда становилось паршиво на душе, когда удавалось избежать наказания таким способом, будь то поросячий визг или что-нибудь другое. Даже хуже, чем если бы его избили. Он это знал и все равно еще ни разу не смог себя заставить с честью принять издевательства — его слишком пугала боль. Уж лучше унижения. Не до гордости.
А вот у Робина Гуда и Спайдермена была гордость. Если бы Сэр Джон или доктор Осьминог загнали их в угол, они бы плюнули врагам в лицо, и дальше будь что будет.
Хотя с другой стороны — что Человек-Паук знает о жизни? Ему-то всегда удается избежать опасности, даже в самых безвыходных ситуациях. Он всего-навсего персонаж комиксов, обязанный остаться в живых ради следующего выпуска. В распоряжении Спайдермена — его паучьи способности, в распоряжении Оскара — поросячий визг. Выживание любой ценой.
Оскару необходимо было утешиться. У него был тяжелый день, и ему требовалась хоть какая-то компенсация. Рискуя напороться на Йонни с Микке, он направился в центр Блакеберга, в универсам «Сабис». Он поднялся по зигзагообразному пандусу, вместо того чтобы воспользоваться ступеньками, и сосредоточился. Главное — сохранять спокойствие и не потеть.
Его уже однажды поймали на краже в универсаме «Консум» год назад. Охранник хотел позвонить маме, но она была на работе, а рабочего номера Оскар не знал, честное слово, не знал! Он потом целую неделю дергался от каждого телефонного звонка, пока домой не пришло письмо на имя мамы.
Вот идиоты. На конверте значилось: «Полиция Стокгольмского округа», и, само собой, Оскар его вскрыл, прочитал отчет о своем проступке, подделал мамину подпись и отправил назад извещение о прочтении. Он, может, и трус, но не дурак.
Да и трус ли? Можно ли назвать трусостью то, что он сейчас делал? Набивал карманы куртки шоколадными батончиками «Дайм», «Япп», «Коко» и «Баунти». Напоследок он заткнул за пояс штанов пакетик жевательного мармелада в форме машинок и, подойдя к кассе, заплатил за один леденец на палочке.
Домой он возвращался легким шагом и с высоко поднятой головой. Он больше не чувствовал себя Поросенком, которого все пинают, нет, он был Суперграбителем, бросающим вызов опасности и всегда выходящим сухим из воды. Он кого угодно обведет вокруг пальца!
За аркой, ведущей к нему во двор, он чувствовал себя в безопасности. Никто из его недругов не жил в этих домах, стоящих неровным кругом внутри еще более широкого круга улицы Ибсенсгатан. Двойная крепость. Здесь его никто не мог достать. В этом дворе с ним еще никогда не случалось ничего плохого. Ну или почти ничего.
Здесь он вырос и обзавелся друзьями до того, как пошел в школу. По-настоящему травить его начали только в пятом классе. К концу пятого он сделался постоянным объектом насмешек, и даже его друзья из других классов это почувствовали. Они стали все реже звонить и приглашать его играть.
Примерно тогда он и завел свой альбом с вырезками. Тот самый, ради которого он сейчас так стремился домой, предвкушая предстоящее удовольствие.
Вж-ж-ж-ик!
Послышалось жужжание, и что-то ударилось об его ногу. Темно-красная радиоуправляемая машинка отъехала назад, развернулась и понеслась на полной скорости вверх по склону, по направлению к его подъезду. За кустами терновника справа от арки стоял Томми с длинной антенной, торчащей из живота, и хихикал.
— Че, не ожидал?
— Вот это скорость!
— Ага. Хочешь купить?
— … И сколько?
— Триста.
— Не… У меня столько нет.
Поманив Оскара указательным пальцем, Томми развернул машину и с дикой скоростью погнал ее вниз по склону. Остановив машину у своих ног, он поднял ее, погладил и сказал:
— В магазине все девятьсот стоит.
— Да я знаю.
Томми посмотрел на машину и смерил Оскара взглядом с головы до ног.
— Ладно, двести. Между прочим, новая.
— Да не, машина супер, но…
— Но?
— Не…
Томми кивнул, снова опустил машину на землю и загнал ее в самые кусты, так что большие рельефные колеса забуксовали. Встав на дыбы, она развернулась и покатилась с горы.
— Дашь попробовать?
Томми оценивающе посмотрел на Оскара, будто решая, достоин ли он, затем протянул ему пульт, ткнув пальцем себе в губу.
— Че, морду набили? У тебя кровь. Вот тут.
Оскар провел по губе указательным пальцем, сколупнув несколько засохших коричневых крошек.
— Да нет, я просто…
Главное — ничего не рассказывать. Бесполезно. Томми был на три года старше. Круче некуда. Небось скажет, что нужно давать сдачи, Оскар ответит: «Конечно» — и в результате только еще больше упадет в его глазах.
Оскар немного погонял машинку, затем понаблюдал за тем, как это делает Томми. Как бы ему хотелось иметь двести крон, чтобы заключить настоящую сделку. Да еще с Томми. Он сунул руки в карманы и нащупал сласти:
— Хочешь «Дайм»?
— Не, не люблю.
— А «Япп»?
Томми оторвал взгляд от пульта, улыбнулся.
— У тебя склад там, что ли?
— Типа того.
— Че, стырил?
— … Ага.
— Ну давай.
Томми протянул руку, и Оскар положил ему на ладонь шоколадный батончик. Тот запихнул его в задний карман джинсов.
— Спасибо. Ну пока.
— Пока.
Придя домой, Оскар высыпал добычу на кровать. Пожалуй, он начнет с «Дайма», потом съест двойной батончик и закончит своим любимым «Баунти». Ну а напоследок — фруктовые машинки, чтобы освежить рот.
Он разложил сладости в ряд на полу у кровати в нужном порядке. В холодильнике он нашел полбутылки кока-колы, горлышко которой мама заткнула фольгой. Отлично. Выдохшаяся кока-кола ему даже больше нравилась, особенно в сочетании с конфетами.
Он снял фольгу, поставил бутылку на пол рядом с лакомствами, устроился на кровати и, лежа на животе, принялся изучать свою книжную полку. Почти полное собрание комиксов «Мурашки по коже», местами дополненное более дешевыми изданиями.
Основную часть его библиотеки составляли два бумажных пакета с книгами, приобретенными за двести крон по объявлению в «Желтой газете». Он тогда доехал на метро до станции «Мидсоммаркрансен», затем, следуя указаниям, нашел нужную квартиру. Дверь открыл толстый мужик болезненного вида, с сиплым голосом. К счастью, он не стал приглашать Оскара войти, а просто вынес пакеты на лестницу, кивнул, принял две купюры по сто крон и со словами «Приятного чтения!» закрыл дверь.
Оскар заволновался. Он много месяцев разыскивал старые выпуски в букинистических магазинах на Гетгатан. По телефону мужик сказал, что у него были те самые старые номера. Все это казалось уж слишком большой удачей.
Отойдя на безопасное расстояние, Оскар поставил пакеты и принялся в них рыться. Его не обманули. Сорок один выпуск, со второго по сорок шестой номер.
Они ведь больше не продаются! И какие-то жалкие двести крон!
Неудивительно, что он испытывал некоторый страх перед этим человеком. Он же только что выманил у тролля его сокровище!
Но даже комиксы не могли сравниться с его альбомом.
Он извлек его из тайника под кипой журналов и комиксов. С виду это был обычный альбом для рисования, украденный в местном «Оленсе», — он просто-напросто вышел из магазина, зажав его под мышкой — кто там называл его трусом? — но его содержимое…
Он развернул «Дайм», откусил здоровенный кусок, насладился хрустом карамели на зубах и открыл альбом. Первая вырезка была из журнала «Дом»: история об американской отравительнице сороковых годов. Ей удалось благополучно отравить мышьяком аж четырнадцать стариков, прежде чем ее поймали, приговорили и казнили на электрическом стуле. Она просила, чтобы ее отравили, — надо сказать, вполне справедливая просьба, — но в судившем ее штате применялся электрический стул, на том и порешили.
Это была заветная мечта Оскара: увидеть своими глазами казнь на электрическом стуле. Он читал, что кровь при этом вскипает, а тело выгибается каким-то невозможным способом. Воображение еще рисовало, как вспыхивают волосы, но письменного подтверждения этому он не нашел.
Все равно круто!
Он продолжал листать дальше. Следующая вырезка была из газеты «Афтонбладет», в ней говорилось о шведском маньяке-расчленителе. Паспортная фотография плохого качества. С виду обычный мужик, каких много. А убил двух проститутов-гомосеков в собственной сауне, расчленил их электропилой и закопал за сауной. Оскар закинул в рот последний кусок «Дайма», тщательно разглядывая лицо на фотографии. Мужик как мужик.
Да хоть бы я сам через двадцать лет.
*
Хокан нашел неплохой наблюдательный пост, с которого лесная тропинка просматривалась в обе стороны. В глубине леса он отыскал укромную поляну с деревом посередине, где и оставил сумку. Баллон с галотаном закрепил в специальной петле под пальто.
Оставалось только ждать.
Когда-нибудь взрослым хотел бы я стать,
Равняясь во всем на отца и на мать.
Он не слышал этой песни с тех пор, как сам ходил в школу. Кто же ее написал, Алис Тегнер? Подумать только, сколько хороших песен навсегда забыто. Сколько прекрасного кануло в Лету.
Никто больше не ценит красоту. Весьма характерно для сегодняшнего общества. Великие шедевры в лучшем случае являются поводом для острот или используются в рекламе. «Сотворение Адама» Микеланджело, где вместо божественной искры — джинсы. Вся суть этой картины, как ему казалось, заключалось в том, что стремление этих монументальных тел друг к другу сосредоточено в почти соприкасающихся указательных пальцах — почти, но не совсем. Их все же разделяет миллиметр пустоты, в которой весь смысл. Исполинский размах фрески, ювелирно проработанные детали — всего лишь фон, обрамление этой важной пустоты. Ничто, в котором заключается все.
И вот эту-то пустоту они заменили парой штанов.
На тропинке кто-то появился. Он пригнулся, кровь застучала в ушах. Нет, какой-то старик с собакой. Исключено. Во-первых, сначала пришлось бы возиться с собакой, а во-вторых, некачественный продукт.
«Много крика, мало шерсти», — сказал старик, остригая свинью.
Он посмотрел на часы. Еще два часа — и совсем стемнеет. Если в течение часа не появится кто-нибудь подходящий, придется брать первого встречного. Дома нужно быть засветло.
Старик что-то произнес. Он его заметил? Нет, разговаривает с собакой.
— Ну что, облегчилась, девочка моя? Давно пора, да. Вот придем домой, дам тебе ливерной колбаски. Да, милая, папочка даст тебе большой кусок колбаски!
Хокан со вздохом опустил голову и погрузил лицо в ладони, ощущая тяжесть баллона на груди. Бедные люди. Такие жалкие, одинокие, в мире без красоты.
Он замерз. К вечеру ветер стал холоднее, и он раздумывал, не достать ли дождевик из сумки — накинуть на плечи, чтобы защититься от ветра. Нет. Плащ будет стеснять его движения, а ему нужно действовать быстро. К тому же он мог вызвать ненужные подозрения.
Мимо прошли две девушки лет двадцати. Нет. Двоих он не потянет. Он уловил обрывок их разговора.
— … Так она его еще и оставлять собирается!
— … Вот урод! Неужели он не понимает…
— … Сама виновата. Надо было таблетки пить…
— Но он тоже должен…
— … Только представь, какой из него отец…
Ясно, подруга залетела. А мальчик не готов стать отцом. Вот так всегда. Все только и думают, что о себе. Только и слышишь: мое счастье, мое будущее… Любовь — это способность положить свою жизнь к ногам другого, а современная молодежь на такое неспособна.
Холод сковывал его члены, какая уж тут быстрота реакции. Он засунул руку под пальто, нажал на клапан. Раздалось шипение. Работает. Отпустил.
Он попрыгал на месте и похлопал себя по бокам, чтобы согреться. Скорей бы уж кто-нибудь появился. Кто-нибудь один. Хокан посмотрел, сколько у него осталось времени. Еще полчаса. Ну же! Пусть кто-нибудь придет. Во имя жизни и любви.
Но юным остаться важнее всего.
Ведь дети наследуют царство Его.
*
К тому времени как Оскар пролистал весь альбом и съел все сладости, за окном опустились сумерки. Как всегда после ударной порции сладостей, он испытывал пресыщение и смутное чувство вины.
Мама придет домой только через два часа. Они поужинают, и он сделает уроки по английскому и математике. Потом, наверное, немного почитает или посмотрит с мамой телевизор. Правда, сегодня вроде ничего интересного не идет. Затем они выпьют какао с коричыми булочками, поговорят о том о сем. А потом он ляжет спать и долго будет ворочаться с боку на бок, волнуясь за завтрашний день.
Был бы у него друг, чтобы ему позвонить… Он, конечно, мог позвонить Юхану, надеясь, что у того не окажется других дел.
Юхан учился с ним в одном классе, и они неплохо ладили, но, как только у него появлялись другие дела, он тут же задвигал Оскара в сторону. Это Юхан звонил Оскару, когда ему было скучно, а не наоборот.
В квартире стояла тишина. Делать было нечего. Бетонные стены давили на психику. Оскар сел на кровати, сложив руки на коленях, чувствуя в желудке тяжесть от съеденных сладостей.
Ему казалось, что вот-вот что-то должно произойти. Прямо сейчас.
Он затаил дыхание, прислушался. Его охватил липкий страх. Что-то надвигалось. Сквозь стены как будто сочился бесцветный газ, грозивший вот-вот материализоваться и поглотить его. Оскар застыл и задержал дыхание, продолжая прислушиваться. Он ждал.
Все прошло. Оскар выдохнул.
Он вышел на кухню, выпил стакан воды и снял с магнитной подвески самый большой кухонный нож. Проверил лезвие на ногте большого пальца, как его учил отец. Тупое. Пару раз провел ножом по точильному бруску, попробовал еще раз. От ногтя отслоилась тоненькая стружка.
Хорошо.
Он вложил нож в газету, как в ножны, заклеил скотчем и засунул сверток в левую штанину, снаружи осталась торчать только ручка. Осторожно сделал шаг. Лезвие мешало, и он сдвинул его чуть вбок. Неудобно, но сойдет.
Он вышел в коридор и надел куртку. Потом вспомнил о куче оберток, разбросанных по комнате. Собрал их и запихнул в карман — на случай, если мама вернется раньше него. Можно будет спрятать под каким-нибудь камнем в лесу.
Он еще раз проверил, не оставил ли после себя улик.
Игра началась. Он был маньяком-убийцей, нагоняющим страх на окружающих. Он уже порешил своим острым ножом четырнадцать человек, не оставив ни малейшей зацепки. Ни волоска, ни конфетной обертки. Полиция боялась его как огня.
Теперь же он направлялся в лес в поисках следующей жертвы.
Как ни странно, он уже знал имя и внешность. Йонни Форсберг — длинные волосы, большие злые глаза. Оскар заставит его молить о пощаде и визжать свиньей, но это его не спасет! Последнее слово будет за ножом, и земля напьется его крови.
Оскар вычитал эти слова в какой-то книге, и ему понравилось.
Земля напьется его крови.
Запирая дверь в квартиру и выходя из подъезда на улицу, он, как мантру, твердил эти слова:
«Земля напьется его крови. Земля напьется его крови».
Арка, через которую он возвращался из школы, располагалась справа от его подъезда, но он свернул налево, миновав два здания, и там вышел через автомобильные ворота. Покинул внутреннюю крепость. Перешел через Ибсенсгатан, покинул внешнюю крепость. Затем спустился вниз по холму и двинулся дальше, в сторону леса.
Земля напьется его крови.
Второй раз за этот день Оскар был почти что счастлив.
*
Времени оставалось всего десять минут, когда на тропинке появился мальчик. С виду лет тринадцати-четырнадцати. Отлично. Хокан собирался незаметно пробраться до противоположной стороны тропинки и выйти ему навстречу, но ноги неожиданно отказали. Мальчик беззаботно продолжал свой путь. Следовало торопиться. Каждая даром потраченная секунда грозила запороть дело. Но ноги не желали слушаться. Он стоял как парализованный и смотрел, как идеальный объект идет ему навстречу, вот-вот поравняется с ним, окажется на расстоянии вытянутой руки. Еще немного — и будет поздно.
Надо. Надо. Надо.
Если он этого не сделает, придется покончить жизнь самоубийством. Прийти домой с пустыми руками он не мог. Вариантов нет — или мальчик, или ты. Выбирай.
Хокан двинулся с места, но было уже поздно. Теперь он, спотыкаясь, ломился через лес навстречу мальчику, вместо того чтобы спокойно встретиться с ним на тропинке. Идиот. Неуклюжий болван. Теперь мальчишка встревожится, будет начеку.
— Эй, мальчик! — окликнул он пацана. — Постой!
Тот остановился. Хоть не убежал, и на том спасибо. Нужно было ему что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить.
— Не знаешь, сколько времени?
Мальчик покосился на часы Хокана.
— Мои остановились.
Мальчик слегка напрягся, но посмотрел на часы. Ладно, делать нечего. Хокан сунул руку за пазуху, положив палец на клапан баллона.
*
Оскар спустился к типографии и свернул на дорогу, ведущую в лес. Тяжесть в животе как рукой сняло, теперь его наполняло предвкушение. По дороге к лесу он целиком погрузился в фантазии, и воображаемые им картины становились все больше и больше похожи на реальность.
Он смотрел на мир глазами убийцы, насколько это позволяло воображение тринадцатилетнего ребенка. Это был красивый мир. Мир, где он властвовал. Мир, трепетавший в ожидании его приговора.
Он шел по лесной тропинке в поисках Йонни Форсберга.
Земля напьется его крови.
Темнело. Деревья обступали его, будто молчаливые толпы людей, с трепетом следящих за малейшим жестом убийцы, дрожа в неизвестности — кто из них следующий? Но убийца шел дальше. Он уже видел свою жертву.
Йонни Форсберг стоял на пригорке метрах в пятидесяти от дороги, уперев руки в боки. На его лице играла обычная презрительная ухмылка. Он думал, что все будет как всегда. Что он повалит Оскара на землю, зажмет ему нос и набьет рот мхом и еловыми иголками — ну или что-нибудь подобное.
Как же он ошибался. К нему приближался не Оскар, а Убийца, и рука Убийцы сомкнулась на рукояти ножа, готовясь к удару.
Убийца медленно, с достоинством, подошел к Йонни Форсбергу, заглянул ему в глаза и произнес:
— Ну здравствуй, Йонни.
— Здравствуй, Поросенок. Тебе разрешают гулять так поздно?
Убийца вытащил нож. И нанес удар.
*
— Ну, четверть шестого.
— Ага. Спасибо.
Мальчик не уходил. Он все стоял, не сводя глаз с Хокана, который воспользовался заминкой, чтобы шагнуть чуть ближе. Черт, все запорол! Естественно, мальчишка заподозрил подвох. Какой-то мужик вываливается из чащи, спрашивает, сколько времени, и стоит, как Наполеон, засунув руку за пазуху.
— Что это у вас там?
Пацан кивнул в сторону его колотящегося сердца. В голове был пусто, Хокан не знал, что делать. Он вытащил баллон и показал его мальчику.
— И что это за байда?
— Галотан. Газ такой.
— А зачем он вам?
— Ну… — Он пощупал резиновый наконечник, лихорадочно придумывая, что бы такое ответить. Врать он не умел. Это было проклятие всей его жизни. — Нужно для работы.
— И что это за работа такая?
Мальчик немного расслабился. В его руке болталась спортивная сумка, похожая на его собственную, лежавшую на поляне. Хокан указал на нее рукой с баллоном:
— На тренировку идешь?
Пацан перевел взгляд на сумку, и Хокан воспользовался выпавшим шансом.
Вскинув руки, он ухватил одной мальчика за затылок, другой прижал резиновый раструб к его губам и надавил клапан до упора. Послышался звук, напоминающий шипение огромной змеи, мальчик забился, пытаясь вырваться, но Хокан держал его железной хваткой.
Мальчик запрокинулся назад, потянув за собой Хокана. Шипение змеи заглушило все остальные звуки, когда они упали на присыпанную хвоей тропинку. Хокан лихорадочно сжимал голову мальчика, прижимая маску к его губам, пока они катались по земле.
Еще пара вдохов — и мальчик обмяк в его руках. Все еще придерживая маску, Хокан огляделся вокруг.
Без свидетелей.
Шипение баллона дикой мигренью заполнило мозг. Он зафиксировал клапан в нажатом положении, высвободил одну руку, нащупал резинку от маски и натянул ее мальчику на затылок. Теперь никуда не денется.
Он встал и оглядел свою жертву.
Мальчик лежал, раскинув руки. Рот и нос закрыты маской, на груди баллон с галотаном. Хокан еще раз огляделся по сторонам, поднял сумку мальчика и водрузил ему на живот. Затем поднял обмякшее тело и понес к поляне.
Пацан был не из хилых — бездыханное тело оказалось тяжелее, чем Хокан думал.
Он задыхался от напряжения, таща свою жертву по заболоченному лесу, в то время как шипение баллона резало слух, как зазубренный нож. Он даже старался сопеть как можно громче, чтобы заглушить этот звук.
С одеревенелыми руками и залитой потом спиной он наконец добрался до лужайки. Он положил мальчика в низине и лег рядом. Перекрыл газ и снял маску. Звук утих. Грудь мальчика мерно поднималась и опускалась. Минут через восемь он должен проснуться. Но не проснется.
Лежа рядом с мальчиком, Хокан изучал его лицо, водя по нему указательным пальцем. Потом перекатился ближе, заключил бесчувственное тело в свои объятия, крепко прижал к себе. Нежно поцеловал мальчика в щеку, прошептал на ухо: «Прости!» — и встал.
При виде беззащитного тела, распростертого на земле, на глаза навернулись слезы. Еще не поздно было остановиться.
Параллельные миры. Утешительная мысль.
Где-то существовал параллельный мир, в котором он не совершал того, что собирался совершить. Мир, где он пошел своей дорогой, оставив мальчика приходить в себя, недоумевая, что с ним произошло.
Но не здесь. В этом мире он подошел к своей сумке, открыл ее. Следовало торопиться. Он быстро натянул дождевик поверх одежды и вытащил инструменты. Нож, веревку, большую воронку и пятилитровую канистру.
Все это он разложил на земле рядом с мальчиком, в последний раз окинув взглядом его юное тело. Потом взял веревку и приступил к делу.
*
Выпад, еще выпад. После первого удара ножом Йонни понял, что на этот раз все будет по-другому. Из глубокой раны на щеке захлестала кровь, и он рванулся в сторону, пытаясь уйти, но Убийца его опередил. Пара стремительных взмахов руки — и он перерезает Йонни сухожилия коленей, тот падает, извивается на замшелой земле, молит о пощаде.
Но Убийца непреклонен. Йонни визжит как… свинья, и тут Убийца бросается на него, и земля напивается кровью.
Раз — это тебе за сегодняшнее! Два — за то, что ты заставил меня играть в покер на щелбаны! А губы я отрезаю за все те гадости, что ты мне говорил.
У Йонни лилось изо всех дыр, и он больше не мог ни сказать, ни сделать ничего плохого. Он был давно мертв. На прощание Оскар выколол ему глаза, пялящиеся в пустоту, — чпок, чпок! — затем отошел в сторону и взглянул на свою работу.
Вокруг трухлявого бревна, назначенного поверженным Йонни, валялись куски древесины, а ствол был искромсан ножом. Земля под здоровым деревом неподалеку, игравшим роль Йонни, когда он еще стоял на ногах, была усеяна щепками.
Правая рука, державшая нож, кровоточила. Небольшой порез у самого запястья, — наверное, лезвие соскользнуло во время удара. Не самый подходящий нож для этой цели. Он лизнул ранку языком, представляя, что пьет кровь Йонни.
Он вытер остатки крови бумажными ножнами, затем спрятал нож и отправился домой.
Лес, еще пару лет назад нагонявший ужас и казавшийся пристанищем врагов, теперь стал его домом и убежищем. Деревья почтительно расступались на его пути. Он не испытывал ни капли страха, хотя уже совсем стемнело. Он больше не боялся завтрашнего дня, что бы тот ни таил. Сегодня Оскар будет крепко спать.
Дойдя до своего двора, он на минуту присел на край песочницы — перевести дух, прежде чем отправиться домой. Завтра он раздобудет нож получше, с настоящей рукояткой, с этой, как ее, с гардой, чтобы опять не порезаться. Потому что это надо повторить.
Хорошая игра.
Мама со слезами на глазах протянула Оскару руку через стол и крепко сжала его ладонь:
— Оскар! Больше никогда не ходи в лес один, слышишь?
Вчера в Веллингбю был убит мальчик его возраста. Об этом писали все вечерние газеты, и, придя домой, мама была сама не своя.
— Это бы мог быть… Даже думать об этом не хочу!
— Но это же в Веллингбю, а не здесь!
— Ты хочешь сказать, что злодей, способный напасть на ребенка, не может проехать пару остановок на метро? Или пройти пешком? Дойти до Блакеберга и проделать все то же самое тут? Ты часто бываешь в лесу?
— Не-ет.
— Я тебе запрещаю выходить со двора, пока… Пока его не поймают.
— И что, мне теперь и в школу нельзя ходить?
— Нет, в школу можно. Но чтобы после школы прямиком домой и ни ногой со двора, пока я не приду с работы.
— А когда придешь?
Тревога в маминых глазах сменилась злостью.
— Ты что, хочешь чтобы тебя убили? А? Вот прикончат тебя где-нибудь в лесу, а я буду сидеть и места себе не находить, пока ты там лежишь, порезанный на куски каким-то чудовищем…
На глаза ее навернулись слезы. Оскар накрыл ее ладонь своей:
— Я не буду ходить в лес. Обещаю.
Мама погладила его по щеке:
— Сынок, милый. У меня же, кроме тебя, никого нет. Если с тобой что-нибудь случится, я умру.
— Угу. А как это произошло?
— Что?
— Ну, убийство.
— Я-то откуда знаю. Какой-то сумасшедший зарезал мальчика ножом. Насмерть. Представляю, каково его родителям — наверняка жизнь кончена.
— А что, в газетах не было подробностей?
— Я не смогла такое читать.
Оскар взял «Экспрессен» и полистал. Убийству было посвящено четыре страницы.
— Только не читай!
— Да нет, я так, посмотреть кое-что. Можно я возьму газету?
— Я же сказала, нечего тебе это читать. От всех этих твоих ужасов один вред.
— Я просто хочу посмотреть, что по телику.
Оскар встал и направился в свою комнату с газетой. Мама неуклюже обняла его, прижавшись к нему мокрой щекой:
— Солнышко мое… Ты понимаешь, как я за тебя переживаю? Если с тобой что-нибудь случится…
— Я знаю, мама, знаю. Я буду острожен.
Оскар чуть приобнял маму в ответ, затем высвободился из ее объятий и удалился в свою комнату, вытирая со щеки ее слезы.
Вот это круто!
Насколько он понял, того пацана убили чуть ли не в то же время, когда он играл в лесу в свою игру. Только жаль, что убили не Йонни Форсберга, а какого-то неизвестного парня из Веллингбю.
Тем вечером Веллингбю погрузился в траур. Он видел заголовки еще по дороге домой. Не исключено, что ему почудилось, но люди на главной площади говорили тише и ходили медленнее, чем обычно.
В магазине хозтоваров он спер нереальной красоты охотничий нож за триста крон. Он уже и отмазку придумал на случай, если его поймают: «Дяденька, простите меня, я так боюсь маньяка!»
Еще бы и пару слезинок из себя выжал. И его бы отпустили. Сто пудов. Но его никто не поймал, и сейчас нож лежал рядом с альбомом с вырезками.
Ему нужно было подумать.
Могла ли его игра иметь какое-то отношение к убийству? Вряд ли, но такую вероятность нельзя было исключать. В его любимых книгах такое то и дело случалось. Мысль, зародившаяся в одном месте, материализовалась в другом.
Телекинез, вуду.
Но где, когда и, главное, как произошло убийство? Если речь идет о множестве ножевых ранений, нанесенных лежачему телу, тогда, может, и вправду в его руках чудовищная сила. И этой силой еще предстояло научиться управлять.
А что если дело в дереве? Вдруг это связующее звено?
Трухлявое дерево, которое он избрал мишенью для ударов. Вдруг оно какое-то особенное и все, что с ним происходит, случается потом с людьми?
Нужны были подробности.
Оскар прочитал все статьи, где говорилось об убийстве. В одной из них оказалась фотография полицейского, приходившего к ним в класс рассказывать про наркотики. «На данном этапе расследования дальнейшие комментарии невозможны. На место происшествия вызваны специалисты из криминалистической экспертизы. Необходимо дождаться их заключения». Фотография убитого мальчика, позаимствованная из школьного альбома. Лицо незнакомое. Хотя по виду тот же Йонни или Микке. Может, в школе в Веллингбю тоже был свой Оскар, мечтающий об избавлении.
Мальчик отправился на тренировку по гандболу в местный спортзал, но так туда и не дошел. Тренировка начиналась в половине шестого. Скорее всего, мальчик вышел из дому около пяти. Где-то так. У Оскара закружилась голова. Стопроцентное совпадение! И убит он был как раз в лесу.
Неужели правда?! Неужели это я…
Около восьми вечера тело обнаружила шестнадцатилетняя девушка, которая и вызвала полицию. Она «пребывала в состоянии сильного шока», и ей потребовалась медицинская помощь. О самом теле ни слова. Но тот факт, что девушка «пребывала в состоянии сильного шока», говорил о том, что тело было покалечено. В противном случае они бы написали просто «в состоянии шока».
Что вообще делала девушка в лесу после наступления темноты? А, неважно. Собирала шишки, какая разница. Но почему нигде нет ни слова о том, каким образом он был убит? Только фотография с места преступления: полосатая, как обертка от леденца, полицейская лента ограждает совершенно безликую лесную поляну с деревом посредине. Завтра или послезавтра газеты опубликуют фотографию того же места, утопающего в зажженных свечах и надписях: «ЗА ЧТО?!» и «НАМ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ». Оскар все это уже проходил — в его альбоме было несколько подобных случаев.
Возможно, все это лишь совпадение. Но вдруг…
Оскар подошел к двери и прислушался. Мама мыла посуду. Он лег на кровать и выудил охотничий нож. Тот лежал в руке как влитой и весил раза в три больше, чем вчерашний кухонный тесак.
Он поднялся и встал в центре комнаты, зажав в руке свое сокровище. Нож был ослепительно красив и наполнял силой державшую его руку.
Из кухни доносилось позвякивание посуды. Оскар сделал несколько выпадов, пронзая воздух ножом. Убийца. Когда он научится управлять своей силой, Йонни, Микке и Томас больше не смогут причинить ему вреда. Он хотел было сделать еще один выпад, но передумал. Его могли увидеть со двора. С темной улицы залитая светом комната отлично просматривалась. Он выглянул во двор, но увидел лишь свое отражение в стекле.
Убийца.
Он вернул нож в тайник. Это всего лишь игра. В жизни такого не бывает. Но ему все равно позарез было нужно узнать подробности. Причем немедленно.
*
Томми сидел в кресле и листал журнал про мотоциклы, качая головой и что-то напевая себе под нос. Время от времени он показывал какой-нибудь разворот Лассе и Роббану, где под картинкой были описания объема цилиндра или скорости. Голая лампочка под потолком отражалась в глянце страниц, бросая блики на одну бетонную и три дощатых стены.
Они были у него на крючке.
Мама Томми встречалась со Стаффаном, работавшим в полиции. Томас не особенно жаловал Стаффана, скорее наоборот — считал его скользким типом, склонным к нравоучениям. К тому же он был религиозным. Но через мать Томми удавалось разузнать вещи, которые Стаффан вообще-то не должен был ей рассказывать, а она вообще-то не должна была рассказывать Томми, но…
Таким образом он, к примеру, был в курсе расследования ограбления магазина электроники в районе Исландсторьет. Которое они же — он, Роббан и Лассе — и провернули.
Грабители не оставили никаких следов. Мать прямо так и сказала: «Грабители не оставили никаких следов». Со слов Стаффана, конечно. Даже машину никто не заметил.
Томми и Роббану было по шестнадцать, и они учились на первом курсе училища. Лассе было девятнадцать, у него было не все в порядке с головой, и он работал сортировщиком запчастей на заводе электроники в Ульвсунде. Зато у него имелись водительские права. И белый «сааб» 1974 года выпуска, с номерными знаками, подделанными черным фломастером перед налетом. Как выяснилось, зря, потому что машину все равно никто не видел.
Свою добычу они припрятали в пустом подвальном помещении, отведенном под склад, напротив комнаты, где они обычно тусовались. Перерезали цепь болторезом и вставили новый замок. Они пока и сами не знали, как будут сбывать краденое, вся фишка была в самом налете. Правда, Лассе удалось толкнуть кассетник какому-то чуваку с работы за двести крон, но этим пока дело и ограничилось.
К тому же имело смысл выждать какое-то время и уж точно не поручать такие вещи Лассе, потому как он был… нестандартно мыслящий, как выражалась его мать. Но с момента налета прошло уже две недели, да и у полиции образовались дела поважнее.
Томми листал журнал, улыбаясь своим мыслям. Да уж, дела так дела! Есть на что отвлечься. Роббан нетерпеливо барабанил руками по коленям:
— Ну ладно! Колись.
Томми показал ему разворот журнала:
— «Кавасаки». Триста кубов. Прямой впрыск, и еще…
— Хорош! Давай рассказывай.
— О чем? Про убийство, что ли?
— А то!
Томми прикусил губу, сделав вид, что собирается с мыслями:
— Та-ак, как там было-то…
Сидя на диване, Лассе подался вперед всем своим долговязым телом, сложившись вдвое, как перочинный нож:
— Все выкладывай!
Томми отложил журнал и посмотрел на Лассе в упор:
— А ты вообще-то уверен, что хочешь это слышать? Жуткая история.
— Да ладно!
Лассе храбрился, но в его глазах Томми читал тревогу. Достаточно было скорчить страшную рожу, заговорить не своим голосом, не реагируя на просьбы прекратить, как Лассе впадал в панику. Однажды они с Роббаном вырядились как зомби, размалевали физиономии материнской косметикой и, выкрутив лампочку в потолке, стали поджидать Лассе. Кончилось все тем, что Лассе наложил в штаны, а Роббан приобрел фингал под глазом, на том самом месте, которое собственноручно разукрасил синими тенями. С тех пор они старались лишний раз его не пугать.
Лассе поежился на диване и скрестил руки на груди, всем своим видом давая понять, что ему все нипочем.
— Ну, короче, это было не обычное убийство, если можно так сказать. Чувака нашли… висящим на дереве!
— В смысле?! Повешенным, что ли? — переспросил Роббан.
— Да, повешенным. Только не за шею. За ноги. В смысле, он висел вниз головой. На дереве.
— Да ладно, от этого же не умирают!
Томми многозначительно посмотрел на Роббана, словно тот высказал интересную мысль, и затем продолжил:
— Нет. От этого — не умирают. Но ему еще перерезали горло. А вот от этого точно умирают. От уха до уха. Вспороли, как… арбуз.
Он провел пальцем по горлу, показывая, как это было.
Лассе невольно вскинул руку к горлу, будто защищая его. Потом медленно покачал головой:
— Ну и почему он так висел?
— А сам-то как думаешь?
— Не знаю.
Томми с задумчивым выражением потеребил нижнюю губу.
— А самое странное вот что. Если человеку перерезать горло, он умирает. И крови при этом бывает столько, что мало не покажется. Так?
Лассе и Роббан кивнули. Томми потянул время, прежде чем обрушить на них бомбу:
— Но под ним на земле… вообще не было крови. Всего пара капель. Хотя из него должно было вытечь несколько литров, пока он там висел.
В подвале повисла тишина. Лассе и Роббан растерянно уставились взглядом куда-то перед собой. Роббан очнулся первым:
— Я знаю! Его убили где-то в другом месте. А потом подвесили там.
— Мм… Но зачем вообще вешать его на дерево? Когда кого-то убивают, обычно стараются избавиться от трупа
— Может, он сумасшедший?
— Может быть. Но у меня другая теория. Вы видели когда-нибудь бойню? Как забивают свиней? Прежде чем разделать тушу, из нее сливают кровь. И знаете, как это делают? Подвешивают ее вниз головой. На крюке. И перерезают горло.
— Ты что, хочешь сказать, что убийца собирался его разделать?
— Че?
Лассе неуверенно переводил взгляд с Томми на Роббана и обратно, пытаясь понять, не прикалываются ли они. Не заметив и тени насмешки, он спросил:
— Они правда так поступают? Ну, со свиньями?
— Ну да, а ты что думал?
— Я думал, у них там для этого какие-нибудь специальные приспособления.
— И что, тебе бы от этого легче стало?
— Нет, но… их что, прямо живьем подвешивают?
— Да. Живьем. И они еще дергаются. И визжат.
Томми изобразил, как визжит свинья, и Лассе поник, уставившись в свои колени. Роббан встал, прошелся взад-вперед и снова сел на диван.
— Нелогично. Если бы убийца собирался его разделать, кровь бы все равно осталась.
— Это ты сказал, что он хотел его разделать. Я так не думаю.
— Да? А как ты считаешь?
— Я считаю, что ему нужна была кровь. Ради нее он пацана и прикончил. Чтобы добыть кровь. Я думаю, он забрал ее с собой.
Роббан медленно кивнул, поковырял пальцем болячку от здоровенного выдавленного прыща в углу рта.
— Но зачем? Пьет он ее, что ли?
— Например.
Томми и Роббан погрузились в размышления, прокручивая в воображении подробности убийства и всего, что за ним последовало. Через какое-то время Лассе поднял голову и вопросительно посмотрел на них. В глазах его стояли слезы.
— Но они хоть быстро умирают? Свиньи?
Томми серьезно посмотрел на него и ответил:
— Нет.
*
— Я выйду ненадолго…
— Нет.
— Я только во двор.
— Ладно, только со двора ни ногой.
— Хорошо.
— Позвать тебя?
— Нет. Я сам приду. У меня есть часы. Не надо меня звать.
Оскар натянул куртку, шапку. Занес ногу над ботинком, но затем остановился, тихонько прокрался в свою комнату, достал нож и спрятал его под куртку. Когда завязывал шнурки на ботинках, мама крикнула из гостиной:
— На улице холодно.
— У меня шапка.
— На голове?
— Нет, на ноге.
— Не надо с этим шутить. Ты же знаешь, что у тебя…
— Все, пока!
— …проблемные уши.
Он вышел, посмотрел на часы. Четверть восьмого. До начала передачи еще сорок пять минут. Наверняка Томми и компания сейчас тусуются в подвале, но идти к ним он не рискнул. Томми был еще ничего, но остальные… Иногда им приходили в голову странные вещи, особенно когда нанюхаются клея.
Он направился к детской площадке посреди двора. Два корявых дерева, служивших при случае футбольными воротами, игровой комплекс с горкой, песочница и качели — три резиновые покрышки, подвешенные на цепях. Он сел на одну из покрышек и начал неторопливо раскачиваться.
Ему нравилось бывать здесь по вечерам. Кругом сотни светящихся окон, а сам он невидим в темноте. Спокойствие и одиночество. Он вытащил нож. Изогнутое лезвие было таким зеркальным, что в нем отражались окна. Светила луна.
Кровавая луна.
Оскар слез с качелей, тихо подошел к ближайшему дереву и обратился к нему:
— Чего уставился, козел? Сдохнуть хочешь?
Дерево не ответило, и Оскар осторожно вогнал нож в ствол, стараясь не погнуть лезвие.
— Вот тебе! Чтобы не пялился!
Он ковырнул ножом так, что от ствола откололась небольшая щепка. Кусок мяса. Он прошептал:
— А теперь визжи! Визжи как свинья!
Он замер. Ему что-то послышалось. Прижав нож к бедру, он огляделся по сторонам. Поднес лезвие к глазам, посмотрел. Острие было таким же ровным, как и прежде. Он заглянул в него, как в зеркало, и в нем отразился детский городок. На вершине горки кто-то стоял. Еще секунду назад там никого не было. Расплывчатый контур на фоне строгих стальных конструкций. Он опустил нож и повернулся к горке. И правда. Но это был не маньяк из Веллингбю, а ребенок.
Было достаточно светло, чтобы разглядеть: это девочка. Раньше он ее здесь не видел. Оскар сделал шаг по направлению к горке. Девочка не двигалась. Просто стояла и смотрела на него.
Он сделал еще шаг и внезапно испугался. Чего? Самого себя. Крепко зажав в руке нож, он приближался к девочке, собираясь нанести удар. И хотя это было не так, на какое-то мгновение он в это поверил. А она-то что, не боится?
Он остановился, убрал нож в чехол и засунул его под куртку.
— Привет.
Девочка не отвечала. Приблизившись, Оскар разглядел, что у нее темные волосы, маленькое личико и большие глаза. Широко открытые, спокойно глядящие на него. Ее белые руки покоились на поручне.
— Привет, говорю!
— Я слышу.
— А чего тогда не отвечаешь?
Девочка пожала плечами. Голос ее оказался не таким уж и тоненьким. Пожалуй, она была его ровесницей.
Было в ней что-то странное. Черные волосы до плеч, круглое лицо, маленький нос. Прямо картонная куколка из детского приложения журнала «Мой дом». Вся такая… хорошенькая. И все же что-то в ней было не так. На ней не было ни шапки, ни куртки. Один лишь тоненький розовый свитерок, хотя на улице стоял холод.
Девочка кивнула на дерево, исколотое ножом:
— Что делаешь?
Оскар покраснел, но вряд ли она могла увидеть это в темноте.
— Тренируюсь.
— Зачем?
— На случай, если сюда заявится маньяк.
— Какой еще маньяк?
— Ну тот, из Веллингбю. Который зарезал того парня.
Вздохнув, девочка посмотрела на луну. Затем свесилась вниз.
— Боишься?
— Да нет, но маньяк все-таки… нужно же… уметь защищаться. Ты здесь живешь?
— Да.
— Где?
— Там, — девочка махнула рукой в сторону соседнего подъезда. — Через стенку от тебя.
— Откуда ты знаешь, где я живу?
— Я тебя видела. В окне.
Щеки Оскара запылали. Пока он лихорадочно соображал, что сказать, девочка спрыгнула с горки, приземлившись прямо перед ним. С двухметровой высоты.
Гимнастка, что ли?
Она была одного с ним роста, только гораздо стройнее. Розовый свитер обтягивал ее худенькое тело без малейшего намека на грудь. У нее были черные глаза, казавшиеся огромными на маленьком бледном лице. Она выставила перед собой руку, словно удерживая его на расстоянии. Пальцы ее были длинными и тонкими, как прутики.
— Я не могу с тобой дружить. Имей в виду.
Оскар скрестил руки на груди, ощущая ручку ножа под мышкой.
— Это еще почему?
Рот ее изогнулся в кривой усмешке:
— А что, обязательно нужна причина? Я просто говорю как есть. Чтоб ты знал.
— Ну и ладно.
Девочка развернулась и пошла прочь к своему подъезду. Когда она отошла на несколько шагов, Оскар крикнул вдогонку:
— Да с чего ты вообще взяла, что я хочу с тобой дружить?! Дура!
Девочка остановилась. Постояла. Затем развернулась, подошла к Оскару и встала прямо перед ним, сцепив пальцы опущенных рук.
— Что ты сказал?
Оскар крепче прижал руки к груди, нащупывая ладонью рукоятку ножа, и уставился в землю.
— Я сказал, что ты дура… раз так думаешь.
— Я дура?
— Да.
— Извини. Я просто сказала правду.
Они молча стояли в полуметре друг от друга. Оскар по-прежнему смотрел в землю. От девочки исходил странный запах.
Год назад у его пса Бобби началось воспаление лапы и в итоге пришлось его усыпить. В последний день Оскар не пошел в школу и несколько часов подряд лежал рядом с больной собакой, прощаясь. Девочка пахла так же, как Бобби тогда. Оскар поморщил нос:
— Это от тебя так воняет?
— Наверное.
Оскар поднял глаза. Он жалел о своих словах. Она казалась такой хрупкой в своем тоненьком свитерке. Он сменил позу, махнув рукой:
— Ты не мерзнешь?
— Нет.
— Почему?
Девочка повела бровями, наморщив лоб, и на мгновение показалась ему гораздо, гораздо старше своих лет. Как дряхлая старушка, которая вот-вот расплачется.
— Я забыла, как это делается.
Девочка резко развернулась и направилась к дому. Оскар стоял и смотрел ей вслед. Он был уверен, что ей придется потянуть за ручку обеими руками, чтобы открыть тяжелую дверь подъезда. Но она открыла дверь одной рукой, причем распахнула ее с такой силой, что та ударилась о металлический стопор и захлопнулась за ее спиной.
Он сунул руки в карманы куртки, и ему стало грустно. Он вспомнил Бобби. Как он лежал в гробике, сколоченном отцом. На уроке труда Оскар смастерил крест, сломавшийся при первой же попытке вбить его в промерзшую землю.
Надо будет сделать новый.
Хокан опять ехал на метро в центр. Десять купюр по тысяче крон лежали в его кармане, свернутые трубочкой и перетянутые резинкой. Он сделает на них что-нибудь хорошее. Спасет кому-нибудь жизнь.
Десять тысяч крон — большие деньги, и если, как уверяет реклама благотворительного фонда «Спасите детей!», тысяча крон может прокормить целую семью в течение года, то уж наверняка десять могут спасти чью-то жизнь в Швеции.
Но чью? Где их искать?
Не отдавать же деньги первому встречному наркоману, в надежде… ну нет. К тому же ему хотелось, чтобы это был кто-нибудь помоложе. Хокан понимал, что это смешно, но в идеале ему представлялся плачущий ребенок, каких изображают на плакатах. Ребенок, со слезами на глазах принимающий деньги, а потом… Что потом?
Он вышел на станции «Оденплан», сам не зная почему, и направился к городской библиотеке. В те времена, когда он еще жил в Карлстаде и преподавал шведский в старших классах, в узких кругах поговаривали, что стокгольмская городская библиотека… хорошее место.
Лишь при виде круглой башни библиотеки, знакомой по фотографиям из книг и газет, он понял, почему он здесь. Потому что это было «хорошее место». Кто-то из их компании, вроде бы Герт, рассказывал, что здесь можно всегда кого-нибудь снять и как это происходит.
Он никогда раньше этого не делал. Не платил за секс.
Однажды Герт, Торни и Уве привели мальчика, чью мать кто-то из приятелей Уве вывез из Вьетнама. Мальчику было лет двенадцать, и он прекрасно знал, чего от него ожидали, — ему за это платили неплохие деньги. Но Хокан так и не смог себя заставить. Он потягивал свой баккарди с колой, откровенно любуясь обнаженным телом мальчика, пока тот крутился и вертелся в комнате, где они собрались.
Но на большее его не хватило.
Мальчик отсосал всем по очереди, но, когда дело дошло до Хокана, у него все сжалось внутри. Уж слишком это было… мерзко. В комнате пахло похотью, спиртом и затхлостью. На щеке мальчика поблескивала капля спермы Уве. Мальчик уже склонился было над его ширинкой, но Хокан оттолкнул его голову.
В его адрес посыпались насмешки, даже угрозы. Он стал свидетелем, а должен был быть соучастником. Они высмеивали его щепетильность, но дело было не в ней. Просто все это казалось ему невероятно грязным. Комната в съемной квартире Оке, четыре непарных кресла, специально расставленных в ряд ради такого случая, попса, орущая из проигрывателя.
Он заплатил свою долю и навсегда порвал с той компанией. В конце концов, у него оставались журналы, фотографии и фильмы. Этого хватало. Возможно, дело было действительно в принципиальности, которая в тот раз проявила себя как брезгливость.
Зачем же тогда я иду в городскую библиотеку?
Можно, конечно, взять какую-нибудь книгу. Пожар три года назад поглотил всю его жизнь, в том числе и книги. Да. Он возьмет «Драгоценность королевы» Альмквиста, прежде чем совершить свое доброе дело.
В этот ранний час народу в библиотеке было не много. В основном пожилые люди и студенты. Он сразу нашел нужную книгу, прочитал первые слова:
Тинтомара! Две вещи белы как снег.
Девственность — и мышьяк, —
и вернул ее на полку. У него возникло неприятное чувство. Книга напоминала о его былой жизни.
Он обожал этот роман, разбирал его с учениками. Прочитал первые строки, и ему сразу захотелось очутиться с книгой в кресле. И чтобы оно стояло в его собственном доме — доме с обширной библиотекой, и чтобы у него снова была работа и много еще чего… Однако он обрел любовь, и теперь она диктовала условия. Так что прощай, кресло.
Он потер ладони, словно желая стереть с них следы книги, которую только что держал в руках, и перешел в боковой зал.
Длинные столы, люди, погруженные в чтение. Слова, слова, слова. В самом конце зала сидел паренек в кожаной куртке и раскачивался на стуле, рассеянно листая книгу с картинками. Хокан подошел ближе и сделал вид, что изучает полку с литературой по геологии, время от времени поглядывая на подростка. В конце концов тот поднял голову, поймал его взгляд и приподнял бровь, словно спрашивая: хочешь?
Нет, он не хотел. Пареньку было лет пятнадцать, у него было плоское восточноевропейское лицо в прыщах и узкие, глубоко посаженные глаза. Хокан пожал плечами и вышел из зала.
Парень догнал его на улице у входа в библиотеку, сделал жест большим пальцем, словно чиркая зажигалкой, и спросил:
— Есть прикурить?
Хокан покачал головой:
— Don't smoke.
— ОК.
Подросток достал пластмассовую зажигалку, прикурил сигарету и, прищурившись, посмотрел на него сквозь дым:
— What you like?
— No, I…
— Young? You like young?[5]
Он отошел от подростка, подальше от входа, откуда мог появиться кто угодно. Ему нужно было подумать. Он не предполагал, что все так просто. До сих пор это было игрой — он хотел проверить, правду ли говорил Герт.
Парень пошел следом и нагнал его возле каменной стены:
— How? Eight, nine? Is difficult, but…
— NO![6]
Неужели он выглядит таким извращенцем? Хотя все это глупости. В том, как выглядели Уве и Торни, не было ровным счетом ничего особенного. Обычные люди с обычными профессиями. Только Герт, прожигавший огромное наследство, оставленное отцом, и способный позволить себе все что угодно, после многочисленных поездок за границу со временем приобрел довольно мерзкий вид. Одрябшие мышцы рта, мутные глаза.
Мальчик умолк, озадаченный его реакцией, и смерил его взглядом прищуренных глаз. Затянулся, бросил сигарету на землю, затоптал ее и вопросительно вскинул руки:
— What?
— No, I'm just…
Мальчик приблизился на полшага:
— What?
— I… maybe… twelve?
— Twelve? You like twelve?
— I… yes.
— Boy.
— Yes.
— Okaey. You wait. Number two.
— Excuse me?
— Number two. Toilet.
— Oh. Yes.
— Ten minutes.[7]
Мальчик застегнул молнию куртки и скрылся за дверью.
Двенадцать лет. Кабинка номер два. Десять минут.
Это было очень, очень глупо. А вдруг появится полицейский? Наверняка они прекрасно знают, что здесь творится, после стольких-то лет. Ну вот и все. Они тут же найдут взаимосвязь с делом, провернутым позавчера, и ему придет конец. Он не может на это пойти.
Просто сходи в туалет и посмотри, что там.
В туалете никого не было. Писсуар и три кабинки. Кабинка номер два, соответственно, средняя. Он бросил в замок одну крону, открыл дверь и вошел. Заперевшись, он сел на унитаз.
Стены кабинки были исписаны всякой пошлятиной. Довольно неожиданно для центральной библиотеки. Кое-где попадались литературные цитаты вроде:
HARRY ME, MARRY ME, BURY ME, BITE ME.[8]
Но в основном это были непотребные рисунки и стишки:
Лучше смерть в канале, чем хуй в анале.
Не ссы — сними трусы! —
а также огромное количество телефонных номеров, предлагавших всевозможные услуги. Под парой из них даже стояли подписи — судя по всему, настоящие, а не розыгрыш.
Ну? Хотел посмотреть — посмотрел. А теперь иди. Кто знает, что там мутит этот пацан в кожаной куртке.
Он встал, помочился, снова сел. Зачем он это сделал? Ему ведь, в общем, не надо было. Но он знал ответ.
На всякий случай.
Открылась входная дверь. Хокан затаил дыхание. В глубине души он надеялся, что это полиция. Здоровенный полицейский, который выбил бы дверь в туалет и как следует отделал его дубинкой, прежде чем забрать в отделение.
Шепот, мягкие шаги, тихий стук в дверь.
— Да?
Снова стук. Он сглотнул слюну, комом стоявшую в горле, и открыл дверь.
Перед ним стоял мальчик лет одиннадцати-двенадцати. Светлые волосы, лицо луковицей. Тонкие губы, большие голубые глаза с отсутствующим выражением. Красный пуховик на пару размеров больше, чем нужно. За его спиной стоял тот самый парень в кожаной куртке. Он растопырил пятерню.
— Five hundred.[9] — произнес он с ужасным акцентом.
Хокан кивнул. Парень осторожно подтолкнул мальчика в кабинку и закрыл дверь. Пятьсот, не дороговато ли? Не то чтобы это что-то меняло, но все же…
Он посмотрел на мальчика, которого только что купил. Снял. Интересно, он что-нибудь принимает? Наверняка. Взгляд его был отстраненным, затуманенным. Мальчик стоял, прижавшись спиной к двери в полуметре от него. Он был такой маленький, что сидящему Хокану даже не нужно было поднимать голову, чтобы заглянуть ему в глаза.
— Hello.
Мальчик не ответил, лишь покачал головой, указав на ширинку пальцем: расстегни штаны. Он послушался. Мальчик вздохнул, снова ткнул пальцем: вытащи член.
Залившись краской, Хокан послушался. Да, вот оно что. Он только слушался приказов. У него не было собственной воли. Это не он. Его короткий член даже не стоял и тут же обвис, коснувшись крышки унитаза. От холодного прикосновения по телу побежали мурашки.
Он прищурился, пытаясь преобразить черты лица мальчика так, чтобы они приобрели сходство с лицом его возлюбленной. Но его любовь была прекрасна. Не то что этот мальчик, опустившийся перед ним на колени и склонившийся над его пахом.
Рот.
У него было что-то со ртом. Хокан положил ему руку на лоб, прежде чем губы мальчика нашли член.
— Your mouth?[10]
Мальчик замотал головой и боднул его ладонь, торопясь закончить работу. Но теперь это было невозможно. Хокан уже слышал о таком.
Он оттянул большим пальцем верхнюю губу мальчика. У него не было зубов. Их то ли выбили, то ли удалили, чтобы не мешали работать. Мальчик встал, шурша пуховиком, и сложил руки на груди. Хокан убрал член в штаны, застегнул ширинку и уставился в пол.
Только не так. Никогда в жизни.
Он что-то заметил краем глаза. Растопыренная ладонь. Пять пальцев. Пятьсот.
Он вытащил из кармана скрученные в трубочку деньги и протянул мальчику. Мальчик снял резинку, провел указательным пальцем по обрезу десяти купюр, опять натянул резинку и поднял руку с деньгами.
— Why?
— Because… your mouth. Maybe you can… get new teeth.[11]
Мальчик слегка улыбнулся. He то чтобы просиял, но уголки его рта едва заметно поднялись вверх. Возможно, он смеялся над глупостью Хокана. Мальчик подумал, затем вытащил из пачки тысячу крон и запихнул ее в карман куртки. Остальные деньги положил во внутренний карман. Хокан кивнул.
Мальчик открыл дверь, замешкался. Потом повернулся к Хокану, погладил его по щеке:
— Sank you.
Хокан накрыл ладонь мальчика своей рукой, прижав ее к щеке, и зажмурился. Если бы хоть кто-нибудь мог…
— Forgive me.
— Yes.[12]
Мальчик отнял руку. Хокан все еще чувствовал ее тепло на своей щеке, когда за ним закрылась дверь. Он так и сидел на унитазе, уставившись на надпись на дверном косяке:
НЕ ЗНАЮ, КТО ТЫ, НО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
Внизу кто-то приписал:
ХОЧЕШЬ ОТСОСАТЬ?
К тому времени, как он дошел до метро и на последние деньги купил вечернюю газету, тепло руки давно испарилось. Убийству было посвящено целых четыре страницы. Помимо прочего, там была размещена фотография лужайки, где он это сделал. Лужайка утопала в зажженных свечах и цветах. Он смотрел на фотографию и почти ничего не чувствовал.
Если бы вы только знали. Простите меня, но если бы вы только знали…
*
По дороге из школы Оскар остановился под окнами ее квартиры. То, что ближе, находилось в двух метрах от его комнаты. Жалюзи были опущены, и светло-серые прямоугольники окон на фоне темно-серого бетона смотрелись как-то странно. Наверное, это какая-то странная семья.
Наркоманы.
Оскар огляделся по сторонам, зашел в подъезд и принялся изучать список жильцов. Пять фамилий, аккуратно набранных на доске пластмассовыми буквами. Одно место пустовало. На выцветшем бархате доски виднелся лишь темный контур от фамилии: «ХЕЛЛБЕРГ». Ни нового имени, ни бумажки с именем.
Он взбежал по лестнице на второй этаж и подошел к ее двери. То же самое. Ничего. Над почтовой щелью тоже не было таблички с именем. Как если бы квартира пустовала.
Может, она соврала? Может, она вообще здесь не живет? С другой стороны, она же зашла в подъезд. Хотя она могла зайти для виду. Если она…
Внизу открылась входная дверь.
Он повернулся и быстро пошел вниз по лестнице. Лишь бы не она. А то решит еще, что он… Нет, не она.
На полпути ему повстречался мужик, которого он никогда раньше не видел. Невысокий, довольно полный, с большой лысиной, он так широко улыбался, что Оскару стало не по себе.
Заметив Оскара, мужчина поднял голову и кивнул — рот его был по-прежнему растянут в цирковой улыбке.
Спустившись на первый этаж, Оскар затаился. Услышал, как незнакомец достал ключ и открыл дверь. Ее дверь. Наверное, это ее отец. Оскар никогда раньше не встречал таких старых наркоманов, но этот определенно выглядел нездоровым.
Неудивительно, что она со странностями.
Оскар вышел на детскую площадку, сел на край песочницы и стал поглядывать на ее окна в надежде, что поднимутся жалюзи. Казалось, что даже окно ванной было завешено изнутри: матовое стекло было темнее, чем в остальных окнах.
Он вытащил из кармана кубик Рубика и принялся его крутить. Грани скрипели и щелкали. Копия. Оригинал прокручивался гораздо мягче, но и стоил в пять раз дороже, к тому же продавался только в хорошо охраняемом детском магазине в Веллингбю.
Две стороны он уже собрал, а на третьей не хватало всего лишь одного квадратика. Но переместить его, не разрушив собранные стороны, никак не получалось. Он сохранил газетную вырезку с подсказками, — собственно, так он и собрал две стороны, но дальше дело не шло.
Он посмотрел на кубик, попробовал просчитать ходы, а не крутить кубик наугад. Ничего не получалось. Мозг отказывался работать. Оскар прижал головоломку ко лбу, взывая к своему сознанию. Никакого ответа. Тогда он поставил кубик на край песочницы в полуметре от себя и уставился на него:
Ползи. Ползи. Ползи.
Это называлось телекинез. В Штатах уже проводилось несколько экспериментов. Существовали люди, которые такое умели. ЭСВ. Экстрасенсорное восприятие. Оскар все что угодно отдал бы, чтобы обладать такими способностями.
И может быть… может быть, он ими обладает.
В школе все прошло довольно гладко. Томас Альстедт попытался выдернуть из-под него стул в столовой, когда он садился, но он вовремя это заметил. Вот и все. Он решил снова сходить в лес к тому дереву. Поставить более серьезный эксперимент. Не увлекаясь, как в прошлый раз.
Он будет спокойно и методично орудовать ножом, резать ствол на куски, представляя себе лицо Томаса Альстедта. Но эта история с убийцей. Настоящий убийца бродил где-то поблизости.
Нет. Придется подождать, пока его не поймают. С другой стороны, если и правда существовал обыкновенный убийца, то эксперимент не имел смысла. Оскар посмотрел на кубик, представив, что глаза его испускают мощный луч.
Ползи. Ползи. Ползи.
Ноль реакции. Оскар положил кубик в карман и встал, отряхивая песок со штанов. Бросил взгляд на ее окна. Жалюзи были по-прежнему опущены.
Он пошел домой, предвкушая, как засядет за альбом, вырезая и наклеивая туда статьи об убийстве в Веллингбю. Со временем их может стать гораздо больше. Особенно если такое повторится. Ему хотелось, чтобы это повторилось. Желательно в Блакеберге.
Чтобы в школу приехали полицейские, а учителя ходили с серьезным и озабоченным видом. Чтобы в воздухе витал скорбный настрой. Ему нравилась такая атмосфера.
*
— Это последний раз. И не уговаривай.
— Хокан…
— Нет. Нет и все.
— Я умру.
— Умирай.
— Ты правда этого хочешь?
— Нет. Я этого не хочу. Но ты же можешь… сама.
— У меня нет на это сил. Пока.
— У тебя достаточно сил.
— Для этого — нет.
— Ну, тогда не знаю. Но больше я этого делать не буду. Это так мерзко, так…
— Я знаю.
— Нет, не знаешь. Для тебя все по-другому, для тебя…
— Да что ты знаешь о том, каково это для меня?
— Ничего. Но ты по крайней мере…
— Ты что, думаешь, мне это нравится?
— Не знаю. Нравится?
— Нет.
— Понятно. Короче, как бы там ни было, я больше этого делать не буду. Может, конечно, у тебя были другие, у которых это лучше получалось… Были?
— Да.
— Вот как, значит.
— Хокан…
— Я тебя люблю.
— Да.
— А ты меня любишь? Хоть немного?
— Ты сделаешь это еще раз, если я скажу, что люблю?
— Нет.
— Но, по-твоему, я все равно должна тебя любить?
— Ты любишь меня, только когда я помогаю тебе выжить.
— Да. А разве не в этом заключается любовь?
— Если бы я знал, что ты меня любила бы и без этого…
— То что?
— Может, я бы это и сделал.
— Я тебя люблю.
— Я тебе не верю.
— Хокан. Еще пару дней я, может, и протяну, но потом…
— Тогда советую меня скорее полюбить.
*
Вечер пятницы в китайской забегаловке. На часах без четверти восемь, вся компания в сборе. За исключением Карлссона, оставшегося дома, чтобы посмотреть «Угадай мелодию», — ну, оно и к лучшему. От него все равно никакого проку. Вечно возникает под самый конец, когда все уже расходятся, и давай хвастаться, сколько вопросов он отгадал.
За угловым столиком на шестерых, что у самой двери, сидят Лакке, Морган, Ларри и Юкке. Юкке с Лакке обсуждают, какие рыбы одинаково хорошо себя чувствуют и в пресной, и в соленой воде. Ларри читает вечернюю газету, а Морган сидит и качает ногой в такт воображаемой музыке, — по крайней мере, явно не той, что тихонько доносится из скрытых колонок забегаловки.
На столе перед ними почти полные кружки пива. На стене над барной стойкой висят их портреты.
Владельцу ресторана пришлось бежать из Китая во времена культурной революции из-за его карикатур на представителей власти. Сейчас же он оттачивает талант на постоянных посетителях. На стене висят двенадцать дружеских шаржей, нарисованных фломастером.
Здесь вся их компания, включая Виржинию. Мужские физиономии крупным планом, и в каждом шарже схвачена какая-нибудь характерная черта.
Два оттопыренных уха, обрамляющие морщинистое, впалое лицо Лассе, придали ему явное сходство с дружелюбным, но голодным слоном.
Мохнатые сросшиеся брови Юкке превратились в розовый куст, в котором угнездилась какая-то пташка, — вероятно, соловей.
Морган за свою манеру одеваться вышел похожим на позднего Элвиса. Здоровые бакенбарды и эдакий характерный прищур героя-любовника: «Hunka-hunka-burnin-looooove, baby». Голова на маленьком теле, застывшем в узнаваемой позе с гитарой в руках. Моргану этот портрет нравится даже больше, чем он готов признать.
Лакке, как всегда, выглядит озабоченным. В его огромных глазах страдание, в зубах сигарета, дым которой серой тучей собрался у него над головой.
И только Виржиния нарисована в полный рост. Облаченная в вечернее платье с блестками, она стоит, раскинув руки и сверкая, как звезда, а вокруг — стадо свиней, в недоумении взирающих на нее. По ее просьбе автор сделал точную копию шаржа, которую она забрала домой.
Есть там и другие. Кто-то выпал из компании, кто-то перестал заходить. Кто-то умер.
Чарли поскользнулся на ступеньках у своего подъезда, возвращаясь домой из ресторана. Расшибся о крашеный бетон. Огурец заработал цирроз печени и умер от внутреннего кровоизлияния. Как-то однажды за пару недель до смерти он задрал рубашку и показал красную паутину сосудов, расходившуюся от пупка. «Чертовски дорогая татуировка», — пошутил он, а вскоре его не стало. Они помянули его, выставив на столе его портрет и весь вечер поднимая за него тосты.
А вот портрета Карлссона там нет.
Эта пятница станет их последней встречей. Один из них завтра навеки покинет этот мир. Оставит после себя память в виде портрета на стене. И ничего уже не будет как прежде.
Ларри опустил газету, положил очки на стол и отхлебнул пива из кружки.
— Дела, мать твою. Это что же у человека должно в башке твориться?
Он показал газетный заголовок:
«ДЕТИ В ШОКЕ».
Под заголовком — фотография учащихся школы в Веллингбю, а рядом снимок поменьше — мужчина средних лет.
— Это что, убийца?
— Да нет, это директор школы.
— А выглядит как убийца. Типичный маньяк.
Юкке протянул руку к газете:
— Дай-ка сюда.
Ларри передал ему газету, и Юкке прищурился, держа ее перед собой на вытянутых руках.
— А по-моему, смахивает на какого-нибудь политика из консерваторов.
Морган кивнул:
— Вот и я о том же.
Юкке протянул газету Лакке, предлагая взглянуть:
— Что скажешь?
Лакке нехотя посмотрел на фотографию:
— Не знаю. Не нравится мне все это.
Ларри подышал на стекла очков и протер их о рубашку.
— Да поймают его, поймают. Такое ему с рук не спустят.
Морган побарабанил пальцами по столу и потянулся за газетой:
— Как там «Арсенал» сыграл?
И Ларри с Морганом принялись обсуждать последние посредственные успехи английской футбольной команды. Юкке и Лакке немного посидели, потягивая пиво и закурив по сигарете. Потом Юкке снова завел разговор про угрозу исчезновения трески в Балтийском море. Вечер шел своим чередом.
Карлссон так и не появился, но около девяти вошел человек, которого никто из них раньше не видел. К тому времени все были так увлечены разговорами, что нового посетителя заметили, только когда он уже сидел за столиком в противоположном конце зала.
Юкке наклонился к Ларри.
— Это на одного?
Ларри покосился на чужака, покачал головой.
— Не знаю.
Перед незнакомцем стоял здоровенный стакан виски. Он залпом осушил его и заказал еще один. Морган негромко присвистнул:
— А мужик-то не мелочится…
Объект их внимания, казалось, не замечал, что за ним наблюдают, — он просто сидел за столом, разглядывая свои руки с таким видом, будто на его плечах лежали все тяготы мира. Он быстро опрокинул в себя вторую порцию виски и заказал новую.
Официант наклонился к нему и что-то сказал. Незнакомец порылся в кармане и вытащил несколько купюр. Официант сделал протестующий жест рукой, давая понять, что совсем не это имел в виду, хотя, конечно же, имел в виду именно это, и отправился выполнять заказ.
В том, что кредитоспособность нового посетителя вызвала сомнения, не было ничего удивительного. Одежда его была помята и усеяна пятнами, как если бы он ночевал в местах, где плохо спится. Редкие волосы вокруг лысины были нестрижены и патлами свисали на уши. Лицо его украшали довольно крупный красный нос и выступающий подборок. Между ними виднелись небольшие полные губы, время от времени шевелившиеся, будто их обладатель разговаривал сам с собой. При виде очередной порции виски он даже бровью не повел.
Приятели возобновили прерванную дискуссию на тему того, будет ли Ульф Адельсон еще хуже, чем Гёста Буман.[13] Лишь Лакке время от времени косился на одинокого посетителя. Спустя какое-то время, когда тот заказал четвертую порцию виски, Лакке произнес:
— Может, пригласим его к нам?
Морган оглянулся через плечо на незнакомца, окончательно сникшего на своем стуле.
— С какой это стати? Жена бросила, кошка сдохла, жизнь говно. Я и так все знаю.
— А вдруг он угостит.
— Тогда другой разговор. Тогда пусть хоть раком болеет впридачу. — Морган пожал плечами. — Я возражать не буду.
Лакке взглянул на Ларри и Юкке. Они кивнули, и Лакке встал и направился к столу незнакомца.
— Здрасте.
Незнакомец посмотрел на Лакке мутным взглядом. Стакан на столе был почти пуст. Облокотившись о спинку свободного стула, Лакке наклонился к нему:
— Тут товарищи интересуются, не желаете ли вы к нам присоединиться.
Незнакомец покачал головой, вяло махнув рукой:
— Да нет. Спасибо. Но если хочешь, присаживайся.
Лакке отодвинул стул и сел. Незнакомец допил остатки виски и знаком подозвал официанта.
— Будешь что-нибудь? Я угощаю.
— Ну, раз так… Мне того же, что и тебе.
Лакке не хотел произносить слово «виски» — было бы наглостью рассчитывать, что его угостят столь роскошным напитком, но незнакомец молча подозвал официанта и поднял два пальца, кивнув на Лакке. Лакке откинулся на спинку стула. Когда он там последний раз пил виски? Года три назад? Не меньше.
Незнакомец не делал никаких попыток завязать разговор, так что Лакке прокашлялся и сказал:
— Ты смотри, как похолодало.
— Да.
— Того и гляди снег пойдет.
— Мм.
Им принесли виски, и необходимость в разговоре на время отпала. Лакке тоже принесли стакан, и он чувствовал, как спину сверлят завистливые взгляды друзей.
— Ну, будем здоровы. И спасибо.
— Будем.
— Здесь живешь или как?
Незнакомец уставился прямо перед собой, словно обдумывая вопрос, никогда раньше не приходивший ему в голову. Лакке так и не понял, было ли покачивание головой ответом или продолжением внутреннего диалога.
Лакке сделал еще глоток и решил, что если его собеседник не ответит и на следующий вопрос, значит, он хочет, чтобы его оставили в покое. Тогда он просто возьмет свой стакан и вернется к остальным. Долг вежливости за предложенное угощение он уже выполнил. Он даже надеялся, что тот не ответит.
— Ладно. Ну а чем вообще занимаешься?
— Я… — незнакомец вскинул брови, а уголки его рта дернулись, сложившись в нервную ухмылку, затем снова опустились, — да так, помогаю кое-кому.
— Да? И кому же?
За прозрачной пеленой взгляда промелькнула искра сознания. Их глаза встретились. Лакке почувствовал легкое покалывание чуть выше копчика, словно его укусил муравей.
Незнакомец потер рукой глаза, выудил из кармана несколько сотенных, положил их на стол и встал.
— Извини, мне пора.
— Ладно. Спасибо за виски.
Лакке поднял свой стакан на прощание, но незнакомец уже стоял у вешалки, с трудом стягивая свое пальто с крючка. Затем он вышел. Лакке остался сидеть спиной к товарищам, глядя на стопку денег. Пять сотенных. Порция виски стоила шестьдесят крон, этот тип выпил пять, ну, может, шесть.
Лакке покосился на официанта. Тот рассчитывал пожилую пару, единственных посетителей ресторана, помимо их компании. Вставая, Лакке быстро скомкал одну сотенную купюру, сунул ее в карман и проследовал к своему столу.
На полпути он что-то вспомнил, вернулся, перелил остатки виски из стакана незнакомца в свой и прихватил его с собой.
Удачный выдался вечер.
*
— Но сегодня же «Угадай мелодию»!
— Я успею.
— Так ведь начало через полчаса!
— Я знаю.
— Куда ты вообще собрался?
— Так, погулять.
— Да нет, можешь и не смотреть. Я могу и одна. Если тебе так надо…
— Мам, ну я же сказал, что приду!
— Ладно, ладно. Тогда я пока не буду разогревать блинчики.
— Нет, разогревай. Я скоро!
Оскар буквально разрывался. Совместный просмотр «Угадай мелодию» был их любимым совместным времяпрепровождением. Мама приготовила блинчики с креветками, которые они обычно ели перед телевизором. Он знал, что мама расстроится, если он сейчас уйдет, вместо того чтобы сидеть с ней и дожидаться начала передачи.
Но он дежурил у окна с самого наступления темноты, пока наконец не увидел, как девочка вышла из соседнего подъезда и направилась к детской площадке. Он тут же отскочил от окна. Главное, чтобы она не подумала, что он…
Он выждал пять минут, прежде чем одеться и выйти. Шапку надевать он не стал.
На площадке ее было не видно, — наверное, сидела на горке, как вчера. Жалюзи в ее квартире были все еще опущены, но дома горел свет. Только окно ванной по-прежнему зияло черным квадратом.
Оскар присел на край песочницы и стал выжидать, будто подстерегая животное, которое вот-вот выползет из своей норы. Он решил, что долго ждать не будет. Если она не появится, он просто уйдет как ни в чем не бывало.
Он вытащил кубик Рубика и начал его крутить, чтобы убить время. Ему надоело возиться с одним несчастным уголком, и он перемешал все грани, чтобы начать заново.
Поскрипывание кубика на холодном воздухе звучало, как шум небольшого агрегата. Краем глаза Оскар различил, как девочка поднялась и встала на вершине горки. Он начал заново собирать одну сторону. Девочка стояла молча. Внутри у него зашевелилось легкое беспокойство, но он продолжал делать вид, что не замечает ее.
— Ты опять тут?
Оскар поднял голову, изобразил удивление, помолчал, потом произнес:
— И ты тут?
Девочка ничего не ответила, и Оскар продолжил свое занятие. Пальцы окоченели. Различать цвета в сумерках становилось все сложнее, поэтому он собирал только белый, который было проще разглядеть.
— И чего ты здесь сидишь?
— А ты чего там стоишь?
— Хочу побыть одна.
— Я тоже.
— Ну и иди домой.
— Сама иди домой. Я здесь дольше живу.
Будет знать! Он уже собрал белую сторону, а дальше было сложнее — остальные цвета сливались в серую массу. Он продолжил крутить вслепую.
Когда он снова поднял голову, девочка уже стояла на перилах и вдруг прыгнула вниз. В животе у Оскара все перевернулось — если бы он сам сделал такой прыжок, ничем хорошим это бы не кончилось. Но девочка приземлилась мягко, как кошка, и подошла к нему. Он сосредоточил все внимание на кубике. Она остановилась перед ним.
— Что это у тебя?
Оскар посмотрел на девочку, на кубик, снова на девочку.
— Это?
— Да.
— Ты что, не знаешь?!
— Нет.
— Кубик Рубика.
— Что?
Оскар произнес по слогам:
— Ку-бик Ру-би-ка.
— И что это такое?
Оскар пожал плечами:
— Игрушка.
— Головоломка?
— Да.
Оскар протянул ей кубик:
— Хочешь попробовать?
Она взяла кубик из его рук, покрутила, разглядывая со всех сторон. Оскар засмеялся. Она была похожа на обезьянку, изучающую неизвестный фрукт.
— Ты что, правда никогда такого не видела?
— Нет. И что нужно делать?
— Смотри.
Оскар забрал у нее кубик, и девочка села рядом. Он показал ей, как надо крутить, объяснив: нужно собрать все стороны так, чтобы каждая была одного цвета. Девочка взяла кубик и начала его собирать.
— Ты разве что-нибудь видишь?
— Естественно.
Он покосился на нее. На ней был все тот же розовый свитер, что и вчера, — непонятно, как она не мерзнет? Сам он уже совсем продрог от долгого сидения на одном месте, несмотря на куртку.
Естественно.
И говорила она тоже странно. Как взрослая. Может, она и правда старше его, хоть и такая щуплая? Ее тонкая белая шея выглядывала из горла водолазки, переходя в четко очерченный подбородок. Прямо манекен.
Ветер подул в его сторону, и Оскар сглотнул, стараясь дышать через рот. От этого манекена конкретно воняло.
Она что, не моется?
Но это было хуже, чем запах застарелого пота. Уж скорее так пахнет, когда снимают повязку с воспаленной раны. А ее волосы…
Когда он решился приглядеться повнимательнее, воспользовавшись тем, что она увлеклась кубиком Рубика, он увидел, что волосы ее слиплись от грязи и лежат свалявшимися патлами с колтунами. Будто перемазанные клеем или глиной.
Пока Оскар изучал ее, он ненароком втянул носом воздух, и к горлу подкатила тошнота. Он встал, отошел к качелям и уселся на них. Находиться рядом с ней было невозможно. Она ничего не заметила.
Через какое-то время он встал и снова подошел к ней. Она все еще была поглощена головоломкой.
— Слушай, мне пора домой.
— Угу.
— Кубик…
Девочка застыла. Немного помедлив, молча протянула ему кубик. Оскар взял его, посмотрел на нее и протянул обратно:
— Можешь взять. До завтра.
Она не пошевелилась.
— Нет.
— Почему?
— Может, меня здесь завтра не будет.
— Ну, значит, до послезавтра. Но не позже.
Она подумала. Взяла кубик.
— Спасибо. Может, я завтра и буду.
— Здесь?
— Да.
— Ладно. Пока!
— Пока.
Поворачиваясь, Оскар услышал потрескивание кубика. Она и не думала уходить, сидела себе в своем тоненьком свитерке. Ее родители, должно быть, очень странные, раз позволяют ей гулять в таком виде. Она же себе все застудит!
*
— Где ты был?
— Где надо.
— Ты пьян.
— Да.
— Мы же решили, что ты больше не будешь?
— Это ты решила. Что это у тебя?
— Головоломка. Ты же знаешь, что тебе вредно…
— Где ты ее взяла?
— Одолжила. Хокан, ты должен…
— У кого?
— Хокан. Не начинай.
— Тогда порадуй меня.
— Что я должна сделать?
— Позволь к тебе прикоснуться.
— Хорошо. При одном условии.
— Нет. Нет-нет-нет. Только не это.
— Завтра. Ты должен.
— Нет. Никогда в жизни! Что значит «одолжила»? Ты никогда ничего не одалживаешь. Да что это вообще за штука?
— Головоломка.
— У тебя что, головоломок мало? Тебе головоломки дороже меня. Головоломки. Ломки. Головоломки. Кто тебе это дал? КТО ТЕБЕ ЭТО ДАЛ, я спрашиваю?!
— Хокан, перестань.
— Черт, до чего же я несчастен!
— Помоги мне. В последний раз. Потом я смогу обходиться сама.
— Да, в этом-то все и дело.
— Ты не хочешь, чтобы я могла обходиться без твоей помощи.
— И зачем я тебе тогда буду нужен?
— Я тебя люблю.
— Нет. Не любишь.
— Правда, люблю. В каком-то смысле.
— Так не бывает. Либо ты любишь человека, либо нет.
— Разве?
— Да.
— Тогда мне надо подумать.
Тайна пригорода — в отсутствии тайны.
В субботу утром на пороге Оскара лежали три толстые связки рекламных листовок. Обычно мама помогала ему их складывать. По три листовки в каждой пачке, всего четыреста восемьдесят пачек. Каждая розданная пачка — в среднем четырнадцать эре. В худшем случае выпадала одна листовка по семь эре за штуку. В лучшем (он же по-своему худший, поскольку все их приходилось складывать) — пять штук общей стоимостью двадцать пять эре за пачку.
Дела у него шли неплохо, поскольку высотки относились к его району. Только в одних многоэтажках он мог раздать сто пятьдесят листовок в час. Вся работа занимала где-то около четырех часов, включая заход домой, чтобы пополнить запасы. Если речь шла о пяти листовках, заходить домой приходилось целых два раза.
Листовки нужно было раздать не позднее вечера вторника, но он обычно разделывался с работой еще в субботу. Чтобы зря не откладывать.
Оскар сидел на кухонном полу, мама за столом. Они складывали листовки. Работенка была не из веселых, но ему нравился временный бардак на кухне. Беспорядок, шаг за шагом превращающийся в порядок — два, три, четыре бумажных пакета, набитых аккуратно сложенными листовками.
Мама положила очередную пачку в пакет, покачала головой:
— Честно говоря, не нравится мне это.
— Что именно?
— Ни в коем случае… если кто-нибудь откроет дверь или что еще… ни в коем случае…
— Конечно нет. С какой бы стати я стал входить?
— На свете так много странных людей.
— Да.
Этот разговор повторялся в той или иной форме практически каждую субботу. В эту пятницу мама даже решила, что ему вообще не стоит разносить в субботу листовки из-за маньяка, но Оскар поклялся, что будет орать как резаный, если кто-нибудь посмеет с ним хотя бы заговорить, и мама сдалась.
Никто никогда не пытался зазвать Оскара к себе. Только однажды вышел какой-то старик и отругал его за то, что он «пихает всякое дерьмо в почтовый ящик», и с тех пор Оскар пропускал его квартиру. Теперь старик жил, не ведая о том, что на этой неделе в женской парикмахерской он мог бы сделать стрижку с мелированием за двести крон.
К половине двенадцатого листовки были готовы, и он отправился в путь. Просто взять и выкинуть их на помойку было нельзя — иногда из компании звонили и устраивали проверки. Ему это объяснили еще полтора года назад, когда он попросился к ним на работу. Может, насчет проверок они и наврали, но Оскар предпочитал не рисковать. К тому же он не имел ничего против самой работы. По крайней мере, первые два часа.
Он мог, к примеру, притворяться тайным агентом, выполняющим секретное задание — распространить пропаганду, направленную против врага, захватившего страну. Он крался от двери к двери, остерегаясь вражеских солдат, которым ничего не стоило замаскироваться под безобидных старушек с собаками.
Иногда он представлял каждый дом голодным чудовищем, драконом о шести ртах, питающимся лишь плотью девственниц в виде рекламных листовок, которые он ему скармливал. Пачки визжали в его руках, когда он запихивал их в драконью пасть.
Последние же два часа — вот как сегодня, где-то на второй партии — он впадал в некое оцепенение. Ноги шли сами собой, а руки механически выполняли свою работу.
Ставим пакет, шесть пачек под мышку, открываем дверь, первая квартира, левой рукой открываем ящик, правой берем листовку, бросаем в почтовую щель. Вторая квартира… Ну и так далее.
Дойдя наконец до квартиры девочки, он остановился у двери и прислушался. Изнутри доносились приглушенные звуки радио. Других звуков не было. Он сунул листовку в почтовую щель квартиры, подождал. Никто не подошел.
Закончив, как всегда, своей квартирой, он бросил листовку в ящик, открыл дверь, поднял листовку с пола и выкинул в мусорку.
На сегодня все. Он стал на шестьдесят семь крон богаче.
Мама уехала в Веллингбю за продуктами. Дом был в его распоряжении. Придумать бы еще, что с этим делать.
Оскар заглянул в ящик кухонного стола. Столовые приборы, венчики, термометр для духовки. В другом ящике — ручки, бумага и пачка карточек с рецептами, на которые мама было подписалась, но потом отказалась, потому что все они включали в себя слишком дорогие ингредиенты.
Он перешел в гостиную, открыл шкаф.
Мамино вязание — то ли спицами, то ли крючком. Папка со счетами и квитанциями. Фотоальбом, пересмотренный уже раз сто. Старые журналы с нерешенными кроссвордами. Пара очков в очечнике. Пяльцы для вышивания. Деревянная коробка с их паспортами и личными жетонами (Оскар долго уговаривал маму разрешить ему носить свой жетон на тесемке вокруг шеи, но она сказала, что это на случай войны), фотокарточка и кольцо.
Он перерыл все ящики и шкафы, разыскивая сам не зная что. Секрет. Что-нибудь такое, что все изменит. Вот бы ни с того ни с сего обнаружить в шкафу кусок гниющего мяса. Или надутый шарик. Да что угодно. Любой странный предмет.
Он вытащил фотокарточку и начал разглядывать.
Это была фотография с его крестин. Мама стояла, прижимая его к груди, и смотрела прямо в камеру. Тогда она еще была стройной. Оскар был завернут в крестильную рубашку с длинными голубыми лентами. Рядом с мамой стоял папа, заметно неловко чувствовавший себя в костюме. Он явно не знал, куда девать руки, поэтому скованно вытянул их по швам, будто по стойке смирно. Он глядел на младенца. Над всеми тремя светило солнце.
Оскар поднес карточку к глазам, изучая папино лицо. На нем читалась гордость. Гордость и… растерянность. Он выглядел человеком, который рад появлению ребенка, но понятия не имеет, как себя вести. Что делать. Такое ощущение, что он видел младенца впервые, хотя Оскара крестили через полгода после рождения.
Мама же, наоборот, держала Оскара уверенно и непринужденно. Она смотрела в камеру не столько с гордостью, сколько с подозрением. В ее взгляде было написано — не подходи. Укушу за нос.
Папа стоял чуть подавшись вперед, словно хотел подойти поближе, но не решался. Это была не семья. На снимке были изображены мальчик и его мама. А рядом мужчина, по-видимому папа. Судя по выражению лица.
Но Оскар любил своего папу, да и мама тоже. По-своему. Несмотря на все его странности. Но что вышло, то вышло.
Оскар вытащил кольцо и прочитал гравировку на внутренней стороне: Эрик 22/4/1967. Родители развелись, когда ему было два года. Никто из них так и не нашел себе кого-нибудь другого. «Не сложилось». Оба использовали одно и то же выражение.
Он вернул кольцо на место, закрыл коробку и положил ее в шкаф. Неужели мама его еще разглядывает? Зачем она его сохранила? Хотя все-таки золото. Граммов десять как минимум. Крон четыреста, не меньше.
Оскар снова оделся и вышел во двор. На улице быстро смеркалось, хотя было всего четыре часа. О том, чтобы идти в лес, не могло быть и речи.
Навстречу шел Томми. Заметив Оскара, он остановился.
— Здоров!
— Привет.
— Че делаешь?
— Да вот разнес рекламу, а теперь… не знаю.
— И что, приличный заработок?
— Ну, так. Крон семьдесят-восемьдесят. За раз.
Томми кивнул.
— Хочешь купить плеер?
— Не знаю. А что за плеер?
— «Сони Уокмэн». Пятьдесят крон.
— Новый?
— Ага. В упаковке. С наушниками. Пятьдесят крон.
— У меня денег нет.
— Ты же только что сказал, что заработал семьдесят-восемьдесят крон?
— Ну да, но нам зарплату только раз в месяц выдают. Через неделю будут.
— Ладно. Короче, давай так: я тебе его сейчас отдам, а ты мне потом деньги вернешь, идет?
— Ага.
— Ладно, тогда подожди меня там, я сейчас. — Томми мотнул головой в сторону детской площадки.
Оскар послушно двинулся туда и сел на скамейку. Потом встал и подошел к горке, огляделся по сторонам. Девочки не было видно. Он поспешно вернулся к скамейке и сел, будто сделал что-то запретное.
Вскоре появился Томми и протянул ему упаковку:
— Пятьдесят крон через неделю, о'кей?
— Угу.
— Ты что вообще слушаешь?
— Kiss.
— И какие у тебя альбомы?
— «Alive».
— А «Destroyer» у тебя нет? Хочешь, возьми у меня, перепиши.
— Ага, спасибо!
У Оскара был двойной альбом «Alive», купленный несколько месяцев назад, который он так и не успел послушать. Только разглядывал фотографии на конверте. Музыканты выглядели, конечно, круто с этими своими размалеванными лицами. Прямо ожившие персонажи из ужастиков. Песня «Beth» в исполнении Питера Крисса ему еще нравилась, а остальные казались какими-то слишком… там и мелодии-то толком не было. Может, «Destroyer» окажется лучше.
Томми встал, собираясь уходить. Оскар прижал коробку с плеером к груди.
— Томми?
— Что?
— Тот парень… Ну, которого убили. Ты не знаешь, как его убили?
— Знаю. Подвесили на дереве и перерезали горло.
— А его случайно… не закололи? В смысле, на теле не было ножевых ран?
— Не-а, только горло. Вжик — и все.
— Ну ладно.
— Больше вопросов нет?
— Нет.
— Тогда пока.
— Ага.
Оскар еще немного посидел на скамейке в задумчивости. На темно-фиолетовом небе ярко горела первая звезда — или это была Венера? Он встал и вошел в подъезд, чтобы спрятать плеер до прихода мамы.
Вечером ему предстояло увидеться с девочкой. Он заберет у нее кубик Рубика. Жалюзи были по-прежнему опущены. Да живет она там или нет?! Чем они занимаются целыми днями? У нее вообще есть друзья?
Вряд ли.
*
— Сегодня…
— Что это с тобой?
— Помылась.
— Что-то я раньше этого за тобой не замечал.
— Хокан, сегодня вечером ты должен…
— Я сказал — нет.
— Ну пожалуйста?..
— Дело не в этом… Все что угодно, только скажи. Я все сделаю. Да возьми ты мою, господи! На, держи нож. Нет? Ну ладно, тогда я сам…
— Прекрати!
— Почему? Уж лучше так. С чего это ты вдруг помылась? От тебя же пахнет… мылом.
— Ну что ты хочешь, чтобы я сделала?
— Я не могу!
— Ладно, значит — не можешь.
— Что ты будешь делать?
— Пойду сама.
— И для этого обязательно нужно мыться?
— Хокан.
— Я все что угодно для тебя готов сделать. Что угодно, только не это, я…
— Да знаю, знаю. Все нормально.
— Прости меня.
— Хорошо.
— Будь осторожна. Я… Короче, будь осторожна.
*
Куала-Лумпур, Пномпень, Меконг, Рангун, Чунцин…
Оскар посмотрел на контурную карту — домашнее задание на выходные. Географические названия ни о чем ему не говорили, казались просто случайными сочетаниями слогов. Он даже испытывал некоторое удовлетворение, сверяясь с атласом и убеждаясь, что на местах, отмеченных точками на карте, и правда существуют города и реки.
Ему предстояло выучить все наизусть, чтобы мама могла его проверить. Надо было перечислить точки на карте, произнося незнакомые слова — Чунцин, Пномпень. И мама, разумеется, впечатлится. Да и в самих этих странных названиях далеких городов таилось что-то притягательное, но…
Зачем?
В четвертом классе они проходили географию Швеции. Он тогда тоже выучил все наизусть. У него это хорошо получалось. А теперь?
Он попытался вызвать в памяти название хоть одной шведской реки.
Эскан, Вескан, Пискан…
Что-то в этом роде. А может, Этран. Точно. Только вот где она находится? Кто ее знает. И то же самое произойдет с Чунцином и Рангуном через пару лет.
Все это бесполезно.
Этих мест, наверное, и в природе-то не существует. А если и существуют, то все равно ему никогда не доведется там побывать. Чунцин? Что он там забыл? Это всего-навсего большой белый кружок с маленькой точкой посередине.
Он посмотрел на прямые линейки, на которых громоздились его корявые буквы. Это всего лишь школа. И не более того. Всего лишь школа. Тебе велят делать кучу разных вещей, ты их делаешь. Все это придумано, чтобы учителям было что задавать на дом. Все эти задания ничего не значат. Он с тем же успехом мог бы написать на разлинованной странице «Чиппифлакс», «Буббелибэнг» или «Спит». Толку было бы столько же.
Единственное отличие заключалось в том, что учительница назвала бы его ответ неправильным и сказала, что эти места называются по-другому. Она указала бы на карту со словами: «Смотри, этот город называется Чунцин, а не Чиппифлакс». Тоже мне доказательство. Кто-то же когда-то выдумал эти названия, которые теперь значатся в атласе. И кто сказал, что эти места действительно так называются? Может, Земля и в самом деле плоская, просто кто-то решил держать это в тайне?
Корабли, обрушивающиеся с края земли. Драконы.
Оскар встал из-за стола. Задание было выполнено, листок заполнен буковками, которые оставалось сдать учительнице на проверку. И все.
Часы показывали начало восьмого. Может, девочка уже вышла? Он прижался к стеклу, сложив ладони ковшиком перед глазами, и всмотрелся в темноту. Вроде бы на площадке кто-то есть.
Он вышел в коридор. Мама сидела в гостиной и вязала то ли на спицах, то ли крючком.
— Я выйду ненадолго.
— Что, опять? Мы же договорились, что я проверю твои уроки.
— Да. Только попозже.
— Там Азия?
— Что?
— Твое домашнее задание. Вы же сейчас Азию проходите?
— Вроде да. Чунцин.
— Это где? В Китае?
— Не знаю.
— Как это не знаешь? Но…
— Я скоро приду.
— Ладно. Осторожнее там. Шапку взял?
— Да.
Оскар засунул шапку в карман куртки и вышел. На полпути к детской площадке глаза его привыкли к темноте, и он разглядел девочку на вершине горки. Он подошел и встал у ее подножия, не вынимая рук из карманов.
Что-то в ней изменилось. Она по-прежнему была одета в розовый свитер — у нее что, другого нет? — но волосы были уже не такими свалявшимися. Гладкие черные пряди струились вдоль лица, повторяя малейшие движения головы.
— Здорово!
— Привет.
— Привет.
Больше никогда в жизни он не будет говорить «здорово!» — настолько дико это прозвучало. Девочка встала.
— Лезь сюда.
— Ага.
Оскар поднялся наверх по лестнице, встал рядом, осторожно потянул носом воздух. От нее больше не воняло.
— Теперь лучше пахнет?
Лицо Оскара залилось краской. Девочка улыбнулась и протянула ему что-то. Его кубик Рубика.
— Спасибо.
Оскар взял кубик, посмотрел на него и не поверил своим глазам. Пригляделся, насколько это было возможно в темноте, покрутил в руках, разглядывая со всех сторон. Кубик был собран. Каждая сторона была своего цвета.
— Ты что, разобрала его?
— Как это?
— Ну, разломала, а потом собрала как надо.
— А что, так можно?
Оскар покрутил кубик, проверяя, не разболталась ли какая-нибудь грань после того, как его разобрали и снова собрали. Он и сам так однажды сделал, поражаясь, как быстро лопается терпение оттого, что не можешь собрать этот чертов кубик. Правда, после этого кубик был как новый. Но не могла же она его просто взять и собрать?
— Ты точно его разобрала!
— Нет.
— Ты же его раньше даже не видела?
— Нет. Было здорово. Спасибо.
Оскар поднес кубик к глазам, будто надеясь, что тот расскажет ему, как это произошло. В глубине души он был уверен, что девочка не врет.
— И сколько же у тебя это заняло времени?
— Несколько часов. Сейчас собрала бы быстрее.
— С ума сойти.
— Это не так уж сложно.
Она повернулась к нему. Зрачки такие огромные, что радужки почти не видно. Свет фонарей отражался в темной глубине, будто в ней таился целый город.
Горло водолазки, натянутое до самого подбородка, лишь подчеркивало ее мягкие точеные черты, и она походила на… персонажа комиксов. Кожа, черты лица были словно деревянный нож для масла, отшлифованный нежнейшей шкуркой до тех пор, пока дерево не станет гладким, как шелк.
Оскар прокашлялся:
— Сколько тебе лет?
— Как ты думаешь?
— Четырнадцать-пятнадцать.
— Я выгляжу на пятнадцать?
— Да. Вернее, нет, но…
— Мне двенадцать.
— Двенадцать!
Ура! Похоже, она все же была младше Оскара, которому через месяц исполнялось тринадцать.
— А когда у тебя день рождения?
— Не знаю.
— Как это — не знаешь? Ты что, день рождения не празднуешь?
— Нет, не праздную.
— Но твои родители должны же знать!
— Нет. Моя мама умерла.
— Ого. Ничего себе. Отчего?
— Не знаю.
— А твой папа — тоже не знает?
— Нет.
— И тебе что, никогда подарков не дарили?
Она сделала шаг к нему. Пар из ее рта коснулся его лица, а свет города, отражавшийся в ее глазах погас, когда она оказалась в тени. Зрачки — две бездонные дыры.
Ей грустно. Очень, очень грустно.
— Нет. Мне не дарили подарков. Никогда.
Оскар неловко кивнул. Мир вокруг перестал существовать. Остались только две черные дыры на расстоянии вздоха. Пар из их ртов, переплетаясь, поднимался вверх и растворялся в воздухе.
— Хочешь сделать мне подарок?
— Да.
Это был даже не шепот, а скорее выдох, сорвавшийся с его губ. Лицо девочки было совсем близко. Ее гладкая, словно отшлифованное дерево, щека притягивала его взгляд.
Потому-то он не видел, как изменились ее глаза, как зрачки сузились, приобретая новое выражение. Как вздернулась верхняя губа, обнажая грязно-белые резцы. Он видел лишь ее щеку, и, когда ее зубы почти коснулись его шеи, он поднял руку и погладил ее по щеке.
Девочка на мгновение замерла и вдруг отпрянула. Глаза ее стали такими же, как прежде, и в них снова вспыхнули огни.
— Что ты сделал?
— Прости… я…
— Что. Ты. Сделал.
— Я…
Оскар взглянул на свою руку, державшую кубик Рубика, чуть разжал ее. Он так сильно сжимал игрушку, что на ладони отпечатался контур. Он протянул кубик девочке:
— Хочешь? Дарю.
Она медленно покачала головой:
— Нет. Он же твой.
— Как… как тебя зовут?
— Эли.
— А меня Оскар. Как ты сказала? Эли?
— Да.
Девочка внезапно заволновалась. Взгляд ее заметался из стороны в сторону, будто она безуспешно пыталась что-то вспомнить.
— Я… мне пора.
Оскар кивнул. Пару секунд девочка смотрела ему прямо в глаза, затем повернулась, собираясь уходить. На мгновение замерла на краю горки, затем села, скатилась вниз и пошла к своему подъезду. Оскар продолжал сжимать в руке кубик Рубика.
— Ты завтра будешь?
Девочка остановилась, тихо произнесла, не оборачиваясь: «Да» — и пошла дальше. Оскар проводил ее взглядом. Она прошла мимо своего подъезда и исчезла в арке, ведущей на улицу. Раз — и нет.
Оскар взглянул на кубик, зажатый в руке. С ума сойти.
Он повернул грань, сбивая цвета. Потом передумал и вернул на место. Ему захотелось оставить все как есть. Пока.
*
Юкке Бенгтссон посмеивался про себя, идя из кино домой. Все же чертовски смешной фильм эта «Турпоездка».[15] Особенно те мужики, что весь фильм бегали, разыскивая пивную «Пеппес Бодега». А потом один из них провозил своего в жопу пьяного приятеля через таможню в инвалидном кресле: «Invalido». Оборжаться.
А может, взять и рвануть вот в такую поездку с кем-нибудь из мужиков? Да только с кем? Карлссон такой зануда, что стрелки часов залипают, — с ним через два дня на стенку полезешь. Морган, как выпьет лишнего, начинает скандалить, а уж там-то он точно нажрется, раз бухло дешевое. Ларри в принципе ничего, если бы не был такой развалиной — и будешь потом его всю дорогу катать в инвалидном кресле, как того мужика: инвалидо.
Остается только Лакке.
Вот бы они там гульнули недельку… Да только Лакке беден, как церковная мышь, он себе такого в жизни позволить не сможет. Каждый вечер — пиво да сигареты. Хороший мужик, ничего не скажешь, но Канары явно не потянет.
Оставалось признать — никто из завсегдатаев китайской забегаловки в спутники не годился.
Может, одному съездить?
Вон, Стиг-Хелмер[16] взял и поехал. Хотя, казалось бы, таких неудачников еще поискать. Познакомился там с Уле, бабу себе нашел, все дела. Юкке бы тоже от такого не отказался. Мария уже лет восемь как ушла от него и собаку забрала впридачу, и с тех самых пор он ни разу бабы-то и не знал в библейском смысле.
Да только кто на него позарится? Впрочем, почему бы и нет? С виду он еще ничего, уж получше Ларри. Конечно, алкоголь наложил свой отпечаток и на лицо, и на фигуру, как он ни старался держать ситуацию под контролем. Сегодня, например, он за весь день не выпил ни капли, а ведь на часах уже девять. Зато сейчас он придет домой и опрокинет пару джин-тоников, прежде чем отправиться к китаезе.
А о поездке стоит еще подумать. Правда, получится небось как со всеми остальными затеями последних лет — пшик. Но помечтать-то можно.
Он шел по аллее парка между Хольбергсгатан и районной школой Блакеберга. Было довольно темно, фонари стояли метрах в тридцати друг от друга. Справа на пригорке, как маяк, светился китайский ресторан.
А может, гульнуть сегодня? Пойти к китаезе, не заходя домой, и… Не. Слишком дорого. Остальные решат, что он выиграл в лотерею, еще и в жлобстве обвинят, — мол, мог бы и угостить… Лучше сначала домой, выпить для затравки.
Он прошел мимо здания прачечной с трубой, на которой горел огонек, похожий на красный глаз. Изнутри раздавался приглушенный гул.
Как-то раз, когда он шел домой хорошенько набравшись, с ним приключилось что-то вроде галлюцинации — он увидел, как труба отделилась от крыши и поползла к нему, рыча и шипя. Он плюхнулся на землю, прикрывая голову руками в ожидании нападения. Когда же он наконец отнял руки, труба как ни в чем не бывало возвышалась там, где положено, внушительная и неподвижная.
Фонарь у моста под Бьёрнсонсгатан был разбит, и арка зияла черным провалом. Был бы он навеселе, — наверное, поднялся бы по ступенькам вдоль моста и продолжил путь по улице, хоть это и дольше. Спьяну в темноте черт знает что привидится. Он по этой причине даже спал со включенной лампой. Но сейчас-то он ни в одном глазу.
И все равно его так и подмывало воспользоваться лестницей. Пьяный бред начал просачиваться даже в трезвое сознание. Он остановился посреди аллеи и заключил: «Совсем крыша едет».
Значит так, Юкке, слушай меня внимательно. Если ты не возьмешь себя в руки и не осилишь эти несчастные несколько метров под аркой, не видать тебе Канарских островов как своих ушей.
Как это?
Да так — ты же, чуть что, бежишь, поджав хвост. Чуть что — идешь на попятную. С чего ты взял, что тебе хватит духа позвонить в турагентство, сделать новый паспорт, купить все нужное для поездки, не говоря уж о том, чтобы отправиться неизвестно куда, если ты даже не можешь пройти этот жалкий участок пути?
Хм, в этом что-то есть. Так что? Если я сейчас пройду под мостом, — значит, я в самом деле еду на Канары? Значит, это не пустые фантазии?
Тогда ты завтра же позвонишь и закажешь билет. Тенерифе, Юкке. Тенерифе.
Он тронулся с места, представляя солнечные пляжи и коктейли с разноцветными зонтиками. Все, решено, он едет! И никуда он сегодня не пойдет — останется дома и будет просматривать объявления. Восемь лет! Пора уже выходить из спячки.
Он задумался о пальмах — интересно, есть ли они там, были они в фильме или нет? — как вдруг услышал какой-то звук. Чей-то голос. Он остановился под мостом, прислушался. Где-то возле стены раздался стон:
— Помогите…
Его глаза начали привыкать к темноте, но пока он видел лишь листья, занесенные ветром под мост и сбившиеся в кучи. Голос, похоже, был детский.
— Эй? Кто здесь?
— Помогите…
Он огляделся по сторонам. Вокруг никого. Из темноты донесся шорох, и он различил какое-то движение среди листьев.
— Пожалуйста…
Ему безумно захотелось повернуться и уйти. Но это было исключено. Ребенку явно было плохо, может, на него кто-то напал.
Маньяк?
Маньяк из Веллингбю добрался до Блакеберга, но на этот раз жертва уцелела.
Вот черт!
Ему не хотелось ни во что ввязываться. Он же едет на Тенерифе! Но ничего другого не оставалось. Он сделал несколько шагов в ту сторону, откуда доносился голос. Листья зашуршали под его ногами, и перед ним возникли очертания тела, застывшего в позе зародыша среди листвы.
Черт, черт!
— Что с тобой?
— Помогите…
Глаза Юкке окончательно привыкли к темноте, и он увидел, как ребенок тянет к нему бледную руку. Ребенок был обнаженным, — наверное, изнасилование. Нет. Подойдя ближе, он понял, что на ребенке розовая водолазка. Возраст? Лет десять-двенадцать. Может, его избили приятели. Или ее. Если это девочка, то, конечно, вряд ли.
Он сел на корточки, взял ребенка за руку.
— Что случилось?
— Помогите мне подняться…
— Тебе больно?
— Да.
— Что случилось?
— Поднимите меня…
— У тебя что-то со спиной?
В армии он был санитаром и знал, что людей с травмами позвоночника и шеи нельзя трогать, не зафиксировав голову.
— Это точно не спина?
— Нет. Поднимите меня.
Черт, что же делать? Если он принесет ребенка к себе, полиция решит…
Придется отнести его или ее к китаезе и оттуда позвонить в «Скорую». Точно. Так он и сделает. Тело ребенка было маленьким и щуплым, наверное, все же девочка, и, хотя Юкке был не в лучшей форме, он наверняка справится.
— Ладно. Я отнесу тебя туда, откуда можно позвонить, хорошо?
— Да. Спасибо.
От этого «спасибо» у него защемило сердце. Да как он мог раздумывать? Что же он за сволочь такая?! Хорошо хоть вовремя опомнился — теперь он поможет девчушке. Он просунул левую руку ей под колени, обхватив другой за шею.
— Так. Сейчас я тебя подниму.
— Мм.
Она почти ничего не весила. Поднять ее было проще простого. Килограммов двадцать пять, не больше. Может, она голодает. Неблагополучная семья, анорексия. Может, отчим обижает. Бедолага.
Девочка обвила руками его шею, прижалась щекой к его плечу. Ничего, сейчас он ей поможет.
— Ну, как ты?
— Хорошо.
Он улыбнулся. Внутри у него разлилось тепло. Все-таки он хороший человек. Ему уже представлялись лица товарищей, когда он войдет в ресторан с девочкой на руках. Сначала они решат, что он вляпался в какую-то передрягу, но потом поймут, оценят, и посыплются похвалы: «Молодец, Юкке!» — и все такое прочее.
Он направился к ресторану, погруженный в мечты о новой жизни, которая должна была вот-вот начаться, как вдруг почувствовал боль в шее. Что за черт? Будто укус пчелы, и левая рука невольно дернулась, чтобы нащупать, стряхнуть. Но не мог же он отпустить ребенка.
Он безуспешно попытался наклонить голову, чтобы хоть что-то разглядеть, но у него ничего не получалось, так как голова девочки крепко прижималась к его скуле. Руки ее крепче впились в его шею, боль усилилась. И тут он понял.
— Какого черта?!
Он почувствовал, как заработали ее челюсти. Боль в шее становилась все невыносимее. За шиворот потекла теплая струйка.
— Прекрати!
Он разжал руки. Это было даже не осознанное решение, а рефлекс — скорее скинуть эту пакость со своей шеи!
Но девочка не упала. Вместо этого она железной хваткой вцепилась в его шею — бог ты мой, откуда в таком маленьком теле столько силы! — и обвила его ногами. Как пятерня, стиснувшая куклу, она крепко обхватила его, не переставая работать челюстями.
Юкке вцепился ей в затылок, пытаясь оторвать ее от своей шеи, но это было все равно что пытаться голыми руками отломать от березы гриб-паразит. Она не шелохнулась. Ее хватка вытеснила последний кислород из его легких, не позволяя сделать новый вдох.
Спотыкаясь, он сделал несколько шагов назад, хватая воздух ртом.
Челюсти девочки перестали ходить ходуном, и теперь раздавалось лишь тихое чавканье. Она ни на секунду не ослабляла хватку; наоборот, присосавшись к ране, она сжала его еще сильнее. Глухой хруст — и грудь Юкке наполнилась болью. Сломалась пара ребер.
На то, чтобы закричать, не хватало воздуха. Он что есть силы бил кулаками по голове девочки, шатаясь из стороны в сторону среди сухих листьев. Вокруг все кружилось. Далекие фонари плясали перед глазами, как светлячки.
Наконец он потерял равновесие и упал на спину. Последнее, что он услышал, — это шорох листьев под головой. Спустя долю секунды его голова ударилась о каменную плиту и мир погрузился во тьму.
*
Оскар лежал в постели, уставившись на обои, сна ни в одном глазу.
Сегодня они с мамой посмотрели «Маппет-шоу», но он с трудом следил за ходом сюжета. Мисс Пигги на что-то сердилась, а Кермит разыскивал Гонзо. Один из ворчливых старикашек свалился с балкона. Почему, Оскар так и не понял. Мысли его были заняты другим.
Потом они пили какао с коричными булочками. Оскар помнил, что они про что-то разговаривали, но вот про что? Кажется, о том, что надо перекрасить диван на кухне в синий цвет.
Он не сводил глаз с обоев.
Стена за кроватью была обклеена фотообоями с изображением лесной поляны. Широкие стволы, зеленые листья. Он любил всматриваться в листву над своей головой, выискивая там разных существ. Двоих он находил сразу, а чтобы разглядеть остальных, приходилось напрячься.
Но теперь стена приобрела совершенно другое значение. За ней, по ту сторону леса, жила Эли. Оскар приложил ладонь к зеленой поверхности и попытался вообразить себе ее жилище. Интересно, там у нее спальня? Вдруг и она тоже лежит в своей кровати? Стена представилась ему щекой Эли, и он погладил зеленые листья, воображая мягкую кожу под рукой.
Из-за стены послышались голоса.
Он перестал гладить обои и прислушался. Голосов было два — тонкий и погрубее. Эли и ее папа. Похоже, они ссорились. Он приложил ухо к стене, пытаясь что-нибудь расслышать. Вот черт. Был бы у него стакан. Он не решался сходить за стаканом — вдруг они за это время замолчат?
О чем они говорят?
Отец, похоже, сердился, Эли было почти не слышно. Оскар изо всех сил пытался расслышать слова. Он различил только несколько ругательств и «ужасно жестоко», потом раздался грохот, словно кто-то упал на пол. Он что, ее ударил?! Может, он видел, как Оскар погладил ее по щеке?.. А вдруг это все из-за него?
Теперь до него донесся голос Эли. Оскар не слышал ни слова из того, что она говорила, лишь мелодичные интонации ее голоса, скользившие то вверх, то вниз. Разве так бы она говорила, если бы он ее ударил? Он не смеет ее бить! Оскар его убьет, если он поднимет на нее руку.
Оскар пожалел, что не умеет проходить сквозь стены, как Человек-молния. Вот бы сейчас просочиться сквозь этот лес и очутиться на другой стороне, понять, что там происходит, не нужна ли Эли помощь, утешение — да что угодно!
За стеной снова стало тихо. Лишь гулкий стук в ушах.
Он встал с кровати, подошел к столу и вытряхнул несколько ластиков из пластмассового стаканчика. Взяв стаканчик, он снова залез на кровать и приставил его к стене, прижавшись ухом к донышку.
До него доносился лишь непонятный грохот — вряд ли из соседней комнаты. Да что они там делают?! Он затаил дыхание. И вдруг — ба-бах!
Выстрел!
Отец отыскал пистолет, и… Нет, это входная дверь, хлопнувшая так, что задрожали стены.
Он спрыгнул с кровати и подошел к окну. Через несколько секунд из подъезда вышел мужчина. Отец Эли. В руках его была сумка. Быстрым, сердитым шагом он направился к арке и исчез.
Что делать? Пойти за ним? Зачем?
Он подумал и снова лег. У него просто разыгралась фантазия, не более того. Эли поругалась со своим отцом, Оскар тоже иногда ругался с мамой. Случалось даже, что мама вот так же хлопала дверью после какой-нибудь громкой ссоры.
Но не посреди ночи.
Мама иногда грозилась, что бросит Оскара, когда ему случалось всерьез провиниться, но Оскар знал, что она этого никогда не сделает, и она знала, что он это знает. А вот отец Эли, похоже, решил выполнить угрозу. Ушел посреди ночи, с сумкой, все дела…
Лежа в постели, Оскар прижался ладонями и лбом к стене.
Эли, Эли. Ты там? Он тебя обидел? Тебе плохо? Эли…
Раздался стук в дверь, Оскар вздрогнул. На какое-то безумное мгновение ему представилось, что это отец Эли пришел, чтобы с ним разобраться.
Но это была всего лишь мама. Она зашла в комнату на цыпочках.
— Оскар? Ты спишь?
— Мм…
— Я на минутку. Ну и соседи у нас. Ты слышал?
— Нет.
— Да как ты мог не слышать? Он так орал, а потом хлопнул дверью, как сумасшедший. Боже ты мой! Иногда я прямо радуюсь, что у самой мужа нет. Бедная женщина. Ты ее видел?
— Нет.
— Я тоже. Правда, я и его не видела. И жалюзи у них опущены целыми днями. Наверное, алкоголики.
— Ма!
— Что?
— Я спать хочу.
— Ой, прости, сынок, я просто так разволновалась… Спокойной ночи. Спи!
— Угу.
Мама вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Алкоголик? Да, вполне возможно.
Папа Оскара периодически уходил в запой, потому они с мамой и расстались. Выпив, он тоже иногда впадал в ярость. Руки он, конечно, не распускал, но мог орать до хрипоты, хлопать дверьми и бить все, что под руку попадется.
В каком-то смысле Оскару нравилась эта мысль. Печально, но что поделаешь. По крайней мере, тогда у них есть что-то общее — если отец Эли алкаш.
Оскар снова уткнулся головой в стену, приложив к ней ладони.
Эли, Эли… Я знаю, что ты там. Я помогу тебе. Я спасу тебя.
Эли…
*
Широко открытые глаза пялились в свод моста. Хокан стряхнул сухие листья, и его взгляду предстал розовый свитер Эли, брошенный на грудь мужика. Хокан поднял свитер, хотел поднести к носу, чтобы вдохнуть его запах, но, почувствовав что-то липкое, передумал.
Он кинул его обратно, вытащил фляжку и сделал три больших глотка. Огненные языки водки обожгли горло, перетекая в желудок. Листья зашуршали под его задницей, когда он опустился на каменные плиты и взглянул на тело.
Голова выглядела странно.
Он порылся в сумке, достал фонарик. Огляделся по сторонам, проверяя, не идет ли кто, и направил луч на лицо покойника. В свете фонаря оно казалось желтовато-белым, рот был приоткрыт, будто мужик собирался что-то сказать.
Хокан сглотнул. Одна мысль, что его возлюбленная подпустила к себе этого незнакомца ближе, чем когда-либо подпускала его самого, вызывала в нем отвращение. Рука снова нащупала фляжку, чтобы выжечь внезапную горечь, но он остановился.
Шея.
Шею покойника ожерельем опоясывал широкий красный след. Хокан склонился над ним и разглядел рану от зубов Эли, там, где она пыталась добраться до артерии, —
Прикосновение ее губ к его шее, —
но это ожерелье…
Хокан выключил фонарь, сделал глубокий вдох и невольно откинулся назад, так что цемент узкой ниши моста царапнул его лысеющую макушку. Он стиснул зубы от острой боли.
Кожа на шее убитого лопнула… оттого, что ему свернули голову. На сто восемьдесят градусов. Шейные позвонки были сломаны.
Хокан закрыл глаза, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться, подавляя желание бежать отсюда, прочь от всего этого. За спиной — свод моста, под ним — холодный бетон. Слева и справа — аллея парка, где ходят люди, которые могут в любой момент вызвать полицию. А перед ним…
Это всего лишь мертвец.
Да. Но голова…
Его беспокоило, что голова больше ни на чем не держится. Она могла запрокинуться назад или вообще оторваться, если он поднимет тело. Он съежился, уткнувшись лицом в колени. И это сделала его возлюбленная. Голыми руками.
Представив себе хруст ломающейся шеи, он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Нет, он не может прикоснуться к этому телу. Он просто останется здесь сидеть. Как Белаква[17] у подножия горы Чистилища, дожидаясь рассвета…
Из метро по направлению к мосту шли какие-то люди. Он зарылся в листья рядом с мертвецом, прижимаясь лбом к ледяному камню.
Зачем? Голову-то зачем?
Ах да, риск заражения. Нужно отрубить нервную систему. Тело должно быть в отключке. Она ему когда-то объясняла. Тогда он не понял. Зато теперь до него дошло.
Шаги приближались, голоса звучали все громче. Прохожие свернули к лестнице. Хокан снова сел, глядя на контуры мертвого лица с разинутым ртом. Значит, вот это тело могло бы встать, стряхнув с себя листья, если бы она его не… отключила?
У него вырвался визгливый смешок, который эхо сделало похожим на птичий щебет и разнесло под своды моста. Он хлопнул себя по губам так, что аж в голове зазвенело. Ну и зрелище. Покойник встает и, как сомнамбула, отряхивает сухие листья с куртки.
Как же поступить с телом?
Восемьдесят килограммов мускулов, жира и костей нужно было где-то спрятать. Раздробить. Расчленить. Закопать. Сжечь.
Крематорий.
Ага, конечно. Перетащить туда тело, забраться на территорию и сжечь тайком. Или просто оставить у дверей, как подкидыша, понадеявшись, что любовь работников крематория к своему делу окажется столь сильна, что они не станут звонить в полицию.
Нет. Оставалось одно. По ту сторону арки дорога уходила в лес, к больнице. К воде.
Он запихнул окровавленный розовый свитер под куртку покойника, повесил сумку через плечо и просунул одну руку под шею, а другую — под колени трупа. Спотыкаясь, он поднялся и встал. Голова мертвеца в самом деле запрокинулась назад, лязгнув челюстями.
Интересно, сколько до воды? Вроде несколько сот метров. А если кто-нибудь появится? Ну, значит, появится. Тогда все кончено. В каком-то смысле это было бы даже к лучшему.
*
Но никто не появился, и теперь, обливаясь потом, он полз по стволу плакучей ивы, нависшей над водой. Веревкой он привязал к ногам трупа два здоровенных камня.
Из другой веревки, подлиннее, он соорудил петлю, накинул ее на грудь мертвеца, подтащил тело на глубину и сдернул веревку.
Он немного посидел на дереве, болтая ногами над водой и глядя, как пузыри все реже и реже возмущают гладь черного зеркала.
Он сделал это.
Несмотря на холод, капли пота щипали глаза, тело ныло от напряжения — но он это сделал. Прямо под его ногами лежал мертвец, сокрытый от всего мира. Его больше не существовало. Последние пузыри исчезли, и не осталось ничего… ни одной улики, указывающей на то, что здесь лежит труп.
В воде отражались звезды.
…И они направились туда, где Мартину еще не приходилось бывать, оставив далеко позади Немецкое пристанище и Блакеберг, — а ведь там проходила граница изведанного мира.
Но сердце отдавший хильдре лесной
Навеки пребудет в оковах —
Покуда душа его спит под луной.
Не знать ему счастья земного.
В воскресенье газеты опубликовали подробный репортаж об убийстве в Веллингбю. Рубрика гласила: «ЖЕРТВА РИТУАЛЬНОГО УБИЙСТВА?»
Фотография мальчика на лесной поляне. Дерево.
К этому времени убийца из Веллингбю уже сошел с уст местных жителей. Цветы на поляне завяли, свечи погасли. Полицейские ленты расцветки карамельных фантиков были убраны, все возможные следы и улики зафиксированы.
Воскресная статья снова разожгла дискуссии. Эпитет «ритуальное убийство» подразумевал, что подобное должно было случиться снова, не правда ли? Ведь смысл ритуала в повторении.
Все, кто когда-либо ходил по той дороге или просто находился поблизости, имели что сказать. Какой зловещей была эта часть леса. Или как там было красиво и спокойно и кто бы мог подумать…
Все, кто знал мальчика, пусть даже поверхностно, рассказывали, каким он был распрекрасным и какой злодей убийца. Убийство охотно использовали в качестве аргумента за введение смертной казни даже те, кто в принципе возражал против крайних мер.
Не хватало лишь одного. Фотографии убийцы. Все смотрели на безликую поляну, на улыбающееся лицо мальчика. Без фотографии того, кто это сделал, казалось, что все это произошло… само собой.
Не было ощущения завершенности.
В понедельник, двадцать шестого октября, полиция объявила по радио и в утренних газетах, что был проведен крупнейший антинаркотический рейд в истории Швеции. Пойманы пять ливанцев.
Ливанцы.
По крайней мере, это было понятно. Пять килограммов героина. Пять ливанцев. По килограмму на каждого.
Ливанцы в довершение всего получали шведское пособие по безработице, втихую занимаясь контрабандой наркотиков. Фотографий ливанцев, правда, тоже не было, но здесь они и не требовались. Как выглядят ливанцы, все и так знали. Арабы. Ну да, ну да.
Кое-кто высказывал предположение, что маньяк тоже из эмигрантов. А что, вполне вероятно. Разве в арабских странах не существуют всяческие кровавые ритуалы? Исламисты, вон, отправляют собственных детей с пластмассовыми крестами — или что они там носят на шеях — обезвреживать мины. Если верить слухам. Страшные люди. Иран, Ирак. Ливанцы.
Но полиция обнародовала в понедельник авторобот убийцы, опубликовав его во всех вечерних газетах. Оказалось, что его видела какая-то девочка. С портретом торопиться не стали, чтобы не упустить никаких деталей. Постарались на совесть.
Швед как швед. Бледное лицо. Невыразительный взгляд. Все тут же согласились, что именно так и выглядит убийца. Несложно представить, как человек с подобным лицом, похожим на маску, крадется к тебе по лесной поляне и…
Все жители Западного Стокгольма, имевшие хоть малейшее сходство с портретом, чувствовали на себе долгие испытующие взгляды. Придя домой, они смотрелись в зеркало. Ни капли сходства. В постели, перед сном, они подумывали, не изменить ли им завтра внешность — или это вызовет подозрения?
Они напрасно беспокоились. Совсем скоро у людей появится иной повод для волнения. Швеция станет другой страной. Оскорбленной нацией. Именно это слово звучало повсеместно: оскорбление.
Пока люди с внешностью убийцы лежат в своих постелях, обдумывая новую прическу, советская подводная лодка буксует на мели у берегов Карлскруны. Ее двигатели ревут, разгоняя эхо между шхер в попытке сойти с мели. Никто не удосуживается выйти в море, чтобы проверить, что происходит.
Лодку случайно обнаружат в среду утром.
Школа жужжала как улей. Кто-то из учителей услышал новость по радио на перемене, рассказал своему классу, и на большой перемене об этом уже знали все.
В Швецию вторглись русские.
Последние несколько недель дети только и делали, что обсуждали маньяка из Веллингбю. Многие утверждали, что видели его, а кое-кто даже говорил, будто подвергся нападению. Когда какой-то старик в замызганной одежде решил срезать путь через школьный двор, дети с воплями разбежались и попрятались в здании школы. Кое-кто из парней покрепче вооружился хоккейными клюшками, готовясь к нападению. К счастью, кто-то признал в старике местного алкаша с городской площади, и ему удалось уйти.
А теперь еще эти русские. О них было мало что известно. Ну, всякие там анекдоты: «встречаются как-то русский, немец и Белльман».[20] Лучше всех играют в хоккей. Их страна называется «Советский Союз». Они единственные, за исключением американцев, кто летал в космос. Американцы сделали нейтронную бомбу, чтобы от них защищаться.
На большой перемене Оскар завел разговор с Юханом:
— Думаешь, у них и правда есть нейтронная бомба?
Юхан пожал плечами:
— Сто пудов. Наверняка припасли на подводной лодке.
— А разве для этого не нужен самолет?
— Не-а. Они засовывают их в специальные ракеты — их откуда угодно запустить можно.
Оскар посмотрел на небо.
— И что, их можно хранить на подводной лодке?
— Ну я же тебе объясняю. Их где угодно можно хранить.
— Значит, люди умирают, а дома остаются?
— Ага.
— Ну а животные?
Юхан на мгновение задумался.
— Тоже, наверное, умирают. По крайней мере, крупные. Они сидели на краю песочницы, где сейчас никто не играл. Юхан поднял большой камень и швырнул его в песок:
— Ба-бах! И все умерли. Оскар взял камень поменьше:
— Нет! Смотри, один выжил! Бы-дыщ! Ракета в спину!
Они принялись швырять камни и гравий, уничтожая цивилизацию, пока за их спиной не послышался голос:
— Что это вы тут делаете?
Они обернулись. Йонни и Микке. Вопрос задал Йонни. Юхан бросил камень на землю:
— Да нет, мы так…
— Тебя никто не спрашивал. Поросенок? Чем это вы занимаетесь?
— Камни кидаем.
— Зачем?
Юхан отошел на шаг в сторону и с занятым видом принялся завязывать ботинки.
— Просто так.
Йонни поглядел в песочницу и всплеснул руками так, что Оскар вздрогнул от неожиданности:
— Здесь же дети играют! Ты вообще соображаешь, что делаешь?! Загадил всю песочницу!
Микке сокрушительно покачал головой:
— Они же могут споткнуться и пораниться!
— Придется тебе все это собрать, Поросенок.
Юхан по-прежнему возился со шнурками.
— Ты что, не слышишь? Собирай, кому говорю!
Оскар застыл в нерешительности. Конечно же, Йонни плевать было на песочницу. Это все их обычные штучки. Чтобы собрать раскиданные камни, требовалось не меньше десяти минут, а Юхан, похоже, помогать не собирался. При этом с минуты на минуту зазвенит звонок.
Нет.
Это слово снизошло на Оскара как откровение. Так впервые произносишь слово «Бог», уверовав в… Бога.
Он на секунду представил, как собирает камни в песочнице после звонка лишь потому, что ему приказал Йонни. Но дело было не только в этом. На площадке была горка вроде той, что стояла в его дворе.
Оскар покачал головой.
— Что ты сказал?!
— Нет.
— Что «нет»? Может, ты чего-то не понял? Раз я сказал «собери», значит, ты идешь и собираешь.
— НЕТ.
Зазвенел звонок. Йонни молча стоял и смотрел на Оскара.
— Ты же знаешь, что теперь будет, правда? Микке, ты слышал?
— Да.
— Поговорим после уроков.
Микке кивнул.
— До встречи, Хрюша!
И Йонни с Микке вошли в здание школы. Юхан встал, справившись наконец со шнурками.
— Блин, зря ты это…
— Знаю.
— И на фиг ты стал вырубаться?
— Ну… — Оскар взглянул на горку. — Так получилось.
— Ну и дурак.
— Да.
После уроков Оскар задержался в классе. Положил на парту два чистых листа бумаги, взял словарь с полки, открыл на букве «М».
Мамонт… Медичи… Монгол… Морзе.
Да. Вот оно. Вся азбука Морзе занимала четверть страницы. Большими ровными буквами он принялся переписывать азбуку на чистый лист бумаги:
А = · —
Б = — · · ·
В = · —
и так далее. Закончив, он повторил то же самое на втором листе. Остался недоволен. Выкинул листок и начал заново, еще тщательнее выводя знаки и буквы.
Вообще-то хватило бы и одного удачного экземпляра — того, что предназначался Эли. Но Оскару нравилось возиться с буквами — лишний повод задержаться в школе.
Они уже целую неделю встречались каждый вечер. Вчера Оскар попробовал постучать в стену, прежде чем выйти во двор. Эли ответила, и они вышли на улицу одновременно. Тогда Оскару пришла в голову мысль наладить связь при помощи какого-нибудь секретного кода, и тут он вспомнил про морзянку.
Он оценивающе взглянул на исписанные листы. Хорошо. Эли должно понравиться. Как и он, она любила головоломки, системы. Он согнул оба листка пополам, убрал в портфель, сложил руки на парте. В животе заурчало. Школьные часы показывали двадцать минут четвертого. Он вытащил из парты комикс «Воспламеняющая взглядом» и читал его до четырех часов.
Не могли же они его ждать целых два часа?
Если бы он только послушался Йонни и убрал камни, он был бы уже дома. В относительном порядке. Подобрать несколько камней было далеко не худшим из того, что его заставляли делать, и он делал. Оскар уже жалел о своем непослушании.
А что если сейчас все собрать?
Может, он сумеет смягчить завтрашнее наказание, сказав, что специально остался после школы, чтобы…
Да, так он и сделает.
Он взял свои вещи и вышел к песочнице. На это уйдет минут десять, не больше. Когда он завтра расскажет об этом Йонни, тот заржет, погладит его по голове и скажет: «Молодец, Поросенок!» — ну или что-нибудь в этом роде. В любом случае, так будет лучше.
Он покосился на детский городок, поставил портфель у края песочницы и начал собирать камни. Сначала те, что побольше. Лондон, Париж. Теперь он воображал, что спасает мир. Очищает его от страшных нейтронных бомб. Под каждым поднятым камнем оказывались уцелевшие, они выползали из-под развалин своих домов, как муравьи из муравейника. Только ведь нейтронное оружие не разрушает дома… Ну да ладно, будем считать, что здесь сбросили заодно пару ядерных бомб.
Когда он подошел к краю песочницы, чтобы сложить собранные камни в кучу, его уже ждали. Увлекшись игрой, он не услышал, как они подошли. Йонни, Микке. И Томас. В руках у них были длинные ореховые прутья. Розги. Йонни указал своим прутом на валявшийся камень:
— И этот.
Оскар сложил свою ношу на землю и поднял камень, на который указывал Йонни.
— Ну вот и молодец. А мы ведь тебя ждали, Поросенок. Долго ждали.
— А потом пришел Томас и сказал, что ты здесь, — добавил Микке.
Глаза Томаса ничего не выражали. В младших классах Оскар дружил с ним, часто играл в его дворе, но в начале пятого класса, после летних каникул, Томас вдруг переменился. Даже говорить начал по-другому, по-взрослому. Оскар знал, что учителя считали его самым умным в классе. Это чувствовалось по тому, как они с ним разговаривали. У него был компьютер. Он собирался стать врачом.
Оскару захотелось швырнуть камень, зажатый в руке, в лицо Томасу. Прямо в рот, открывшийся, чтобы что-то сказать.
— Что же ты не бежишь? Ну, беги!
Прут Йонни со свистом рассек воздух. Оскар крепче сжал камень.
Почему же ты не бежишь?
Он уже чувствовал обжигающую боль прута, секущего по ногам. Выбраться бы на аллею, где ходят взрослые, — при них его трогать не посмеют.
Почему я не бегу?
Потому что у него все равно не было ни малейшего шанса. Он и пяти шагов пробежать не успел бы, прежде чем его настигнут.
— Не надо.
Йонни повернул к нему голову, делая вид, что не расслышал:
— Что ты сказал, Поросенок?
— Не трогайте меня.
Йонни повернулся к Микке:
— Он считает, что мы не должны его трогать.
Микке покачал головой:
— А мы-то старались, розги делали… — Он помахал своим прутом.
— Томас, а ты как думаешь?
Томас смотрел на Оскара, как на крысу, попавшую живьем в капкан:
— Я думаю, что Поросенка нужно слегка проучить.
Их было трое. У них были прутья. Положение было крайне невыгодным. Он мог бы швырнуть камень в лицо Томасу. Или ударить с размаху, если тот подойдет ближе. За этим последовал бы разговор с директором и прочее, и прочее. Но, может, его поймут? Все-таки трое с прутьями.
Я был в отчаянии.
Он не был в отчаянии. Наоборот, сквозь страх в душе нарастало спокойствие — он принял решение. Пусть они его только ударят, дадут повод засветить камнем по мерзкой морде Томаса.
Йонни с Микке сделали шаг вперед. Йонни хлестнул его прутом по ляжке, и он согнулся пополам от дикой боли. Микке зашел сзади и схватил его за руки, прижав их к бокам.
Только не это!
Теперь он не мог бросить камень. Йонни снова полоснул его по ногам, крутанулся вокруг своей оси, как Робин Гуд в фильме, и нанес новый удар.
Ноги Оскара горели от боли. Он извивался в руках Микке, но вырваться не мог. На глаза навернулись слезы. Он заорал. Йонни снова сильно хлестнул его по ногам, задев Микке, который завопил: «Черт, да осторожнее ты!» — но Оскара не выпустил.
По щеке Оскара покатилась слеза. Это несправедливо! Он же все убрал, сделал, как они велели, так почему же они его мучают?!
Камень, зажатый в его руке, упал на землю, и тогда он зарыдал по-настоящему.
Голосом, полным издевательского сострадания, Йонни произнес:
— Смотрите-ка, Поросенок плачет!
Вид у Йонни был довольный. Дело было сделано. Йонни махнул Микке, чтобы тот отпустил Оскара. Его тело сотрясалось от плача и от боли в ногах. Глаза его были полны слез. И тогда он услышал голос Томаса:
— А как же я?
Микке опять схватил Оскара за руки, и сквозь пелену слез он увидел, как перед ним встал Томас. Оскар всхлипнул:
— Не надо. Пожалуйста!
Томас поднял прут и хлестнул что есть силы. Один-единственный раз. Лицо Оскара обожгла острая боль, и он так рванулся, что Микке то ли не удержал его, то ли сам разжал руки.
— Черт, Томас! Ну ты даешь…
Йонни разозлился не на шутку:
— Блин, теперь сам будешь объясняться с его матерью!
Оскар не слышал, что Томас ему ответил. Если вообще ответил.
Их голоса звучали все дальше, они оставили его лежать лицом в песке. Левая щека горела. Ледяной песок холодил его пылающие ноги. Ему хотелось приложиться к нему и щекой, но он понимал, что лучше этого не делать.
Он лежал так долго, что начал замерзать. Потом сел, осторожно потрогал щеку. На пальцах осталась кровь.
Он дошел до здания туалета и взглянул на себя в зеркало. Щека опухла и покрылась коркой полузасохшей крови. Сил Томас не пожалел. Оскар промыл щеку и снова посмотрел на свое отражение. Рана больше не кровоточила — она оказалась не такой уж и глубокой, — но шрам тянулся почти во всю щеку.
Мама. Что я ей скажу…
Правду. Ему хотелось, чтобы его утешили. Через час мама придет домой. И тогда он расскажет, что они с ним сделали, и она чуть с ума не сойдет и примется обнимать его, как одержимая, и он будет лежать в маминых объятиях, утопая в ее слезах, и плакать вместе с ней.
А потом она позвонит матери Томаса.
Она позвонит матери Томаса, и они поругаются, та наговорит ей гадостей, мама расплачется, а потом…
Урок труда.
Скажет, что случайно поранился на уроке труда. Нет. Тогда она может позвонить учителю труда.
Оскар изучил рану в зеркале. На что это может быть похоже? О, упал с горки! Конечно, не очень правдоподобно, но маме наверняка захочется в это поверить. Она все равно его пожалеет и утешит, только без лишних осложнений. Решено, горка!
Оскар почувствовал холод в штанах. Он расстегнул ширинку и заглянул туда — трусы оказались мокрыми насквозь. Он вытащил ссыкарик и промыл его в воде. Затем собрался было засунуть его обратно, однако вместо того застыл перед своим отражением в зеркале.
Оскар. Поприветствуем Оскара!
Он взял чистый ссыкарик и надел его на нос. Как клоун. Желтый шарик и красная рана на щеке. Оскар. Он широко распахнул глаза, стараясь придать лицу как можно более безумный вид. Да. Выглядел он и правда жутко. Он обратился к клоуну в зеркале:
— Все, с меня хватит. Слышишь? С меня хватит.
Клоун не отвечал.
— Больше я это терпеть не намерен. Ни разу, слышишь? — Голос Оскара гулко разносился по пустому туалету: — Что мне делать? Как думаешь, что мне делать?
Он скорчил такую гримасу, что рана на щеке заныла, и заговорил за клоуна страшным скрипучим голосом:
— «…Убей их… убей их… убей их…»
Оскар вздрогнул. Прозвучало и в самом деле жутко. Голос казался чужим, да и физиономия в зеркале не имела ничего общего с его лицом. Он снял ссыкарик с носа, запихнул его в трусы.
Дерево.
Не то чтобы он по-настоящему в это верил, но… Нужно было попасть к тому дереву, искромсать его ножом. И может быть… Может быть… Если он как следует сосредоточится…
Может быть.
Оскар взял свой портфель и поспешил домой, отводя душу в фантазиях.
Томас сидит за своим компьютером, как вдруг чувствует первый удар. Он не понимает, что происходит. Спотыкаясь, бредет на кухню. Кровь хлещет из его живота. «Мама, мама, он меня зарезал!»
Но мать Томаса лишь стоит и смотрит. Мать, которая всегда защищала его, что бы он ни сделал. Теперь она только стоит и смотрит. В ужасе. Наблюдает, как на теле Томаса появляются все новые и новые ножевые раны.
Он падает на пол и валяется в луже собственной крови… «Мама… мама…» — взывает он, пока невидимый нож не распарывает его живот, выворачивая кишки на пол кухни.
Конечно, вряд ли сработает.
Но все же.
*
В квартире воняло кошачьей мочой.
Жизель лежала у него на коленях и урчала. Биби и Беатрис кувыркались на полу. Манфред, как обычно, сидел, прижавшись носом к окну, в то время как Густаф пытался привлечь его внимание, бодаясь об него головой.
Монс, Туфс и Клеопатра нежились в кресле; Туфс теребил лапой растрепанную обивку. Карл-Оскар попытался запрыгнуть на подоконник, но промахнулся и полетел кувырком на пол. Он был слеп на один глаз.
Лурвис лежал в коридоре, дежуря у почтовой щели, готовый в любой момент подпрыгнуть и разорвать очередную рекламную листовку. Венделла лежала на полке для шляп и наблюдала за Лурвисом; ее деформированная передняя лапа свисала между решеток полки, изредка подергиваясь.
Часть кошек сидели на кухне — кто ел, кто просто разлегся на столе и стульях. Пятеро лежали в кровати в спальне. Остальные заняли свои любимые места в гардеробе и шкафах, которые они наловчились открывать лапами.
С тех пор как Гёста под давлением соседей перестал выпускать кошек на улицу, с новым генетическим материалом было туго. Большинство котят рождались мертвыми или с такими уродствами, что через пару дней все равно умирали. Больше половины из двадцати восьми котов, проживавших в квартире Гёсты, имели тот или иной дефект. Они были слепыми, или глухими, или беззубыми или имели проблемы с моторикой.
Он их всех любил.
Гёста погладил Жизель между ушами:
— Ну что, милая… Что будем делать? Не знаешь? Вот и я не знаю. Но что-то же надо делать, правда? Нельзя же так. Это же Юкке. Мы были знакомы. А теперь он мертв. Только никто об этом не знает. Потому что они не видели того, что видел я. А ты видела?
Гёста склонил голову, прошептал:
— Это был ребенок. Я все видел из окна, как он шел по дороге. Он поджидал Юкке. Под мостом. Тот вошел… и больше не вышел. А утром его уже не было. Но он мертв. Я это точно знаю.
Что ты говоришь?
Нет, я не могу пойти в полицию. Они же начнут расспрашивать. Там будет куча народу, и они спросят, почему я ничего не сказал. Станут светить лампой в лицо.
Прошло уже три дня. Или четыре. Не знаю. Какой сегодня день? Они обязательно спросят. Я не могу.
Но что-то же надо делать.
Что мы будем делать?
Жизель взглянула на него и принялась облизывать его руку.
*
Когда Оскар пришел домой из леса, нож был весь в трухе. Он вымыл его под кухонным краном и вытер полотенцем, которое потом сполоснул холодной водой, выжал и приложил к щеке.
Скоро вернется мама. Ему нужно было проветриться, прийти в себя — плач комом стоял в горле, ноги болели. Он достал из шкафа ключ, написал записку: «Скоро буду. Оскар». Потом положил нож на свое место и спустился в подвал. Отпер тяжелую дверь, проскользнул внутрь.
Подвальный запах. Оскару он всегда нравился. Знакомый дух старых вещей, дерева и затхлости. Маленькие окна вровень с землей пропускали лишь редкие лучи света, и царившие здесь сумерки навевали мысли о тайнах и припрятанных сокровищах.
Слева от него находился продолговатый отсек, где размещались четыре складских бокса. Стены и двери были деревянные, на дверях навесные замки, где большие, а где поменьше. На одной из дверей были укрепленные петли замка, — видимо, там уже однажды побывали воры.
На деревянной стене в конце отсека красовалась надпись «KISS», выведенная фломастером. Буквы «S» были угловатыми, как «Z», вывернутые наизнанку.
Но самое интересное находилось в противоположном конце коридора. Мусорка. Однажды Оскар отыскал там несколько выпусков «Халка» и совершенно исправную лампу в виде глобуса, которая сейчас стояла в его комнате. И еще кучу всего.
Однако сегодня ему не удалось найти ничего интересного. Наверное, мусор недавно вывезли. Попалось лишь несколько журналов и папок с надписями «английский» и «шведский». Папок у него дома хватало — пару лет назад выудил целую гору из мусорного контейнера возле типографии.
Оскар пошел дальше по коридору, ведущему в соседний подъезд, туда, где жил Томми. Открыл дверь в следующий подвал, вошел. Тут пахло по-другому — чувствовался слабый запах краски или растворителя. Помимо прочего, в этой части подвала находилось бомбоубежище. Оскару как-то довелось в нем побывать, когда ребята постарше устроили там боксерский клуб. Томми разрешил ему однажды вечером прийти посмотреть. Парни дубасили друг друга боксерскими перчатками, и Оскару стало слегка не по себе. Стоны и пот; напружиненные, собранные тела, звуки ударов, которые скрадывали толстые стены. Потом кого-то все же покалечили или что уж там у них произошло, и на штурвальное колесо тяжелой бронированной двери навесили цепь с замком. С боксом было покончено.
Оскар зажег свет и подошел к двери. Если русские придут, наверняка ее откроют.
Если ключи не потеряли.
Он стоял перед железной дверью, и ему вдруг представилось, что там, внутри, кто-то есть. Вот зачем нужны эти цепи и амбарный замок. Там прячется монстр.
Он прислушался. Приглушенные звуки улицы, шаги людей, занятых своими делами у себя дома. Оскар любил бывать в подвале. Здесь он вдруг оказывался в другом мире, в то же время прекрасно зная: если что, от настоящей жизни его отделяет лишь одна стена. Но тут, внизу, царил покой. Никто к нему не приставал. Никто ничего не требовал.
Напротив бомбоубежища находился бывший склад, оборудованный дворовыми пацанами под место тусовок. Это была запретная территория.
Замка на двери не было, но это не значило, что кто угодно мог туда войти. Он сделал глубокий вдох и открыл дверь.
Обстановка была не ахти. Видавший виды диван и не менее потрепанное кресло. Ковер на полу. Комод с облупившейся краской. От лампы в коридоре был тайком протянут самодельный шнур, на котором болталась голая лампочка. Свет не горел.
Оскар здесь пару раз был и помнил: чтобы включить свет, достаточно чуть покрутить лампочку. Но он не осмеливался. Света, что просачивался сквозь щели в стене, было вполне достаточно. Если они его здесь застукают…
То что? Не знаю. В том-то и дело. Не изобьют, конечно, но…
Он встал на колени на ковер перед диваном, приподнял подушку. Под ней обнаружились пара тюбиков клея, рулон полиэтиленовых пакетов и баллончик с газом. Под другой подушкой лежало несколько зачитанных до дыр порножурналов.
Он вытащил один номер и подобрался поближе к двери, откуда падал свет. Не вставая с колен, разложил журнал на полу и принялся листать. Во рту пересохло. Женщина на картинке лежала на шезлонге в одних туфлях на высоком каблуке. Она стискивала руками свои сиськи, выпячивая губы. Колени ее были разведены в стороны, и среди растительности между ног ясно виднелась полоска розовой плоти с щелкой посередине.
И как туда вставлять-то?
Слово он знал из подслушанных разговоров и надписей на стенах. Пизда. Дырочка. Но там же нет никакой дырки? Только вот эта маленькая щелочка. В школе у них были уроки сексуального воспитания, и Оскар знал, что от отверстия идет что-то вроде туннеля. Но в какую сторону? Вглубь, или вверх, или… Разглядеть что-либо на фотографии было нереально.
Он стал листать дальше. Рассказы читателей. Бассейн. Кабинка в женской раздевалке. Ее соски под купальником твердели на глазах. Мой член колотился в плавках, как молоток. Она вцепилась руками в вешалку, повернувшись ко мне своей маленькой попкой, и застонала: «Возьми меня, возьми меня скорее!»
Неужели такое правда творится повсюду за закрытыми дверьми, когда никто не видит?
Оскар начал читать другую историю, про родственный визит, принявший неожиданный оборот, когда вдруг услышал, как дверь подвала открылась. Он захлопнул журнал, пихнул его обратно под подушку и замер, не зная, куда деваться. У него перехватило дух, он даже вздохнуть не смел. Шаги в коридоре.
Только бы не они. Только бы не они.
Он судорожно обхватил руками колени и сжал зубы так, что заныли челюсти. Дверь открылась. На пороге стоял Томми, непонимающе моргая.
— Черт, это еще что?..
Оскар хотел было что-то сказать, но челюсти свело. Он так и стоял на коленях посреди ковра, в круге света из-под открытой двери, сопя носом.
— Какого хрена ты здесь делаешь? Что это с тобой?!
Еле двигая челюстями, Оскар выдавил из себя:
— Ничего.
Томми сделал шаг вперед, нависая над Оскаром:
— Я про щеку. Как это тебя угораздило?
— Я… да так.
Томми покачал головой, вкрутил лампочку, так что зажегся свет, и закрыл дверь. Оскар поднялся с колен и встал посреди комнаты, держа руки по швам, не зная, что делать. Затем сделал шаг к двери. Томми со вздохом опустился в кресло, затем указал на диван:
— Садись.
Оскар сел ровно посреди дивана — на ту подушку, под которой ничего не было. Несколько секунд Томми сидел, молча глядя на него, потом произнес:
— Ну? Выкладывай.
— Что?
— Что со щекой.
— Я… Я просто…
— Что, отпиздили тебя?
— Да.
— И за что?
— Не знаю.
— Как это? Они что, просто так тебе морду бьют, без причины?
— Да.
Томми кивнул, перебирая пальцами растрепавшиеся нити обивки. Вытащил банку жевательного табака, запихнул порцию под верхнюю губу, протянул Оскару.
— Хочешь?
Оскар покачал головой. Томми засунул банку обратно в карман, поправил табак языком и откинулся на спинку кресла, сцепив руки на животе.
— Понятно. Ну а здесь ты что забыл?
— Да нет, я просто…
— Девок разглядываешь? А? Не клей же нюхаешь? Подойди-ка!
Оскар встал и подошел к Томми.
— Ближе. А ну дыхни!
Оскар послушно дыхнул, и Томми удовлетворенно кивнул и снова указал ему на диван:
— И чтоб не вздумал, слышь?
— Да я и не…
— Знаю, что не нюхал. И не вздумай, понял? Дрянь это. Табак, вон, другое дело. Жуй лучше табак, — он сделал паузу. — Ну и че? Так и будешь весь вечер сидеть и на меня пялиться? — Томми жестом указал на диванную подушку: — Хочешь еще почитать?
Оскар помотал головой.
— Ну нет так нет. Тогда вали домой. А то скоро пацаны придут, уж они-то тебе не обрадуются. Давай марш домой!
Оскар встал.
— И это… — Томми посмотрел на него, покачал головой и вздохнул. — А, ладно. Иди домой. И слышь? Не ходи сюда больше.
Оскар кивнул и открыл дверь. Остановился на пороге:
— Извини.
— Да ладно. Только больше не приходи. Да, кстати, че там с деньгами?
— Завтра будут.
— Ясно. Ах да, я тут тебе перегнал «Destroyer» и «Unmasked» на кассету. Зайди забери как-нибудь.
Оскар кивнул. Почувствовал, как к горлу подкатил ком. Еще немного — и расплачется. Он торопливо прошептал: «Спасибо» — и вышел.
*
Томми остался сидеть в кресле, посасывая свой табак и уставившись на клочья пыли под диваном.
Безнадега.
Оскара будут чморить до окончания школы. Видал он таких. Томми хотелось бы ему помочь, но раз уж ты попал — дело труба. Ничего не попишешь.
Он выудил из кармана зажигалку, поднес ее ко рту и пустил струю газа. Почувствовав холодок во рту, Томми отдернул руку, высек из зажигалки огонь и дыхнул. Перед его лицом полыхнул язык пламени. Легче не стало. На месте ему не сиделось, он встал и сделал несколько шагов по ковру. Пыль взметнулась клубами из-под его ног.
Черт, ну и что же делать?
Он принялся мерить ковер шагами. Он и сам считай в тюрьме. Не вырваться. Посадили — не рыпайся. Чертов Блакеберг. Он уедет, станет моряком или еще там кем. Кем угодно.
Буду палубу драить, поеду на Кубу — и поминай как звали.
У стены стояла щетка, которой почти никогда не пользовались. Он взял ее и начал подметать. Пыль забивалась в нос. Через какое-то время он вспомнил, что совка все равно нет и задвинул кучу пыли под диван.
Лучше грязный дом, чем чистый ад.
Он полистал порножурнал, положил обратно. Намотал шарф на горло, затянул так, что чуть башка не лопнула, отпустил. Встал, сделал пару шагов по ковру. Опустился на колени, помолился Богу.
К половине шестого подгребли Роббан и Лассе. Томми уже снова сидел, развалившись в кресле с самым что ни на есть беспечным видом. Лассе кусал губы, явно нервничая. Роббан ухмыльнулся и хлопнул Лассе по плечу:
— Лассе нужен еще один кассетник!
Томми вскинул брови:
— Зачем это?
— Валяй, Лассе, рассказывай!
Лассе хихикнул, не смея взглянуть Томми в глаза.
— Э-э-э… там один чувак на работе…
— Что, хочет купить?
— Ага.
Томми пожал плечами, встал с кресла и вытащил из-под обивки ключ от бомбоубежища. Роббан выглядел разочарованным, — видать, ожидал, что Лассе сейчас получит по полной программе, но Томми было наплевать. Да пускай Лассе хоть в громкоговоритель орет у себя на работе: «Продаю краденое!» Какая разница?
Томми оттеснил Роббана в сторону, вышел в коридор, открыл висячий замок, размотал цепь на колесе и швырнул ее Роббану. Цепь выскользнула у того из рук и с грохотом упала на пол.
— Чего это с тобой? Ты укуренный, что ли?
Томми покачал головой, повернул колесо двери и толкнул ее. Лампа в бомбоубежище не работала, но света из коридора было достаточно, чтобы разглядеть штабеля коробок возле продольной стены. Томми отыскал коробку с кассетником и протянул ее Лассе:
— На здоровье!
Лассе неуверенно взглянул на Роббана, словно прося истолковать странное поведение Томми. Роббан скорчил рожу, которая могла означать что угодно, и повернулся к Томми. Тот возился с замком, запирая дверь.
— Слышал что-нибудь новенькое от Стаффана?
— Не-а, — Томми защелкнул замок и вздохнул. — Завтра ужинаю с ним. Может, чего узнаю.
— Ужинаешь?
— Да, а что?
— Да не, ничего. Просто думал, что мусора… типа, на бензине работают.
Лассе фыркнул, радуясь, что обстановка разрядилась:
— На бензине…
*
Маме он наврал. Она ему поверила. Сейчас Оскар лежал в своей постели и мучился.
Оскар. Тот, в зеркале. Кто это? С ним столько всего происходит. Плохого. Хорошего. Странного. Но кто он? Йонни смотрит на него и видит Поросенка, которому надо надрать задницу. Мама смотрит и видит любимого сына, с которым ничего не должно случиться.
Эли смотрит и видит… Что она видит?
Оскар повернулся к стене, к Эли. Две рожицы тут же выглянули из листвы. Щека все еще была опухшей и саднила, но рана уже начала затягиваться. Что он скажет Эли, если она сегодня придет?
Хороший вопрос. Все зависело от того, каким он ей виделся. Эли была для него новым человеком, и это давало ему шанс стать кем-то другим, рассказать все не так, как остальным.
Что вообще принято делать? Чтобы понравиться?
Часы на столе показывали четверть восьмого. Он уставился на обои, отыскивая в листве каких-нибудь существ, нашел маленького гнома в колпаке и перевернутого вверх ногами тролля, и тут в стену постучали.
Тук-тук-тук.
Осторожный стук. Он постучал в ответ. Тук-тук-тук.
Подождал. Через пару секунд снова стук.
Тук. Тук-тук-тук. Тук.
Снова подождал. Стук прекратился.
Он взял листок с азбукой Морзе, натянул куртку, попрощался с мамой и вышел на площадку. Не успел он сделать и нескольких шагов, как дверь соседнего подъезда отворилась, и оттуда вышла Эли. На ней были кроссовки, синие джинсы и черная толстовка с серебристой надписью «Star Wars».
Сначала он подумал, что это его толстовка, — у него была точно такая же. Оскар надевал ее позавчера, и сейчас она валялась в корзине с грязным бельем. Эли что, пошла и купила такую же?
— Здорово!
Оскар открыл было рот, чтобы сказать уже заготовленное «привет», но тут же закрыл. Снова открыл, чтобы ответить «здорово», но передумал и все же сказал:
— Привет.
Эли нахмурила брови.
— Что это у тебя со щекой?
— Я… упал.
Оскар двинулся к площадке, Эли пошла за ним. Он прошел мимо детского городка и сел на качели. Эли села на соседние. Они немного молча покачались.
— Тебя кто-то ударил?
Оскар продолжал качаться туда-сюда.
— Да.
— Кто?
— Да так… приятели.
— Приятели?
— Одноклассники.
Оскар что есть силы разогнал качели и взялся за веревку.
— А ты сама-то в какую школу ходишь?
— Оскар?
— Да?
— Остановись, а?
Он затормозил ногами, уставился в землю прямо перед собой.
— Ну что?
— Слушай…
Она взяла его за руку. Он остановил качели и взглянул на нее. Лица почти не было видно, лишь силуэт на фоне освещенных домов за ее спиной. Вероятно, ему показалось, но ее глаза светились. По крайней мере, кроме них, он ничего не видел.
Она прикоснулась пальцами к ране, и тут случилось странное. Какой-то другой человек, намного взрослее и жестче, проступил из-под кожи ее лица. По позвоночнику Оскара пробежал холодок, как если бы он проглотил сосульку.
— Оскар. Не позволяй им. Слышишь? Не надо.
— Не буду.
— Дай сдачи. Ты же никогда не даешь сдачи, правда?
— Нет.
— Так начни. Дай сдачи. Сильно.
— Их трое.
— Значит, бей сильнее. Вооружись чем-нибудь.
— Ага.
— Камнями. Палками. Бей сильнее, чем хватает духу. Тогда они перестанут.
— А если они не перестанут?
— У тебя есть нож.
Оскар сглотнул. В эту минуту, с рукой Эли в его руке, с ее лицом прямо перед ним, все это казалось таким простым и само собой разумеющимся. Но что, если они только больше ожесточатся в ответ на его сопротивление, что если…
— Ну да. А если они…
— Тогда я тебе помогу.
— Как? Ты же…
— Я могу, Оскар. Что-что, а это я могу.
Эли пожала ему руку. Он ответил ей тем же, кивнул. Но Эли продолжала сжимать его ладонь все сильнее и сильнее. До боли.
До чего же она сильная.
Эли выпустила его руку, и Оскар вытащил из кармана листок, над которым трудился в школе, разгладил сгибы и протянул ей. Эли вскинула брови.
— Что это?
— Пойдем на свет.
— Не надо, я вижу. А что это?
— Азбука Морзе.
— А-а! Понятно. Клево!
Оскар усмехнулся. В ее устах это прозвучало так неестественно. Совсем не ее словечко.
— Я подумал, что так мы сможем перестукиваться.
Эли кивнула. Растерянно постояла, будто не зная, что сказать, затем произнесла:
— Занятно.
— В смысле, прикольно?
— Ага. Прикольно! Прикольно.
— Ты все-таки немножко странная.
— Да?
— Да. Но это ничего.
— Ну тогда объясни, как надо. Чтобы быть как все.
— Ага. Показать тебе кое-что?
Эли кивнула.
Оскар изобразил свой коронный номер. Сел на качели, разогнался. С каждым новым взмахом, с каждым сантиметром высоты в его груди нарастало чувство свободы.
Освещенные окна мелькали яркими полосами, Оскар взлетал все выше и выше.
Набрав такую высоту, что при движении вниз цепи начали обвисать и дергаться из стороны в сторону, он собрался. В последний раз качнувшись назад, качели снова взмыли вверх, и, когда они достигли наивысшей точки, он отпустил руки и выкинул вперед ноги, а затем прыгнул. Ноги описали дугу в воздухе, и он благополучно приземлился, пригнувшись, чтобы не получить качелями по башке. Потом встал и раскинул руки в стороны. Идеально.
Эли зааплодировала, выкрикнув: «Браво!»
Оскар поймал раскачивающиеся качели, остановил их и сел. Он в очередной раз был благодарен темноте, скрывавшей ликующую улыбку, которую он не мог сдержать, несмотря на боль в щеке. Эли перестала аплодировать, но улыбка не сходила с его лица.
Теперь все изменится. Конечно, нельзя никого убить, кромсая дерево ножом. Что он, не понимает, что ли?
Хокан сидел на полу узкого коридора, прислушиваясь к плеску в ванной. Ноги его были поджаты так, что пятки касались ляжек; подбородок упирался в колени. Ревность жирным белым червем шевелилась в его груди, медленно извиваясь, чистая, будто девственница, и ясная, как ребенок.
Заменим. Он был заменим.
Прошлой ночью он лежал в своей постели с приоткрытым окном. Слышал, как Эли прощалась с этим самым Оскаром. Их тонкие голоса, смех. Какая-то недоступная ему легкость. Он состоял из свинцового груза рассудительности, бесконечных требований, неудовлетворенных желаний.
Он всегда считал, что они с его возлюбленной похожи. Заглянув однажды в глаза Эли, он увидел в них мудрость и равнодушие глубокой старости. Поначалу это его пугало — глаза Сэмюэла Беккета на лице Одри Хепберн. Потом он стал находить в этом утешение.
Это был идеальный вариант. Юное тело, наполнявшее его жизнь красотой, в то время как с него снималась вся ответственность. Решал здесь не он. Ему незачем было стыдиться своей похоти — его возлюбленная старше его самого. А вовсе никакой не ребенок. Так он рассуждал.
А потом началась эта история с Оскаром, и что-то случилось. Какая-то… регрессия. Эли все больше вела себя как ребенок, каким казалась с виду: держалась расхлябанно, то и дело использовала детские выражения, словечки. Хотела играть. На днях они играли в «холодно-горячо». Когда Хокан не проявил должного энтузиазма, Эли сначала рассердилась, а потом принялась его щекотать. Ну, хотя бы ее прикосновения доставляли ему удовольствие.
Конечно, все это казалось ему притягательным. Эта радость, жизнерадостность… Но в то же время — пугающим, поскольку он был так далек от этого. Такой смеси похоти и страха он не испытывал даже в начале их знакомства.
Вчера вечером его возлюбленная заперлась в его комнате и провела там полчаса, перестукиваясь через стену. А когда наконец позволила Хокану войти, над его кроватью висел приклеенный скотчем листок со значками. Азбука Морзе.
Перед сном он едва устоял от искушения самому отстучать сообщение этому Оскару. Рассказать, чем Эли является на самом деле. Вместо этого он просто скопировал азбуку на другой листок, чтобы знать, о чем они перестукиваются.
Хокан уронил голову на колени. Плеск в ванной прекратился. Так больше не может продолжаться. Еще немного — и он лопнет. От похоти, от ревности.
Защелка ванной повернулась, и дверь открылась. Эли стояла перед ними совершенно голая. Чистая.
— А, это ты…
— Да. Какая ты красивая.
— Спасибо.
— Покрутись немного?
— Зачем?
— Так… мне хочется.
— А мне — нет. Дай пройти!
— Если покрутишься, я тебе кое-то скажу.
Эли вопросительно посмотрела на Хокана. Потом сделала пол-оборота, повернувшись к нему спиной.
У Хокана потекли слюни, и он сглотнул, уставившись на нее, буквально пожирая глазами ее тело. Самое красивое на свете. Так близко. И так бесконечно далеко.
— Ты… голодна?
Эли повернулась к нему:
— Да.
— Я сделаю это. Но я хочу кое-что взамен.
— Ну?
— Одну ночь. Подари мне одну ночь.
— Да.
— И ты мне позволишь?..
— Да.
— Спать с тобой в одной постели? Прикасаться к тебе?
— Да.
— И мне можно…
— Нет, нельзя. А так — да.
— Хорошо, я это сделаю. Сегодня вечером.
Эли присела на корточки рядом с ним. Ладони Хокана зудели, мечтая о прикосновении. Но нельзя. Не раньше вечера. Уставившись в потолок, Эли произнесла:
— Спасибо. Только что, если… тот портрет в газете… Ведь тебя здесь все-таки видели, знают, где ты живешь.
— Я об этом подумал.
— Если сюда придут днем… когда я отдыхаю…
— Я же сказал, я об этом подумал.
— И что ты придумал?
Хокан взял Эли за руку, встал и повел ее на кухню, открыл шкаф, вытащил стеклянную банку из-под варенья, с металлической крышкой. Объяснил свой план. Эли энергично замотала головой:
— Нет, ты с ума сошел! Не можешь же ты…
— Могу. Теперь ты понимаешь, как сильно я тебя… что ты для меня значишь?
*
Собираясь в дорогу, Хокан взял сумку с инструментами и положил туда банку. Тем временем Эли успела одеться и теперь стояла в коридоре, дожидаясь его. Когда Хокан вышел, она подалась вперед и на мгновение прижалась губами к его щеке. Хокан моргнул и пристально взглянул Эли в лицо.
Я пропал.
И он отправился на дело.
*
Морган проглотил одну за другой все четыре закуски, не проявляя особого интереса к рису в отдельной миске. Лакке наклонился, тихо спросил:
— Слышь, я возьму рис?
— Валяй! Соус будешь?
— Не, соя сойдет.
Ларри взглянул на них поверх своей газеты, чуть скривился при виде того, как Лакке взял миску, щедро полил рис соевым соусом — бульк-бульк-бульк — и принялся наворачивать, будто никогда раньше еды не видел. Ларри кивнул на гору обжаренных во фритюре креветок на тарелке Моргана.
— Может, угостишь?
— Ах да. Сорри. Хочешь?
— Не, у меня желудок. Ты Лакке предложи.
— Лакке, креветку хочешь?
Лакке кивнул и протянул ему миску с рисом. Морган величественным жестом положил в нее две креветки. Угостил, тоже мне. Лакке поблагодарил его и принялся уплетать креветки.
Морган хмыкнул и покачал головой. С тех пор как Юкке пропал, Лакке был сам не свой. Он и раньше не то чтобы много ел, а теперь еще подналег на выпивку, и на еду вовсе не осталось ни гроша. Мутная, конечно, история, но не слетать же из-за этого с катушек? Юкке не появлялся вот уже четыре дня, но кто его знает, может, нашел себе бабу или вообще махнул на Таити — да мало ли что могло случиться? Наверняка появится, куда он денется.
Ларри отложил газету в сторону, сдвинул очки на лоб, потер глаза и сказал:
— А вот вы, к примеру, знаете, где находится бомбоубежище?
Морган ухмыльнулся:
— Зачем тебе? Решил залечь в берлогу?
— Да не, я насчет этой подводной лодки все думаю. Чисто теоретически, вдруг они решат перейти в наступление?
— Можешь воспользоваться нашим убежищем. Был я там пару лет назад, когда какой-то хрен из оборонки проводил инвентаризацию. Противогазы, консервы, теннисный стол — все дела. Стоят себе без дела.
— Теннисный стол?
— Ну да, ты представь — подваливают к нам русские, а мы им такие: «Стоп, мужики, калаши в сторону, пусть все решит теннисный матч». И генералы встают за стол и ну заворачивать крученые.
— А русские вообще играют в пинг-понг?
— Не-а. Так что дело, можно сказать, в шляпе. Глядишь, еще и Прибалтику вернем.
Лакке чересчур старательно промакнул рот салфеткой и произнес:
— Короче, странно все это.
Морган прикурил сигарету.
— Что именно?
— Да вся эта история с Юкке. Он всегда раньше предупреждал, если куда собирался. Ну, сами знаете. Для него к брату в Веддэ съездить — и то было целое событие. Всю неделю только об этом и говорил. Что с собой возьмет, что делать будут…
Ларри положил руку на его плечо.
— Ты говоришь о нем в прошедшем времени.
— Что? А, да. Короче, я, кроме шуток, считаю, что с ним что-то случилось. Я так думаю.
Морган сделал приличный глоток пива, срыгнул.
— Хочешь сказать, он мертв?
Лакке пожал плечами, ища взглядом поддержки Ларри, разглядывающего узор на салфетке. Морган покачал головой:
— No way.[21] Мы бы знали. Тебе же легавые сообщили, когда взломали дверь, что позвонят, если будет новая информация. Не то чтобы я особенно доверял мусорам, но… Такое не скроешь.
— Он бы уже позвонил…
— Да блин, вы с ним женаты, что ли? Не дергайся ты, появится, никуда не денется. С розами, конфетами и клятвами, что больше — ни-ни.
Лакке горестно кивнул и принялся за пиво, купленное Ларри взамен на обещание, что, как только дела пойдут на лад, он отплатит тем же. Еще два дня — и все. После этого он сам начинает искать. Обзвонит больницы, морги, ну и что там еще делают в подобных ситуациях. Нельзя бросать лучшего друга в беде. Вдруг он болен или умер, мало ли что. Друзей не бросают.
*
Часы показывали половину восьмого, и Хокан занервничал. Он бесцельно бродил вокруг Нового элементарного училища и спортзала Веллингбю, где обычно тусовались подростки. Спортивные тренировки уже начались, бассейн был по вечерам открыт, так что недостатка в потенциальных жертвах не предвиделось. Проблема заключалась лишь в том, что они по большей части ходили компаниями. Он уловил обрывок разговора трех девчонок, одна из них рассказывала, что ее мать «до сих пор психует из-за того маньяка».
Он, конечно, мог отъехать куда-нибудь подальше, где его деяния не получили столь широкой огласки, но тогда кровь могла свернуться по дороге домой. Раз уж он все равно на это решился, он хотел раздобыть для своей возлюбленной самое лучшее. А чем свежее, чем ближе от дома, тем лучше. Это он уже для себя уяснил.
Вчера ночью ударил мороз, температура резко упала, поэтому его лыжная шапка с прорезами для глаз и рта, скрывавшая бо́льшую часть лица, не выглядела подозрительно.
Но не может же он так слоняться до бесконечности? Рано или поздно он привлечет к себе внимание.
А что если он никого не найдет? Вернется домой с пустыми руками? Его возлюбленная не умрет, в этом он был уверен. В отличие от первого раза. Но сейчас им руководили иные мотивы, куда заманчивее. Целая ночь. Тело возлюбленной под боком. Ее тонкая фигура, гладкий живот так и просит, чтобы его медленно поглаживали рукой… Зажженный свет в спальне, мерцающий на шелковистой коже. И все это его, пускай на одну ночь.
Он потер набухший член, разрывавшийся от желания.
Надо успокоиться, надо…
Он знал, как поступит. Безумие, но он это сделает.
Зайдет в местный бассейн и найдет там свою жертву. Скорее всего, сейчас там относительно пусто. Как только он принял решение, план сложился в голове сам собой. Да, это опасно. Но выполнимо.
Если дело сорвется, он прибегнет к последнему средству. Но оно не сорвется. Хокан уже рисовал себе в мельчайших подробностях, как все будет, и ускорил шаг, направляясь ко входу. Он чувствовал опьянение. Подкладка лыжной маски намокла от конденсата, он тяжело дышал.
Ему будет что рассказать своей возлюбленной этой ночью, лаская дрожащей рукой упругие округлые ягодицы, пытаясь сохранить в памяти этот миг на веки вечные.
Он вошел в фойе. Знакомый запах хлорки ударил в нос. Сколько долгих часов он провел в бассейне, в компании или один. Молодые тела, блестящие от пота или воды, такие близкие и такие недоступные. Запах хлорки прибавил ему уверенности, здесь он чувствовал себя как дома. Хокан подошел к кассе.
— Один билет, пожалуйста.
Дама в окошечке оторвалась от своего журнала. Глаза ее чуть расширились. Он указал на маску:
— Холодно сегодня.
Она неуверенно кивнула. Может, снять? Нет. Он знал, как поступит, чтобы не вызвать подозрений.
— Вам шкафчик?
— Нет, кабинку.
Кассирша протянула ему ключ, он расплатился. Отвернувшись от кассы, он стянул с себя шапку. Таким образом, она увидела, как он ее снимает, не разглядев лица. Гениально! Быстрыми шагами он направился к раздевалке, устремив глаза в пол на случай, если кто-то встретится по пути.
*
— Проходите. Добро пожаловать в мою скромную холостяцкую берлогу.
Томми прошел в коридор; за его спиной раздалось чмоканье — мама со Стаффаном целовались. Стаффан тихо спросил:
— Ты ему рассказала?
— Нет. Я думала…
— Ага. Тогда мы…
Снова чмоки. Томми огляделся по сторонам. Ему никогда еще не приходилось бывать в гостях у полицейского, и он невольно испытывал любопытство. Интересно посмотреть, на что это похоже.
Но еще в коридоре стало ясно, что вряд ли Стаффана можно считать характерным представителем органов правопорядка. Томми представлялось что-то вроде… ну, все как в детективах. Скудная обстановка, сквозняки. Место, куда приходят, чтобы поспать в перерывах между охотой на бандюганов.
Вроде меня.
Если бы. Большего китча он в жизни не видел. Коридор обставлен так, будто хозяин дома скупает все подряд из дешевых каталогов, что подбрасывают в почтовые ящики.
Тут — пейзаж с закатом на бархате, там — альпийский домик со старушкой, закрепленной на штырьке, выглядывающей из дверного проема. На телефонном столике — кружевная салфеточка, возле телефона — гипсовая статуэтка ребенка с собакой. На подставке надпись: «Что молчишь?»
Стаффан взял статуэтку в руки.
— Классная вещь, а? Меняет цвет в зависимости от погоды.
Томми кивнул. Либо Стаффан позаимствовал квартиру у своей престарелой матери ради их визита, либо он реально болен на всю голову. Стаффан бережно поставил статуэтку на место.
— Я такое собираю. Всякие штуки, показывающие погоду. Вот вроде этой.
Он ткнул пальцем старушку в альпийском домике, и она исчезла, а вместо нее появился старик.
— Если выглядывает старушка, значит, погода будет плохая, а если старик…
— Значит, еще хуже.
Стаффан засмеялся — как показалось Томми, несколько натянуто.
— Эта штука иногда барахлит.
Томми мельком бросил взгляд на маму и даже слегка испугался этого зрелища. Она стояла в пальто, лихорадочно сцепив руки, а на лице ее застыла такая улыбка, что любая лошадь шарахнулась бы. Мать была в панике. Томми решил сделать над собой усилие:
— Как барометр, значит?
— Точно. С них все и началось. С барометров. То есть я начал их коллекционировать.
Томми указал на небольшое деревянное распятие на стене, с Иисусом, отлитым из серебра:
— Это тоже барометр?
Стаффан посмотрел на Томми, перевел взгляд на распятие, а потом снова на Томми. Внезапно посерьезнел:
— Нет, это не барометр. Это Христос.
— А, тот чувак из Библии.
— Да. Верно.
Томми сунул руки в карманы и вошел в гостиную. Ага, вот и они. У стены стояли кожаный диван и стеклянный столик, над ними вдоль всей комнаты красовалось штук двадцать барометров всевозможных видов и размеров.
Работали, правда, они не очень слаженно — половина стрелок смотрела в разные стороны; это смахивало на стену с часами, показывающими время в разных частях света. Он постучал по стеклянному футляру одного из них, и стрелка немного дернулась. Томми не знал, что это означает, но помнил, что почему-то по барометрам принято стучать.
Полки углового шкафа со стеклянными дверцами были заставлены небольшими наградными кубками. Четыре кубка побольше возвышались на пианино рядом со шкафом. Над пианино висела здоровенная картина, изображающая Деву Марию с Младенцем Иисусом на руках. Она кормила его грудью, с отсутствующим выражением лица, словно говоря: «Ну и чем я это заслужила?!»
Войдя в комнату, Стаффан прокашлялся.
— Томми, ты, если что, не стесняйся, спрашивай!
Томми был не дурак и сразу сообразил, что от него требуется:
— А за что эти награды?
Стаффан махнул рукой в сторону кубков на пианино:
— Эти, что ли?
Нет, дубина, те, что стоят в спортклубе за футбольным полем!
— Да.
Стаффан указал на серебряную статуэтку сантиметров двадцать высотой на каменном постаменте, стоявшую среди кубков на пианино. Томми сначала принял ее за очередную безделушку, но оказалось, что это тоже награда. Она была выполнена в виде стрелка, целящегося из пистолета, широко расставив ноги и вытянув перед собой руки.
— Это за стрельбу. Первое место в районных соревнованиях по стрельбе, а это — третье место в национальных соревнованиях по стрельбе из оружия сорок пятого калибра из положения стоя… Ну и так далее.
Вошла мать Томми и встала рядом с сыном.
— Стаффан входит в пятерку лучших стрелков Швеции.
— И как, приходилось применять на деле?
— В смысле?
— Ну, стрелять в людей?
Стаффан провел пальцем по основанию статуэтки, взглянул на палец.
— Суть полицейской работы в том и заключается, чтобы не приходилось стрелять в людей.
— Ну ты хоть когда-нибудь стрелял?
— Нет.
— А хотел бы?
С шумом набрав воздуха в легкие, Стаффан испустил тяжелый вздох.
— Я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела с едой.
Ага, проверь, не воспламенился ли бензин.
Он удалился на кухню. Мама Томми взяла его за локоть и прошептала:
— Ну зачем ты так?!
— Просто хочу знать.
— Он хороший человек, Томми.
— Еще бы. Призы за стрельбу и Дева Мария. Куда уж лучше?
*
По дороге в бассейн Хокан никого не встретил. Как он и думал, в такое время народу было немного. В раздевалке стояли два мужика его возраста и одевались. Жирные, бесформенные тела. Сморщенные члены под обвислыми животами. Уродство во плоти.
Он отыскал свою кабинку, вошел и запер дверь. Так. С подготовительной частью он справился. На всякий случай он снова надел маску. Вытащил баллон с галотаном, повесил пальто на крючок. Открыл сумку, достал инструменты. Нож, веревка, воронка, канистра. Забыл дождевик. Черт. Придется теперь раздеваться. Риск забрызгаться был велик, но так хоть после дела можно спрятать пятна под одеждой. Да. К тому же, это все-таки бассейн. Здесь вообще принято раздеваться.
Он проверил прочность второго крюка, взявшись за него обеими руками и повиснув на нем. Крюк выдержал. А уж тело весом килограммов на тридцать меньше выдержит и подавно. Сложность заключалась в высоте. Голова будет упираться прямо в пол. Можно попробовать обвязать веревкой колени, между крюком и верхним краем кабинки оставалось достаточно места, так что ноги торчать не должны — вряд ли можно придумать что-нибудь более подозрительное, чем торчащие ноги.
Мужики, похоже, собрались уходить. Он расслышал их голоса.
— Ну, а с работой как?
— Да как обычно. Кому мы, провинциалы, нужны.
— Слыхал шутку? «Не там хорошо, где нас нет, а там, где есть что есть».
— Да славное, должно быть, местечко.
— Ага, сытное.
Хокан прыснул, уже ничего не соображая. Он был слишком возбужден, слишком тяжело дышал. Тело словно превратилось в стаю бабочек, норовящих вот-вот разлететься в разные стороны.
Спокойно. Спокойно. Спокойно.
Он принялся глубоко дышать, пока у него не закружилась голова, потом разделся. Сложил одежду и убрал ее в сумку. Мужики вышли из раздевалки. Стало тихо. Он осторожно встал на скамейку и выглянул поверх кабинки. Так он и думал, край кабинки оказался на уровне его глаз. Вошли три парня лет тринадцати-четырнадцати. Один хлестал другого по заднице скрученным полотенцем.
— Да отвали ты, блин!
Хокан пригнулся, чувствуя, как эрегированный член тычется в угол, будто в твердые, широко раскрытые ягодицы.
Спокойно. Спокойно.
Он снова выглянул. Двое из парней сняли плавки и, наклонившись, рылись в своих шкафчиках в поисках одежды. Его пах свело мощной судорогой, и брызнувшая сперма потекла по стене на скамейку, на которой он стоял.
Так, все. Спокойно.
Уф. Ему стало немного лучше. Но сперма — это плохо. Это след.
Он вытащил из сумки носки, как смог протер угол стены и скамейку. Бросив носки в сумку, надел маску, прислушиваясь к разговору пацанов.
— …Новая игрушка для «Атари». «Эндуро». Пошли ко мне, сыграем?
— Не, у меня дела…
— А ты?
— Ладно. А у тебя что, два джойстика?
— Нет, но…
— Давай сначала зайдем за моим? Тогда можно вдвоем играть.
— Ага. Пока, Маттиас.
— Пока.
Двое из них явно собрались уходить. Расклад выходил — лучше некуда. Один пацан задерживался. Хокан набрался смелости и снова выглянул поверх кабинки. Двое парней направлялись к выходу, третий надевал носки. Хокан пригнулся, вспомнив, что на нем маска. Хорошо еще, его не засекли.
Он взял баллон с галотаном, положил палец на клапан. Остаться в маске? Вдруг пацану удастся ускользнуть? Вдруг кто-нибудь войдет? Вдруг…
Черт. Зря он разделся. Вдруг ему придется бежать? Думать было некогда. Он услышал, как пацан запер свой шкафчик и пошел к выходу. Через пять секунд он окажется возле двери кабинки. Слишком поздно что-либо обдумывать.
В щели дверного проема мелькнула тень. Он отключил мозг, повернул замок, распахнул дверь и бросился наружу.
Обернувшись, Маттиас увидел большого обнаженного человека в маске, несущегося прямо на него. В голове его промелькнула одна-единственная мысль, а тело инстинктивно рванулось назад.
Смерть.
Он пятился от наступающей Смерти, пришедшей его забрать. В одной руке Смерть держала что-то черное. Черный предмет взметнулся к его лицу, и он набрал воздуха в легкие, чтобы закричать.
Но не успел он открыть рот, как черная штуковина накрыла его рот и нос. Он почувствовал, как чья-то рука обхватила его затылок, вжимая его лицо в это черное, мягкое. Крик превратился в сдавленное мычание, а пока он пытался выжать из себя отчаянный вопль, раздалось шипение, напоминавшее звуки дымомашины.
Он снова попытался закричать, но, когда он вздохнул, с телом приключилось что-то странное. Все конечности внезапно онемели, и крик превратился в негромкий писк. Он снова вздохнул, и ноги его подкосились, а перед глазами закрутился разноцветный калейдоскоп.
Ему больше не хотелось кричать. Не было сил. Красочная пелена заволокла все поле его зрения. Тела он больше не чувствовал. Калейдоскоп крутился. Маттиас растворился в радуге.
*
Оскар держал листок с азбукой Морзе в одной руке, а другой выстукивал точки-тире. Костяшки — точка, ладонь — тире; так они договорились.
Костяшки. Пауза. Костяшки, ладонь, костяшки, костяшки. Пауза. Костяшки, костяшки:
Э-Л-И Я В-Ы-Х-О-Ж-У.
Спустя несколько секунд последовал ответ:
И-Д-У.
Они встретились у ее подъезда. За день она буквально… преобразилась. Пару месяцев назад к ним в школу приходила тетка-еврейка, рассказывала о холокосте, показывала слайды. Эли походила на людей с тех слайдов.
Резкий свет фонаря подчеркивал тени на ее лице, череп проступал из-под кожи, словно истончившейся, и… — Что у тебя с волосами?
Сначала он подумал, что дело в освещении, но, подойдя ближе, разглядел в ее черных волосах несколько белых прядей. Как у старухи. Эли пригладила волосы рукой, улыбнулась:
— Пройдет. Что будем делать?
— Может, до палатки?
— Что?
— Побежали до палатки?
— Угу. Кто последний добежит — тот тухлая селедка!
В голове Оскара промелькнула картинка:
Черно-белые дети.
Эли сорвалась с места, и Оскар помчался за ней следом. Хоть она и выглядела больной, но бегала куда быстрее его, лихо перескакивая через камни на своем пути. Какая-то пара скачков — и она оказалась на другой стороне улицы. Оскар бежал что есть сил, но картинка в голове не давала ему покоя.
Черно-белые дети?
Точно! Он мчался под гору мимо кондитерской фабрики, и тут его осенило. Старые фильмы, что крутят по воскресеньям. «Андерссонихов Калле»[22] и тому подобные. «Кто последний добежит — тот тухлая селедка!» В этих фильмах любили такие выражения.
Эли поджидала его у дороги, метрах в двадцати от палатки. Оскар подбежал к ней, стараясь не показывать, насколько запыхался. Он никогда еще не водил Эли к палатке. Может, рассказать ей ту историю? Точно.
— Знаешь, почему эту палатку называют «секс-шопом»?
— Почему?
— Потому что… короче, я слышал на родительском собрании… кто-то рассказывал, что… ну, в смысле, не мне, но… я слышал… В общем, говорят, что мужик, которому она принадлежит…
Оскар начал жалеть, что завел этот разговор. Уж очень глупо все выходило. По-дурацки как-то. Эли всплеснула руками:
— Что?
— Ну, говорят, что он… водит сюда женщин. То есть он после закрытия… ну, ты понимаешь…
— Что, правда?! — Эли взглянула на палатку. — Как же они там помещаются?
— Ужас, да?
— Ага.
Оскар направился к киоску. Сделав пару быстрых шагов, Эли догнала его и прошептала:
— Они, наверное, очень худые!
Оба прыснули. Оскар с Эли вошли в круг света, падавшего из окна киоска. Эли демонстративно закатила глаза, указывая на владельца палатки, стоявшего внутри и смотревшего маленький телевизор:
— Это он? — (Оскар кивнул.) — Вылитая обезьяна!
Приложив ладонь к уху Эли, Оскар шепнул:
— Он пять лет назад сбежал из зоопарка. До сих пор ищут.
Эли прыснула и приложила ладонь к уху Оскара. Ее теплое дыхание заструилось в его голове.
— Нет, не ищут! Они просто его здесь заперли!
Взглянув на продавца, они расхохотались, представляя его обезьяной в клетке, набитой сладостями. Услышав их смех, продавец повернулся к ним и нахмурил мохнатые брови, что лишь увеличило сходство с гориллой. Оскар и Эли захохотали так, что чуть не упали, закрывая рты руками и изо всех сил стараясь сохранить видимость приличия.
Палаточник наклонился к ним:
— Что-нибудь будете?
Эли тут же сделала серьезную мину, отняла руки от губ, подошла к окошку и ответила:
— Банан, пожалуйста.
Оскар фыркнул и крепче прижал руку ко рту. Эли обернулась и, приложив указательный палец к губам, шикнула на него с наигранной строгостью. Продавец по-прежнему стоял у окошка.
— Бананов нет.
Эли изобразила искреннее недоумение:
— Как, нет бананов?!
— Вот так, нет. Что-нибудь еще?
У Оскара сводило скулы от еле сдерживаемого смеха. Спотыкаясь, он отбежал к почтовому ящику в нескольких шагах от палатки, прислонился к нему и расхохотался, содрогаясь всем телом. Эли подошла к нему, качая головой:
— Бананов нет.
Оскар выдохнул:
— Наверное… все… съел!
Оскар взял себя в руки, сжал губы, вытащил из кармана четыре монеты по одной кроне и подошел к окошку.
— Конфеты, разных сортов.
Пристально посмотрев на него, продавец начал зачерпывать совком сладости из пластиковых лотков, выставленных в витрине, ссыпая их в бумажный пакет. Оскар покосился в сторону, желая убедиться, что Эли его слышит, и добавил:
— И бананы.
Продавец остановился.
— Я же сказал, бананов нет.
Оскар указал на один из лотков:
— Я имел в виду банановые пастилки.
Он услышал, как Эли фыркнула от смеха, и поступил так же, как она: приложил палец к губам и шикнул на нее. Продавец усмехнулся, положил в пакет пару банановых пастилок и вручил его Оскару.
Они направились к дому. Прежде чем взять конфету, Оскар протянул пакет Эли. Та покачала головой:
— Спасибо, не хочу.
— Ты что, не любишь сладости?
— Мне нельзя.
— Вообще никаких?
— Не-а.
— Блин, вот обидно.
— Не очень. Я же даже не знаю, какие они на вкус.
— Ты что, никогда их не пробовала?!
— Нет.
— Так откуда же ты тогда знаешь…
— Знаю, и все.
Такое случалось не первый раз. Они разговаривали, Оскар о чем-то спрашивал, и разговор заканчивался этими ее «просто это так» или «знаю, и все». Без всяких объяснений. Это была одна из ее странностей.
Жалко, что ему не удалось ее угостить. Ему так хотелось продемонстрировать свою щедрость, сказать — бери сколько хочешь! А она, оказывается, не ест сладкого. Он закинул в рот банановую пастилку и покосился на нее.
Вид у нее был и правда нездоровый. И эта седина… Оскар читал в одном рассказе про человека, поседевшего от испуга. Может быть, кто-то ее напугал?
Она смотрела по сторонам, обхватив плечи руками, и казалась такой… маленькой. Оскару захотелось ее обнять, но он не осмелился.
У подъезда Эли остановилась и взглянула на свои окна. Свет не горел. Она стояла, обхватив руками плечи, словно завязавшись в узел, и смотрела в землю.
— Оскар…
И тут он сделал это. Ее тело будто само напрашивалось, так что он собрался с духом и сделал это. Обнял ее. На какое-то страшное мгновение ему показалось, что он совершил ошибку: тело ее казалось напряженным, отчужденным. Он уже собирался прервать объятие, как вдруг она обмякла. Узел развязался, она высвободила руки, обхватив его спину, и, дрожа, приникла к нему.
Она положила голову ему на плечо, и они так застыли. Ее дыхание щекотало его шею. Они молча обнимали друг друга. Оскар зажмурился, чувствуя, что это самая важная минута в его жизни. Свет подъезда едва пробивался сквозь сомкнутые веки, обволакивая глаза красной пеленой. Лучшая минута в жизни.
Голова Эли придвинулась ближе к его шее. Тепло ее дыхания становилось все более ощутимым. Расслабившиеся мышцы тела снова напряглись. Ее губы коснулись его шеи, и по телу Оскара пробежала дрожь.
Внезапно она рванулась и высвободилась из его объятий, отпрянув назад. Оскар уронил руки. Эли потрясла головой, словно стряхивая с себя сон, развернулась и пошла к своей двери. Оскар остался стоять. Когда она открыла дверь, он окликнул ее:
— Эли?
Она обернулась.
— Где твой папа?
— Он… пошел за едой.
Ее не кормят. Вот в чем дело…
— Если хочешь, можешь поесть у нас.
Эли отпустила ручку двери, подошла к нему. Оскар уже соображал, как все объяснить маме. Он не хотел знакомить маму с Эли. Он мог бы сделать пару бутербродов и вынести их на улицу. Да, так, пожалуй, лучше всего.
Эли встала напротив него, серьезно посмотрела ему в глаза:
— Оскар… Я тебе нравлюсь?
— Да. Очень.
— А если бы я не была девочкой… я бы тебе все равно нравилась?
— Как это?
— Ну так. Я бы тебе нравилась, если бы не была девочкой?
— Ну… наверное.
— Точно?
— Да. А почему ты спрашиваешь?
Послышался звук, будто кто-то дергал заевшую оконную створку, и затем открылось окно. Оскар увидел за спиной Эли мамину голову, высунувшуюся из окна его спальни:
— О-о-оскар!
Эли шарахнулась в сторону, прижавшись к стене. Оскар сжал кулаки и взбежал на пригорок, встав под окнами. Как маленький ребенок.
— Что?
— Ой! Ты тут! А я думала…
— Ну что?!
— Сейчас передача начнется.
— Да знаю я!
Мама собралась было что-то сказать, но захлопнула рот и молча взглянула своего сына, стоящего под окнами, — руки по швам, крепко сжатые кулаки, тело как струна.
— Ты что там делаешь?
— Я… я иду.
— Давай скорее, а то…
Глаза Оскара увлажнились яростью, и он прошипел:
— Уйди! Закрой окно! Уйди!
Какое-то мгновение мама молча смотрела на него, затем по ее лицу пробежала тень, после чего она с треском захлопнула окно и ушла в дом. Оскару захотелось… не то чтобы окликнуть ее, но… послать ей мысль. Спокойно объяснить, в чем дело. Что не надо ему кричать, что у него…
Он спустился с пригорка.
— Эли?
Ее нигде не было. В свой подъезд она не заходила, он бы увидел. Наверное, пошла к метро, решила поехать к этой своей тетке, у которой обычно проводила время после школы. Да, скорее всего.
Оскар встал в темный угол, где Эли спряталась от его мамы. Повернулся лицом к стене. Немного постоял. И пошел домой.
*
Хокан затащил мальчика в кабинку и запер за собой дверь. Пацан не издавал почти ни звука. Единственное, что теперь могло вызвать подозрение — это шипение газового баллона. Придется работать быстро.
Все было бы куда проще, если бы он мог сразу накинуться на жертву с ножом, но нет. Кровь должна поступать из живого тела. Это ему тоже объяснили. Кровь мертвецов была бесполезна, более того — опасна.
Ладно. Мальчик, по крайней мере, был жив. Грудь его поднималась и опускалась, наполняя легкие сонным газом.
Он перемотал ноги пацана чуть выше колен веревкой, перекинул оба конца через крюк и потянул на себя. Ноги жертвы поползли вверх.
Где-то открылась дверь, послышались голоса.
Придерживая веревку одной рукой, он перекрыл газ и снял маску. Наркоза хватит на несколько минут, люди не люди, а работать придется; значит, нужно действовать как можно бесшумнее.
Несколько мужских голосов. Два, три, четыре? Они обсуждали Швецию и Данию. Спорт. Гандбол. Пока они разговаривали, он осторожно подтягивал тело мальчика все выше и выше. Крюк заскрипел, — видимо, когда Хокан испытывал его на прочность, угол нагрузки был другим. Мужские голоса затихли. Они что-то заподозрили? Он замер, затаив дыхание, придерживая тело. Голова мальчика болталась над самым полом.
Нет. Просто пауза в разговоре. Беседа возобновилась.
Говорите, говорите.
— Штрафной Шегрену был вообще…
— Сила не в руках, головой тоже надо думать.
— Ну, забивает он, надо сказать, тоже неплохо.
— Черт, как он тот крученый-то завернул…
Голова пацана висела в сантиметрах двадцати от пола. Пора!
Так, теперь нужно закрепить концы веревки. Доски скамьи оказались пригнаны так плотно, что веревку в щель не просунешь. Не мог же он орудовать одной рукой, придерживая второй веревку? Нет, так не пойдет. Он неподвижно стоял, зажав в кулаке концы веревки и обливаясь потом. В маске было жарко. Хотелось ее снять.
Потом. Когда дело будет сделано.
О, второй крючок. Оставалось соорудить петлю. Пот заливал ему глаза. Он опустил тело мальчика на пол, чтобы ослабить веревку, и сделал петлю. Снова подтянул тело и попытался накинуть петлю на крюк. Веревки не хватило. Он снова опустил тело. Мужики за дверью притихли.
Да уходите же! Уходите!
В тишине он сделал новую петлю, подождал. Они снова заговорили. Боулинг. Успехи шведской женской сборной в Нью-Йорке. Страйк, спэа; пот щиплет глаза.
Жарко. Почему так жарко?
Хокан накинул петлю на крюк и выдохнул. Да уйдут они когда-нибудь?
Тело мальчика наконец-то висело под нужным углом, оставалось лишь довести дело до конца, прежде чем он проснется, — Господи, пусть они уйдут! Но те погрузились в бесконечные воспоминания о том, как у кого-то во время игры застрял большой палец в шаре для боулинга, и его пришлось вести в больницу.
Ждать он больше не мог. Хокан засунул воронку в канистру и приставил ее к горлу жертвы. Взял в руки нож. Когда он обернулся, чтобы пустить мальчику кровь, разговор снова затих. А глаза пацана были открыты. Широко распахнуты. Зрачки его метались из стороны в сторону, ища хоть какую-нибудь зацепку, объяснение происходящему, пока не остановились на Хокане — раздетом догола, с ножом в руке. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза.
Затем мальчик открыл рот и заорал.
Хокан отшатнулся назад и с влажным звуком стукнулся о стену кабинки. Потная спина скользнула по стенке, и он чуть было не потерял равновесие. А мальчик все орал. Его крик гулко разносился по раздевалке, отскакивая от стен, все нарастая так, что у Хокана заложило уши. Его рука крепче сжимала рукоятку ножа, в голове билась одна мысль — он должен положить конец этому крику. Перерезать горло, чтобы крик прекратился. Он опустился на корточки перед мальчиком.
В дверь заколотились:
— Эй! Откройте!
Хокан выпустил нож. Вряд ли кто-то услышал его звон среди этого грохота и воплей пацана. Дверь пошатывалась от ударов, грозя сорваться с петель.
— Открывай! А то выбью дверь!
Все. Вот теперь все. Оставалось лишь одно. Звуки вокруг исчезли, поле зрения сжалось в узкий туннель, когда Хокан повернул голову к сумке. Сквозь этот туннель он увидел, как его рука погружается в сумку и вытаскивает стеклянную банку.
Он плюхнулся на задницу, не выпуская банку из рук, открыл крышку. Помедлил.
Вот сейчас, когда они откроют дверь. До того, как сдернут маску. Лицо.
Под звуки криков и ударов в дверь он думал о своей возлюбленной. О времени, проведенном вместе. Его любовь предстала перед его взором в образе ангела. Юного ангела, сошедшего с небес и простершего над ним крылья. Ангела, пришедшего, чтобы его забрать. Унести с собой. Туда, где они будут вместе. Навсегда.
Дверь распахнулась, ударившись об стену. Мальчик продолжал орать. В дверях стояли трое полуодетых мужчин. Они непонимающе смотрели на открывшуюся их взглядам картину.
Хокан медленно кивнул, словно принимая свою судьбу.
И с криком: «Эли! Эли!» — облил лицо серной кислотой.
*
Возрадуемся в Господе —
Хвала Тебе, Спаситель.
Возрадуемся в Господе —
Ведь Он наш Царь и Бог.
Стаффан аккомпанировал себе и матери на пианино. Время от времени они переглядывались и обменивались сияющими улыбками. Томми сидел на кожаном диване и страдал. Он обнаружил небольшую дыру на подлокотнике и теперь старательно ее расковыривал, пока мама со Стаффаном выводили свои рулады. Указательный палец все глубже погружался в поролон, и он размышлял, приходилось ли им заниматься сексом на этом диване. Под барометрами.
Ужин был ничего, маринованная курица с рисом. После ужина Стаффан показал Томми сейф, где он хранил свои пистолеты. Сейф оказался под кроватью, и Томми задался тем же вопросом, что и раньше: интересно, они здесь спят? Вспоминает ли мать об отце, принимая ласки Стаффана? Заводит ли его мысль о пистолете под матрасом? А ее?
Стаффан взял заключительный аккорд и подождал, пока музыка затихнет. Томми вытащил палец из теперь уже довольно внушительной дыры в диване. Мама кивнула Стаффану, взяла его за руку и присела рядом на банкетку возле пианино. Если смотреть оттуда, где сидел Томми, Дева Мария оказывалась прямо над их головами, будто они специально все так рассчитали.
Мама посмотрела на Стаффана, улыбнулась и повернулась к Томми:
— Томми, нам нужно кое-что тебе рассказать.
— Вы что, женитесь?
Мама смутилась. Если они и репетировали эту сцену в мельчайших подробностях, эта реплика была явно не предусмотрена.
— Да. Что скажешь?
Томми пожал плечами:
— Ну женитесь.
— Мы думали… ближе к лету.
Мама вопросительно взглянула на него, словно ожидая встречного предложения.
— Летом так летом. Как скажете.
Он снова сунул палец в дыру и остался так сидеть. Стаффан подался вперед.
— Я знаю, что не могу… заменить тебе отца. Ни в коей мере. Но я надеюсь, что нам удастся… лучше узнать друг друга и… Как бы это сказать? Подружиться.
— А жить вы где будете?
Мама неожиданно погрустнела.
— Мы, Томми. Тебя это тоже касается. Мы пока не знаем. Подумываем купить виллу в Энгбю. Если ты не против.
— В Энгбю?
— Да. Как тебе такая идея?
Томми уставился на стеклянную поверхность стола, в которой мама и Стаффан казались полупрозрачными, как привидения. Он пошевелил пальцем в дырке, отковыряв кусок поролона.
— Дорого.
— В каком смысле?
— Вилла в Энгбю. Дорогое удовольствие. Больших денег стоит. У вас что, много денег?
Стаффан уже собрался что-то ответить, как вдруг зазвонил телефон. Он погладил мать по щеке и проследовал в коридор. Мама села на диван рядом с Томми и спросила:
— Ты что, недоволен?
— Почему? Я в восторге.
Из коридора раздался голос Стаффана. Он казался взволнованным.
— Ах ты, черт… Конечно, сейчас приеду. А может… Нет, я еду. Ладно. Пока.
Он вернулся в гостиную.
— Убийца в спорткомплексе Веллингбю. В участке не хватает людей, так что мне нужно…
Он исчез в спальне, и Томми услышал, как открывается и закрывается сейф. Стаффан переоделся и через несколько минут вышел в полном полицейском обмундировании. Взгляд его казался слегка безумным. Он поцеловал мать Томми в губы и похлопал его по колену:
— Так я поехал. Когда вернусь — не знаю. Мы еще поговорим.
Он выскочил в коридор, мать бросилась следом.
До Томми донеслись обрывки фраз: «будь осторожен», «я тебя люблю» и «оставайся у меня». Он подошел к пианино. Сам не зная зачем, протянул руку и взял статуэтку стрелка. Она оказалась тяжелой, килограмма два. Пока мама и Стаффан прощались — да их это прикалывает: мужчина отправляется на войну, женщина плачет… — Томми вышел на балкон. Легкие наполнил прохладный вечерний воздух, и впервые за последние пару часов он вздохнул полной грудью.
Он облокотился на перила, увидел внизу густые заросли, протянул руку со статуэткой и разжал кулак. Стрелок с шорохом упал в кусты.
Мама вышла на балкон и встала рядом с Томми. Через несколько секунд дверь внизу распахнулась, из подъезда вышел Стаффан и почти бегом направился к автостоянке. Мама помахала рукой, но Стаффан даже не поднял голову. Когда он прошел прямо под балконом, Томми хихикнул.
— Что?
— Ничего.
Кроме того, что его друган с пистолетом стоит в кустах и целится в него. А так ничего.
В конечном итоге, все вышло не так уж и плохо.
*
Подкрепление пришло в лице Карлссона, единственного из компании, у кого была «настоящая работа», как он сам любил выражаться. Ларри сидел на пенсии по состоянию здоровья, Морган время от времени подрабатывал на автомобильной свалке, а на что жил Лакке, никто вообще не знал. Иногда у него откуда-то появлялись деньги, и все.
Карлссон же работал в магазине детских игрушек в Веллингбю. Когда-то этот магазин ему принадлежал, но потом Карлссону пришлось его продать из-за «некоторых финансовых сложностей». Через какое-то время новый владелец взял его на работу, поскольку, как любил поговаривать Карлссон, «тридцать лет работы — это все же опыт».
Морган откинулся на спинку стула, широко расставил ноги и, сцепив руки на затылке, уставился на Карлссона. Лакке и Ларри переглянулись. Ну, начинается.
— Ну что, Карлссон, какие новости в мире игрушек? Придумал очередной способ развести детишек на карманные деньги?
Карлссон усмехнулся.
— Не понимаю, о чем ты. Уж если кто кого и разводит на деньги, так это они меня. Ты себе представить не можешь, сколько они всего тырят. Тоже мне детишки…
— Да ладно, брось. Купишь какого-нибудь корейского пластмассового дерьма за две кроны, а потом продашь за двести, вот и отобьетесь.
— Мы такое не продаем.
— Правда? А что это я у вас видел на днях в витрине? Случайно не троллей? И что это, по-твоему? Высококачественные игрушки ручной работы из Бенгтсфорса?
И так без конца. Ларри с Лакке только слушали, иногда посмеиваясь и вставляя комментарии. Когда с ними была Виржиния, оба начинали еще больше петушиться, и Морган не успокаивался, пока не доводил Карлссона до белого каления.
Но сегодня Виржинии не было. И Юкке тоже. Вечер не клеился, и спор уже начал иссякать, когда около половины девятого дверь в ресторан медленно открылась.
Ларри поднял голову и увидел того, кого уж никак не ожидал здесь увидеть: Гёсту. Гёсту-вонючку, как его называл Морган. Ларри пару раз трепался с Гёстой на скамейке перед высоткой, но чтобы он пришел сюда…
Гёста походил на развалину. Двигался он так, будто весь состоял из плохо склеенных деталей, норовящих рассыпаться при первом же неосторожном движении. Либо он был в жопу пьян, либо тяжело болен.
Ларри махнул рукой:
— Гёста! Давай сюда!
Морган повернул голову, окинул Гёсту взглядом с головы до ног и произнес:
— Во дела!
Гёста заковылял к их столику, ступая словно по минному полю. Ларри выдвинул соседний стул, сделав пригласительный жест рукой:
— Заходи, гостем будешь!
Гёста, казалось, его не слышал, но к стулу подошел. Он был одет в изрядно поношенный костюм с жилеткой и бабочкой. Влажные волосы были зачесаны назад. Кроме того, от него страшно воняло. Мочой, мочой и еще раз мочой. На открытом воздухе запах был весьма ощутим, но переносим, но здесь, в тепле, от Гёсты так несло застарелой мочой, что приходилось дышать через рот, чтобы хоть как-то это вынести.
Все мужики, включая Моргана, напряглись, изо всех сил пытаясь скрыть свои обонятельные впечатления. Официант подошел к их столику, принюхавшись, замешкался и спросил:
— Что-нибудь… желаете?
Гёста покачал головой, даже не взглянув на официанта. Официант вскинул брови, но Ларри махнул ему рукой: ничего, мы сейчас с ним разберемся. Официант удалился, и Ларри положил руку Гёсте на плечо:
— Чему обязаны?
Гёста прокашлялся и, уставившись в пол, ответил:
— Юкке.
— Что Юкке?
— Он мертв.
Ларри услышал, как Лакке ахнул у него за спиной. Его рука по-прежнему покоилась на плече Гёсты. Похоже, он нуждался в поддержке.
— Откуда ты знаешь?
— Я все видел. Как это произошло. Его убили.
— Когда?
— В субботу. Вечером.
Ларри убрал руку.
— В субботу?! Но… ты сообщил в полицию?
Гёста покачал головой:
— Я не смог. Да и вообще… я ничего толком не видел. Но знаю.
Лакке уронил лицо в ладони, прошептал:
— Я знал, я знал!
Гёста начал рассказывать. Про ребенка, разбившего камнем фонарь у моста, а потом спрятавшегося под ним. Про Юкке, вошедшего под мост и так и не вышедшего. Контур тела на пожухлой листве на следующее утро.
К тому времени, как он закончил свой рассказ, официант уже успел сделать несколько яростных знаков Ларри, указывая то на Гёсту, то на дверь. Ларри положил руку Гёсте на рукав:
— Может, сходим туда и посмотрим?
Гёста кивнул, и они встали из-за стола. Морган залпом допил остатки своего пива и ухмыльнулся Карлссону, который взял газету и, как обычно, запихнул ее в карман пальто, жлоб чертов.
Только Лакке сидел неподвижно, играясь обломками зубочисток, рассыпанными на столе. Ларри наклонился к нему:
— Ты идешь?
— Я знал. Я чувствовал.
— Ладно, ладно. Ты идешь или нет?
— Да. Идите. Я догоню.
Когда они вышли на морозный вечерний воздух, Гёста немного пришел в себя и понесся с такой скоростью, что Ларри попросил его сбавить темп, иначе сердце не выдерживало. Карлссон и Морган шли бок о бок позади них; Морган выжидал момента, когда Карлссон сморозит какую-нибудь глупость, чтобы можно было на него наехать. Но даже Карлссон был погружен в раздумья.
Разбитый фонарь уже починили, и под мостом было относительно светло. Они стояли, столпившись вокруг Гёсты, и слушали, как он повторяет свой рассказ, тыкая пальцем в листья и притоптывая окоченевшими ногами, чтобы согреться — проблемы с кровообращением. Из-за топота под мостом гуляло эхо, будто поблизости маршировал полк солдат. Когда Гёста закончил, Карлссон произнес:
— По правде сказать, доказательств-то никаких нет…
Морган только этого и ждал.
— Черт, ты что, не слышал, что он сказал? Или ты думаешь, что он врет?
— Нет, — ответил Карлссон таким тоном, будто разговаривал с ребенком, — но вряд ли полиция поверит ему на слово, если мы не сможем предоставить каких-либо доказательств.
— Но он же свидетель!
— И ты считаешь, что этого достаточно?
Ларри махнул рукой, указывая на гору листьев:
— Куда делось тело, вот в чем вопрос. Если все действительно было так, как он говорит.
Лакке быстро шел по алее парка. Приблизившись к Гёсте, он указал на землю:
— Здесь?
Гёста кивнул. Лакке сунул руки в карманы и так застыл, разглядывая хаотично разбросанные листья, будто перед ним была головоломка, которую нужно решить. Под кожей его ходили желваки.
— Ну? Что скажете?
Ларри сделал пару шагов в его сторону.
— Лакке, мне очень жаль…
Одним движением руки Лакке отмахнулся от Ларри, не давая ему договорить.
— Я спрашиваю, что скажете? Поймаем мы ту сволочь, которая это сделала, или нет?
Все, кроме Лакке, отвели взгляд. Ларри хотел было сказать, что это сложно, почти невозможно, но осекся. В конце концов Морган прокашлялся, подошел к Лакке и положил руку ему на плечо:
— Поймаем, Лакке. Обязательно.
*
Томми перегнулся через перила и посмотрел вниз — вроде что-то поблескивает. Похоже на трофей Юных сурков из мультиков про Дональда Дака.
— О чем ты думаешь? — спросила мама.
— О Дональде Даке.
— Стаффан тебе не нравится, да?
— Да нет, он ничего.
— Правда?
Томми устремил взгляд в сторону центра. Разглядел красную неоновую букву «В», медленно вращавшуюся над городом. Веллингбю. Виктори.
— Он тебе пистолеты показывал?
— Почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Показывал?
— Не понимаю, о чем ты.
— А что тут непонятного-то? Открыл сейф, достал пистолеты, показал. Показывал или нет?
— Ну, показывал, и что?
— Когда?
Мама стряхнула с блузки невидимую пылинку, потерла руками плечи.
— Что-то холодно.
— Ты о папе вспоминаешь?
— Да, все время.
— Все время?
Мама вздохнула, наклонила голову, пытаясь заглянуть ему в глаза:
— К чему ты клонишь?
— К чему ты клонишь?
Она накрыла ладонью его руку, лежавшую на перилах.
— Пойдешь завтра со мной к папе?
— Завтра?
— Да. Завтра же День Всех Святых.
— Это послезавтра. Пойду.
— Томми…
Она отцепила его руки от перил, развернула к себе лицом. Обняла его. Он немного постоял, затем высвободился из ее объятий и вошел в квартиру.
Надевая куртку, он сообразил, что ему нужно выманить маму с балкона, если он хочет подобрать стрелка. Он окликнул ее, и она тут же возникла на пороге в надежде услышать хоть одно его слово.
— Ладно… Стаффану привет.
Мама расцвела:
— Передам. Хочешь, останься?
— Да нет, я… Его, может, всю ночь не будет.
— Да уж. Я немного волнуюсь.
— Не волнуйся. Уж что-что, а стрелять он умеет. Пока!
— Пока…
Входная дверь захлопнулась.
— …сынок.
*
Внутри «вольво» что-то приглушенно стукнуло, когда Стаффан на полной скорости въехал в бордюр тротуара. Челюсти лязгнули так, что в голове загудело. На какое-то мгновение он потерял зрение и чуть не задавил старика, направлявшегося к толпе зевак, что собрались вокруг полицейской машины у главного входа.
Стажер Ларссон сидел в машине и разговаривал по рации. Наверное, вызывал подкрепление или «скорую». Стаффан припарковался за ним, чтобы не перекрывать дорогу подкреплению, вышел и запер дверь машины. Он всегда запирал ее, даже если выходил всего на минуту, — не потому, что боялся угона, а чтобы выработать автоматизм и однажды, не дай бог, не забыть запереть служебную машину.
Он направился ко входу, стараясь выглядеть как можно солиднее перед собравшейся публикой; он знал, что обладает авторитетной внешностью. Большая часть публики, наверное, сейчас думала: «Ага, наконец-то пришел человек, который быстро во всем разберется».
Внутри, прямо возле двери, стояли четверо мужчин в плавках и с полотенцами, накинутыми на плечи. Стаффан прошел мимо, в сторону раздевалки, но один из них окликнул его: «Простите!» — и подошел, шлепая босыми ногами по полу.
— Простите, я хотел узнать… насчёт нашей одежды.
— Что с вашей одеждой?
— Когда мы можем ее получить?
— Вашу одежду?
— Да, она в раздевалке, а нас туда не пускают.
Стаффан открыл было рот — язвительно заметить, что в данный момент их одежда занимает далеко не первое место в списке приоритетов, но тут увидел, как какая-то женщина в белой футболке несет в охапке банные халаты. Стаффан молча указал рукой на женщину и двинулся дальше к раздевалке.
По пути ему встретилась другая женщина в белой футболке, которая вела к выходу мальчика лет двенадцати-тринадцати. Лицо ребенка казалось лиловым на фоне белого халата, замотанного вокруг тела, глаза были пусты. Женщина с укором посмотрела на Стаффана:
— Его мама уже выехала за ним.
Стаффан кивнул. Это что — жертва?.. Его так и подмывало задать этот вопрос, но в суете он никак не мог придумать формулировку поудачнее. Наверняка Холмберг записал имя мальчика и прочую информацию и распорядился передать его в руки матери, которая сама решит, что ему нужно: «скорая», психиатр или терапия.
Общество обязано защищать слабейших.
Стаффан пошел дальше по коридору и взбежал вверх по лестнице, мысленно обращаясь к Господу с благодарностью за явленное милосердие и просьбой дать сил, чтобы вынести предстоящие испытания.
Неужели убийца в самом деле находится в здании?
Возле входа в раздевалку, под табличкой с красноречивой буквой «М», стояли трое мужчин и беседовали с констеблем Холмбергом. Полностью одет был лишь один из них. Второй стоял без штанов, третий — с голым торсом.
— Спасибо, что так быстро, — поприветствовал его Холмберг.
— Он там?
Холмберг указал на дверь в раздевалку:
— Ага, там.
Стаффан кивнул на мужчин:
— А они?..
Прежде чем Холмберг успел что-либо ответить, мужик без штанов сделал полшага вперед и не без гордости произнес:
— Мы свидетели.
Стаффан кивнул и вопросительно посмотрел на Холмберга:
— А может, их стоит…
— Конечно, я просто ждал тебя. Он, похоже, не агрессивен.
Холмберг обернулся к троим мужчинам и вежливо добавил:
— Мы с вами свяжемся. Сейчас вам лучше поехать домой. Ах да, вот еще что. Я понимаю, что это непросто, но постарайтесь не обсуждать происшедшее между собой.
Мужик без штанов криво улыбнулся в знак согласия:
— Вы хотите сказать, кто-то может нас услышать?
— Нет, но под влиянием друг друга вы можете решить, что видели то, чего на самом деле не было.
— Ну уж нет! Я знаю, что видел, и такого извращения я в жизни не…
— Поверьте, это случается с лучшими из нас. А теперь прошу извинить. Спасибо за помощь.
Мужчины двинулись по коридору, что-то бормоча. Холмберг умел разговаривать с людьми. В общем он в основном этим и занимался. Ездил по всяким школам и рассказывал про наркотики и работу полиции. На дело он в последнее время выезжал нечасто.
Из раздевалки послышался металлический лязг, будто уронили лист железа. Стаффан вздрогнул и прислушался.
— Не агрессивный, говоришь?
— Говорят, серьезные телесные повреждения. Вроде как облил лицо кислотой.
— Зачем?
Лицо Холмберга поскучнело, и он повернулся к двери.
— Пойдем узнаем.
— Вооружен?
— Похоже, что нет.
Холмберг указал на мраморный подоконник, где лежал большой кухонный нож с деревянной ручкой.
— Пакета у меня не было. К тому же тот молодец без штанов успел его весь излапать к тому времени, как я пришел. Ладно, потом разберемся.
— И что, так и оставим его здесь лежать?
— У тебя есть другое предложение?
Стаффан покачал головой и сейчас, в тишине, вдруг различил две вещи. Слабый прерывистый свист из раздевалки. Ветер в трубе. Треснувшая флейта. Этот звук — и запах. Запах, который он сначала счел примесью хлорки, пропитавшей все здание. Но это было что-то другое. Резкая, едкая вонь, щекочущая ноздри. Стаффан поморщился.
— Ну что, заходим?..
Холмберг кивнул, но с места не двинулся. Жена, дети. Все понятно. Стаффан одной рукой вытащил из кобуры пистолет, другой нажал на ручку двери. Третий раз за все двенадцать лет службы в полиции ему приходилось входить в помещение с оружием на изготовку. Он не знал, правильно ли поступает, но упрекнуть его было некому. Убийца малолетних. Взаперти, должно быть, в полном отчаянии, да еще и с тяжелыми повреждениями.
Он сделал знак Холмбергу и открыл дверь.
Вонь ударила в нос.
В ноздрях защипало так, что прошибли слезы. Он закашлялся. Выудил из кармана носовой платок и прикрыл им рот и нос. Несколько раз ему приходилось помогать пожарным тушить горящие дома, и ощущения были похожими. Но здесь никакого дыма не было, только легкий пар, витающий в воздухе.
Господи боже, что это?!
Монотонный прерывистый звук по-прежнему доносился из-за ряда шкафчиков для одежды. Стаффан знаками велел Холмбергу обогнуть шкафы с другой стороны, чтобы перекрыть все входы и выходы. Дойдя до конца ряда, Стаффан заглянул за угол, держа пистолет у бедра.
Он увидел перевернутое жестяное мусорное ведро, а рядом с ним — обнаженное тело, распростертое на полу.
Холмберг выглянул с противоположной стороны и махнул Стаффану рукой, — мол, порядок; судя по всему, им сейчас и правда ничего не угрожало. Стаффан ощутил укол раздражения — теперь, когда опасность миновала, Холмберг надумал вдруг взять командование в свои руки. Стаффан выдохнул через носовой платок, отнял его ото рта и громко произнес:
— Внимание! Это полиция! Вы меня слышите?
Человек на полу не реагировал и лишь продолжал издавать этот странный монотонный звук, уткнувшись лицом в пол. Стаффан сделал пару шагов вперед.
— Поднимите руки так, чтобы я их видел.
Мужчина не двигался, но, приблизившись к нему, Стаффан увидел, что он дрожит всем телом. Вся эта канитель с поднятыми руками была ни к чему. Одной рукой он обнимал мусорную корзину, другая лежала на полу. Ладони опухли и потрескались.
Кислота… На что же он должен быть похож?
Стаффан снова поднес платок ко рту и приблизился к преступнику, одновременно убирая оружие в кобуру, — если что, Холмберг прикроет.
Тело судорожно подрагивало, и каждый раз, когда кожа соприкасалась с кафельным полом, слышалось тихое хлюпанье. Ладонь на полу билась, как рыба на суше. И этот бесконечный вой прямо в пол: «Э-э-э-и-и-и-э-э-э-и-и-и…»
Стаффан сделал знак Холмбергу, стоявшему в паре шагов, чтобы тот не приближался, и склонился над телом.
— Вы меня слышите?
Человек умолк. Тело его изогнулось в судороге, перевернувшись на спину.
Лицо.
Стаффан отшатнулся назад, потерял равновесие и грохнулся на копчик. Он еле сдержался, чтобы не закричать, когда боль отдалась в пояснице. Он закрыл глаза. Снова открыл.
У него же нет лица!
Стаффану приходилось как-то видеть наркомана, в состоянии аффекта разбившего лицо об стену. Он видел сварщика, начавшего сваривать бензобак, не слив из него бензин; бензобак взорвался прямо ему в лицо.
Но все это меркло по сравнению с представшим перед ним зрелищем.
Нос разъело до основания, на его месте зияли только дыры в черепе. Рот превратился в кровавое месиво, губы склеились, и лишь в углу виднелась кривая щель. Один глаз вытек на остатки щеки, но другой… другой был широко открыт.
Стаффан уставился в этот глаз, единственное человеческое, что узнавалось в этой бесформенной массе. Глаз был налит кровью. При каждой попытке моргнуть на зрачок опускался обрывок века и тут же снова исчезал.
Там, где полагалось быть остальному лицу, торчали хрящи и кости, выглядывавшие из-под лоскутов плоти и черных обрывков ткани. Обнаженные блестящие мышцы сокращались и разжимались, подергиваясь, будто на месте головы вдруг оказался клубок искромсанных на части угрей, бьющихся в предсмертных судорогах.
Его лицо — то, что когда-то было лицом, — жило своей жизнью.
Стаффан почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, и его бы несомненно вырвало, если бы силы организма не были сосредоточены на острой боли в позвоночнике. Он медленно подтянул ноги и встал, держась рукой за шкаф. Все это время залитый кровью глаз смотрел на него не отрываясь.
— Ах ты черт…
Холмберг стоял, опустив руки, и смотрел на изуродованное тело. Пострадало не только лицо. Кислота попала и на грудь. Кожу на одной ключице разъело так, что часть белой как мел кости торчала из кровавой каши.
Холмберг покачал головой, то поднимая, то снова опуская руку. Прокашлялся.
— Вот черт…
*
Часы показывали одиннадцать, и Оскар лежал в своей постели. Тихо постучал в стену, выстукивая буквы: Э-Л-И… Э-Л-И… Тишина.
Мальчишки из шестого «Б» стояли, выстроившись в шеренгу у входа в школу, дожидаясь учителя физкультуры Авилу. В руках у каждого был пакет или сумка со спортивной одеждой — упаси господь кого-нибудь забыть форму или прогулять урок физкультуры без уважительной причины.
Они стояли на расстоянии вытянутой руки, как физрук научил их на самом первом занятии в четвертом классе, когда ответственность за их физическое воспитание, до тех пор входившая в обязанности классной руководительницы, легла на его плечи.
— Выстроиться в шеренгу! На расстоянии вытянутой руки!
Во время войны физрук Авила был пилотом. Пару раз он развлекал мальчишек рассказами о воздушных боях и экстренных посадках на пшеничном поле. Это произвело впечатление. Физрука уважали.
Класс, считавшийся сложным и неуправляемым, послушно выстроился, мальчишки стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга, хотя физрук еще даже не появился. Все знали: если строй покажется ему недостаточно ровным, он может заставить их стоять на месте лишние десять минут или отменить обещанный волейбольный матч, заменив его подтягиванием и отжиманиями.
Оскар, как и все остальные, его побаивался. Вряд ли физрук, с его коротко стриженными седыми волосами, орлиным носом, спортивным телосложением и железными мускулами, способен был полюбить или хотя бы понять слабого, полного, забитого ученика. Но, по крайней мере, на уроках физкультуры всегда царил порядок. В присутствии учителя ни Йонни, ни Микке, ни Томас никаких вольностей себе не позволяли.
Юхан вышел из строя и бросил взгляд на школу. Затем вскинул руку в нацистском приветствии и произнес:
— Строй, смирно! Сегодня у нас пожарный подготовка! С веревкой!
Кое-кто нервно засмеялся. Физрук обожал пожарную подготовку. Один раз в четверть ученикам приходилось лезть по веревке в окно, пока учитель засекал время секундомером. Если им удавалось побить предыдущий рекорд, на следующем занятии им разрешалось поиграть в «Море волнуется раз». Но это еще нужно было заслужить.
Юхан нырнул обратно в строй — и вовремя: через пару секунд в дверях школы возник физрук и стремительным шагом направился к спортзалу. Он шел, глядя прямо перед собой, и даже не удостоил шеренгу взглядом. Пройдя полпути не замедляя шага, он махнул ученикам: «За мной!» — и даже не обернулся.
Они двинулись строем, стараясь выдерживать расстояние. Томас, шедший вслед за Оскаром, наступал ему на пятки, так что задник одного ботинка соскочил, но Оскар продолжал идти, не оборачиваясь.
После истории с розгами они оставили его в покое. Конечно, извиняться перед ним никто не стал, но, пока на его щеке алел свежий шрам, они, наверное, сочли, что этого достаточно. На время.
Эли.
Поджав пальцы, чтобы не потерять ботинок, Оскар вышагивал к спортзалу. Где же Эли? Он вчера весь вечер простоял у окна в ожидании, что она вот-вот вернется домой. Но вместо этого он увидел, как около десяти Эли вышла из дому. Потом он с мамой пил горячий шоколад с булочками и, возможно, пропустил ее возвращение. Но на стук она так и не ответила.
Класс проследовал в раздевалку, строй рассыпался. Физрук Авила дожидался их, сложив руки на груди.
— Так. Сегодня силовая подготовка. Турник, прыжки через козла, скакалка.
Общий стон. Физрук кивнул:
— Если все хорошо, если вы как следует поработать, в следующий раз мы играть в вышибалы. Но сегодня — силовая подготовка. Шагом марш!
Разговор был окончен. Приходилось довольствоваться обещанием игры в вышибалы, и класс начал торопливо переодеваться. Как всегда, прежде чем снять штаны, Оскар повернулся ко всем спиной. Трусы из-за ссыкарика сидели несколько странно.
В спортзал уже вовсю выкатывали снаряды и устанавливали штангу. Юхан и Оскар вытащили маты. Когда все снаряды оказались на своих местах, физрук дунул в свисток. Упражнений было пять, и класс поделили на пять пар.
Оскар оказался в паре со Стаффе, что не могло не радовать, поскольку он был единственным в классе, кому гимнастика давалась хуже, чем самому Оскару. Силы Стаффе, конечно, было не занимать, но гибкостью он не отличался. Он был толстым, толще Оскара. Но его при этом никто не доставал. При одном взгляде на него становилось ясно — тот, кто попробует до него докопаться, сильно об этом пожалеет.
Физрук снова свистнул, и они приступили к занятиям.
Турник. Вверх, подбородок, вниз, снова вверх. Оскар подтянулся два раза. Стаффе — пять, после чего спрыгнул с турника. Свисток. Приседания. Стаффе как ни в чем не бывало валялся на матах и смотрел в потолок. Оскар старательно делал вид, что приседает, пока не раздался новый свисток. Скакалка. С этим у Оскара было хорошо. Он принялся скакать, пока Стаффе путался в скакалке ногами. Потом были обычные отжимания. Что-что, а отжаться Стаффе мог сколько угодно раз. И наконец козел, этот чертов козел.
Вот когда Оскар в очередной раз порадовался, что оказался в одной группе со Стаффе. Он украдкой поглядел, как Микке, Джонни и Улоф с легкостью перелетают через козла, отталкиваясь от пружинящего мостика. Стаффе взял разбег, сорвался с места, оттолкнулся от мостика так, что тот затрещал, и все равно не смог запрыгнуть на козла. Он развернулся, чтобы возвратиться на исходную, но тут подошел физрук.
— Надо запрыгнуть!
— Я не могу.
— Не можешь прыгать — пользи.
— Что?
— Пользи. Пол-зи. Залезай!
Стаффе обхватил руками козла, залез на него и, как пьяный, сполз с другого конца. Физрук махнул рукой: давай! — и Оскар побежал.
Пробежав несколько шагов, Оскар внезапно принял решение: он попробует.
Физрук когда-то объяснял ему, что главное — не бояться препятствия. Обычно Оскар слишком слабо отталкивался, боясь потерять равновесие или удариться о снаряд. Но на этот раз он решил прыгнуть в полную силу, представив, что ему все по плечу. Физрук не сводил с него глаз, и Оскар что есть мочи побежал к мостику.
Он даже не заметил момент прыжка, думая лишь о том, как бы перескочить через козла. Впервые он по-настоящему оттолкнулся от мостика, не притормаживая, и тело само взмыло в воздух, руки взметнулись вперед, нашли опору и вытолкнули тело на другую сторону. Он перелетел через козла с такой скоростью, что потерял равновесие и покатился кубарем. Но у него получилось!
Оскар обернулся и посмотрел на физрука. Тот хоть и не улыбнулся, но одобрительно кивнул:
— Молодец, Оскар. Только держи равновесие.
Физрук свистнул, объявляя передышку перед новой попыткой. На второй раз Оскару удалось не только перепрыгнуть через козла, но и удержаться на ногах.
Очередной свисток возвестил конец урока, и, пока убирали снаряды, физрук удалился в свой кабинет. Оскар разблокировал колеса козла, закатил его в комнату для инвентаря, похлопав по боку, как послушную лошадь, которую наконец-то смог укротить. Задвинув снаряд на место, Оскар направился к раздевалке. Ему нужно было поговорить с физруком.
Однако не успел он дойти до двери, как ему пришлось остановиться. Петля из сложенной вдвое скакалки скользнула по плечам и натянулась на животе. Кто-то его держал. За спиной он услышал голос Йонни:
— Но, Поросеночек!
Оскар развернулся на сто восемьдесят градусов, так что скакалка оказалась на пояснице. Йонни стоял прямо перед ним, держа в руках ее концы. Он подергал их, как вожжи, причмокнул:
— Но! Пошел!
Оскар обеими руками ухватился за скакалку и дернул так, что Йонни выпустил ручки. Скакалка со стуком упала на пол за спиной Оскара. Йонни указал на нее:
— А теперь подними.
Оскар взялся за середину скакалки, раскрутил ее над головой так, что ручки застучали друг об друга, крикнул: «Лови!» — и отпустил. Скакалка со свистом рассекла воздух, и Йонни инстинктивно поднял руки, загораживая лицо. Она пролетела над его головой и повисла на шведской стенке.
Оскар вышел из спортзала и сбежал вниз по лестнице. Сердце стучало в ушах. Началось! Он перепрыгнул сразу через три ступеньки, приземлился на лестничную площадку, пересек раздевалку и вошел в кабинет физрука.
Физрук сидел в своем спортивном костюме и разговаривал по телефону на каком-то иностранном языке, — наверное, на испанском. Единственное, что Оскару удалось понять — это слово «perro», что, как он знал, означало «собака». Физрук знаком предложил ему сесть. Пока учитель говорил, несколько раз повторяя слово «perro», Оскар услышал, как Йонни вошел в раздевалку и начал что-то возбужденно обсуждать с друзьями.
К тому времени, как физрук наговорился про свою собаку, раздевалка уже опустела. Он повернулся к Оскару:
— Ну, Оскар. Ты что хотел?
— Я только хотел спросить… тренировки по четвергам…
— Да?
— Можно я тоже буду на них ходить?
— Силовая подготовка в бассейне?
— Да. Мне нужно записаться?
— Не надо записываться. Просто приходи. Четверг, семь часов. Хочешь качаться?
— Да, я… да.
— Хорошо. Занимайся. Научишься подтягиваться… пятьдесят раз!
Физрук изобразил в воздухе подтягивание. Оскар покачал головой:
— Да нет. Но… я приду.
— Тогда до четверга. Хорошо.
Оскар кивнул и хотел уже уйти, но вместо этого спросил:
— Как там ваша собака?
— Собака?
— Да, я слышал, вы говорили «perro». Разве это не «собака»?
Физрук на секунду задумался.
— А! не «perro». «Pero». Это значит «но». Например: «но не я». Это будет «pero yo no». Понимаешь? Ты и испанский тоже хочешь учить?
Оскар с улыбкой покачал головой, объяснив, что пока с него хватит и тренировок.
Раздевалка была пуста, не считая его одежды. Оскар снял спортивные трусы и застыл. Брюк не было. Ну конечно! Как он сразу не догадался? Он поискал в раздевалке, в туалете. Брюки исчезли.
По дороге домой ноги кусал мороз. Пока они занимались физкультурой, пошел снег. Падающие снежинки таяли на его голых ногах. Во дворе он остановился под окнами Эли. Жалюзи были опущены. Внутри не было никакого движения. Крупные снежинки ласкали его запрокинутое лицо. Он поймал одну на язык. Она оказалась приятной на вкус.
*
— Глянь-ка на Рагнара.
Холмберг указал на площадь, где снег успел запорошить круговую каменную мостовую. Один из местных алкашей неподвижно сидел на скамейке, укутавшись в широкое пальто, напоминая плохо слепленного снеговика. Холмберг вздохнул:
— Придется его проведать, если скоро не пошевелится. Как ты?
— Да так себе.
Стаффан подложил еще одну подушку на служебный стул, чтобы унять боль в копчике. Он бы предпочел постоять или, куда лучше, полежать в собственной постели, но рапорт о вчерашних событиях следовало сдать в отдел по расследованию особо тяжких преступлений до выходных.
Холмберг заглянул в свою записную книжку и постучал по ней ручкой.
— Та троица из раздевалки… Они сказали, что убийца, прежде чем облить себя кислотой, крикнул: «Эли! Эли!» — и я подумал…
Сердце Стаффана екнуло, и он всем телом подался вперед.
— Что, прям так и крикнул?
— Да. Ты что, знаешь, что это?
— Да.
Стаффан откинулся на спинку стула, и боль острой иглой пронзила все тело до самых кончиков волос. Он схватился за край стола, выпрямился и провел рукой по лицу. Холмберг не сводил с него глаз.
— Ты хоть врачу показывался?
— Да ну, пройдет… Эли, Эли.
— Это что, имя?
Стаффан медленно кивнул:
— Да. Оно означает Господь.
— То есть, он обращался к Богу? И как, думаешь, Тот его услышал?
— Что?
— Ну, Бог — думаешь, услышал? Учитывая обстоятельства, это кажется несколько… неправдоподобным. Но ты у нас в таких вещах лучше разбираешься. М-да.
— Это последние слова, произнесенные Христом на кресте. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» — «Eli, Eli, lama sabachthani?»
Холмберг моргнул и уставился в свои записи.
— Ясно.
— Евангелие от Матфея и Марка. Холмберг кивнул, пососал ручку.
— Это надо включать в рапорт?
*
Придя домой из школы, Оскар надел новые брюки и пошел к «секс-шопу» за газетой. Поговаривали, что убийцу удалось поймать, и ему не терпелось узнать все подробности. А также вырезать статью и сохранить ее в альбоме.
По пути к киоску он чувствовал себя странно: что-то было не так, как всегда, не считая снега.
Возвращаясь домой с газетой, он понял, в чем дело. Он больше не озирался. Просто шел. За всю дорогу ему даже не пришло в голову оглянуться по сторонам в поисках возможных преследователей.
Оскар побежал. Он бежал до самого дома, зажав газету в руке, а снежинки целовали его лицо. Он запер за собой входную дверь, подошел к кровати, улегся на живот и постучал в стену. Тишина. Ему хотелось поговорить с Эли, все ей рассказать…
Он раскрыл газету. Бассейн Веллингбю. Полицейские машины. «Скорая помощь». Попытка убийства. Характер телесных повреждений подозреваемого затрудняет опознание. Фотография больницы Дандерюд, где содержится подозреваемый. Краткая информация о ранее совершенном преступлении. Комментарии отсутствуют.
И дальше — подводная лодка, подводная лодка, подводная лодка. Состояние усиленной готовности.
Звонок в дверь.
Оскар спрыгнул с кровати и быстро вышел в коридор.
Эли, Эли, Эли.
Протянув руку к замку, он вдруг заколебался. А если это Йонни и компания? Нет, они бы не посмели вот так взять и заявиться к нему домой. Он открыл дверь. На пороге стоял Юхан.
— Здорово.
— Ну… здорово.
— Не хочешь что-нибудь поделать?
— Можно… А что?
— Не знаю. Что-нибудь.
— Ну давай.
Оскар натянул ботинки и куртку, пока Юхан поджидал его на лестнице.
— Йонни на тебя сильно разозлился. Ну там, в спортзале.
— Это он взял мои штаны, да?
— Ага. Я знаю, где они.
— И где?
— Там, у бассейна. Я покажу.
Оскар подумал, что в таком случае Юхан мог бы их и принести, но ничего не сказал. На это рассчитывать не приходилось. Оскар кивнул и ответил:
— Хорошо.
Они дошли до бассейна и подобрали брюки, висевшие на кусте. Потом погуляли. Немного полепили снежков, покидали ими в деревья на меткость. Нашли на помойке кабель, куски которого годились для рогатки. Поговорили о маньяке, о подводной лодке, а также о Йонни, Микке и Томасе, которых Юхан, как выяснилось, считал придурками.
— Во дебилы…
— Тебя же они вроде не трогают?
— Меня нет. Все равно.
Они дошли до палатки с хот-догами у метро и купили себе по две «пустышки» по кроне штука — жареный хлеб из-под хот-дога с горчицей, кетчупом, соусом для гамбургеров и сырым луком. Начинало темнеть. Юхан трепался с продавщицей в окошке, а Оскар смотрел на приходящие и уходящие поезда метро, представляя себе множество электролиний, протянутых над рельсами.
Со жгучим привкусом лука во рту они направились к школе, где их пути расходились. Оскар спросил:
— Как думаешь, кто-нибудь кончает жизнь самоубийством, прыгнув на провода?
— Не знаю. Наверно. Мой брат знал одного, кто нассал на контактный рельс.
— И что с ним стало?
— Умер. Ударило током через струю.
— В смысле? Он что, хотел умереть?
— Да не. Пьяный был. Во, блин, ты только представь…
Юхан изобразил, как тот расстегивает ширинку и мочится и вдруг начинает трястись что есть силы. Оскар засмеялся.
Возле школы они разошлись в разные стороны, помахав друг другу на прощание. Оскар пошел домой, завязав найденные штаны на поясе и насвистывая мотивчик из сериала «Даллас». Снег прекратился, но, куда ни глянь, повсюду раскинулось белое покрывало. В больших матовых стеклах здания малого бассейна горел свет. В четверг он туда пойдет. Начнет качаться. Станет сильнее.
*
Вечер пятницы у китаезы. Круглые часы в стальном корпусе на стене, несколько неуместные среди бумажных фонариков и золотых драконов, показывают без пяти девять. Мужики сидят, потягивая свое пиво и погрузившись в пейзаж на салфетках под приборами. За окном продолжает падать снег.
Виржиния чуть помешивает свой «Сан-Франциско», задумчиво покусывая коктейльную палочку, увенчанную фигуркой Джонни Уокера.
Да кто такой этот Джонни Уокер? Куда он идет?
Она постучала палочкой о край бокала, и Морган поднял голову.
— Ты что, решила толкнуть речь?
— Ну кто-то же должен.
Они ей пересказали все, что узнали от Гёсты про Юкке, мост и ребенка, после чего вся компания погрузилась в молчание. Виржиния звякнула кубиками льда в бокале и полюбовалась на тусклый свет лампы, отражавшийся в полурастаявших льдинках.
— Я одного не понимаю. Если Гёста сказал правду и все произошло именно так — где же он? В смысле, Юкке.
Карлссон просиял, будто долго дожидался этого вопроса.
— Вот и я о том же. Где труп? Если мы…
Морган поднял указательный палец перед самым лицом Карлссона.
— Не смей называть Юкке трупом!
— А как же его, по-твоему, называть? Усопший?
— Никак не называй, пока мы не узнаем, что произошло на самом деле.
— Так а я о чем толкую? Пока у нас нет тру… пока они ничего… пока они его не нашли, мы не можем…
— Кто это «они»?
— А сам-то как думаешь? Вертолетное подразделение в Берге? Полиция, конечно!
Ларри потер глаза и негромко хмыкнул.
— Тут вот какая проблема. Пока его не нашли, никому до него дела нет, а раз никому дела нет, то искать его никто не будет.
Виржиния покачала головой.
— Нам нужно пойти в полицию и рассказать все как есть.
— Ага, и что именно ты предлагаешь им сказать? — усмехнулся Морган. — «Послушайте, забейте вы на своих маньяков, подводные лодки и прочие дела, мы — трое неунывающих алкашей, один из наших собутыльников пропал, а другой собутыльник рассказал, что как-то вечером, выпив как следует, он увидел…» Так, да?
— Ну а Гёста? Он же своими глазами видел, это же он…
— Да-да. Все правильно. Но у него же совсем крыша поехала — ему только покажи полицейскую форму, он в обморок грохнется. Он такое не потянет. Допросы там всякие. — Морган пожал плечами. — Ничего не выйдет.
— И что, вы просто оставите все как есть?
— А ты что предлагаешь?
Лакке, успевший за время разговора опустошить свою кружку пива, что-то пробормотал себе под нос. Виржиния наклонилась к нему, положив голову ему на плечо:
— Что ты сказал?
Уставившись в нарисованный туманный пейзаж на пластиковой салфетке под тарелкой, Лакке прошептал:
— Вы же обещали. Что мы его поймаем.
Морган стукнул по столу так, что кружки подскочили, и поднял руку, смахивавшую на клешню.
— И поймаем. Надо только для начала найти какую-то зацепку.
Лакке кивнул, как сомнамбула, и попытался встать.
— Мне надо…
Ноги его подкосились, и он упал плашмя на стол, сопровождаемый звоном падающих кружек, так что все восемь посетителей ресторана повернули головы в их сторону. Виржиния схватила Лакке за плечи и усадила его обратно на стул. Глаза Лакке были пусты.
— Извините, я…
Официант подскочил к их столу, нервно вытирая руки о передник. Он наклонился к Лакке и Виржинии и злобно прошипел:
— Это ресторан, а не свинарник!
Виржиния улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой, помогая Лакке встать.
— Давай, Лакке. Пойдем ко мне.
С укором взглянув на остальных, официант быстро подхватил Лакке под руку, всячески демонстрируя гостям, что не меньше их заинтересован как можно скорее выдворить этого возмутителя порядка.
Виржиния помогла Лакке надеть его тяжелое, по-старомодному элегантное пальто — наследство от отца, умершего пару лет назад, — и потащила к двери, закинув его руку себе на шею.
Морган и Карлссон за ее спиной многозначительно присвистнули. Придерживая Лакке, Виржиния обернулась и показала им язык. Затем она потянула входную дверь на себя, и они с Лакке вышли.
Крупные снежинки медленно падали на землю, заключив их в кокон холода и тишины. Щеки Виржинии пылали, пока она вела Лакке по улице. Так было лучше.
*
— Здравствуйте, мы с папой договорились встретиться, а он не пришел… Можно мне от вас позвонить?
— Конечно!
— Можно войти?
— Телефон там.
Женщина указала вглубь коридора: на маленьком столике стоял серый телефон. Эли по-прежнему топталась на пороге, дожидаясь нужных слов. У дверей стоял чугунный ежик с иголками из щетины. Эли почистила об него ботинки, скрывая замешательство — войти без приглашения она не могла.
— Правда можно?
— Да! Входи, входи!
Хозяйка квартиры устало махнула рукой; Эли получила долгожданное приглашение. Женщина тут же потеряла к ней интерес и удалилась в гостиную, откуда доносился гул телевизора. В седеющие волосы были вплетены две желтые ленты; одна была завязана в большой бант, другая расплелась и змейкой вилась по спине.
Эли прошла в коридор, сняла ботинки и куртку, взяла телефон. Набрала случайный номер, сделала вид, что с кем-то разговаривает, положила трубку.
Втянула носом воздух. Запах еды, чистящих средств, земли, крема для обуви, зимних яблок, влажной ткани, электричества, пыли, пота, обойного клея и… кошачьей мочи.
Да. Угольно-черный кот стоял в дверях кухни, издавая утробное рычание. Уши его были прижаты назад, шерсть дыбом, спина выгнута дугой. На шее у него была повязана красная ленточка с маленьким металлическим цилиндром, куда, наверное, полагалось класть бумажку с адресом.
Эли сделала шаг навстречу коту, и тот зашипел, оскалив зубы. Тело его напряглось, готовясь к прыжку. Еще шаг.
Кот отступил, с шипением пятясь назад и не спуская глаз с Эли. Ненависть сотрясала его, цилиндр на шее подрагивал. Они оценивающе смотрели друг друга. Эли медленно двигалась вперед, заставляя кота отступать все дальше, и, когда тот оказался в кухне, захлопнула за ним дверь. Кот продолжал яростно орать по ту сторону двери. Эли вошла в гостиную.
Хозяйка квартиры сидела на кожаном диване, протертом до такого лоска, что на нем играли блики от телевизора. Она сидела с прямой спиной и внимательно смотрела на мерцающий голубой экран. На столике перед ней стояло блюдечко с крекерами и тарелка с тремя сортами сыра. Непочатая бутылка вина и два бокала.
Женщина была так поглощена происходящим на экране, что, казалось, даже не заметила появления Эли. Передача была про животных. Пингвины на Южном полюсе.
«Самец пингвина держит яйцо на лапах, чтобы уберечь его от контакта со льдом».
Цепочка пингвинов вперевалку брела по ледовым просторам. Эли села на диван рядом с женщиной. Та сидела по струнке, будто перед ней был не телевизор, а строгий учитель, отчитывающий ее за проступки.
«Когда самка возвращается после трехмесячного отсутствия, жировые запасы самца практически истощены».
Два пингвина потерлись друг об друга клювами в знак приветствия.
— Вы кого-нибудь ждете?
Женщина вздрогнула и несколько секунд недоуменно смотрела Эли в глаза. Желтый бант лишь подчеркивал невыразительность ее лица. Она коротко покачала головой:
— Да нет, угощайся.
Эли не шевелилась. Картинка в телевизоре сменилась панорамой Южной Георгии, сопровождаемой музыкой. В воплях кота на кухне теперь слышалась мольба. В комнате стоял запах химии. От женщины пахло больницей.
— К вам кто-то должен прийти?
Женщина снова дернулась, словно пробуждаясь ото сна, повернулась к Эли. На этот раз в лице ее сквозило раздражение — между бровей пролегла глубокая морщина.
— Нет. Никто не придет. Ешь, если хочешь. — Она ткнула твердым указательным пальцем в сыры, перечисляя их по очереди: — Камамбер, горгонзола, рокфор. Ешь, ешь.
Она выжидающе посмотрела на Эли, и та взяла крекер, сунула его в рот и медленно принялась жевать. Женщина кивнула и снова повернула голову к экрану. Эли сплюнула липкую массу в кулак и незаметно стряхнула на пол за диваном.
— Ты когда уйдешь? — спросила женщина.
— Скоро.
— Сиди сколько хочешь. Ты мне не мешаешь.
Эли пододвинулась ближе, словно устраиваясь поудобнее перед телевизором, так что их плечи соприкоснулись. С женщиной что-то произошло. Она вздрогнула и обмякла, сдулась, как проколотая пачка кофе. На этот раз, когда она посмотрела на Эли, взгляд ее был мягким и мечтательным.
— Кто ты?
Глаза Эли находились в сантиметрах двадцати от ее глаз. Изо рта женщины струился больничный запах.
— Я не знаю.
Женщина кивнула, протянула руку к пульту на столе и выключила звук.
«Весной Южная Георгия расцветает суровой красотой…»
Теперь кошачий плач доносился со всей отчетливостью, но женщина не обращала на это внимания. Она указала на колени Эли:
— Можно?
— Конечно.
Эли чуть отодвинулась от женщины, и та поджала под себя ноги и положила голову ей на ноги. Эли принялась медленно гладить ее по голове. Они так посидели какое-то время. Блестящие спины китов взрезали морскую гладь, пуская фонтаны воды, и снова исчезали.
— Расскажи мне что-нибудь, — попросила женщина.
— Что?
— Что-нибудь красивое.
Эли погладила прядь волос у нее за ухом. Женщина дышала спокойно, тело было расслаблено. Эли тихо начала:
— Однажды давным-давно жили-были бедный крестьянин и его жена. У них было трое детей. Двое старших — мальчик и девочка — были достаточно взрослыми, чтобы работать. А младшему сыну было одиннадцать лет. Каждый, кто встречал его, утверждал, что это самый красивый ребенок из всех, кого им приходилось видеть. Его отцу приходилось много работать на господина, которому принадлежала земля. Поэтому все обязанности по дому и саду ложились на мать и старших детей. Младший мало на что годился. Однажды господин объявил состязание, в котором обязал участвовать все проживавшие на его земле семьи с сыновьями от восьми до двенадцати лет. Ни награды, ни призов обещано не было. И все же это называлось состязанием. В назначенный день мать повела младшего сына в замок. Они были не одни. Еще семеро детей в сопровождении одного или обоих родителей уже собрались на господнем дворе. Потом подошли еще трое. Все это были семьи бедняков, но дети были наряжены в свою самую лучшую одежду. Целый день прождали они во дворе замка. В сумерках из замка вышел человек и велел им войти.
Эли прислушалась к дыханию женщины, глубокому и спокойному. Она чувствовала ее теплое дыхание на своем колене. Возле самого уха, под дряблой морщинистой кожей, Эли разглядела пульсирующую жилку.
Кот умолк.
По телевизору шли титры передачи про животных. Эли приложила палец к жилке на шее женщины — она билась, как птичье сердечко.
Эли откинулась на спинку дивана, осторожно поправила голову женщины на коленях. Резкий запах рокфора забивал все остальные запахи. Эли взяла со спинки дивана покрывало и накрыла им тарелку с сырами.
Раздавалось тихое посвистывание — дыхание женщины. Эли наклонилась, прижалась носом к жилке на шее. Мыло, пот, запах стареющей кожи… тот больничный запах… и какой-то еще, ее собственный. А сквозь все эти запахи чувствовалась кровь.
Когда нос Эли коснулся ее шеи, женщина жалобно застонала, попыталась повернуть голову, но Эли одной рукой обхватила ее за грудь, зажав руки, а другой зафиксировала ее голову. Как можно шире раскрыв рот, она приложила губы к шее, нащупав вену языком, и сомкнула челюсти.
Женщина дернулась, будто от удара тока. Спина выгнулась, ноги со всей силы оттолкнулись от подлокотника, так что голова уехала вперед, а поперек коленей Эли оказалась поясница.
Кровь толчками брызгала из вскрытой артерии, заливая коричневую кожу дивана. Женщина орала и махала руками, стянув покрывало со стола. Запах сыра с плесенью ударил Эли в нос, когда она набросилась на женщину, прижалась ртом к ее шее и начала пить жадными глотками. От крика звенело в ушах, и Эли высвободила руку, чтобы заткнуть женщине рот.
Ей удалось приглушить крик, но женщина нашарила на журнальном столике пульт от телевизора и ударила им Эли по голове. Пластмассовый корпус разлетелся на куски, включился телевизор.
Мотив «Далласа» наполнил комнату, и Эли подняла голову.
У крови был привкус какого-то лекарства. Морфий.
Женщина смотрела на Эли широко открытыми глазами. Теперь Эли различала еще один запах. Гнилой дух, смешивающийся с запахом сыра с плесенью.
Рак. У женщины был рак.
Живот свело от отвращения, и Эли пришлось разжать руки и сесть, чтобы ее не вырвало.
Камера пролетала над ранчо Саутфорк, музыка достигла крещендо. Женщина больше не кричала, а просто неподвижно лежала на спине, пока кровь била тоненькими фонтанчиками, затекая под диванные подушки. Глаза ее были влажными и пустыми, когда она поймала взгляд Эли и прошептала:
— Пожалуйста, пожалуйста…
Эли сглотнула, подавляя рвотный рефлекс, склонилась над женщиной.
— Что?
— Пожалуйста…
— Да, да, что мне сделать?
— …пожалуйста… ты… пожалуйста…
Мгновение спустя глаза женщины преобразились, застыли. Взгляд стал невидящим. Эли закрыла ей веки. Они снова открылись. Эли подняла с пола покрывало, накрыла им лицо женщины и села на диване, выпрямив спину.
Кровь годилась для пропитания, несмотря на вкус, но вот морфий…
На экране телевизора появился небоскреб с зеркальными окнами. Мужчина в костюме и ковбойской шляпе вышел из машины и направился к небоскребу. Эли попыталась встать с дивана, но не смогла. Небоскреб начал крениться, вращаться. В зеркальных стеклах отражались облака, плывущие по небу в замедленном темпе, принимая форму животных и растений.
Эли засмеялась, когда мужчина в ковбойской шляпе сел за стол и заговорил по-английски. Она понимала, что он говорит, но все это казалось ей бессмыслицей. Эли огляделась по сторонам. Вся комната накренилась, так что непонятно было, почему телевизор не падает. Речь ковбоя эхом отдавалась в голове. Эли поискала пульт, но Нашла только осколки пластмассы под столом.
Как бы его заткнуть!
Эли опустилась на пол, подползла к телевизору, чувствуя, как морфий растекается по телу, засмеялась при виде фигур, расплывающихся в бесформенные цветные пятна. Силы ее были на исходе. Она рухнула на пол перед телевизором, а цветные пятна все плыли перед глазами.
*
Несмотря на поздний час, несколько подростков все еще катались на снегокатах с горы между Бьёрнсонсгатан и небольшой лужайкой перед парком. Ее почему-то называли Гора смерти. Три тени одновременно тронулись со склона, затем послышалась громкая ругань одного из подростков, съехавшего в кусты, и смех двух других, мчавшихся с горы, пока, подскочив на колдобине, они с шумом и смехом не полетели на землю.
Лакке остановился, посмотрел себе под ноги. Виржиния осторожно потянула его за собой:
— Ну пошли, Лакке.
— Черт, как же тяжело…
— Мне тебя не дотащить, так и знай.
Лакке фыркнул, что, видимо, означало смешок, и закашлялся. Он отпустил плечо Виржинии и теперь стоял, безвольно опустив руки и глядя на горку.
— Блин, вон тут пацаны с горки катаются, а там… — он махнул рукой в сторону моста у подножия пригорка, — там Юкке убили.
— Не думай сейчас об этом.
— Да как не думать? Может, кто-нибудь из них его и прикончил?
— Вряд ли.
Она взяла его за руку, намереваясь снова положить ее себе на плечо, но Лакке отодвинулся.
— Не надо, я сам.
Он сделал несколько осторожных шагов по аллее парка. Снег похрустывал под его ногами. Виржиния стояла не двигаясь и смотрела на него. Вот он, мужчина, которого она любит, но с которым никогда не сможет жить.
Она пыталась.
Лет восемь тому назад, когда дочь Виржинии нашла себе квартиру, Лакке поселился у нее. Виржиния тогда все так же работала продавщицей в универсаме на Арвид Мернес Вэг, возле Китайского парка. Жила она в двухкомнатной квартире с кухней, на той же улице, в трех минутах от работы.
За те четыре месяца, что они прожили вместе, Виржиния так и не поняла, чем же Лакке занимается. Он немного разбирался в электричестве, установил диммер на лампу в гостиной. Немного готовил — пару раз устраивал ей потрясающий ужин из всевозможных рыбных блюд. Но чем он занимался?
Он сидел дома, ходил гулять, общался с приятелями, читал довольно много книг и газет. И все. Виржинии, начавшей работать еще в школе, такой образ жизни был непонятен. Она как-то спросила:
— Слушай, Лакке, не хочу, конечно, вмешиваться… но чем ты вообще занимаешься? Откуда у тебя деньги?
— А у меня их нет.
— Ну, немного все-таки есть.
— Это же Швеция. Вынеси стул, поставь на тротуар, сядь и жди. Стоит набраться терпения, как к тебе непременно кто-то подойдет и даст денег. Ну или как-нибудь о тебе позаботится.
— Ты и ко мне так относишься?
— Виржиния. Только скажи: «Лакке, уходи», и я уйду.
Прошел еще месяц, прежде чем она это сказала. Он запихнул в одну сумку одежду, в другую книги — и был таков. После этого они не виделись полгода. За это время она стала больше пить, уже в одиночку.
Когда она снова увидела Лакке, он изменился. Погрустнел. Эти полгода он жил в доме своего отца, угасавшего от рака где-то в Смоланде. Когда отец умер, Лакке с сестрой унаследовали дом, продали его и поделили деньги поровну. Лакке хватило своей доли на собственную квартиру со скромной квартплатой в Блакеберге, и он вернулся навсегда.
На протяжении последующих лет они все чаще виделись в китайском ресторане, куда Виржиния стала заглядывать через день. Иногда они уходили вместе, шли к ней домой, тихо занимались любовью, и, по молчаливому обоюдному согласию, когда Виржиния возвращалась с работы на следующий день, Лакке уже не было. Их союз был лишен каких-либо обязательств — иногда проходило два-три месяца, прежде чем они снова делили постель, и обоих это полностью устраивало.
Они прошли мимо универсама «ИКА» с рекламой дешевого фарша и лозунгами вроде «Ешь, пей и радуйся жизни». Лакке остановился, дожидаясь Виржинии. Когда она поравнялась с ним, он предложил ей руку. Она взяла его под его локоть. Лакке махнул в сторону магазина:
— Как дела на работе?
— Как обычно. — Виржиния остановилась, кивнула: — Вон, смотри, это я сделала!
Перед ними стоял рекламный щит с надписью: «Измельченные томаты. Три банки — 5 крон».
— Красиво.
— Правда?
— Да. Сразу захотелось измельченных томатов.
Она легонько подтолкнула его в бок. Почувствовала локтем выпирающие ребра.
— Ты хоть вкус еды вообще помнишь?
— Слушай, тебе не надо обо мне…
— Я знаю. Но все равно буду.
*
«Э-э-э-л-и-и… Э-э-э-л-и-и…»
Голос из телевизора казался знакомым. Эли попыталась отползти от экрана, но тело не слушалось. Только руки скользили по полу в поисках какой-нибудь опоры, как в замедленной съемке. Она нащупала провод. Стиснула его в кулаке, будто спасательную веревку, протянутую сквозь туннель с телевизором в конце. Из телевизора к ней кто-то обращался:
«Эли… где ты?»
Голова налилась такой тяжестью, что Эли не хватало сил ее поднять. Она нашла взглядом экран и, конечно же, увидела… Его.
На плечах, облаченных в парчовый камзол, лежали светлые локоны белокурого парика из настоящих волос. В их обрамлении и без того женственное лицо казалось еще уже. Тонкие накрашенные губы растянулись в улыбке, раной зиявшей на напудренном лице.
Эли удалось чуть приподнять голову и разглядеть Его лицо целиком. Голубые, по-детски большие глаза, а над бровями… Воздух толчками выходил из ее легких, голова бессильно упала на пол, так что в носу что-то хрустнуло. Смешно. На голове у Него красовалась ковбойская шляпа.
«Э-э-э-л-и-и…»
Другие голоса Детские. Эли снова подняла голову. Шея дрожала от напряжения, как у младенца. Капли отравленной крови стекали из носа прямо в рот. Человек на экране раскинул руки в приветственном жесте, обнажив красную подкладку камзола. Подкладка колыхалась, шевелилась. Она состояла из детских губ. Сотен детских губ, искаженных болью, пытающихся рассказать свою историю, историю Эли.
«Эли… пора домой…»
Эли всхлипнула, зажмурилась, ожидая, что холодная рука вот-вот ухватит ее за шкирку. Ничего не произошло. Она снова открыла глаза. Картинка сменилась. Теперь цепочка бедно одетых детей брела по заснеженным просторам к ледяному замку на горизонте.
Этого не может быть.
Эли плюнула кровью в телевизор. Красные капли брызнули на белый снег, стекая с ледяного замка.
Это не взаправду.
Эли рванула спасательную веревку, пытаясь выкарабкаться из туннеля. Послышался щелчок, вилка выскочила из розетки, и телевизор погас. Вязкие струйки кровавой слюны стекали по темному экрану, капая на пол. Эли уронила голову на руки и погрузилась в темно-красный водоворот.
*
Виржиния на скорую руку состряпала рагу из мяса, лука и помидоров, пока Лакке неспешно принимал душ. Когда все было готово, она вошла к нему. Он сидел в ванне, повесив голову, а на шее у него болтался шланг от душа. Позвонки — как теннисные шарики под кожей.
— Лакке? Еда готова.
— Ага. Хорошо. Долго я тут?..
— Да нет. Но мне уже звонили с гидростанции, сказали, что грунтовые воды скоро иссякнут.
— Что?
— Ладно, пошли.
Она сдернула с крючка свой халат, протянула ему. Он встал, опершись руками о края ванной. Виржиния аж вздрогнула при виде его истощенного тела. Заметив это, Лакке произнес:
— И ступил он из ванной, богам подобный, и вид его ласкал глаз.
Они поужинали, распили бутылку на двоих. Поел Лакке не то чтобы очень, но хоть так. Они распили еще бутылочку в гостиной и пошли спать. Немного полежали рядом, глядя друг другу в глаза.
— Я перестала пить противозачаточные.
— Ясно… Ну, можем и не…
— Да я не к тому. Просто теперь это незачем. У меня больше нет месячных.
Лакке кивнул. Подумал. Погладил ее по щеке.
— Расстроилась?
Виржиния улыбнулась.
— Ты единственный мужик из всех, кого я знаю, кому могло прийти в голову такое спросить. Ну да, немножко. Как будто это и делало меня женщиной. А теперь все кончилось.
— Мм. Ну, для меня не кончилось.
— Правда?
— Да.
— Ну тогда иди сюда.
Он послушался.
*
Гуннар Холмберг шел по снегу, волоча ноги, чтобы не оставить неопознанных следов, способных осложнить работу криминалистов. Затем он остановился и посмотрел на след, тянувшийся от дома. Отсветы костра окрашивали снег в рыжий цвет, а от жара на лбу выступили капли пота.
Холмбергу неоднократно приходилось выслушивать насмешки коллег из-за своего — пускай наивного — убеждения, что современная молодежь по натуре своей добра. Именно эту веру он всячески пытался оправдать, охотно разъезжая по школам и ведя продолжительные разговоры с «трудными» подростками. Поэтому то, что он увидел, наводило Холмберга на печальные размышления.
Следы на снегу были оставлены маленькой ногой. Даже не ногой подростка, нет — это был след детских ботинок. Маленькие, аккуратные отпечатки на приличном расстоянии друг от друга. Оставивший их ребенок бежал. Причем быстро.
Краем глаза Холмберг заметил, что к нему направляется стажер Ларссон.
— Ноги надо волочить, черт тебя подери!
— Ой, извините.
Волоча ноги, Ларссон подошел к нему и встал рядом. У стажера были большие выпученные глаза, полные непрестанного удивления, которое в данную минуту было обращено на следы в снегу.
— Вот черт!
— Метко сказано. Это ребенок.
— Но этого же… не может быть… — Ларссон проследил взглядом за следом. — Это же натуральный тройной прыжок!
— Да, ширина шага приличная.
— Да какое там «приличная»! Это же… с ума сойти можно! Так не бывает.
— Ты о чем?
— Я занимаюсь бегом и все равно бы так не сумел… Максимум двойным. И чтобы так всю дорогу?!
Между вилл показался Стаффан. Он бегом преодолел оставшееся расстояние и протиснулся сквозь толпу зевак, собравшихся возле дома, туда, где стояла группа людей, наблюдавших за санитарами «скорой помощи», которые загружали в машину труп женщины, укрытый голубой простыней.
— Ну как? — спросил Холмберг.
— Непонятно. Убийца добежал до Бэллставеген, а дальше след пропал. Тут машины ездят, надо бы с собаками.
Холмберг кивнул, прислушиваясь к разговору рядом. Один из соседей, ставший частичным свидетелем происшедшего, пересказывал увиденное следователю.
— Сначала я смотрю — фейерверк, что ли. Потом вижу — руки… руками, значит, машет. А потом выпрыгивает из окна, просто берет и выпрыгивает.
— То есть окно было открыто?
— Открыто, да. И тут она вываливается… А дом-то горит. Я только тогда и разглядел, что весь дом изнутри полыхает. А тут она… Господи помилуй! Вся горит, вся. И идет…
— Простите, идет? Не бежит?
— Нет… В том-то и дело, что она шла. Идет и машет руками, как… не знаю что. И вдруг останавливается. Понимаете? Встала и стоит. Горит, как факел. И стоит столбом. По сторонам смотрит. Как… как ни в чем не бывало. Постояла и опять пошла. А потом — раз — и все, понимаете? Ни паники, ничего, просто… ох ты боже мой… Даже не кричала! Ни звука. Вот так вот рухнула — и все. На колени. А потом — бух в снег. И главное… ох, не знаю даже… все это так странно было. Ну, я того, побежал, схватил одеяла, две штуки, выскочил, начал тушить. Ох ты боже мой, видели бы вы ее… Господи ты боже мой!
Мужик поднес перемазанные в саже руки к лицу и зарыдал в голос. Следователь положил руку ему на плечо.
— Давайте составим официальную версию происшествия завтра. Но скажите — вы не видели, чтобы кто-то еще покидал здание?
Мужик покачал головой, и следователь что-то записал в блокнот.
— Что ж, я завтра с вами свяжусь. Хотите, я попрошу санитаров дать вам успокоительного, чтобы вы смогли уснуть, пока они не уехали?
Мужик вытер слезы с глаз, размазывая сажу по лицу.
— Не нужно. Я… у меня дома есть, держу на всякий случай.
Гуннар Холмберг повернулся к горящему дому. Усилия пожарных принесли плоды, и огонь почти погас. Лишь огромное облако дыма поднималось к ночному небу.
*
Пока Виржиния согревала Лакке в своих объятиях, пока криминалисты делали слепки следов на снегу, Оскар стоял у своего окна и смотрел во двор. Кусты под окнами запорошило снегом, и белый сугроб выглядел таким основательным, что хоть на санках съезжай.
Эли сегодня так и не появилась.
Оскар стоял, ходил, бродил, качался на качелях и мерз на площадке с половины восьмого до девяти. Эли не было. В девять он увидел, как мама подошла к окну, и вернулся домой, полный дурных предчувствий. «Даллас», горячий шоколад с коричными булочками, мамины вопросы — и он чуть было все ей не рассказал, но сдержался.
Сейчас же часы показывали начало первого, и он стоял у окна с гложущим ощущением пустоты внутри. Он приоткрыл окно, вдохнул холодный ночной воздух. Неужели он и правда решил постоять за себя только ради нее? Не для себя?
Ну, и для себя, конечно.
Но в основном ради нее.
Увы. Это была чистая правда. Если в понедельник они снова к нему полезут, у него не будет ни сил, ни желания им противостоять. Он это знал. И на тренировку в четверг он не пойдет. Незачем.
Он оставил окно приоткрытым, не теряя слабой надежды, что она все же сегодня вернется. Позовет. Если она могла гулять по ночам, значит, могла и вернуться посреди ночи.
Оскар разделся и лег. Постучал в стену. Тишина. Он натянул одеяло на голову и встал на колени в кровати. Затем сложил руки, прижался к ним лбом и зашептал: «Пожалуйста, Боженька, пусть она вернется. Бери что хочешь. Все мои комиксы, все мои книги, все мои вещи. Что хочешь. Только сделай так, чтобы она вернулась. Ко мне. Ну пожалуйста, милый Боженька!»
Оскар съежился под одеялом и так лежал, пока не начал потеть от жары. Тогда он высунул голову из-под одеяла и положил ее на подушку. Свернулся калачиком. Сомкнул веки. Перед глазами замелькали Эли, Йонни, Микке, Томас. Мама. Папа. Он долго еще лежал, вызывая в воображении те или иные картинки, пока они не зажили собственной жизнью, а сам он не погрузился в сон.
Они с Эли раскачивались на качелях, набиравших высоту. Качели взлетали все выше и выше, пока цепи не лопнули, и они понеслись прямо в небо. Оскар с Эли крепко держались за края сиденья, их колени были тесно прижаты друг к другу, и Эли прошептала: «Оскар, Оскар…»
Он распахнул глаза. Глобус был выключен, и лунный свет окрашивал все предметы в голубой. Джин Симмонс смотрел на него с противоположной стены, высовывая длинный язык. Оскар снова свернулся калачиком, закрыл глаза. И снова услышал шепот: «Оскар…»
Шепот доносился со стороны окна. Он открыл глаза. По ту сторону стекла он различил контур детской головы. Оскар скинул с себя одеяло, но не успел вылезти из кровати, как Эли прошептала:
— Подожди. Лежи. Можно мне войти?
Оскар прошептал в ответ:
— Да-а…
— Пригласи меня войти.
— Входи.
— Закрой глаза.
Оскар зажмурился. Окно распахнулось, холодный порыв ветра пронесся по комнате. Окно осторожно закрылось. Он различил дыхание Эли, спросил:
— Можно открыть?
— Подожди.
Диван в соседней комнате заскрипел. Мама встала. Оскар продолжал лежать с закрытыми глазами и вдруг почувствовал, как одеяло приподнялось и холодное обнаженное тело скользнуло в пространство между ним и стеной. Эли натянула одеяло на них обоих и съежилась за его спиной.
Дверь в его комнату открылась.
— Оскар?
— Мм?
— Это ты разговариваешь?
— Не-а.
Мама постояла в дверях, прислушалась. Эли лежала рядом, не двигаясь, вжав лоб между его лопатками. Ее теплое дыхание щекотало спину.
Мама покачала головой.
— Наверное, опять эти соседи. — Она снова прислушалась, сказала: — Спокойной ночи, солнышко мое. — И закрыла дверь.
Оскар остался наедине с Эли. За спиной раздался шепот:
— «Эти соседи»?
— Тсс!
Диван снова заскрипел, когда мама легла обратно в постель. Он посмотрел на окно. Закрыто.
Холодная рука скользнула по его боку и застыла на груди, возле сердца. Он накрыл ее своими ладонями, пытаясь согреть. Другая рука проскользнула под мышкой, обвила его грудь и просочилась меж ладонями. Эли повернула голову, прижавшись щекой к его спине.
Комнату наполнил новый запах. Слабый запах папиного мопеда с полным бензобаком. Бензин. Оскар наклонил голову, понюхал ее руки. Точно. Пахло от них.
Так они и лежали. Когда Оскар услышал мамино ровное дыхание из соседней комнаты, когда их сплетенные руки окончательно согрелись на его сердце и стали влажными, он прошептал:
— Где ты была?
— Ходила за едой.
Ее губы щекотали его лопатку. Она высвободила руки из его ладоней, перевернулась на спину. Какое-то время Оскар оставался неподвижен, глядя в глаза Джину Симмонсу. Потом лег на живот. Из-за деревьев над головой Эли с любопытством выглядывали человечки. Ее глаза были широко открыты и казались иссиня-черными в лунном свете. По рукам Оскара пробежали мурашки.
— А твой папа?
— Его больше нет.
— Как это — нет? — Оскар невольно поднял голос.
— Тсс… Не важно.
— Но… как это… он что?..
— Говорю же — неважно.
Оскар кивнул в знак того, что больше не будет задавать вопросов. Эли положила руки под голову и уставилась в потолок.
— Мне было одиноко. Вот я и пришла. Ничего?
— Конечно. Но… ты же совсем голая…
— Извини. Тебе это неприятно?
— Нет. Но разве ты не мерзнешь?
— Нет. Нет.
Белые пряди в ее волосах исчезли. Да и вообще выглядела она куда лучше, чем вчера. Щеки округлились, так что на них даже появились ямочки, когда Оскар в шутку спросил:
— Надеюсь, ты не проходила в таком виде мимо «секс-шопа»?
Эли засмеялась, но тут же состроила серьезную мину и произнесла загробным голосом:
— Проходила. И знаешь, что сделал тот мужик? Высунул голову и сказал: «Иди-и-и сюда-а-а… иди-и-и сюда… я дам тебе конфе-е-ет… и бана-а-анов!»
Оскар уткнулся головой в подушку, Эли приникла к нему и прошептала ему на ухо:
— «Идиии сюда-а-а! Конфе-е-еты! Пастила-а-а!»
Оскар сдавленно выкрикнул в подушку:
— Прекрати!
Они еще немного подурачились. Потом Эли начала разглядывать книги на полке, и Оскар вкратце пересказал ей свою любимую, «Туман» Джеймса Херберта. Лежа на животе, Эли изучала книжные корешки, а ее спина белела в темноте, словно лист бумаги.
Он поднес руку так близко, что почувствовал ладонью тепло ее тела. Потом растопырил пятерню и пробежался кончиками пальцев по ее спине, приговаривая шепотом:
— Ползет-ползет паучок, угадай, сколько ног!
— Мм… Восемь?
— Точно!
Потом они поменялись ролями, но у него угадывать получалось значительно хуже. Зато в «камень, ножницы, бумага» он выиграл с большим отрывом. Семь—три в его пользу. Они сыграли еще раз. Он выиграл со счетом девять—один. Эли даже немного рассердилась.
— Ты что, заранее знаешь, что я выберу?
— Да.
— Откуда?
— Знаю, и все. Вижу. Как картинку перед глазами.
— Давай еще раз. Я постараюсь не думать.
— Ну, попробуй.
Они сыграли еще раз. Оскар выиграл со счетом восемь— два. Эли притворилась обиженной и отвернулась к стене.
— Я с тобой больше не играю. Ты жульничаешь.
Оскар посмотрел ей в спину. Хватит ли у него смелости? Да, пока она на него не смотрит, пожалуй, хватит.
— Эли… Хочешь стать моей девочкой?
Она повернулась к нему, натянув одеяло до самого подбородка.
— А что это значит?
Оскар уставился на корешки книг, пожал плечами.
— Ну… что мы с тобой типа вместе.
— Как это — вместе?
Она напряглась, в голосе сквозило подозрение. Оскар поспешил добавить:
— Хотя у тебя, наверное, уже есть парень в школе.
— Нет, но… Оскар, я не могу… Я не девочка…
Оскар прыснул:
— А кто же? Мальчик, что ли?
— Нет… Нет.
— И кто же тогда?
— Никто.
— Что значит — никто?
— Никто. Не ребенок. Не взрослый. Не мальчик. Не девочка. Никто.
Оскар провел пальцем по книжному переплету «Крыс», поджал губы, покачал головой:
— Так да или нет?
— Оскар, я бы с удовольствием, но… может, оставим все как есть?
— …Ну ладно…
— Ты расстроился? Если хочешь, можем поцеловаться.
— Нет!
— Ты не хочешь?
— Не хочу.
Эли нахмурилась.
— А когда люди вместе, они делают что-нибудь особенное?
— Нет.
— То есть все будет… как всегда?
— Да.
— Тогда ладно.
Переполненный тихого ликования, Оскар продолжал изучать корешки книг. Эли лежала, не двигаясь, ожидая реакции. Через какое-то время она спросила:
— И что, все?
— Все.
— А давай еще полежим, как раньше?
Оскар улегся на бок спиной к Эли. Она обняла его, и он накрыл ее ладони своими. Так они лежали до тех пор, пока Оскара не стало клонить в сон. Веки налились тяжестью, глаза закрывались сами собой. Прежде чем уснуть, он произнес:
— Эли?
— А?
— Хорошо, что ты пришла.
— Да.
— А почему от тебя пахнет бензином?
Руки Эли лишь плотнее прижались к его груди, к сердцу. Обвили его. Комната стала расти, стены и потолок растворились, пол разъехался, и, почувствовав, что кровать парит в воздухе, он понял, что спит.
Светильник ночи
Сгорел дотла. В горах родился день
И тянется на цыпочках к вершинам.
Мне надо удаляться, чтобы жить,
Или остаться и проститься с жизнью.
Серое. Все было каким-то размытым и серым. Взгляд никак не фокусировался, будто он лежал внутри облака. Лежал? Да, вроде бы он на чем-то лежал. Спина, ягодицы и пятки чувствовали под собой опору. Слева раздалось шипение. Газ. Газ был включен. Нет. Отключился. Снова включился. Грудная клетка колебалась в такт шипению.
Он все еще в бассейне? Он что, вдыхает газ? Почему же он тогда в сознании? Да и в сознании ли?
Хокан попытался моргнуть. Ничего не получилось. Почти ничего. Что-то мелькнуло перед одним глазом, заслоняя обзор. Второго глаза не было. Он попробовал открыть рот. Рта тоже не было. Он представил себе свой рот, каким привык видеть его в зеркале, попытался еще раз… но рта не было. Ни одна мышца лица не слушалась. Это было все равно что пытаться силой мысли заставить камень сдвинуться с места.
Что-то горячее чувствовалось на его лице. Страх пронзил его живот. Голова была облеплена чем-то горячим, застывающим. Парафин. Его подключили к дыхательному аппарату, потому что все лицо было залито парафином.
Он сосредоточился, отыскивая правую руку. Да. Вот она. Он разжал кулак, снова сжал, чувствуя прикосновение кончиков пальцев к ладони. Хоть какое-то ощущение. Он облегченно вздохнул, вернее, представил себе вздох облегчения, поскольку грудь его двигалась в такт аппарату, не подчиняясь больше его воле.
Он медленно поднял руку. Движение отдалось болью в груди и в плече. Рука размытым пятном возникла в его поле зрения. Он поднес руку к лицу, замер. С правой стороны послышалось тихое пиканье. Он осторожно повернул голову на звук, ощутив что-то твердое под подбородком. Он поднес руку к горлу.
Металлическая трубка на шее. Из трубки тянулся шланг. Он ощупал его, насколько хватило руки, до самого железного наконечника с резьбой. Он все понял. Когда ему захочется умереть, надо будет всего лишь выдернуть эту штуку. Это они удачно устроили. Пальцы его покоились на шланге.
Эли. Бассейн. Мальчик. Кислота.
Воспоминания обрывались на том, как он открывал крышку банки. Наверное, облил себя кислотой, как и задумал. Единственная осечка заключалась в том, что он все еще был жив. Он видел фотографии женщин, облитых кислотой ревнивыми мужьями. Ему совершенно не хотелось ощупывать свое лицо и уж тем более увидеть себя в зеркале.
Он крепче сжал шланг, потянул. Тот не поддавался. Ах да, резьба. Хокан покрутил металлический наконечник, и тот провернулся в гнезде. Он продолжил. Поискал вторую руку, но почувствовал на ее месте лишь комок ноющей боли. Кончиками пальцев действующей руки он ощутил легкое пульсирующее давление. Из разъема начал выходить воздух, шипение изменилось, стало тоньше.
Окружающую его серость прорезали мигающие красные пятна. Он попытался закрыть единственный глаз, думая о Сократе, принявшем смерть от цикуты. За растление юных афинян. «Не забудьте отдать петуха…» — кому там, Архимандросу?[24] Нет…
Дверь с шелестом отворилась, и белая тень метнулась к нему. Он почувствовал, как чьи-то руки пытаются оторвать его пальцы от шланга. Раздался женский голос:
— Что вы делаете?!
Асклепию! Нужно принести петуха в жертву Асклепию.
— Отпустите!
Петуха. Асклепию. Богу врачевания.
Свист, шипение. Пальцы разжаты, шланг водружен на место.
— Придется приставить к вам охрану.
Нужно пожертвовать петуха Асклепию. Так пожертвуйте же, не забудьте.
*
Когда Оскар проснулся, Эли уже не было. Он лежал лицом к стене, спина мерзла. Он приподнялся на локтях, оглядел комнату. Окно было приоткрыто. Наверное, она ушла через окно.
Голая.
Он свернулся в кровати, прижался лицом к тому месту, где она лежала, втянул носом воздух. Ничего. Он поводил носом над простыней в надежде обнаружить хоть малейший след ее пребывания, но увы. Даже запаха бензина не осталось.
А может, ему все привиделось? Он лег на живот, прислушался к своим ощущениям.
Да.
Вот оно. Ее пальцы на его спине. Память о них. Ползет-ползет паучок. Мама играла с ним в эту игру, когда он был маленький. Но воспоминания были совсем свежи. Волосы на руках и на шее встали дыбом.
Он выбрался из кровати, начал одеваться. Надев штаны, подошел к окну. Снегопад прекратился. Четыре градуса мороза. Хорошо. Слякоть ему ни к чему — тогда он не сможет оставлять бумажные пакеты с рекламой у подъездов. Он представил себе, каково это — сигануть голышом в окно в четырехградусный мороз, приземлиться в заснеженные кусты и дальше вниз…
Стоп.
Он подался вперед, часто моргая.
Снег на кустах был абсолютно нетронутым.
Вчера вечером он стоял и смотрел на этот сугроб, разросшийся до самой дорожки. Сегодня он выглядел точно так же. Оскар пошире открыл окно, высунул голову. Кусты вплотную подходили к стене под его окном, как и сугроб. Следов нигде не было.
Оскар посмотрел направо, вдоль шероховатой стены. В трех метрах от него виднелось ее окно.
Холодный воздух обжег его голую грудь. Наверное, ночью после ее ухода шел снег. Это единственное объяснение. Подождите… почему он раньше об этом не подумал: а как она сюда забралась? По кустам залезла?
Но тогда сугроб не был бы таким ровным. Когда Оскар ложился, снегопад уже закончился. Тело и волосы Эли были совсем сухими, значит, когда она появилась, снег тоже не шел. Когда же она ушла?
То есть за это время должно было навалить столько снега, чтобы замести все следы…
Оскар закрыл окно, начал одеваться. Какая-то загадка. Он даже снова начал было склоняться к тому, что все это ему просто-напросто приснилось. И тут он увидел записку. Сложенная бумажка лежала под часами на его столе. Он взял ее, развернул.
«В ОКОШКО — ДЕНЬ, А РАДОСТЬ — ИЗ ОКОШКА!»
Затем нарисованное сердечко и приписка:
«ДО ВЕЧЕРА. ЭЛИ».
Он перечитал записку пять раз. Представил себе, как Эли стоит у стола и выводит буквы. В полуметре от него маячило лицо Джина Симмонса с высунутым языком.
Он перегнулся через стол, снял плакат со стены, скомкал его и кинул в мусорную корзину.
Потом перечитал записку еще три раза, сложил и убрал в карман. Продолжил одеваться. Сегодня — хоть пять листовок в пачке! Ему сейчас все по плечу.
*
В комнате пахло сигаретным дымом, а в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь жалюзи, кружились пылинки. Лакке проснулся, лежа на спине в постели Виржинии, и закашлялся. Пылинки перед его глазами взметнулись в воздухе, выделывая еще более причудливые па. Кашель курильщика. Он повернулся на бок, нашарил на прикроватном столике зажигалку и пачку сигарет, лежавшие рядом с переполненной пепельницей.
Вытащил сигарету, «Кэмел лайтс» — Виржиния на старости лет обеспокоилась здоровьем, — прикурил ее, снова лег на спину, закинув руку за голову, и погрузился в раздумья.
Виржиния ушла на работу пару часов назад, наверняка так и не выспавшись. После секса они еще долго не спали — трепались и курили. На часах уже было два, когда Виржиния затушила последний бычок и сказала, что ей пора спать. После этого Лакке выскользнул из кровати, допил остатки вина и выкурил еще пару сигарет, прежде чем отправиться на боковую. Пожалуй, в первую очередь из-за того, что ему нравилось вот так забираться в кровать под теплый бок спящей подруги.
Жаль только, что он не выносил постоянного присутствия постороннего человека. А так лучше Виржинии ему было не найти. К тому же до него доходили слухи об этих ее… периодах. Когда она напивалась в кабаках до бесчувствия и тащила домой первого попавшегося мужика. Виржиния отказывалась об этом говорить, но за последние несколько лет она состарилась не по годам.
Вот если бы они смогли… Ну, что? Все продать, купить дом в деревне, выращивать картошку. Звучит заманчиво, только ничего бы у них не вышло. Через месяц такой жизни они начали бы трепать друг другу нервы, к тому же у нее здесь мать, работа, а у него… у него — его марки.
Об этом никто не знал, даже сестра, за что его несколько мучила совесть.
Отцовская коллекция марок, не вошедшая в перечень наследства, как выяснилось, стоила целое состояние. Когда ему были нужны деньги, он реализовывал очередную марку.
Сейчас дела на рынке обстояли хуже некуда, да и марок у него оставалось всего ничего. Скоро по-любому придется их продать. Загнать, что ли, те редкие, из первых норвежских, — и отплатить наконец ребятам за все то пиво, которым его угощали последнее время? Пожалуй, это мысль.
Два дома в деревне. С участком. И чтобы рядом. Участки сейчас стоят копейки. Ну, и матери Виржинии заодно. Три. И дочери, Лене. Четыре. Ага, может, раз уж на то пошло, купишь сразу целую деревню?!
Виржиния уверяла, что и так с ним счастлива. Лакке не знал, в состоянии ли он еще испытывать счастье, но Виржиния была единственным человеком, с кем он чувствовал себя абсолютно комфортно. Так почему бы им что-нибудь не придумать?
Лакке поставил пепельницу на живот, стряхнул пепел с сигареты, сделал затяжку.
Теперь она уж точно была единственной. С тех пор как Юкке… исчез. Юкке был своим человеком. Только его одного из всей их компании Лакке смело мог назвать другом. Все-таки ужасно, что тело пропало. Как-то это… противоестественно. Все должно быть, как заведено, — похороны, покойник, взглянув на которого можно заключить: да, вот лежит мой друг. И он мертв.
На глаза его навернулись слезы.
Сейчас ведь у всех столько друзей, люди разбрасываются этим словом направо и налево. А вот у него был один-единственный, и он лишился его из-за какого-то малолетнего подонка. И за что этот щенок его убил?
В глубине души он знал, что Гёста не врал и не выдумывал, да и тело Юкке, как ни крути, пропало без следа, но все это казалось таким бессмысленным… Единственным мало-мальски логичным объяснением могли быть наркотики. Вдруг Юкке ввязался в какую-нибудь темную историю и перешел дорогу кому не следовало? Но почему же он тогда ничего не сказал?
Прежде чем выйти из квартиры, он вытряхнул пепельницу, убрал пустую бутылку в кухонный шкаф, и без того забитый стеклотарой, так что ему даже пришлось перевернуть бутылку вверх ногами.
Эх, едрить твою мать! Два дома. Поле с картошкой. Колени в земле, песни жаворонков по весне. Ну и все такое. Когда-нибудь.
Он натянул куртку и вышел. Проходя мимо универсама «ИКА», послал Виржинии, сидевшей за кассой, воздушный поцелуй. Она улыбнулась, скорчила рожу и показала ему язык.
Под дороге домой на Ибсенсгатан ему повстречался парнишка с двумя здоровенными бумажными пакетами в руках. Пацан жил поблизости, но имени его Лакке не знал. Лакке кивнул ему:
— Не тяжело?
— Да нет, ничего.
Он поволок тяжеленные пакеты в сторону высоток. Лакке посмотрел ему вслед. Тащит — а сам аж светится от радости. Вот как надо. Принимать свою ношу с радостью.
Вот так и надо жить.
Во дворе он замедлил шаг, надеясь встретить незнакомца, угощавшего его виски у китаезы, — он нередко выходил прогуляться в это время. Иногда наматывал круги по двору. Правда, вот уже пара дней, как его не было видно. Лакке покосился на завешенные окна квартиры, где, как он предполагал, незнакомец жил.
Небось сидит и бухает в одиночку. Зайти, что ли?
В другой раз.
*
Когда они подошли к кладбищу, уже смеркалось. Папина могила была расположена у самого спуска к озеру Рокста Трэск, и путь лежал через лес. Мать молчала всю дорогу до Канаанвэген — Томми сначала решил, что она скорбит по папе, но, когда они свернули на маленькую тропинку, шедшую вдоль озера, мама прокашлялась и сказала:
— Томми?..
— Да.
— Стаффан говорит, у него одна вещица пропала. Из дома. После нашего визита.
— Ну?
— Ты ничего про это не знаешь?
Томми зачерпнул горсть снега, слепил из него снежок и швырнул в дерево. Стопроцентное попадание!
— Знаю. Она у него под балконом валяется.
— Она для него очень важна, потому что…
— Я же сказал: валяется в кустах под балконом!
— И как она туда попала?
Перед ними расстилался заснеженный вал вокруг кладбища. Тусклые красные огоньки подсвечивали нижние ветки сосен. Кладбищенский фонарь тихо позвякивал в маминой руке. Томми спросил:
— У тебя хоть есть чем его зажечь?
— Что зажечь? А, фонарь!.. У меня есть зажигалка. Так как она туда…
— Уронил.
Перед кладбищенской калиткой Томми остановился и принялся разглядывать карту; каждая секция была помечена буквой. Папа был похоронен в секции «Д».
По большому счету, все это, конечно, дикость. Кто вообще такое придумал: сжигают человека, собирают пепел, закапывают в землю и называют это «Участок 104, секция „Д“».
С тех пор прошло почти три года. Томми смутно помнил похороны, или как уж там это называется. Вся эта канитель с гробом и толпой людей, которые то плачут, то поют.
Помнил только, что ботинки были велики, — он надел папины, и по дороге домой они то и дело соскальзывали. Помнил, что боялся гроба, сидел и смотрел на него все похороны в уверенности, что папа вот-вот встанет, оживет, но будет уже… другим.
Целых две недели после похорон ему повсюду мерещились зомби. Особенно в темноте ему казалось, что он различает среди теней осунувшееся существо с больничной койки, потерявшее всякое сходство с его отцом, которое идет к нему, протягивая руки, как в фильмах ужасов.
Страх прошел только после захоронения урны. Присутствовали при этом только они с мамой, кладбищенский смотритель и священник. Смотритель шел с торжественным видом, неся урну прямо перед собой, пока священник нашептывал матери слова утешения, и все это казалось таким жалким и смешным. Эта маленькая деревянная баночка с крышкой в руках у мужика в рабочем комбинезоне — будто все это имело хоть какое-то отношение к его папе. Все это походило на чудовищный фарс.
Но страх прошел, и со временем отношение Томми к могиле изменилось. Бывало, он приходил сюда один, садился и касался пальцами выгравированных букв папиного имени. Вот ради чего он сюда приходил. Банка в земле ничего для него не значила, но имя…
Чужой человек на больничной койке, пепел в банке — все это был не его папа, но имя было неразрывно связано с отцом, каким он его помнил, и потому время от времени Томми приходил сюда и водил указательным пальцем по бороздкам в камне, которые складывались в имя: «Мартин Самуэльссон».
— Смотри, как красиво! — произнесла мама.
Томми оглядел кладбище.
Повсюду горели свечи. Это напоминало вид города из окна самолета. Редкие тени мелькали между надгробиями. Мама направилась к папиной могиле с фонарем, покачивающимся в руке. Томми смотрел ей вслед, и его вдруг охватила острая жалость. Не к себе, не к маме — ко всему сразу. Ко всем, кто сейчас бродил в снегу среди этих трепещущих огоньков. К этим невесомым теням, застывшим у камней, смотревшим на камни, прикасавшимся к камням. Все это было так… глупо.
Умер так умер. Больше нет.
И все же Томми послушно последовал за мамой и присел на корточки у отцовской могилы, пока мама зажигала фонарь. При ней прикасаться к буквам ему не хотелось.
Они немного посидели, глядя, как слабое пламя рисует причудливые узоры на мраморной плите. Томми не испытывал ничего, кроме стыда за то, что участвует в этой жалкой игре. Через какое-то время он встал и пошел домой.
Мать последовала за ним. Пожалуй, слишком поспешно. Уж кому-кому, а ей как раз полагалось все глаза выплакать, сидеть здесь целую ночь. Она догнала его, взяла под руку. Он не сопротивлялся. Они шли бок о бок и смотрели на озеро, местами покрытое тонким льдом. Если в ближайшее время не потеплеет, через пару дней здесь можно будет кататься на коньках.
Одна мысль вертелась у Томми в голове, как навязчивый гитарный аккорд.
Умер так умер. Умер так умер. Умер так умер.
Мама вздрогнула, прижалась к нему.
— Жутко как-то.
— Да?
— Да. Стаффан рассказал мне такую страшную вещь…
Опять Стаффан. Неужели нельзя хотя бы здесь поговорить о чем-нибудь другом?
— Мм.
— Слышал про тот пожар в Энгбю? Ну, про ту женщину, которая…
— Да.
— Стаффан сказал, что они делали вскрытие. По-моему, ужасная процедура. И как только можно…
— Да, да. Конечно.
Дикая утка шла по хрупкому льду к проруби, образовавшейся возле сточной трубы на берегу озера. Мелкая рыбешка, которую здесь можно было выловить летом, воняла помоями.
— Интересно, что это за труба? — спросил Томми. — Сток из крематория, что ли?
— Не знаю. Ты что, не хочешь слушать дальше? Тебе неприятно?
— Не-не, давай.
И весь путь домой через лес она пересказывала услышанное. Постепенно Томми заинтересовался, начал задавать вопросы, на которые мама затруднялась ответить, — она знала лишь то, что ей рассказал Стаффан. Да, Томми задавал столько вопросов, причем с таким живым интересом, Ивонн даже пожалела, что завела этот разговор.
Позже тем же вечером Томми сидел на ящике в бомбоубежище и крутил в руках статуэтку стрелка. Потом водрузил ее на картонную коробку с кассетниками как трофей. Венец мастерства.
Это ж надо — стырить у полицейского!
Он тщательно запер бомбоубежище на цепь с висячим замком, спрятал ключ в тайник, сел и задумался о рассказанном матерью. Вскоре послышались осторожные шаги, приближающиеся к двери склада. Затем тихий шепот: «Томми?»
Он встал с кресла, подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял Оскар и с нервным видом протягивал ему деньги.
— Вот. Деньги принес.
Томми взял полтинник, небрежно сунул в карман и улыбнулся Оскару:
— Ты, я смотрю, зачастил! Входи.
— Да не, мне надо…
— Да входи, кому говорят. Вопрос есть.
Оскар уселся на диван, сцепив руки замком. Плюхнувшись в кресло, Томми пригвоздил его взглядом.
— Оскар. Вот ты же у нас парень умный…
Оскар смущенно пожал плечами:
— Слыхал о пожаре в Энгбю? Ну, про ту тетку, которая вышла во двор и сгорела прямо перед домом?
— Ага, я читал.
— Я так и думал. Не помнишь, там что-нибудь писали про вскрытие?
— По-моему, нет.
— Вот то-то же. А ведь его делали. Вскрытие. И знаешь, что выяснилось? У нее в легких не нашли дыма. Соображаешь, что это значит?
Оскар немного подумал.
— Что она уже не дышала.
— Вот именно. А когда человек перестает дышать? Когда он мертв. Я прав?
— Да, — Оскар внезапно воодушевился. — Я об этом читал. Точно! Поэтому вскрытие обязательно делают после пожаров, чтобы установить, не устроил ли кто-то поджог в целях сокрытия убийства. Ну, чтобы труп сжечь. Это я в журнале «Дом» вычитал — там писали об одном англичанине, который убил свою жену и об этой фишке знал, так он, прежде чем ее поджечь, засунул ей шланг в горло, и…
— Ладно, ладно, вижу, что знаешь. Хорошо. Но тут-то дыма не было, и все равно та баба выбралась из дома да еще и по участку носилась, пока не померла. И как такое может быть?
— Ну, может, она дыхание задержала. Хотя нет. Так не бывает, я об этом тоже читал… Поэтому люди и…
— Ладно, ладно. Тогда как ты это объяснишь?
Оскар уткнул лицо в ладони, задумался. Потом ответил:
— Либо они ошиблись, либо та баба бегала после того, как умерла.
Томми кивнул:
— Вот именно. И знаешь, я не думаю, чтобы легавые могли так ошибиться. А ты?
— Нет, но…
— Умер — значит умер.
— Да.
Томми выдернул нитку из обивки кресла, скатал ее в шарик и щелчком отбросил в сторону.
— Да. По крайней мере, хотелось бы в это верить.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Снег, тающий на коже
Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений,
И обернув ко мне спокойный лик,
Он ввел меня в таинственные сени.
— Я — не какая-нибудь простыня. Я НАСТОЯЩЕЕ привидение. У! У-у-у! Бойся меня!
— Но я не боюсь.
Ноги Моргана совсем окоченели. Мороз, ударивший, когда подводная лодка села на мель, за минувшую неделю заметно усилился. Морган обожал свои старые казаки, но на шерстяной носок они не лезли. К тому же одна подошва протерлась до дыр. Он мог бы, конечно, купить по дешевке какой-нибудь китайский ширпотреб, но уж лучше мерзнуть, чем носить такое дерьмо.
Часы показывали половину десятого утра, и он шел домой от метро. Он ездил на автомобильный развал в Ульвсунде в надежде сбыть дверную ручку, за которую можно было выручить пару сотен, но дела шли неважно. Похоже, в этом году зимних сапог опять не видать. Он перекусил с мужиками в конторе, заваленной каталогами автомобильных запчастей и календарями с голыми бабами, а потом поехал домой на метро.
Из высотки показался Ларри. Вид у него был, как всегда, такой, словно ему вот-вот вынесут смертный приговор.
— Здорово, старик! — окликнул его Морган.
Ларри сдержанно кивнул, будто с самого пробуждения знал, что увидит здесь Моргана, и подошел.
— Привет. Как дела?
— Ноги мерзнут, машина на свалке, работы нет, иду домой жрать суп из пакетика. Сам-то как?
Ларри продолжал идти по аллее парка по направлению к Бьёрнсонсгатан.
— Да вот решил зайти в больницу, Герберта навестить. Пойдешь со мной?
— Как он там вообще, хоть в сознание пришел?
— Да нет, по-моему, как и раньше.
— Тогда я пас. Уж слишком меня весь этот его бред угнетает. В прошлый раз он решил, что я его мать, попросил рассказать ему сказку.
— Ну и как, рассказал?
— Рассказал, куда деваться. Про Златовласку и трех медведей. Так что спасибо, но сегодня я не в настроении.
Они продолжили путь. Заметив, что Ларри в теплых перчатках, Морган вдруг почувствовал, как замерзли его руки, и не без некоторого труда сунул их в карманы джинсов. Перед ними возник мост, где сгинул Юкке.
Отчасти чтобы избежать разговора об этом, Ларри произнес:
— Читал сегодня газету? Фельдин[27] заявил, что на борту подводной лодки находится ядерное оружие!
— А он думал что? Рогатки?
— Нет, но… Лодка-то уже неделю на мели. А если бы оно взорвалась?
— Не переживай, русские свое дело знают.
— Я, знаешь ли, не коммунист…
— А кто коммунист — я, что ли?
— Да? А за кого ты у нас в прошлый раз голосовал? За Народную партию?
— Ну, Москве на верность я не присягал.
Этот разговор повторялся между ними не в первый раз. Сейчас они завели его лишь затем, чтобы не видеть, не думать об этом, с каждым шагом приближаясь к своду моста. И все равно, оказавшись под ним, они умолкли и остановились. Оба считали, что первым остановился другой. Они уставились на кучи листьев, превратившиеся в сугробы. От их вида обоим стало не по себе. Ларри покачал головой:
— Черт, что же делать?
Морган глубже запихнул руки в карманы, потопал, чтобы согреть ноги.
— Гёста единственный, кто мог бы что-то сделать.
Они посмотрели на окно квартиры, где жил Гёста. Занавесок не было, лишь грязный квадрат окна.
Ларри достал пачку сигарет. Они взяли по одной, Ларри дал Моргану прикурить, затем закурил сам. Они молча стояли и курили, разглядывая кучи снега, пока их не вывели из задумчивости детские голоса.
Группа детей с коньками и шлемами в руках вышла из школы, следуя за мужчиной военной выправки. Дети шли на расстоянии нескольких метров друг от друга, вышагивая в ногу. Они миновали Моргана и Ларри, застывших под мостом. Морган кивнул знакомому пацану со своего двора:
— Вы что, на войну собрались?
Парнишка покачал головой и собирался было что-то ответить, но лишь прибавил ходу, чтобы не отстать. Школьники направились к больнице, — видать, день здоровья или что-нибудь в этом роде. Морган затушил сигарету о подошву, сложил руки рупором и прокричал:
— Воздушная тревога! Все в укрытие!
Усмехнувшись, Ларри тоже затушил сигарету.
— Ты смотри, есть же еще такие! Небось требует, чтобы даже куртки в коридоре висели по стойке смирно. Ну так что, не пойдешь со мной?
— Не. Не могу я. Но ты давай, шевели ногами, глядишь, к строю приладишься!
— Ладно, увидимся!
— Давай!
Они расстались под мостом. Ларри медленным шагом исчез вслед за детьми, а Морган поднялся по лестнице. Теперь он уже весь окоченел. Не так уж это и плохо, суп из пакетика, особенно если залить его молоком.
*
Оскар шел рядом с учительницей. Ему надо было с кем-то поговорить, а никого лучше для этой цели он не знал.
И все же, если бы он мог, выбрал бы другую группу. Йонни с Микке никогда раньше не ходили на прогулки в день здоровья, а вот сегодня взяли и присоединились. И все утро перешептывались, поглядывая на него.
Так что Оскар шел рядом с учительницей — то ли для того, чтобы в ее лице обрести защиту, то ли чтобы поговорить со взрослым человеком.
Вот уже пять дней, как они с Эли были вместе. Они встречались каждый день на улице. Маме Оскар говорил, что гуляет с Юханом.
Вчера вечером Эли опять залезла к нему в окно. Они долго лежали голые, рассказывая истории, плавно перетекавшие одна в другую, а потом заснули, обнявшись, и утром Эли уже не было.
В кармане брюк рядом с замусоленной, зачитанной до дыр запиской теперь лежала еще одна. Оскар обнаружил ее сегодня утром на своем столе, собираясь в школу.
«МНЕ НАДО УДАЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ИЛИ ОСТАТЬСЯ И ПРОСТИТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ.[28] ТВОЯ ЭЛИ».
Он знал, что это из «Ромео и Джульетты». Эли объяснила, что ее первая записка была цитатой оттуда, и он взял книгу в школьной библиотеке. Книга ему в общем понравилась, несмотря на то что в ней попадалась масса непонятных слов. «Плат девственницы жалок и невзрачен». Неужели Эли все это понимала?
Йонни и Микке шли с девчонками метрах в двадцати позади Оскара с учительницей. Они миновали Китайский парк, где детсадовцы катались на санках с такими визгами, что закладывало уши. Оскар пнул ногой комок снега и тихо обратился к учительнице:
— Мари-Луиз?
— Да?
— А как понять, что кого-то любишь?
— Ой. Ну…
Учительница сунула руки в карманы пальто, кинув искоса взгляд на небо. Интересно, вспоминает ли она сейчас того парня, что пару раз встречал ее у школы? Оскару он не понравился. Скользкий тип.
— У всех, наверное, по-разному, но… я бы сказала, что это когда ты уверен… ну или, по крайней мере, когда тебе кажется, что ты хочешь быть с этим человеком.
— Когда не можешь жить без него, да?
— Да. Точно. Это когда два человека не могут жить друг без друга… Вот что такое любовь.
— Как Ромео и Джульетта.
— Да, и чем серьезнее препятствия… Постой, ты что, фильм смотрел?
— Читал.
Учительница посмотрела на него с улыбкой, которую он всегда так любил, но на этот раз она его лишь смутила. Он быстро добавил:
— А если это два мальчика?
— Тогда это дружба. Дружба — тоже своего рода любовь. Или ты имеешь в виду… ну, мальчики тоже иногда могут любить друг друга.
— И как это бывает?
Учительница несколько понизила голос:
— Как тебе сказать, в этом нет ничего плохого, но… может, мы поговорим об этом в другой раз?
Они прошли несколько метров в тишине, приближаясь к горке у Кварнвикен, которую еще называли Призрачной горой. Учительница всей грудью вдохнула холодный воздух с запахом сосен, а потом произнесла:
— Это такой союз. Не важно, мальчик ты или девочка, но вы вроде как становитесь одним целым. Я и ты. Такое нельзя не почувствовать.
Оскар кивнул. Девчоночьи голоса за спиной приближались. Еще немного — и они облепят учительницу со всех сторон, как это обычно бывает. Он пододвинулся поближе к ней, так что их куртки соприкоснулись, и спросил:
— А бывает такое, чтобы человек был одновременно и мальчиком, и девочкой? Или ни тем ни другим?
— Нет, по крайней мере у людей. У некоторых животных…
Мишель подбежала к ним, вереща:
— Мари-Луиз, Йонни напихал мне снега за шиворот!
Они уже почти спустились с горы. Вскоре все девчонки собрались вокруг учительницы, наперебой жалуясь на Йонни с Микке.
Оскар замедлил шаг, чуть отстав от них. Обернулся. Йонни с Микке стояли на вершине горы. Они помахали Оскару. Он не стал махать им в ответ. Вместо этого он поднял здоровенный сук, валяющийся у дороги, и пошел дальше, очищая его от листьев и веток.
Оскар миновал Дом с привидениями, давший название горе. Огромное складское помещение со стенами из гофрированной жести казалось совершенно неуместным среди редких низкорослых деревьев. На стене, обращенной к склону, кто-то вывел огромными буквами: «ГОНИ МОПЕД!»
Девочки играли в салки с учительницей, бегая по берегу озера. Он не собирался с ними играть. И плевать, что Йонни и Микке скоро его догонят. Оскар лишь крепче сжал свою палку, продолжая идти вперед.
Погода стояла отличная. Озеро замерзло еще пару дней назад, и лед был уже достаточно прочным, так что группа конькобежцев под предводительством физрука Авилы собиралась там кататься. Когда Йонни и Микке сказали, что присоединяются к прогулочной группе, Оскар даже задумался, не сбегать ли домой за коньками, чтобы переметнуться к конькобежцам. Но дома лежали коньки двухгодичной давности — вряд ли они теперь на него налезут.
К тому же он боялся льда.
Однажды, когда он был маленький и гостил у папы в Седерсвике, папа пошел проверить ловушки для раков. Оскар стоял на мостках и видел, как папа внезапно провалился под лед и на какое-то страшное мгновение его голова ушла под воду. Оскар был один и принялся что есть силы орать, призывая кого-нибудь на помощь. К счастью, у папы была пара ледовых крючьев и он смог выбраться из воды, но с тех пор Оскар неохотно ходил по льду.
Кто-то ухватил его за локти.
Оскар быстро повернул голову и увидел, что учительница с девчонками исчезли за поворотом дороги, ведущей вокруг холма. Йонни произнес:
— Ну что, Поросенок, искупнемся?
Оскар крепче сжал палку, что есть сил вцепившись в нее обеими руками. Это был его единственный шанс. Они рывком потащили его за собой. Вниз, ко льду.
— А Поросенок-то дерьмом воняет, его нужно помыть.
— Пусти!
— Отпустим, отпустим. Ты, главное, расслабься. Еще немного — и отпустим.
Они оказались на льду. Оскар был лишен всякой точки опоры. Они волокли его спиной вперед в сторону проруби у сауны, его каблуки прочерчивали две глубоких борозды на снегу. Он опустил палку между ног, пытаясь притормозить.
Вдали виднелись маленькие фигурки людей на льду. Он закричал, зовя их на помощь.
— Ори сколько влезет. Если повезет, успеют вытащить.
Черная пропасть во льду зияла всего в нескольких шагах. Оскар напряг все свои мускулы и резко рванулся в сторону. Микке выпустил его, и, повиснув на руках Йонни, Оскар размахнулся и со всей силы ударил его по лодыжке так, что палка чуть не вылетела из рук.
— Аааа, черт!
Йонни разжал пальцы, и Оскар упал на лед. Затем он встал на краю проруби и поднял палку обеими руками. Йонни держался за лодыжку.
— Ах ты тварь! Ну погоди у меня…
Йонни медленно направился к нему, видимо опасаясь толкать Оскара с разбега, чтобы самому не свалиться в воду. Жестом указал на палку:
— А ну положи на землю, не то убью, понял?
Оскар лишь крепче сжал зубы. Когда Йонни приблизился на расстояние вытянутой руки, Оскар с размаха обрушил палку, метя в плечо. Йонни увернулся, и Оскар почувствовал, как палка дрогнула, когда ее широкий конец угодил Йонни по уху. Тот откатился в сторону, как мяч для боулинга, и с диким воем распластался на льду.
Микке, стоявший в паре шагов от Йонни, попятился и поднял руки.
— Черт, да мы же пошутили… Мы же не думали…
Оскар пошел на него, со свистом рассекая палкой воздух. Микке развернулся и побежал к берегу. Оскар остановился, опустил палку.
Йонни лежал на боку, поджав ноги к подбородку и прижимая руку к уху. Сквозь пальцы сочилась кровь. Оскару хотелось попросить прощения. Он не собирался делать ему настолько больно. Он присел на корточки рядом с Йонни, опираясь на палку, и уже собрался было сказать: «Прости», но тут он впервые по-настоящему увидел своего врага.
Маленький, сжавшийся в комок, Йонни лежал, жалобно причитая: «Ай-ай-ай», и тонкий ручеек крови стекал ему за воротник куртки. Голова его подергивалась.
Оскар удивленно смотрел на него.
Этот окровавленный заморыш на льду не мог ему ничего сделать. Ни обидеть, ни ударить, нет. Он даже не мог защищаться.
Врезать ему, что ли, еще пару раз, чтобы уже наверняка?..
Оскар поднялся, опираясь на палку. Лихорадочное возбуждение спало, и теперь из глубины живота поднималась волна тошноты. Что же он наделал? Йонни, должно быть, не на шутку ранен, раз так хлещет кровь. А вдруг он истечет кровью? Оскар снова сел на лед, стащил ботинок и стянул с ноги шерстяной носок. Затем подполз к Йонни и запихнул носок под его ладонь, прижатую к уху.
— Вот. Возьми.
Йонни схватил носок и прижал его к своему рассеченному уху. Оскар взглянул в сторону берега и увидел, как к ним по льду приближается человек на коньках. Взрослый.
Издалека послышался пронзительный детский крик. Крик, полный ужаса. Высокий протяжный визг, к которому пару секунд спустя присоединились другие голоса. Приближавшийся к ним человек остановился. Немного постоял. Затем развернулся и покатился назад.
Оскар стоял на коленях возле Йонни, чувствуя, как они намокают от тающего снега. Йонни зажмурился и постанывал сквозь зубы. Оскар склонился над ним:
— Ты можешь идти?
Йонни открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут беловато-желтая жижа брызнула из его губ прямо на снег. Несколько капель попало на руку Оскара. Он взглянул на липкую слизь на тыльной стороне ладони и испугался не на шутку. Выпустив палку из рук, он понесся к берегу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь.
Детские крики, доносившиеся со стороны больницы, все набирали силу. Оскар побежал туда.
*
Физрук Авила, Фернандо Кристобал де Рейес-и-Авила, любил кататься на коньках. Если он за что-то и ценил Швецию, так это за длинную зиму. Он уже десять лет подряд принимал участие в конькобежном марафоне Васалоппет, а в те редкие годы, когда прибрежные воды шхер замерзали, он каждые выходные брал машину и ехал в Грэддё, там вставал на коньки и бежал в сторону Седерарма — насколько хватало льда.
Последний раз шхеры замерзали три года назад, но ранняя зима в этом году вселяла надежду. Конечно, как только появится лед, в Грэддё от любителей кататься на коньках отбоя не будет, но ведь это в дневное время. Фернандо Авила больше всего любил кататься по ночам.
Марафон марафоном, но, положа руку на сердце, в этой толпе чувствуешь себя жалким муравьишкой среди тысяч муравьев, внезапно затеявших миграцию. То ли дело — скользить в одиночку по бескрайнему льду, залитому лунным светом. Фернандо Авила не был ревностным католиком, но в такие минуты он воистину чувствовал близость к Богу.
Ровное чирканье коньков, лед, отливающий голубым в лунном свете, купол звездного неба над головой, уходящий в бесконечность, холодный ветер, струящийся у лица, вечность, и глубина, и космос со всех сторон. Истинное величие жизни.
Маленький мальчик потянул его за штанину:
— Я хочу писать!
Авила стряхнул с себя задумчивость и, посмотрев по сторонам, указал на несколько деревьев у самой воды — голые ветви пригнулись к земле, образуя естественную завесу.
— Можешь писать там.
— Прямо на лед?!
— Да. Ну и что? Будет новый лед. Желтый.
Мальчик посмотрел на него как на сумасшедшего, но послушно поковылял в сторону деревьев.
Авила огляделся вокруг, чтобы убедиться, что все на месте и старшие дети не слишком далеко от берега. Несколько стремительных рывков — и он отъехал на ровное место, откуда открывался полный обзор. Вроде все на месте. Девять. Плюс тот, что писает. Итого десять.
Он обернулся, посмотрел в сторону Кварнвикена и замер.
Там явно что-то происходило. Клубок тел перемещался по направлению к проруби, огороженной деревянными шестами. Пока он наблюдал за ними, клубок распался, и стало видно, что один из них держит в руках что-то вроде дубинки.
Дубинка поднялась и опустилась. Издалека донесся вопль. Авила оглянулся, еще раз окинул взглядом своих подопечных и рванул к проруби. Один из ребят теперь бежал к берегу.
И тут он услышал крик.
Пронзительный детский крик, доносившийся оттуда, где он только что оставил своих учеников. Авила резко затормозил, подняв вихрь снега. Он успел разглядеть, что возле проруби возятся старшие ребята. Может, Оскар. Старшеклассники. Сами разберутся. Позади же остались малыши.
Крик все нарастал, и, пока Авила бежал обратно к берегу, к воплю успели присоединиться новые голоса.
Cojones!
Стоило на секунду отлучиться — и на тебе. Господи, лишь бы никто не провалился под лед! Он несся что есть сил к месту происшествия, высекая снег из-под коньков. Он увидел кучку столпившихся детей, орущих в один голос. Постепенно подтягивались и остальные ученики. Со стороны больницы к ним уже бежал какой-то взрослый.
Он сделал пару финальных рывков и очутился среди детей, обсыпав их куртки крошками льда. Сначала он ничего не понял. Дети сгрудились возле нависших над водой веток и орали.
Он подъехал ближе.
— Что там?
Один из детей указал на лед, вернее, на вмерзший в него предмет, походивший на пучок бурой, прибитой морозом травы с красной трещиной сбоку. Или на раздавленного ежа. Наклонившись, он понял, что это голова. Голова, вмерзшая в лед, так что снаружи торчала лишь шевелюра и часть лба.
Мальчик, которого он отправил сюда писать, сидел неподалеку и шмыгал носом.
— Я-а-а на не-е-е нае-е-ехал…
Авила выпрямился.
— Так, брысь отсюда! Все на берег! Немедленно!
Дети словно и сами примерзли ко льду, самые младшие все еще продолжали кричать. Авила вытащил свисток и с силой дунул в него два раза. Крики прекратились. Он отъехал на пару шагов, оказавшись позади детей, и принялся подталкивать их к берегу. Дети сдвинулись с места. Только один пятиклассник остался стоять, с любопытством склонившись над головой.
— Тебя тоже касается!
Авила махнул ему рукой, призывая следовать за собой. На берегу он столкнулся с женщиной, выбежавшей из больницы, и крикнул:
— Вызовите полицию. И «скорую». Там человек вмерз в лед!
Женщина побежала обратно в больницу. Авила пересчитал детей на берегу. Одного не хватало. Мальчик, наткнувшийся на голову, все еще сидел на льду, уронив лицо в ладони. Авила подкатился к нему и взял под мышки. Ребенок вскинул голову и обхватил его руками. Физрук осторожно, как хрупкую ношу, поднял мальчика и понес его к берегу.
*
— С ним можно говорить?
— Ну, говорить он, положим, не может…
— Да, но понимать-то он понимает?
— Полагаю, что да, но…
— Я недолго.
Сквозь туман, заволакивавший глаз, Хокан разглядел, как человек в темной одежде пододвинул к кровати стул. Хокан не видел его лица, но мог себе представить натянуто-нейтральное выражение.
Последние несколько дней его то и дело обволакивало красное облако, прочерченное тонкими линиями. Он знал, что его несколько раз накачивали снотворным и оперировали под наркозом. Сегодня впервые за долгое время он находился в полном сознании, но сколько дней прошло с тех пор, как он сюда попал, он понятия не имел.
Утром Хокан ощупал свое новое лицо действующей рукой. Оно было целиком покрыто какой-то прорезиненной повязкой, но, ощупывая контуры кончиками пальцев и вздрагивая от боли, он смог заключить, что лица у него больше нет.
Хокана Бенгтссона больше не существовало — он превратился в неопознанное тело на больничной койке. Они, конечно, могли найти связь с ранее совершенными им преступлениями, но не с его прошлой или настоящей жизнью. Не с Эли.
— Как вы себя чувствуете?
Спасибо, хорошо. Просто замечательно. Все лицо горит, как от напалма, а так лучше некуда.
— Я понимаю, что вы не можете говорить, но вы могли бы кивнуть, чтобы я знал, что вы меня понимаете? Вы можете кивнуть?
Могу. Но не хочу.
Человек у его кровати вздохнул.
— Вы пытались покончить жизнь самоубийством, следовательно, вы все же в сознании. Неужели так сложно покачать головой? Вы хоть руку можете поднять в знак того, что вы меня слышите? Можете?
Хокан перестал слушать и задумался о том особом месте в Дантовом аду, лимбе, куда после смерти попадают души великих, не познавших Христа. Попытался представить себе, как оно выглядит.
— Понимаете, нам очень важно установить вашу личность.
Интересно, в какой круг или небесную сферу попал после смерти сам Данте…
Полицейский придвинул стул сантиметров на десять ближе.
— Мы это все равно выясним. Рано или поздно. Но вы можете сэкономить нам время, если согласитесь сотрудничать.
Никто меня не ищет. Никто меня не знает. Попытайтесь…
В палату вошла сестра:
— Вас к телефону.
Полицейский поднялся и направился к выходу. Прежде чем покинуть палату, он обернулся.
— Я скоро вернусь.
Мысли Хокана обратились к самому главному. А какой круг ада предстоит ему? Детоубийца. Седьмой круг. С другой стороны — первый. Для тех, кто согрешил во имя любви. Потом, содомитам отведен собственный круг. Логичнее всего было бы предположить, что тебя определят в тот круг, где наказывают за самый страшный из всех твоих грехов. Таким образом, получается, что, совершив по-настоящему серьезное преступление, дальше можно грешить сколько душе угодно, — по крайней мере, по мелочам, наказуемым в других, высших кругах ада. Хуже-то уже не будет. Вроде как те убийцы в Америке, которых приговаривают к трехстам годам заключения.
Дантов ад состоял из концентрических кругов. Адская воронка. Цербер со своим хвостом. Хокан представил себе насильников, гневливых женщин, гордецов, варящихся в бурлящем котле, среди огненного дождя, бродящих в поисках собственного места.
В одном он был уверен. Он никогда не окажется в нижнем круге ада. Там, где Люцифер на ледяном озере грызет Иуду и Брута. В круге предателей.
Дверь снова открылась со странным шипением. Полицейский уселся возле кровати.
— Ну что, похоже, нашли еще один труп, в озере в Блакеберге. По крайней мере, веревка та же.
Нет!
Тело Хокана непроизвольно дернулось, когда полицейский произнес слово «Блакеберг». Полицейский кивнул:
— Судя по всему, вы меня все же слышите. Вот и хорошо. Мы предполагаем, что вы жили в западном направлении. И где же? Рокста? Веллингбю? Блакеберг?
Он тут же вспомнил, в какой спешке избавился от тела возле больницы. Допустил небрежность. Все испортил.
— Ладно. Оставлю вас в покое на время. Можете пока подумать, не стоит ли вам начать сотрудничать. Так всем будет гораздо легче. Правда?
Полицейский встал и вышел. Вместо него в палату вошла медсестра, приставленная его сторожить, и села на стул.
Хокан в отчаянии замотал головой. Рука его взметнулась и вцепилась в трубку респиратора. Сестра подскочила к нему и оторвала руку от трубки.
— Мы вас привяжем. Еще одна такая попытка, и мы вас привяжем. Ясно? Не хотите жить — дело ваше, но, пока вы здесь, наша задача — сохранить вам жизнь. Что бы вы там ни совершили. Понятно? И мы сделаем все, чтобы выполнить эту задачу, даже если придется надеть на вас смирительную рубашку. Слышите? Всем будет лучше, если вы будете сотрудничать.
Сотрудничать. Сотрудничать. Внезапно все заговорили о сотрудничестве. Я больше не человек, а задача, которую нужно решить. О боже. Эли, Эли. Помоги мне.
*
Еще на лестнице Оскар услышал мамин голос. Она с кем-то ругалась по телефону. С матерью Йонни? Оскар стоял под дверью и подслушивал.
— Теперь они мне будут звонить и спрашивать, что я сделала не так… Да будут, будут! И что мне им отвечать? Что у моего мальчика, увы, нет отца, который… ну так докажи это хоть раз в жизни! Нет, не делал… Я считаю, что говорить с ним об этом должен ты.
Оскар открыл дверь и вошел в коридор. Мама буркнула в трубку: «А вот и он» — и повернулась к Оскару:
— Мне тут звонили из школы, и я… Короче, поговори лучше об этом с папой, потому что я… — и снова в трубку: — А теперь можешь… Я спокойна. Легко тебе — сидишь себе там и…
Оскар зашел в свою комнату, улегся на кровать и зажал уши руками. В голове стучала кровь.
Оказавшись у больницы, он сначала решил, что вся беготня вокруг имела отношение к тому, что́ он натворил, но выяснилось, что это совсем не так. Сегодня он впервые в жизни видел мертвеца.
Мама распахнула дверь в его комнату. Оскар отнял руки от ушей.
— Твой отец хочет с тобой поговорить.
Оскар взял трубку и услышал далекий голос, перечисляющий названия маяков, силу и направление ветра. Он молча ждал у телефона. Мама вопросительно подняла брови. Оскар прикрыл трубку рукой и прошептал:
— Морской прогноз.
Он знал, что сейчас папа слушает радио и все равно его не услышит. Прогноз ветра для него — это святое. Каждый раз, когда Оскар навещал отца, в 16.45 вся деятельность в доме замирала и папа садился перед радиоприемником, рассеянно блуждая взглядом по полю, словно чтобы убедиться в правильности прогноза.
Отец уже давно не плавал, но привычка осталась.
В районе Альмагрюндет — ветер северо-западный, восемь баллов, ночью с переходом на западный, видимость хорошая, в районе Аландских островов и Архипелагового моря ветер северо-западный, десять баллов, ночью ожидается штормовое предупреждение. Всего доброго.
Так. Самое главное позади.
— Привет, пап.
— А, это ты. Привет. Говорят, будет штормовое предупреждение.
— Да, я слышал.
— Мм. Как дела?
— Хорошо.
— Мама рассказала мне про ту историю с Йонни. Нехорошо вышло.
— Да уж, не очень.
— Она говорит, у него сотрясение мозга.
— Ага. Его тошнило.
— Да, так часто бывает. Харри… ну, ты его помнишь… ему как-то грузилом по голове засветили… так он потом лежал и блевал, что твой теленок.
— Ну и че, выздоровел?
— Да вроде… правда, он прошлой весной помер. Но с тем случаем это не связано. Нет, в тот раз он довольно быстро пришел в себя.
— Это хорошо.
— Будем надеяться, что и этот очухается.
— Ага.
По радио продолжали перечислять морские районы: Боттенвикен и прочие. Оскар пару раз сидел в гостях у папы с атласом и следил пальцем за маяками, которые упоминали по радио. Когда-то он их даже знал наизусть по порядку, но сейчас уже забыл. Отец прокашлялся.
— Слушай, мы тут с мамой поговорили… Может, приедешь ко мне на выходные?
— Мм…
— Заодно поговорим про это… ну и про все остальное.
— Прям на эти выходные?
— Ну да. Если, конечно, хочешь.
— Да, но у меня вообще-то… А что если я приеду в субботу?
— Или в пятницу вечером.
— Не, лучше в субботу. В субботу утром.
— Ладно, договорились. Я тогда вытащу утку из морозилки.
Оскар поднес губы к самой трубке и прошептал:
— Только без дроби!
Папа рассмеялся.
Прошлой осенью, когда Оскар навещал отца, он сломал зуб о кусок свинца, застрявший в тушке птицы. Маме они сказали, что это был камушек в картошке. Оскар обожал морскую дичь, но мама считала, что убивать беззащитных птичек — это «невероятная жестокость». Расскажи они, что он сломал зуб об орудие убийства, она могла навсегда запретить подобную еду.
— Специально проверю, — ответил папа.
— Как мопед, на ходу?
— Да. А что?
— Так, просто вспомнилось.
— Ясно. Ну, вообще-то здесь как раз снегу навалило, можем прокатиться.
— Хорошо.
— Ладно, до субботы. Ты на десятичасовом приедешь?
— Да.
— Я тебя тогда встречу. На мопеде. Машина чего-то барахлит.
— Ага. Хорошо. Маму дать?
— Да нет… Расскажи ей, как мы договорились.
— Мм. Ладно, пока.
— Пока!
Оскар положил трубку. Немного посидел, представляя себе, как все будет. Значит, они поедут кататься на мопеде. Это здорово. Оскар надевал короткие лыжи, к мопеду привязывалась веревка с деревянной палкой на конце. Оскар брался за нее обеими руками, после чего они гоняли по деревне, как мастера спорта по водным лыжам. А потом утка с рябиновым желе. И всего один вечер без Эли.
Он зашел к себе, сложил в сумку спортивную форму и нож — возвращаться домой до встречи с Эли он не собирался. У него был план. Когда он уже стоял в коридоре, застегивая куртку, из кухни вышла мама, вытирая перепачканные мукой руки о передник.
— Ну? И что он сказал?
— Я к нему поеду в субботу.
— Так. А про эту историю что-нибудь сказал?
— Мам, мне пора на тренировку.
— Что, совсем ничего?
— Да сказал, сказал, мам, мне пора идти!
— Куда?
— В бассейн.
— В какой еще бассейн?
— Ну в наш, возле школы. Тот, что поменьше.
— И что ты там будешь делать?
— У меня тренировка. Я буду в половине девятого. Или в девять. Я потом с Юханом встречаюсь.
У мамы был расстроенный вид. Не зная, куда деть свои мучные руки, она засунула их в большой карман на переднике.
— А-а-а. Ну ладно. Только смотри, осторожнее. Не поскользнись там в бассейне или еще что. Шапка с собой?
— Да, да!
— Вот и надень, хотя бы после бассейна — на улице мороз. А то выскочишь с мокрой головой и…
Оскар шагнул к ней, быстро поцеловал в щеку, бросил: «Пока!» — и вышел. Оказавшись на улице, он покосился на свои окна. Мама стояла там, все еще держа руки в кармане передника. Оскар помахал. Мама медленно подняла руку и помахала в ответ.
Он плакал всю дорогу на тренировку.
*
Вся компания собралась на лестничной площадке у квартиры Гёсты. Виржиния с Лакке, Морган, Ларри, Карлссон. Никто не решался нажать на кнопку звонка, поскольку именно позвонившему пришлось бы излагать суть дела. Еще с лестницы они ощущали слабый запах, насквозь пропитавший Гёсту. Запах мочи. Морган пихнул Карлссона в бок и что-то пробормотал. Карлссон приподнял шерстяные наушники, которые носил вместо шапки, и переспросил:
— Что?
— Говорю, может, снимешь уже? Выглядишь как идиот.
— Ну, это ты так считаешь.
Он все же снял наушники, запихнул их в карман пальто и сказал:
— Ларри, давай. Это ж ты увидел.
Ларри вздохнул и позвонил в дверь. Из-за двери раздалось злобное мяуканье, а затем мягкий шлепок, будто что-то упало на пол. Ларри прокашлялся. Все это ему не нравилось. Он чувствовал себя как последний легавый с целой делегацией за спиной, не хватало только пистолетов. Из квартиры послышались шаркающие шаги, затем голос: «Как ты, милая?»
Дверь открылась. Из квартиры пахнуло мочой, и Ларри задержал дыхание. Гёста стоял в дверях, одетый в поношенную рубашку и жилетку с бабочкой. Бело-рыжий полосатый кот свернулся клубком у него на руках.
— Да?
— Здорово, Гёста, как жизнь?
Гёста моргал, обводя их взглядом. Он явно уже хорошенько выпил.
— Да ничего.
— Мы тут это… поговорить пришли… Слыхал, что случилось?
— Нет.
— Юкке нашли. Сегодня.
— Да-а? А-а-а. Вот как.
— И тут, значит, такое дело…
Ларри повернулся к остальным, ища поддержки, но, кроме подбадривающего жеста Моргана, ничего не последовало. Ларри чувствовал себя чиновником, выдвигающим ультиматум. Но другого выхода не было, как ни крути. Он спросил:
— Можно войти?
Он думал, Гёста запротестует — вряд ли он привык к тому, чтобы в его квартиру вваливались пятеро. Но Гёста только кивнул и отошел на пару шагов в коридор, пропуская их.
Ларри на секунду замешкался; запах, доносившийся из квартиры, был просто невыносим, липким облаком витая в воздухе. Пока он топтался на пороге, Лакке прошел внутрь, за ним последовала Виржиния. Лакке почесал кота на руках у Гёсты за ухом.
— Красавец! И как его зовут?
— Ее. Фисба.
— Красивое имя. А Пирам[29] у тебя тоже есть?
— Нет.
Один за другим они вошли в квартиру, стараясь дышать через рот.
Несколько минут спустя они оставили попытки перебороть вонь, перестали задерживать дыхание и постепенно свыклись с запахом. Коты были согнаны с диванов и кресел, из кухни принесли пару стульев, спиртное и стаканы, и, немного поболтав о котах и погоде, Гёста наконец произнес:
— Так, говорите, Юкке нашли?
Ларри залпом опрокинул в себя содержимое стакана. Теплота, разлившаяся в животе, придала ему смелости. Он налил себе еще и ответил:
— Ага. Возле больницы. Вмерзшим в лед.
— В лед?!
— Да. Там сегодня такой цирк устроили. Я пошел Херберта навестить — не знаю, знакомы ли вы, ну да ладно… короче, выхожу я — а там тебе и полиция, и «скорая», потом пожарники подкатили…
— Там что, и пожар был, что ли?
— Нет, но его же пришлось изо льда вырубать. Ну, то есть тогда я еще не знал, что это он, но, когда они вытащили его на берег, я узнал его по одежде — лицо-то… ну, короче, там все замерзло, не узнать, а вот одежда…
Гёста поводил рукой по воздуху, будто гладя большую невидимую собаку.
— Постой… он что, утонул? Ничего не понимаю…
Ларри отхлебнул из рюмки, вытер ладонью рот.
— Нет. Полицейские тоже так решили. Поначалу, насколько я понимаю. Стояли себе сложа руки, пока медики возились с каким-то пацаном, у которого из башки кровь шла, так что…
Гёста еще энергичнее замахал рукой, то ли гладя, то ли отталкивая от себя невидимую собаку. Немного алкоголя из его стакана выплеснулось на ковер.
— Постойте. Я что-то ничего не понимаю… У кого кровь из башки?
Морган согнал кота с колен и отряхнул брюки.
— Да нет, это к делу отношения не имеет. Ну давай, Ларри.
— Словом, когда они его вытащили на берег — я сразу понял, что это он. Весь какими-то веревками перевязан. А на веревках — камни. Тут-то легавые и засуетились. Рации включили, начали натягивать эту свою ленту, разгонять народ. Сразу заинтересовались. Так что… похоже, его утопили, во как!
Гёста откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза рукой. Виржиния, сидевшая между ним и Лакке, похлопала его по колену. Морган наполнил его стакан и сказал:
— Главное, они нашли Юкке. Подлить тебе тоника?.. Держи. Нашли и знают, что его убили. А это ведь совсем другой коленкор.
Карлссон прокашлялся и солидно произнес:
— Согласно шведскому законодательству…
— Да заткнись ты! — перебил его Морган. — Ничего, если я закурю?
Гёста еле заметно кивнул. Пока Морган доставал сигарету и зажигалку, Лакке наклонился вперед, заглядывая Гёсте в глаза.
— Гёста. Ты же видел, как это произошло. Ты должен вывести преступника на чистую воду.
— Вывести на чистую воду? Как это?
— Ну, прийти в полицию и рассказать, что ты видел, вот и все.
— Нет. Нет!
В комнате повисло молчание.
Лакке вздохнул, налил себе полстакана водки, плеснул немного тоника, сделал большой глоток и закрыл глаза, когда обжигающие пары заполнили его желудок. Принуждать он никого не хотел.
Карлссон еще у китаезы что-то нудил про отказ от дачи свидетельских показаний, сокрытие улик и прочую чушь, но, как бы Лакке ни хотелось, чтобы виновный понес наказание, он не собирался натравливать ищеек на своего приятеля, как последний стукач.
Серый пятнистый кот ткнулся головой ему в лодыжку. Лакке взял кота на колени, рассеянно поглаживая по спине. Да и какая разница? Юкке был мертв, теперь-то они точно знали. Так что какое все это имеет значение?
Морган встал и подошел к окну со стаканом в руках.
— Ты здесь стоял? Ну, когда это случилось…
— Да.
Морган кивнул, потягивая свой напиток:
— Тогда понятно. Отсюда все видно. Неплохая вообще у тебя хата. Красивый вид. Конечно, не считая… а вид красивый.
Одинокая слеза скатилась по щеке Лакке. Виржиния взяла его руку и пожала ее. Лакке сделал нехилый глоток, чтобы заглушить боль, разрывавшую грудь.
Ларри, какое-то время задумчиво наблюдавший за котами, бесцельно перемещавшимися по квартире в одним им известном порядке, побарабанил пальцами по своему стакану и произнес:
— А если просто навести их на след? Указать место происшествия? Может, они найдут отпечатки пальцев, ну или еще что-нибудь.
Карлссон улыбнулся:
— И что мы им ответим, если они спросят, откуда нам это известно? Что мы просто знаем, и все? Они же наверняка заинтересуются, откуда… вернее, от кого мы это узнали.
— Ну, можно же сделать анонимный звонок. Передать информацию — и дело с концом.
Гёста что-то пробормотал с дивана. Виржиния наклонилась к нему:
— Что ты говоришь?
Гёста тихо-тихо произнес, не отрывая взгляд от своего стакана:
— Простите меня. Но я слишком боюсь. Я не могу.
Морган отвернулся от окна, развел руками:
— Тогда на том и порешим. И не о чем тут больше разговаривать. — Он бросил ледяной взгляд на Карлссона. — Мы что-нибудь придумаем. Решим этот вопрос по-другому. Нарисуем схему, позвоним — черт, да что угодно! Как-нибудь да выкрутимся.
Он подошел к Гёсте и потыкал ногой его ногу:
— Слышь, Гёста, выше нос. Мы что-нибудь придумаем. Не беспокойся. Гёста? Ты слышишь, что́ я тебе говорю? Мы все решим. Ну, выпьем?
Он протянул свой стакан, чокнулся с Гёстой и сделал глоток.
— Ничего, справимся. Правда?
*
Он расстался с ребятами у входа в бассейн и уже направился домой, когда вдруг услышал ее голос со стороны школы:
— Эй! Оскар!
Шаги на лестнице — и она вышла из тени. Похоже, Эли сидела и ждала его. А значит, слышала, как он прощался с остальными, и с ним говорили как с нормальным человеком.
Тренировка прошла хорошо. Он оказался не таким слабаком, как думал, даже обогнал пару ребят, ходивших сюда не в первый раз. Опасения, что физрук начнет его расспрашивать о сегодняшнем происшествии на льду, оказались напрасны. Физрук только спросил: «Хочешь поговорить об этом?» — и, когда Оскар покачал головой в ответ, больше не задавал вопросов.
Бассейн был иным миром, жившим по своим правилам, не то что школа. Физрук был не таким строгим, и к Оскару никто не приставал. Впрочем, Микке здесь и не было. Может, теперь Микке его боится?! Эта мысль кружила голову.
Он пошел навстречу Эли.
— Привет.
— Здорово.
Теперь уже Эли использовала это словечко. На ней болталась клетчатая рубашка, которая была ей слишком велика, — в ней она снова выглядела такой маленькой, съежившейся. Кожа высохла, лицо исхудало. Еще вчера вечером Оскар заметил первые седые пряди, сегодня же их стало куда больше.
Когда Эли была здорова, она казалась Оскару самой красивой девочкой на свете. Но то, что предстало его взгляду теперь… Он в жизни такого не встречал. Люди так не выглядят. Разве что карлики. Но карлики не такие худые, так что… Нет, это не шло ни в какое сравнение. Он был рад, что другие ребята ее не видят.
— Как дела? — спросил он.
— Так себе.
— Поиграем?
— Ага.
Бок о бок они пошли в сторону своего двора. У Оскара был план. Они заключат союз. Если они это сделают, Эли выздоровеет. Его будоражили мысли о волшебстве, навеянные прочитанными книгами. Но ведь волшебство и правда существует! Пусть его мало, но все-таки оно есть. Все, кто в него не верят, как правило, плохо кончают.
Они вошли во двор. Оскар прикоснулся к ее плечу.
— Пойдем к мусорке?
— Ну-у, давай…
Они вошли в подъезд Эли, и Оскар отпер дверь в подвал.
— У тебя что, нет ключа? — спросил он.
— По-моему, нет.
В подвале было темно — хоть глаз выколи. Дверь захлопнулась за их спиной с тяжелым стуком. Они неподвижно стояли бок о бок, в тишине раздавалось лишь их дыхание. Оскар прошептал:
— Знаешь, Эли, сегодня… Йонни с Микке пытались столкнуть меня в воду. В прорубь.
— Да ты что?! Слушай…
— Подожди. Знаешь, что я сделал? У меня в руках была здоровенная палка. И я стукнул Йонни по башке так, что пошла кровь. У него сотрясение мозга, его даже в больницу возили. Им так и не удалось столкнуть меня. Я… я его ударил!
Несколько секунд они стояли в тишине. Затем Эли произнесла:
— Оскар.
— Да?
— Ура!
Оскар протянул руку, чтобы включить свет, — ему хотелось заглянуть ей в лицо. Свет загорелся. Она смотрела прямо ему в глаза, и тогда он увидел ее зрачки. Те несколько секунд, что глаза привыкали к свету, они были как те кристаллы, что они изучали на уроках физики… как там это называется? Эллипсы.
Как у ящериц. Нет. Как у котов. Кошачьи глаза.
Эли моргнула. Зрачки снова стали нормальными.
— Ты чего?
— Ничего. Пойдем…
Оскар пошел к мусорохранилищу и открыл дверь. Мешок для мусора был почти полным, — видно, давно не меняли. Эли протиснулась мимо него, и они принялись рыться в мусоре. Оскар нашел пакет с пустыми бутылками, которые можно было сдать. Эли нашла игрушечный пластмассовый меч и, размахивая им, предложила:
— Давай проверим мусорку в соседнем подъезде?
— Не, вдруг там Томми и компания.
— Что это еще за компания?
— Да так, взрослые пацаны, которые иногда здесь… тусуются.
— И много их?
— Нет, трое. Чаще всего один Томми.
— И что, они очень опасные?
Оскар пожал плечами:
— Ну ладно, давай.
Они вошли в подъезд Томми и остановились у двери, ведущей в подвал. Поднеся ключ к замочной скважине, Оскар вдруг засомневался. А вдруг они там? Что если они увидят Эли? Вдруг он не сможет совладать с ситуацией? Эли подняла перед собой игрушечный меч и спросила:
— Что с тобой?
— Ничего.
Он открыл дверь. Не успели они войти в коридор, как он услышал музыку, доносящуюся из подвала. Он обернулся и прошептал:
— Они здесь! Пошли!
Эли остановилась, принюхалась:
— Чем это пахнет?
Оскар посмотрел, нет ли кого в коридоре, повел носом. Ничего не почувствовал, кроме привычного подвального запаха. Эли добавила:
— Краска. Или клей.
Оскар снова принюхался. Никакого запаха он не различил, однако он и так прекрасно знал, в чем дело. Когда он повернулся к Эли, чтобы увести ее отсюда, он заметил, что она возится с замком.
— Пойдем. Что ты делаешь?
— Да так, ничего…
Пока Оскар открывал дверь в коридор, ведущий в его подъезд, дверь за их спиной захлопнулась с каким-то странным звуком. Не было обычного щелчка. Только лязг металла. На обратном пути он рассказал Эли про клей и про то, какими тормозными становятся пацаны после того, как его нанюхаются.
В своем подвале Оскар опять почувствовал себя в безопасности. Он встал на колени и принялся пересчитывать пустые бутылки в пакете. Четырнадцать пивных и одна из-под водки — такие не принимают.
Подняв глаза, чтобы сообщить Эли результат, он увидел, что она стоит, занеся меч над его головой. Привыкший к ударам, он вздрогнул. Что-то пробормотав, Эли опустила меч ему на плечо и произнесла торжественным басом:
— Отныне провозглашаю тебя, о победитель Йонни, рыцарем Блакеберга и всей близлежащей округи, а именно Веллингбю… мм…
— Рокста.
— Рокста.
— Может, Энгбю?
— Может, Энгбю.
Эли легонько касалась мечом его плеча при каждом новом названии. Оскар вытащил нож из сумки, поднял его прямо перед собой и провозгласил себя Рыцарем-Может-Энгбю. Ему хотелось, чтобы Эли стала Прекрасной Дамой и он бы смог спасти ее из лап Дракона.
Но Эли сказала, что будет страшным чудовищем, из тех, что едят прекрасных дам на обед, и теперь ему придется с ней сражаться. Оскар не стал вынимать нож из чехла, пока они фехтовали, кричали и носились по коридорам. В самый разгар игры послышался звук ключа в замке.
Они забились в отсек, отведенный под овощехранилище, где еле-еле поместились вдвоем, пытаясь отдышаться. В подвале раздался мужской голос:
— Вы что тут вытворяете?
Оскар сидел, крепко прижавшись к Эли. В груди все бурлило. Мужчина сделал пару шагов по коридору.
— Вы где?
Он остановился, прислушался, и Оскар с Эли затаили дыхание. Потом он произнес:
— Сопляки чертовы! — И ушел.
Они еще посидели, чтобы удостовериться, что он не вернется, затем выползли наружу, прислонились к стене и прыснули от смеха. Потом Эли растянулась на бетонном полу, уставившись в потолок. Оскар коснулся ее ступни:
— Ты устала?
— Ага. Устала.
Оскар вытащил нож из чехла и посмотрел на него. Тяжелый, красивый. Оскар осторожно прижал указательный палец к острию, отдернул. На пальце появилась маленькая красная точка. Он прижал палец чуть сильнее. Когда он отнял палец, на нем выступила капля крови. Но такие дела так не делаются.
— Эли? Давай сделаем одну вещь?
Она все еще смотрела в потолок.
— Какую?
— Хочешь заключить со мной союз?
— Да.
Если бы она спросила: «Как это?» — возможно, он бы объяснил, что собирается сделать, но она просто сказала: «Да». Она была согласна на все, что бы это ни было. Оскар нервно сглотнул, зажал лезвие в кулак, зажмурился и медленно потянул за рукоятку. Резкая жгучая боль. Он тяжело задышал.
Неужели я это сделал?
Оскар открыл глаза, разжал ладонь. Да. На ней виднелась тонкая полоса, из которой медленно сочилась кровь; не так, как он это себе представлял — ровной линей, а цепочкой алых капель, которые на его глазах превращались в толстую кривую.
Эли подняла голову:
— Что ты делаешь?!
Все еще держа руку у лица, изучая ее, Оскар ответил:
— Это же просто. Эли, это совсем не…
Он протянул ей свою кровоточащую ладонь. Ее глаза расширились. Она изо всех сил затрясла головой и поползла назад, прочь от его руки.
— Оскар, нет…
— Да в чем дело?
— Оскар, нет.
— Это почти не больно.
Эли остановилась, не отрывая взгляд от его руки и продолжая мотать головой. Оскар протянул ей нож рукоятью вперед, держа его за лезвие.
— Если хочешь, можешь просто уколоть палец. А потом мы смешаем кровь. В знак того, что мы заключили союз.
Но Эли не брала нож. Оскар положил его на пол между ними, подставив ладонь под стекающие с другой руки капли крови.
— Ну, давай! Ты что, не хочешь?
— Оскар, я не могу… ты заразишься, ты…
— Ты даже ничего не почувствуешь…
По лицу Эли пронеслась призрачная тень, настолько преобразившая знакомые черты, что он опустил руку, забыв о каплях крови, падавших на пол. Он вдруг ясно увидел то самое чудовище, в которое они только что играли, и отпрянул назад, чувствуя, как боль в руке усиливается.
— Эли, что?..
Подтянув под себя ноги, она встала на четвереньки и, не отрывая взгляда от его руки, сделала шаг ему навстречу. Затем застыла, сжала зубы и прошипела:
— Уходи!
От страха у него на глазах выступили слезы.
— Эли, перестань. Хватит! Я больше не играю. Хватит! Эли подползла ближе, снова остановилась. Усилием воли она собралась и, пригнув голову к полу, закричала:
— Уходи! А то умрешь!
Оскар встал, попятился. Споткнулся о пакет с бутылками, со звоном опрокинувшийся на пол. Он прижался к стене, наблюдая, как Эли ползет к пятнам крови на полу.
Еще одна бутылка упала на бетонный пол и разбилась, а Оскар так и стоял у стены, глядя на Эли, которая высунула язык и начала облизывать грязный бетон там, куда упали капли крови.
Бутылка в последний раз звякнула и застыла. Эли все вылизывала и вылизывала пол. Когда она подняла на него глаза, нос ее был в пыли.
— Уходи… прошу тебя… уходи…
И снова вместо нее на него смотрел призрак, но, прежде чем окончательно преобразиться, Эли вскочила, бросилась по коридору, распахнула дверь в свой подъезд и исчезла.
Оскар продолжал стоять, что есть сил сжимая окровавленную руку. Кровь начала просачиваться сквозь пальцы. Он разжал ладонь, посмотрел на нее. Рана оказалась глубже, чем он думал, но была неопасной. Кровь уже начала сворачиваться.
Он взглянул на остатки крови на полу. Потом осторожно лизнул ладонь и сплюнул.
*
Ночное освещение.
Завтра утром ему оперируют горло и рот. Наверное, надеются, что он им что-нибудь скажет. Язык остался цел. Он пошевелил им в запечатанном рту, щекоча нёбо. Может, он даже сможет говорить, хотя от губ ничего не осталось. Вот только говорить он как раз не собирался.
Какая-то женщина — то ли полицейский, то ли медсестра — сидела в углу в нескольких метрах от него и читала книгу. Стерегут.
Интересно, они всегда тратят столько ресурсов, когда кому-нибудь взбредет в голову покончить с жизнью?
Он понимал, что представляет для них особую ценность, что они имеют на него большие виды. Небось копаются сейчас в старых делах в поисках других преступлений, в которых он мог бы оказаться повинен. Сегодня днем к нему опять заходил полицейский, чтобы снять отпечатки пальцев. Он не сопротивлялся. Какая разница?
Возможно, отпечатки пальцев и докажут его причастность к убийствам в Веллингбю и Норрчёпинге. Он попытался припомнить, как это было, не оставил ли он отпечатков пальцев или иных улик. Наверное, оставил.
Его волновало одно — что эти люди смогут через него как-то выйти на Эли.
Люди…
*
Он все чаще обнаруживал в почтовом ящике записки с угрозами.
Кто-то из местных, работавший на почте, рассказал соседям, какие бандероли и фильмы ему приходят.
Пару месяцев спустя его уволили из школы, где он преподавал. Таким, как он, не место среди детей. Он ушел, хотя наверняка мог бы оспорить решение через профсоюз.
Никаких инцидентов в школе не было и быть не могло — он же не дурак.
Кампания против него все набирала силу, пока однажды ему не кинули в окно самодельную бомбу. Он выскочил из дома в одних трусах, стоял и смотрел, как пламя пожирает всю его жизнь.
Расследование затянулось, поэтому страховку он так и не получил. На свои скромные сбережения он купил билет на поезд и снял комнату в Вэкшё. И там приступил к планомерному самоуничтожению.
Он запил так, что уже готов был потреблять все, что под руку попадется. Спиртовой раствор от прыщей, денатурат. Он воровал в магазине виноградное сусло и дрожжи и выпивал раньше, чем это пойло настоится.
Он старался как можно больше времени проводить на улице, в каком-то смысле ему хотелось, чтобы «эти люди» видели, как он умирает, день за днем.
Однажды по пьяни он потерял осторожность и начал приставать к мальчикам. Его избили, забрали в полицию. Он три дня просидел в камере, выблевав все внутренности. Потом его отпустили. Он продолжал пить.
Однажды, когда Хокан сидел на скамейке на детской площадке, с бутылкой забродившего вина, появилась Эли и села рядом. Хокан спьяну сразу положил руку ей на колено. Эли не обратила на это никакого внимания, взяла лицо Хокана в свои ладони, повернула к себе и сказала: «Ты пойдешь со мной».
Хокан начал что-то нести про то, что в настоящее время такая красота ему не по карману, но как только позволят финансы…
Эли стряхнула его руку с колена, наклонилась к нему, отобрала у него бутылку, вылила ее содержимое и сказала: «Ты не понял. Слушай внимательно. Ты бросишь пить. Ты пойдешь со мной. Ты будешь мне помогать. Ты мне нужен. А я помогу тебе». После этого Эли протянула ему руку, Хокан взял ее, они встали и пошли.
Он перестал пить и поступил в ее распоряжение.
Эли снабжала его деньгами на одежду и новую квартиру. Он выполнял ее указания, даже не раздумывая, что она собой представляет — добро, зло или нечто третье. Эли была прекрасна, Эли дарила ему чувство собственного достоинства. И изредка — ласку.
Послышалось шуршание — сиделка перевернула страницу книги. Наверняка какое-нибудь бульварное чтиво. В «Государстве» Платона стражи были наиболее образованным сословием. Но это Швеция 1981 года, и здесь, вероятно, читали Яна Гийу.[30]
Тот мертвец, которого он утопил в озере. Хокан, конечно, в тот раз схалтурил. Нужно было послушаться Эли и закопать его. Следы на шее непременно вызовут подозрения, хотя они, наверное, решат, что кровь вытекла уже в воде. Одежда мертвеца была…
Свитер!
Свитер Эли, найденный Хоканом на теле покойника, когда он пришел заметать следы. Нужно было взять его с собой, сжечь, да что угодно!
А он запихнул его под куртку убитого.
Что они подумают? Детский свитер, запятнанный кровью. А вдруг ее кто-то в нем видел? Кто-то, кто может ее опознать, если, к примеру, в газете опубликуют фотографию? Кто-то, кто с ней общался, кто…
Оскар. Мальчик со двора.
Хокан беспокойно заворочался в кровати. Сиделка отложила книгу, взглянула на него:
— Только без глупостей.
*
Эли пересекла Бьёрнсонсгатан и зашла во двор между двумя девятиэтажками — монолитными башнями, возвышавшимися над трехэтажными домами. Во дворе никого не было, но из окон спортзала лился свет, и, проскользнув под пожарной лестницей, Эли заглянула внутрь.
В зале надрывался маленький магнитофон. Пожилые тетки скакали в такт музыке, сотрясая пол. Эли устроилась поудобнее на пожарной лестнице и, уткнувшись подбородком в колени, стала наблюдать за происходящим.
Несколько теток явно страдали от ожирения, и их массивные груди подпрыгивали под майками, как шары для боулинга. Тетки скакали, высоко поднимая колени и тряся жирными ляжками в обтягивающих тренировочных штанах. Они двигались по кругу, хлопали в ладоши и снова подпрыгивали в такт музыке. Теплая, обогащенная кислородом кровь текла по обезвоженным тканям.
Но их было слишком много.
Эли спрыгнула с лестницы, мягко приземлилась на мерзлую землю, обогнула спортзал и остановилась возле бассейна.
Большие окна с матовыми стеклами отбрасывали на снег прямоугольники света. Над каждым окном было еще одно, чуть поменьше, с обычными стеклами. Эли подпрыгнула, уцепившись руками за край крыши, и заглянула внутрь. В бассейне было пусто. Водная гладь мерцала в свете ламп. Пара мячей покачивались на поверхности.
А ведь кто-то здесь купается, веселится, играет.
Эли темным маятником раскачивалась взад-вперед, представляя себе летающие в воздухе мячи, смех, возню, брызги воды. Она разжала руки и полетела вниз, сознательно позволив себе приземлиться так, чтобы почувствовать боль. Она пересекла школьный двор, вышла на аллею парка и остановилась возле дерева у самой дороги. Темно. Вокруг никого. Эли подняла голову, разглядывая голый ствол и крону в пяти-шести метрах над землей. Сняла обувь. Приготовилась к преображению, представив свои новые руки и ноги.
Все это больше не причиняло ей боли, лишь легкое покалывание, будто разряды электричества в пальцах рук и ног, которые на глазах вытягивались и меняли форму. Кости рук затрещали, суставы изогнулись, разрывая податливую кожу на кончиках пальцев, превратившихся в длинные крючковатые когти. То же происходило и с ногами.
Эли запрыгнула на дерево, одним прыжком одолев пару метров и, впившись в ствол когтями, полезла вверх. Она забралась на толстый сук, нависавший над дорогой, обвила его когтистыми ногами и замерла.
Мысленно вызвав образ острых клыков, она почувствовала боль во рту. Зубы вытянулись и заострились, словно заточенные невидимым напильником. Эли осторожно прикусила нижнюю губу — острые, изогнутые полумесяцем иглы впились в кожу.
Оставалось лишь ждать.
*
Часы показывали десять, температура в комнате становилась невыносимой. Они уже уговорили две бутылки водки и приступили к третьей, единогласно решив, что Гёста — мужик что надо.
Одна Виржиния старалась не увлекаться спиртным, так как ей нужно было завтра на работу. Запах застарелой кошачьей мочи и затхлости смешался с сигаретным дымом, алкогольными парами и потом шести тел.
Лакке и Гёста по-прежнему сидели на диване по обе стороны от Виржинии, оба уже были наполовину в отключке. Гёста поглаживал кота, устроившегося у него на коленях и оказавшегося косым, что вызвало у Моргана приступ такого безудержного хохота, что он стукнулся башкой о стол и в качестве болеутоляющего хватил рюмку чистого спирта.
Лакке был неразговорчив — он сидел, уставившись прямо перед собой. Взгляд его все мутнел, затем затуманился и наконец окончательно остекленел. Он бесшумно шевелил губами, словно беседуя с призраком.
Виржиния встала, подошла к окну:
— Ничего, если я открою?
Гёста покачал головой:
— Кошки… выпрыгнут…
— Но я же здесь, я прослежу.
Гёста по инерции продолжал качать головой. Виржиния открыла окно. Свежий воздух! Она жадно вдохнула его и сразу почувствовала себя гораздо лучше. Лакке, лишившись плеча Виржинии, стал заваливаться в сторону, но тут вдруг выпрямился и громко произнес:
— Друг! Настоящий… друг!
В комнате раздалось согласное мычание. Все поняли, что он говорит о Юкке. Лакке уставился на пустой стакан в своей руке и продолжил:
— Друг, который не подведет… Это важнее всего! Важнее всего! Вы вообще понимаете, что мы с Юкке были… во!
Он крепко сжал кулак и потряс им перед самым лицом:
— И ничто его не заменит! Ничто! А вы тут сидите и несете всякую чушь… «золотой человек» и все такое, а сами… Пустые! Как скорлупа! У меня, может, вообще больше в жизни ничего не осталось после того, как Юкке… погиб. Ни-че-го. Так что не надо тут трепать языком про то, какая это потеря, не надо…
Виржиния стояла у окна и слушала. Она подошла к Лакке, чтобы напомнить ему о своем существовании. Присела перед ним на корточки, ловя его взгляд:
— Лакке…
— Нет! И нечего ко мне лезть! «Лакке, Лакке…» Я все сказал. Ни черта ты не понимаешь! Ты… бесчувственная! Чуть что — в город, подцепишь себе какого-нибудь дальнобойщика и тащишь домой, чтоб он тебя оттрахал. Скажешь, нет? Ах ты… да через тебя небось караван проехал! А тут друг… друг…
Виржиния встала со слезами на глазах, закатила Лакке пощечину и выбежала из квартиры. Лакке опрокинулся на диване, ударившись о плечо Гёсты. Тот пробормотал:
— Окно, окно…
Морган закрыл окно и произнес:
— М-да, Лакке. Отличился. Голову даю на отсечение, что больше ты ее не увидишь.
Лакке поднялся и неверным шагом подошел к Моргану, смотрящему в окно:
— Черт, да я же не хотел…
— Да я-то понимаю. Это ты ей скажи.
Морган кивнул на улицу, на Виржинию, выскочившую из подъезда, — она быстрыми шагами направилась в сторону парка, не отрывая глаз от земли. До Лакке дошло, что́ он сморозил. Последняя брошенная Виржинии фраза эхом стучала в его голове. Неужели я прямо так и сказал?! Он развернулся и бросился к двери:
— Мне надо…
Морган кивнул:
— Давай, ноги в руки. Привет передавай.
Лакке понесся вниз по лестнице, насколько это позволяли дрожащие ноги. Рябые ступеньки мелькали перед глазами, а ладонь скользила по перилам с такой скоростью, что чуть не высекала искры. Он поскользнулся на лестничной площадке, упал и больно стукнулся локтем. Рука налилась жаром и онемела. Он поднялся и заковылял дальше. Он спешил как только мог — ради спасения жизни. Своей собственной.
Виржиния шагала по парку прочь от высотки не оборачиваясь.
Она всхлипывала, иногда почти переходила на бег, будто пытаясь убежать от своих слез. Но они преследовали ее, наполняя глаза и по капле стекая по щекам. Каблуки месили снег, постукивая по асфальту аллеи. Она обняла плечи руками.
Вокруг не было ни души, и Виржиния дала волю слезам, прижимая руки к животу, чтобы унять боль, злобным зародышем притаившуюся внутри.
Чем ближе подпускаешь к себе человека, тем больнее он тебя ранит.
Недаром она свела все свои отношения к непродолжительным знакомствам. Нельзя никого пускать к себе в душу. Изнутри только проще причинить боль. Уж лучше искать утешение в самой себе. С отчаянием тоже можно жить, когда ты один. Когда нет надежды.
Но с Лакке она надеялась. Надеялась, что это перерастет во что-то большее, и однажды… Ну что?! Он принимал от нее еду и тепло, но она так и оставалась для него пустым местом.
Виржиния шла, ссутулившись, придавленная горем. Спина ее скрючилась горбом, на котором, казалось, примостился злой демон, нашептывающий ей на ухо страшные вещи.
Чтобы еще хоть раз! Да никогда в жизни!
Не успела она подумать о демоне, как он вдруг обрушился на нее.
Что-то тяжелое свалилось ей на спину, и она беспомощно упала на бок, вжавшись щекой в снег, и размазанные по лицу слезы тут же заледенели. Чье-то тело придавливало ее к земле.
На мгновение она и в самом деле поверила, что это демон печали принял телесное обличье и набросился на нее. Но тут резкая боль пронзила шею и острые зубы впились ей в горло. Виржинии чудом удалось подняться на ноги, и она завертелась волчком, пытаясь стряхнуть эту дрянь со своей спины.
Кто-то буквально присосался к ее горлу, ручеек крови заструился по шее, стекая меж грудей. Она заорала и забилась, вырываясь из цепких объятий существа, и с криками снова повалилась в снег.
Что-то твердое зажало ей рот. Ладонь. Острые когти коснулись щеки и впились в мягкую плоть, все глубже и глубже, до самой кости.
Челюсти перестали жевать, послышался хлюпающий звук, как если бы кто-нибудь втягивал через трубочку остатки напитка на дне стакана. Глаза заливала какая-то жидкость — Виржиния уже толком не понимала: слезы это или кровь.
Когда Лакке вышел из высотки, он успел различить лишь темный силуэт Виржинии, направлявшейся по аллее в сторону улицы Арвида Мерне. В груди покалывало от лестничного марафона, а боль в локте отдавала в плечо. И несмотря на это, он побежал. Побежал со всех ног. Голова стала проясняться — то ли от свежего воздуха, то ли от двигавшего им страха все потерять.
Дойдя до развилки, где «дорога Юкке», как он теперь ее называл, сходилась с «дорогой Виржинии», Лакке остановился и набрал побольше воздуха, собираясь окликнуть ее. Она шла между деревьев всего в пятидесяти метрах от него.
Но не успел он крикнуть, как какая-то тень обрушилась с ветки на Виржинию, и та упала. Вместо крика из его рта вырвалось лишь шипение, и он снова рванул к ней. Он хотел заорать, но воздуха в легких на бегу хватало только на что-нибудь одно.
Он выбрал бег.
На его глазах Виржиния поднялась вместе со своей ношей, закрутилась на месте, как безумная горбунья, и снова упала.
У него не было ни плана, ни мыслей. Лишь одна цель — добежать и скинуть с нее эту гадость. Виржиния лежала в снегу у стены, а на ней копошилась бесформенная черная масса.
Он подбежал и что есть силы пнул ногой черный комок. Нога врезалась во что-то жесткое, послышался резкий треск, напоминавший звук ломающегося льда. Комок отлетел в сторону, приземлившись на снег.
Виржиния лежала не двигаясь, на снегу чернели темные пятна. Существо село.
Ребенок!
Лакке застыл, глядя на нежное детское личико, обрамленное темными прядями волос. Пара огромных темных глаз уставилась на него.
Девочка встала на четвереньки, как кошка, приготовившаяся к прыжку, и ощерилась, обнажив два ряда острых зубов, блеснувших в темноте. Лицо ее мгновенно преобразилось.
Какое-то мгновение они смотрели друг на друга, тяжело дыша. Девочка так и стояла на четвереньках, и Лакке увидел, что вместо пальцев на руках у нее когти, четко очерченные на белом снегу.
Потом лицо девочки исказила боль, она вскочила на ноги и побежала по направлению к школе гигантскими скачками. Каких-то несколько секунд — и она исчезла из виду, скрывшись в тени.
Лакке стоял как вкопанный и моргал, щурясь от пота, заливающего глаза. Потом бросился к Виржинии, замершей на земле. Увидел рану. Вся шея была разодрана, черные ручейки крови струились у корней волос, стекая за воротник. Он скинул куртку, стащил с себя свитер, скомкал рукав и прижал его к ране.
— Виржиния! Виржиния! Милая, любимая…
Наконец-то он произнес эти слова.
Он ехал к папе. Он знал здесь каждый изгиб дороги — сколько раз он по ней ездил?.. Сам — десять или двенадцать, и с мамой еще раз тридцать, не меньше. Родители развелись, когда ему было четыре года, но в выходные и каникулы он неизменно навещал отца.
Последние три года ему разрешалось ездить одному. На этот раз мама даже не стала провожать его до Технического института, откуда отходил автобус. Он был уже большим мальчиком — в кошельке даже водились собственные талончики на метро.
Вообще-то ради них он и завел кошелек, но сегодня там еще лежало двадцать крон на конфеты и всякая мелочевка. Там же хранились и записки от Эли.
Оскар поковырял пластырь на ладони. Он больше не хотел с ней встречаться. Он ее боялся. Тот случай в подвале…
Она показала свое истинное лицо.
Было в ней что-то… Страшное. Из разряда тех вещей, которых принято бояться. Высота, огонь, стекло в траве, змеи и все такое. Все то, от чего мама так старалась его оградить.
Может, поэтому он и не хотел их знакомить. Мама сразу бы почувствовала опасность и даже близко бы его к ней не подпустила. К Эли.
Автобус свернул с шоссе в направлении Спиллерсбоды. Это был единственный автобус, который шел в Родмансе, поэтому он делал крюк, останавливаясь в каждой дыре. Автобус миновал штабель из деревянных досок у лесопилки, резко развернулся и чуть не скатился в овраг.
В пятницу Оскар не стал дожидаться Эли.
Вместо этого он взял снегокат и отправился кататься с Призрачной горы. Мама была не в восторге, так как он в этот день пропустил школу, сказавшись больным, но он заявил, что ему гораздо лучше.
Он шел по Китайскому парку со снегокатом за плечами. Гора начиналась там, где заканчивался ряд фонарей, метрах в ста ходьбы по темному лесу. Снег похрустывал под ногами. Ветер свистел в ветвях, будто чье-то хриплое дыхание. Лунный свет отбрасывал на землю причудливые тени, а меж деревьев вырастали безликие чудовища, покачивавшиеся из стороны в сторону.
Он дошел до того места, где начинался спуск к Кварнвикену, и встал на снегокат. Дом с привидениями черной стеной громоздился над склоном, будто предупреждая: Тебе здесь не место. Ночь — наше время. Хочешь здесь играть — придется иметь дело с нами.
Внизу светились редкие окна местного лодочного клуба. Оскар наклонился, перемещая центр тяжести вперед, и снегокат заскользил по склону. Оскар вцепился в руль, хотел зажмуриться, но побоялся, как бы его не занесло в овраг у Дома с привидениями.
Он пулей несся с горы, превратившись в комок нервов и напряженных мышц. Быстрее, еще быстрее. Дом с привидениями тянул к нему свои бесформенные заснеженные лапы, так и норовившие сорвать шапку или хлестнуть по лицу.
Возможно, это был всего лишь внезапный порыв ветра, но у самого подножия холма Оскар почувствовал сопротивление, словно тонкая прозрачная пленка преграждала путь. На его счастье к этому времени он так разогнался, что его уже было не остановить.
Снегокат врезался в невидимое препятствие, и Оскар ощутил, как липкая сеть обтянула его лицо и тело, но не выдержала напора и лопнула, и он очутился по ту сторону.
В Кварнвикене светились огни. Какое-то время он просто сидел, глядя туда, где только вчера утром засветил Йонни по башке. Обернулся. Дом с привидениями превратился в обычный жестяной сарай.
Он втащил снегокат в гору, съехал еще раз. И еще раз. И еще. Он уже не мог остановиться — все катался и катался до тех пор, пока лицо не покрылось маской изо льда.
А потом он пошел домой.
Той ночью он спал не больше четырех-пяти часов — боялся, что придет Эли. Вернее, того, что придется сделать, если она придет. Он решил, что должен ее прогнать. Поэтому он уснул в автобусе до Норртелье и проспал до самой конечной остановки. В местном автобусе он нарочно придумал себе развлечение, вспоминая дорогу, чтобы снова не погрузиться в сон.
Сейчас появится желтый дом с флюгером на лужайке.
Желтый дом с заснеженным флюгером проплыл за окном. И так далее. В поселке Спиллерсбода в автобус вошла девочка. Оскар схватился за спинку впереди стоящего кресла. Девочка немного походила на Эли. Конечно же, это была не она. Девочка села через несколько сидений впереди него. Оскар уставился ей в затылок.
Кто она такая?
Эта мысль закралась ему в голову еще тогда, в подвале, пока он собирал бутылки, вытирая окровавленную руку какой-то тряпкой с помойки: а вдруг Эли — вампир? Это многое объясняло.
Например то, что она никогда не показывалась на улице днем.
То, что видела в темноте, в чем он был совершенно уверен.
Ну и все остальное: ее манера говорить, кубик Рубика, нечеловеческая сила — все это, конечно, могло иметь и более простое объяснение… Но как тогда объяснить то, как она слизывала кровь с пола, и эту ее фразу — при одном воспоминании у него все холодело внутри — «Можно мне войти? Скажи, что мне можно войти!»
То, что ей нужно особое приглашение, чтобы попасть в его комнату, в его постель. И он ее пригласил. Вампира. Существо, пьющее человеческую кровь. Эли. И нет никого, кому он мог бы об этом рассказать. Никто бы ему не поверил. А даже если бы и поверили — дальше что?
Оскар представил себе толпу людей с заточенными копьями, стекающихся со всего Блакеберга к арке его дома, где они с Эли обнимались. И пускай теперь он ее боялся и больше не хотел видеть, но такого он допустить не мог.
Спустя три четверти часа после прибытия в Норртелье, Оскар добрался до Седерсвика. Он дернул за шнурок остановки по требованию, и у водителя тренькнул звонок. Автобус затормозил перед магазином, и Оскару пришлось дожидаться, пока какая-то смутно знакомая бабка не осилит ступеньки.
Папа, стоявший у дверей, кивнул ей, коротко хмыкнув в знак приветствия. Оскар вышел из автобуса и какое-то мгновение молча стоял перед отцом. События последних недель заставили Оскара ощутить себя большим. Не взрослым, но старше, чем раньше. Сейчас, когда он стоял перед отцом, это ощущение испарилось.
Мама считала отца мальчишкой в худшем смысле этого слова. Незрелым, безответственным. Нет, конечно, она говорила про него и хорошее, но это его качество она поминала к месту и не к месту. Незрелость.
Но когда папа развел руки в стороны и Оскар бросился в его объятия, отец показался ему самим олицетворением взрослости…
От папы пахло не так, как от остальных людей в этом городе. Его потрепанная непромокаемая жилетка с липучкой вместо молнии всегда хранила одну и ту же смесь запахов дерева, краски, металла и, главное, масла. Таковы были составляющие, но Оскар воспринимал это сочетание совсем по-другому. Для него это был «папин запах». Он обожал его, и сейчас глубоко втянул носом воздух, прижавшись лицом к отцовской груди.
— Ну, привет!
— Привет, пап!
— Нормально доехал?
— Нет, мы сбили лося.
— Ого, ничего себе!
— Шучу.
— А-а-а. Понятно. Помню, я как-то раз…
Пока они шли, папа начал рассказывать, как он однажды ехал на грузовике и сбил лося. Оскар слышал эту историю не раз, поэтому только поглядывал по сторонам, время от времени что-то напевая себе под нос.
Универмаг в Седерсвике выглядел столь же уныло, как и раньше. Прошлогодние ценники и рекламные флажки, оставленные висеть в ожидании следующего лета, лишь усиливали сходство с гигантским киоском мороженого. Огромный навес за магазином, где обычно торговали садовым инвентарем, землей, дачной мебелью и тому подобным, был свернут до нового сезона
Летом число жителей поселка учетверялось. Весь пригород Норртельевикена и Логарё представлял собой сплошное нагромождение летних домиков и коттеджей, и, хотя почтовые ящики здесь висели в два ряда по тридцать штук в каждом, в это время года почтальону редко приходилось сюда заглядывать. Нет людей — нет и писем.
К тому времени, как они дошли до мопеда, папа как раз заканчивал историю про лося:
— Так что пришлось его оглушить ломиком, которым я вскрываю ящики, и все такое. Прямо между глаз. Он только вот так дернулся и… М-да. Короче, неприятная вышла история.
— Понятно дело.
Оскар запрыгнул на багажник и подтянул ноги. Папа покопался в кармане жилета и вытащил вязаную шапку:
— Держи. Натяни на уши.
— Не надо, у меня есть.
Оскар вытащил шапку, надел. Папа запихнул свою обратно в карман.
— А ты? Уши замерзнут.
Папа рассмеялся:
— Ничего, я привык.
Оскар и сам это знал, просто подтрунивал. Он не помнил, чтобы хоть раз видел папу в «петушке». В сильные морозы отец еще мог надеть ушанку из медвежьей шкуры, доставшуюся ему по наследству, но ни о чем другом и речи быть не могло.
Папа завел мопед, взревевший, как бензопила. Отец прокричал что-то о «холостых оборотах» и включил первую передачу. Мопед рванулся так, что Оскар чуть не слетел с багажника, папа крикнул: «Есть контакт!» — и они поехали.
Вторая передача. Третья. Мопед мчался по поселку. Оскар сидел враскоряку на дребезжащем багажнике. Он воображал себя властителем всей земли и мог бы так ехать до бесконечности.
*
Врач все ему разъяснил. Кислотные пары повредили связки, и, скорее всего, он больше никогда не сможет нормально говорить. При помощи еще одной операции можно вернуть рудиментарную способность воспроизводить гласные, но, так как язык и губы сильно повреждены, восстановление аппарата для произнесения согласных потребует нескольких операций.
Как бывший учитель шведского, Хокан не мог не восхищаться самой идеей хирургической реконструкции человеческой речи.
Он немало знал о фонемах и частицах языка, общих для разных культур. Но он никогда не думал о самом инструменте — нёбе, губах, языке, связках — в подобном контексте. Ему никогда не приходило в голову, что из бесформенного материала можно вытесать скальпелем человеческую речь, как скульптуры Родена из мраморной глыбы.
Но это не имело никакого значения. Он все равно не собирался говорить. К тому же он подозревал, что врач рассказал ему об этом не без задней мысли. Хокана считали здесь «склонным к суициду», и было важно внушить ему линейное восприятие времени. Приучить к мысли о собственной жизни как стремлении к цели, вселить мечту о будущих победах.
Но им его не провести.
Ради Эли он еще готов был жить. И только. А пока у него не было ни малейшего повода полагать, что она в нем нуждается.
Хотя как бы она сюда проникла?
Судя по кронам деревьев за окном, палата находилась на одном из верхних этажей. К тому же его хорошо охраняли. Помимо врачей и медсестер, поблизости всегда маячил как минимум один полицейский. Эли при всем желании не смогла бы к нему попасть, а он не мог отсюда выбраться. Ему вдруг нестерпимо захотелось бежать, в последний раз увидеться с Эли… Но как?
После операции на горле он снова мог дышать, его больше не подключали к респиратору. Правда, принимать пищу обычным способом он не мог (врачи, конечно же, заверили его, что и эта проблема в скором времени будет решена). Краем глаза он видел покачивающуюся трубку капельницы. Если ее выдернуть, наверняка один из приборов тут же заверещит, к тому же он почти ничего не видел. Побег был немыслим.
Пластический хирург восстановил ему веко, пересадив кожу со спины, так что теперь он мог закрыть глаза.
Он зажмурился.
Дверь в палату открылась. Начинается. Он узнал голос — тот же человек, что и в прошлый раз.
— Ну что? — произнес полицейский. — Говорят, что какое-то время еще придется помолчать? Жаль, жаль. Но меня не покидает ощущение, что мы все равно могли бы пообщаться, стоит вам только захотеть.
Хокан попытался вспомнить, что писал Платон в «Государстве» об убийцах и насильниках, как с ними следует поступать.
— Я смотрю, вы теперь и глаза закрывать можете? Здорово! Знаете что, а давайте-ка мы поговорим поконкретнее? Я тут подумал: вдруг вы считаете, что мы не сможем установить вашу личность? Так вот, если это так, то вы ошибаетесь. Помните ваши часики? Старинная оказалась вещица, с инициалами часовщика, серийным номером, все дела. Остальное займет пару дней. Ну, может, неделю. И это не единственная наша зацепка. Короче, мы вычислим вас, не сомневайтесь. Так что, Макс… Не знаю, почему-то мне хочется называть вас Максом, но это временно. Макс? Не хотите нам помочь? А то придется опубликовать вашу фотографию в газете, и… ну, вы понимаете… лишняя головная боль. Будет намного проще, если вы все же решите посотрудничать сейчас… У вас в кармане нашли листок с азбукой Морзе. Вы знаете морзянку? Если хотите, можем перестукиваться.
Хокан открыл один глаз, уставившись на два темных пятна на белом расплывчатом овале лица полицейского. Тот явно расценил это как приглашение к общению и продолжил:
— И потом, тот труп в воде. Это ведь ваших рук дело, не так ли? Патологоанатомы уверяют, что следы зубов на шее принадлежат ребенку. А недавно поступил сигнал, о котором я, к сожалению, пока не могу распространяться, но… мне кажется, вы кого-то покрываете. Ведь правда? Поднимите руку, если это так.
Хокан закрыл глаз. Полицейский вздохнул:
— Ладно. Значит, будем действовать обычными методами. Ничего не хотите мне сказать на прощание?
Полицейский уже было встал со стула, когда Хокан вдруг поднял руку. Полицейский сел. Хокан поднял кисть выше. И помахал.
Пока!
Полицейский что-то сердито пробурчал, встал и вышел.
*
Раны Виржинии оказались не смертельными. В пятницу вечером ее выписали из больницы с четырнадцатью швами, большим пластырем на шее и другим, поменьше, на щеке. Она отказалась от предложения Лакке остаться у нее, пока ей не станет лучше.
Вечером пятницы она легла спать в уверенности, что в субботу утром встанет и пойдет на работу, — она не могла себе позволить пропустить рабочий день.
Но заснуть оказалось не так-то просто. Мысли ее невольно возвращались к злосчастному нападению, и она никак не могла успокоиться. Виржиния лежала в постели с открытыми глазами, и ей мерещилось, что ее вот-вот накроют черные тени, отделяющиеся от потолка. Шея под пластырем зудела и чесалась. К двум часам ночи она проголодалась, вышла на кухню и открыла холодильник.
Живот сводило от голода, и она окинула взглядом содержимое холодильника, но, как ни странно, не нашла ничего, чего бы ей захотелось съесть. Она по привычке выложила на кухонный стол хлеб, масло, сыр и молоко.
Виржиния сделала бутерброд с сыром и налила стакан молока. Потом села за стол и посмотрела на белую жидкость в стакане и серый кусок хлеба с желтой пленкой сыра. Вид еды вызывал отвращение. Есть это совершенно не хотелось. Она выбросила бутерброд и вылила молоко в раковину. В холодильнике стояло полбутылки белого вина. Она налила себе бокал, поднесла ко рту, но, почувствовав запах, передумала.
Упав духом, она налила стакан воды из-под крана. Поднеся его к губам, она заколебалась. Но уж воду-то она сможет выпить? Да. Воду она выпила, но привкус у нее был какой-то… затхлый. Словно весь вкус выпал в осадок, оставшись на дне стакана.
Она снова легла и, проворочавшись еще пару часов, наконец заснула.
Когда она проснулась, часы показывали одиннадцать. Она пулей вскочила с кровати и принялась натягивать на себя одежду в полумраке спальни. Господи, она должна быть на работе в восемь! Почему ей никто не позвонил?
Стоп! Она же проснулась от телефонного звонка. В ее последнем сне настойчиво звонил звонок, а потом вдруг замолчал. Если бы не это, она бы еще спала. Она застегнула блузку, подошла к окну и подняла жалюзи.
Свет хлестнул по лицу, как удар наотмашь. Она отпрянула от окна, выпустив из рук шнур. Жалюзи с лязгом опустились, слегка перекосившись. Она села на кровать. Луч света из окна упал на ее обнаженные ноги.
Тысяча острых игл.
Как будто кожу скрутили жгутом — блуждающая боль по всей поверхности ног.
Да что такое?
Она подтянула ноги, надела носки. Снова поднесла их к свету. Лучше. На этот раз всего лишь сто острых игл. Она встала, собираясь на работу, и снова села.
Наверное, это шок.
Ощущение, которое она испытала, подняв жалюзи, было крайне неприятным. Как будто свет был плотной материей, отталкивавшей ее тело, отторгавшей ее. Хуже всего пришлось глазам — словно кто-то сильно нажал большими пальцами на глазные яблоки, чуть не выдавив их из глазниц. Они до сих пор побаливали.
Она потерла глаза ладонями, достала из шкафчика в ванной солнечные очки и надела их.
Голод разыгрался не на шутку, но от одной мысли о содержимом холодильника или буфета всякое желание есть исчезало. К тому же ей было некогда. Она и без того опаздывала почти на три часа.
Виржиния вышла, заперла дверь и стала спускаться по лестнице так быстро, как только позволяли силы. Она испытывала слабость. Наверное, ей все же не стоило идти на работу, но что поделаешь — магазин закрывался через четыре часа и сейчас был самый наплыв субботних покупателей.
Погрузившись в свои мысли, она даже не заметила, как открыла входную дверь.
И снова этот свет.
Несмотря на очки, глаза резанула боль, а лицо и руки будто ошпарили кипятком. Она вскрикнула, втянула руки в рукава пальто, пригнула голову, пряча лицо от солнца, и пустилась бегом. Шею и кожу головы прикрыть было нечем, и они горели как в огне. К счастью, до магазина было недалеко.
Как только она оказалась внутри, боль и жжение как рукой сняло. Витрины были по большей части завешены рекламными плакатами и специальной пленкой, защищавшей продукты от солнечного света. Она сняла очки. Глаза все же немного щипало, — наверное, от лучей, проникавших в щели между плакатами. Она положила очки в карман и зашла в контору.
Леннарт, директор магазина и ее начальник, стоял и заполнял какие-то анкеты, но, когда она вошла, поднял глаза. Она ожидала услышать выговор, но он только сказал:
— Привет, как ты себя чувствуешь?
— Я… хорошо.
— Может, тебе стоит побыть сегодня дома, отдохнуть?
— Да нет, я просто подумала…
— В этом нет никакой необходимости. Лоттен подменит тебя на кассе. Я тебе звонил, но ты не ответила…
— Но, может, я могу хоть что-нибудь сделать?
— Спроси у Берит из мясного. Послушай, Виржиния…
— Да?
— Неприятная вышла история. Даже не знаю, что сказать, но… прими мое искреннее сочувствие. Если тебе понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя, только скажи.
Виржиния ничего не понимала. Леннарт был не из тех, кто жаловал больничные, и он редко входил в положение других людей. А уж чтобы он принял личное участие в чьей-то судьбе — вообще дело неслыханное. Наверное, она выглядела совсем жалкой в этих пластырях и с опухшей щекой.
Виржиния ответила:
— Спасибо. Я подумаю, — и отправилась в мясной отдел.
Она специально прошла мимо касс, чтобы поздороваться с Лоттен. У ее кассы стояла очередь из пяти человек, и Виржиния подумала, что не мешало бы ей все же открыть еще одну. Только вот захочет ли Леннарт, чтобы она в таком виде обслуживала посетителей, вот в чем вопрос.
Когда она оказалась перед незавешенным окном позади кассы, все началось по новой. Лицо горело, глаза болели. Не так, как на улице, но все равно неприятно. Не стоило ей сегодня приходить.
Заметив ее, Лоттен махнула рукой в промежутке между двумя покупателями:
— Привет, я уже читала… Как ты?
Виржиния неопределенно помахала ладонью в воздухе: так себе.
Читала?!
Прихватив с собой газеты «Свенска Дагбладет» и «Дагенс Нюхетер», она направилась к мясному отделу. Бегло просмотрела заголовки на первой странице. Ничего. Ну еще бы, невелика птица.
Мясной отдел находился в глубине магазина, рядом с молочным, специально расположенный так, чтобы к нему нужно было пройти через весь торговый зал. Виржиния остановилась у полки с консервами. Тело сотрясалось от голода. Она внимательно изучила банки.
Консервированные помидоры, шампиньоны, мидии, тунец, равиоли, пивные колбаски, гороховый суп… не пойдет. От всего этого она лишь испытывала тошноту.
Берит увидела ее из-за своей стойки, помахала рукой. Стоило Виржинии оказаться за прилавком, как та бросилась ее обнимать и осторожно потрогала пальцем пластырь на щеке.
— Ой, бедная!
— Да нет, все…
В порядке?
Виржиния поспешно ретировалась в помещение склада за мясным отделом — дай Берит волю, и она будет долго еще распинаться на тему страдания человеческого в целом, и бед современного общества в частности.
Виржиния присела на стул между весами и дверью в рефрижераторную. Все помещение было не больше пары квадратных метров, но это было самое приятное место во всем магазине. Сюда не проникал солнечный свет. Она пролистала газеты и наткнулась на небольшую статейку в «Дагенс Нюхетер» в разделе «Местные новости»:
Нападение на женщину в Блакеберге
В ночь с четверга на пятницу в пригороде Стокгольма Блакеберге произошло разбойное нападение на пятидесятилетнюю женщину. Ей были нанесены телесные повреждения. К счастью, один из прохожих вмешался, но преступнице, оказавшейся молодой женщиной, удалось скрыться с места преступления. Мотив преступления остается неизвестен. Полиция расследует возможную связь с другими случаями насилия, происшедшими в западном направлении за последние несколько недель. Нанесенные жертве ранения признаны незначительными.
Виржиния опустила газету. Так странно читать о себе в подобном духе: «пятидесятилетняя женщина», «прохожий», «незначительные». А сколько всего стоит за этими словами.
«Возможная связь». Да, Лакке был уверен, что на нее напала та же девочка, что прикончила Юкке. Ему даже пришлось прикусить себе язык, чтобы не проговориться, когда женщина из полиции и врач в очередной раз осматривали ее раны в больнице утром пятницы.
Он уже решил все рассказать, но сначала хотел сообщить об этом Гёсте, надеясь, что после всего происшедшего с Виржинией он изменит свое мнение на этот счет.
Она услышала какое-то шуршание, и только через несколько секунд осознала, что это шуршит газета в ее руках. Она положила газеты на полку над крюками с копчеными окороками и вышла к Берит.
— Могу я тебе чем-то помочь?
— Ну что ты, милая, зачем?
— Чтобы чем-нибудь себя занять.
— А, понимаю. Ну, можешь расфасовать креветки. По полкило. Но ты точно не хочешь?..
Виржиния покачала головой и вернулась на склад. Здесь она надела белый халат и шапочку, вытащила из рефрижератора коробку с креветками, сунула руку в полиэтиленовый пакет и начала развешивать креветки. Зачерпнула рукой в полиэтилене креветки, положила в пакет, взвесила. Скучная механическая работа, да и рука мерзнет уже после четвертого захода. Зато она что-то делала, а так было легче собраться с мыслями.
Ночью в больнице Лакке сказал странную вещь: что напавшая на нее девочка не была похожа на человека, что у нее были клыки и когти.
Само собой, Виржиния отмахнулась от его слов, сочтя это пьяным видением или галлюцинацией.
Она лишь смутно помнила подробности того вечера, но одно она знала точно: напавшее на нее существо было слишком легким для взрослого, да и для ребенка, пожалуй, тоже. Разве что для очень маленького, пяти-шести лет. Она припомнила, как поднялась на ноги с ношей на спине. Дальше — темнота до тех пор, пока она не открыла глаза в своей квартире в окружении всей компании, не считая Гёсты.
Она запечатала очередной пакет, взяла следующий, насыпала в него пару пригоршней креветок, взвесила. Четыреста тридцать грамм. Еще семь креветок. Пятьсот десять.
Ладно, угощаем.
Виржиния взглянула на свои руки, механически исполняющие работу, не нуждаясь в какой-либо мозговой деятельности. Руки. Длинные когти. Острые зубы. Что же это было? Лакке так и сказал: вампир. Виржиния усмехнулась — осторожно, чтобы не разошлись швы на щеке. Лакке даже не улыбнулся.
— Ты просто этого не видела.
— Лакке, но их не существует!
— Да? А кто же тогда это по-твоему?
— Девочка. Со странными фантазиями.
— Ага, и когти отрастила? Зубы заточила? Хотел бы я посмотреть на того зубного врача…
— Лакке, было темно. Ты был пьян, так что…
— Было темно. Я был пьян. Но я знаю, что видел.
Рана под пластырем ныла и горела. Виржиния сняла пакет с правой руки, приложила ладонь к шее. Холод руки приятно остужал кожу, но Виржиния чувствовала себя совершенно обессиленной, ноги подкашивались.
Ладно, закончит коробку — и домой. Это никуда не годится. Отдохнет дома на выходных, к понедельнику наверняка станет лучше.
Она снова надела пакет на руку и с остервенением принялась за работу. Она ненавидела болеть.
Резкая боль в указательном пальце. Черт! Не надо было отвлекаться. Укололась о замороженную креветку. Виржиния сняла пакет с руки и посмотрела на палец — из небольшой ранки сочилась кровь.
Она по инерции сунула палец в рот.
Теплое, целительное, приятное на вкус пятно разлилось там, где кончик пальца соприкоснулся с языком, обволакивая нёбо. Она пососала палец. Букет самых ярких вкусов наполнил рот. По телу пробежала судорога удовольствия. Она сосала и сосала палец, всецело отдавшись наслаждению, пока вдруг не осознала, что делает.
Она выдернула палец изо рта и уставилась на него. Он был весь в слюне, и капли крови, сочившейся из ранки, мгновенно расплывались, как разбавленная акварель. Она посмотрела на креветки в коробке — розовые заиндевевшие тельца. И глаза. Черные булавочные головки на фоне белой и розовой плоти, звездное небо наоборот. Узоры, созвездия заплясали у нее перед глазами.
Мир накренился, и кто-то стукнул ее по голове. Перед глазами возникла белая поверхность с паутиной по углам. Она поняла, что лежит на полу, но сил подняться у нее не было.
Откуда-то издалека послышался голос Берит:
— Боже!.. Виржиния!..
*
Йонни любил тусоваться со старшим братом. По крайней мере, когда с ним не было его стремных друзей. Джимми водился с парой-тройкой парней из Роксты, которых Йонни всерьез побаивался. Как-то вечером пару лет назад они пришли к ним во двор, разыскивая Джимми, но позвонить в дверь или подняться почему-то не захотели. Йонни сказал, что брата нет дома, и тогда они попросили его кое-что передать:
— Скажи своему братцу, что, если не принесет бабло до понедельника, мы ему зажмем башку струбциной. Знаешь, что это такое?.. вот и хорошо. И будем затягивать, пока у него бабки из глаз не посыплются. Передашь? Ну вот и отлично. Как, говоришь, там тебя? Йонни? Ну, бывай, Йонни.
Йонни все передал, и Джимми только кивнул в ответ, сказав, что знает. После этого из маминого кошелька пропали деньги, и дома разразился страшный скандал.
В последнее время Джимми не слишком часто бывал дома. С тех пор как появилась еще одна младшая сестра, ему там не было места. У них в семье и так было четверо детей и больше вроде как не планировалось. Но потом их мать познакомилась с каким-то мужиком, ну и… короче, так вышло.
По крайней мере, у Йонни с Джимми был общий отец. Он недавно устроился работать на нефтяную вышку в Норвегии и теперь присылал не только алименты, но и немного сверху. Мать на него просто молилась, спьяну пару раз даже всплакнув, что такого мужика ей больше не встретить. Впервые за всю жизнь Йонни хроническая нехватка денег перестала быть постоянной темой для разговора в их доме.
Сейчас они сидели в пиццерии на центральной площади Блакеберга. Джимми с утра забежал домой, немного поскандалил с матерью и ушел, прихватив с собой Йонни. Джимми высыпал салат на свою пиццу, скатал ее в большую трубочку и начал жевать, зажав в кулаке. Йонни ел пиццу обычным способом и думал, что в следующий раз, когда будет один, тоже так попробует.
Продолжая жевать, Джимми кивнул на повязку на ухе брата:
— Ну и видок у тебя.
— Да уж.
— Болит?
— Да нет, ничего.
— Мать говорит: все, кранты. Оглохнешь на одно ухо.
— Да ну, они и сами пока толком не знают. Может, еще обойдется.
— Гм. То есть я правильно понимаю: тот придурок просто взял здоровую ветку — и херак тебе по башке?
— Угу.
— Во, бля, дает. Ну и че? Что будешь делать?
— Не знаю.
— Помочь?
— …Не.
— А то смотри, я парней позову — отделаем его по полной программе…
Йонни оторвал четвертинку пиццы с креветками, его любимую часть, запихнул в рот и пожевал. Нет. Втягивать приятелей Джимми в эту историю точно не стоило: черт его знает, чем это могло закончиться. И все же он не мог сдержать улыбку при мысли, как обоссался бы Оскар, увидев его в компании Джимми и его дружков из Роксты. Он покачал головой.
Джимми положил свернутую в трубочку пиццу на тарелку и серьезно посмотрел ему в глаза:
— Ну ладно, мое дело предложить. Но ты имей в виду — еще раз, и…
Хрустнув пальцами, он потряс кулаком:
— Ты мне брат, и я не допущу, чтобы какое-то чмо… Еще один раз — и можешь меня даже не уговаривать. Он мой. Договорились?
Джимми протянул ему через стол сжатый кулак. Йонни тоже сжал руку в кулак, и они соприкоснулись костяшками пальцев. Ему было приятно, что хоть кому-то до него есть дело. Джимми кивнул:
— Ну вот и хорошо. У меня тут для тебя есть кое-что.
Он наклонился под стол и вытащил пакет, с которым таскался все утро. Он вытащил из него тонкий фотоальбом.
— Ко мне тут отец заезжал на прошлой неделе. Бороду отрастил, еле его узнал. Смотри, что привез.
Джимми протянул альбом брату. Йонни вытер пальцы о салфетку и открыл его.
Детские фотографии. Мама. Лет на десять моложе, чем сейчас. И мужчина, в котором он узнал отца. Мужчина качал детей на качелях. На одной из фотографий он был в ковбойской шляпе, которая явно была ему мала. Джимми, лет десяти, не больше, стоял радом, с мрачным выражением лица и с игрушечным ружьем. Маленький мальчик — судя по всему, Йонни, — сидел на земле и смотрел на них круглыми глазами.
— Выпросил у него до следующего приезда. Он велел вернуть, сказал, что это — черт, как же он выразился? — «все его богатство», ну или типа того. Я подумал, что тебе тоже будет интересно.
Йонни кивнул, не отрываясь от альбома. Он виделся с отцом всего два раза в жизни с тех пор, как от них ушел, когда Йонни было четыре года. Дома хранилась одна-единственная его фотография, да и та довольно паршивая: он там сидел с какими-то незнакомыми людьми. Но этот альбом — совсем другое дело. Из него, по крайней мере, можно было сложить нормальное представление об отце.
— Ах да, и еще. Матери не показывай. Отец вроде как стырил его, когда они разошлись, и если она увидит… Короче, ему хочется его сохранить. Дай слово, что не покажешь матери.
По-прежнему уткнувшись носом в альбом, Йонни снова протянул через стол кулак. Джимми рассмеялся, и мгновение спустя Йонни почувствовал прикосновение костяшек брата к его кулаку. Слово.
— Слышь, потом посмотришь. На, пакет возьми.
Джимми протянул ему пакет, и Йонни неохотно закрыл альбом и убрал его. Джимми доел свою пиццу, откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу.
— Ну че, как дела с телками?
*
Поселок проносился мимо. Снег взметался из-под колес мопеда, осыпая щеки Оскара ледяной крошкой. Он обеими руками вцепился в ручку троса и чуть наклонился в сторону, спасаясь от снежного вихря. Хруст наста под лыжами. Одна лыжа задела оранжевую сигнальную веху, и Оскар покачнулся, но сумел удержать равновесие.
Дорога к поселку Логарё с его летними домиками была не расчищена. Мопед оставлял за собой три глубокие колеи на чистом снегу, а за Оскаром, катившимся метрах в пяти позади, тянулась свежая лыжня. Он зигзагом перечеркивал следы мопеда, ехал на одной лыже, как настоящий мастер, садился на корточки, превращаясь в комок абсолютной скорости.
К тому времени, как папа слегка сбросил скорость на длинном склоне, ведущем к старому причалу, Оскар уже разогнался быстрее мопеда, и ему пришлось осторожно притормозить, чтобы избежать рывка, когда мопед съедет с горы и снова прибавит газу.
Доехав до пристани, папа переключился на нейтралку и нажал на тормоза. Оскар все еще несся на всех парах, и его вдруг охватило мимолетное желание отпустить трос и катиться дальше… с края причала прямо в черную воду. Но он все же расставил лыжи и затормозил в нескольких метрах от воды.
Какое-то мгновение он стоял, переводя дух и глядя на воду с тонкими льдинами, колыхавшимися у самого берега. Может, в этом году и правда случится настоящий лед. Тогда можно будет ходить пешком на ту сторону, в Вэтё. Или пролив в Норртелье расчищают ото льда? Он уже и не помнил — так давно здесь не замерзала вода.
Летом Оскар любил с этого причала ловить сельдь — на спиннинг с крючками и блесной. Если попадался большой косяк, можно было, набравшись терпения, наловить пару килограммов, но чаще всего ему удавалось поймать штук десять-пятнадцать. Этого хватало на ужин, а самые мелкие рыбешки, негодные для жарки, доставались коту.
Папа подошел и остановился рядом.
— Отлично прокатились.
— Ага. Только лыжи проваливаются.
— Да, снег слишком рыхлый. Его бы как-нибудь утрамбовать. К примеру, взять кусок фанеры, чем-нибудь придавить сверху и так протащить. Ну или тебя на него усадить…
— Давай!
— Не, теперь уж завтра. Того и гляди стемнеет. Поехали-ка домой, птичкой займемся, чтоб без ужина не остаться.
— Ну ладно.
Папа молча постоял, глядя на воду.
— Слушай, я тут подумал…
— Что?
Ну начинается. Мама сказала Оскару, что крепко-накрепко наказала отцу с ним поговорить про ту историю с Йонни. Вообще-то Оскару и самому хотелось поговорить об этом. Они с папой общались как бы на безопасном расстоянии — он все равно не мог вмешаться в происходящее. Папа прокашлялся, напрягся. Выдохнул. Посмотрел на воду. Потом сказал:
— Короче, я что подумал… У тебя коньки есть?
— Не-а, они мне малы.
— А-а-а… Нет? Ну ладно, а то, раз в этом году будет лед — а похоже, все к тому идет, — было бы неплохо иметь коньки. У меня есть.
— Вряд ли они мне подойдут.
Папа хмыкнул:
— Да я понимаю. Спрошу у Эстена — его пацан небось уже из своих вырос. У него тридцать девятый. А у тебя?
— Тридцать восьмой.
— Ну, с шерстяными носками пойдет. Короче, спрошу его, не отдаст ли.
— Супер!
— Ага. Да. Ну что, пошли домой?
Оскар кивнул. Видимо, разговор о Йонни откладывался на потом. А коньки ему совсем не помешают. Если отец раздобудет их завтра, он мог бы забрать их домой.
Он подкатил на своих коротких лыжах к ручке троса, отошел назад, натягивая его, и махнул рукой отцу. Тот сразу дал по газам. В гору им пришлось ехать на первой передаче. Мопед ревел так, что перепуганные вороны срывались с верхушек сосен.
Оскар медленно скользил вверх по склону, как на фуникулере, стоя на прямых ногах. Он ни о чем не думал, стараясь держаться своей лыжни, чтобы не пришлось прокладывать новую. Пока они ехали домой, спустились сумерки.
*
Лакке шел по лестнице, ведущей от центральной площади. За поясом штанов у него была коробка конфет. Воровать он не любил, но денег у него не было, а ему хотелось сделать Виржинии подарок. Вот бы еще раздобыть букет роз — да только поди попробуй что-нибудь прикарманить в цветочном магазине.
Уже стемнело, и, спустившись к зданию школы, он заколебался. Оглядевшись, он разгреб снег ногой и нашел под ним камень размером с кулак. Лакке выковырял его и положил в карман, зажав камень в руке. Не то чтобы он надеялся, что это спасет его от оборотня, но тяжесть и прохлада камня в кармане несколько успокаивали.
Он опрашивал жильцов по дворам, но это не принесло никаких результатов, только вызвало подозрения у родителей, лепивших снеговиков со своими детьми, — что за пьяный мужик?
Когда он открыл рот, чтобы заговорить с женщиной, выбивавшей ковры на улице, он вдруг понял, как странно его поведение должно смотреться со стороны. Женщина приостановила работу и обернулась к нему, выставив выбивалку перед собой, как оружие.
— Простите, — начал Лакке. — Я только хотел спросить… Я разыскиваю девочку…
— Да?
М-да. Теперь он и сам услышал, как это звучит, и от этого еще больше смутился.
— Дело в том, что она… пропала. Может, ее здесь видели?
— Это ваш ребенок?
— Нет, но…
Не считая пары подростков, он больше не пытался заговаривать с людьми на улице. По крайней мере, с теми, кого не знал в лицо. Он встретил несколько знакомых, но они ничего не видели. Ищите да обрящете, ага. Только неплохо бы как минимум знать, чего ищешь.
Он спустился к аллее возле школы, бросил взгляд на мост Юкке.
Вчерашние газеты раздули из этого дела целую шумиху, в основном, конечно, из-за кошмарной истории с телом. Убитый алкаш сам по себе большого интереса не представлял, но столпившиеся вокруг дети, пожарные, вырубавшие тело из льда, и прочие смачные подробности были лакомым кусочком для прессы. Рядом с текстом красовалась паспортная фотография Юкке, на которой он смахивал по меньшей мере на серийного убийцу.
Лакке миновал мрачный кирпичный фасад школы Блакеберга с его крутой широкой лестницей, напоминавшей вход в министерство юстиции или в ад. Снизу на стене кто-то вывел краской «Iron Maiden», уж что бы это ни значило. Может, группа какая.
Пройдя мимо автостоянки, он вышел на Бьёрнсонсгатан. Обычно он срезал путь за школой, но там было… темно. Он мог легко представить себе нечисть, затаившуюся в темноте. Он взглянул на кроны высоких сосен, выстроившихся вдоль дороги. Что-то чернело в листве. Наверное, птичьи гнезда.
Дело было не только в том, как это существо выглядело, — но в самом нападении. Возможно — возможно, — он мог бы допустить, что клыки и когти имели какое-то рациональное объяснение, если бы не тот прыжок с дерева. Прежде чем отнести Виржинию домой, он поднял голову и изучил дерево. Ветка, откуда, по всей видимости, спрыгнула эта дрянь, располагалась метрах в пяти над землей.
Сигануть с пятиметровой высоты кому-то на спину! Что ж, если ко всем прочим «рациональным» объяснениям добавить еще «цирковой артист», тогда пожалуй. Но все вместе не лезло ни в какие ворота, как и его слова, брошенные Виржинии, о которых он теперь сожалел.
Вот черт!
Он вытащил конфеты из штанов. А вдруг они растаяли? Он потряс коробку, прислушался. Вроде нет. Конфеты постукивали внутри, значит, шоколад не слипся. Лакке продолжил путь по Бьёрнсонсгатан, мимо магазина «ИКА», держа коробку в руке.
«Измельченные томаты. Три банки — 5 крон».
И ведь всего шесть дней назад…
Лакке по-прежнему сжимал камень в кармане. Он посмотрел на вывеску, представил себе, как рука Виржинии выводит крупные ровные буквы. Ну хоть сегодня-то она должна остаться дома? Впрочем, притащиться на работу, не дожидаясь, пока свернется кровь, — это вполне в ее духе.
Подойдя к нужному подъезду, он посмотрел на ее окна. Темно. Может, она у дочери? Ладно, если ее нет, он оставит конфеты на дверной ручке. В подъезде стояла темнота — хоть глаз выколи. Волосы на загривке встали дыбом.
Девочка!
Он застыл на несколько секунд, затем бросился к светящейся красным кнопке выключателя, нажал ее тыльной стороной руки, сжимавшей коробку конфет. Второй рукой он лихорадочно стискивал камень.
Послышался щелчок реле в подвале, и в доме зажегся свет. Пусто. Подъезд как подъезд. Желтая бетонная лестница в разводах, похожих на следы блевотины. Деревянные двери. Он сделал пару глубоких вдохов и начал подниматься по лестнице.
Только сейчас Лакке почувствовал, как же он устал. Виржиния жила на последнем этаже трехэтажного дома, и он еле волок ноги, будто вместо ног у него были две бесчувственные деревяшки на шарнирах. Он надеялся, что Виржиния дома, что с ней все в порядке и что он сможет опуститься в кожаное кресло и просто отдохнуть там, где ему сейчас хотелось быть больше всего на свете. Он выпустил из рук камень и нажал кнопку звонка. Подождал. Позвонил еще раз.
Он уже начал пристраивать коробку на дверной ручке, как вдруг из квартиры донеслись тихие шаги. Он отошел от двери. Шаги прекратились. Она стояла по ту сторону двери.
— Кто?
Никогда, никогда раньше она не спрашивала, кто там. Он звонил в дверь, топ-топ — слышались ее шаги, и дверь распахивалась. Входи, входи! Он прокашлялся:
— Это я.
Пауза. Он действительно слышит ее дыхание или это только кажется?
— Ты что-то хотел?
— Хотел узнать, как ты.
Снова пауза.
— Я неважно себя чувствую.
— Можно мне войти?
Он ждал, держа коробку конфет прямо перед собой, как дурак. Послышался щелчок, позвякивание ключа во втором замке.
Ручка двери повернулась и дверь открылась.
Он невольно отшатнулся, сделав полшага назад и ударившись спиной о лестничные перила. Виржиния стояла в дверях. Вид у нее был как у мертвеца.
Помимо опухшей щеки, все лицо ее покрывала мелкая сыпь, глаза — как с чудовищного похмелья. Сетка тонких красных линий покрывала белки, а зрачки почти исчезли. Она кивнула:
— Знаю, вид у меня тот еще.
— Да нет. Я просто… Я думал, может… Можно мне войти?
— Нет, у меня нет сил.
— Ты хоть у врача была?
— Нет. Завтра пойду.
— Ага. Вот, я…
Он протянул ей коробку конфет, которую так и держал, выставив перед собой, будто щит. Виржиния приняла подарок:
— Спасибо.
— Послушай, может, я могу чем-нибудь…
— Нет. Все будет хорошо. Мне просто нужно отдохнуть. Я пойду, а то тяжело стоять. Увидимся!
— Да. Я…
Виржиния закрыла дверь.
— …завтра зайду.
И снова щелчок замка и звон цепочки. Он стоял, опустив руки. Потом подошел ближе и приложил ухо к двери. Звук открывающегося шкафа, медленные шаги по квартире.
Что же делать?
Лакке, конечно, не мог ее заставить, но была бы его воля — он сию же секунду отвез бы ее в больницу. Ну да ладно. Завтра утром он еще раз навестит ее и, если ей не станет лучше, отвезет в больницу, хочет она того или нет.
Лакке спустился по лестнице, осторожно переставляя ноги. Он так устал. Дойдя до пролета второго этажа, он сел на верхнюю ступеньку, погрузив лицо в ладони.
Это я во всем виноват!
Свет погас. Горло свело, и он лихорадочно схватил ртом воздух. Ах да, реле. Он и забыл, что свет выключается автоматически. Он какое-то время посидел в темноте, осторожно вытащил камень из кармана пальто, взвесил его в ладонях, уставившись в пустоту.
«Ну давай! — думал он. — Нападай!»
*
Виржиния захлопнула дверь перед просящей физиономией Лакке, заперла замок и накинула цепочку. Ей не хотелось, чтобы он ее видел. Ни он, ни кто бы то ни было. Ей стоило нечеловеческих усилий выдавить из себя слова, которые она только что произнесла, создать видимость нормальности.
С тех пор как она вернулась домой, ее состояние стремительно ухудшалось. Лоттен помогла ей добраться до дому, и Виржинии в полуобморочном состоянии пришлось молча перетерпеть боль от солнечного света, бившего в лицо. Уже дома она посмотрела на себя в зеркало и обнаружила сотни крошечных пузырей на лице и тыльной стороне ладоней. Ожоги.
Она поспала пару часов и проснулась, когда уже стемнело. Природа голода изменилась, теперь ее трясло, будто косяк мелких, отчаянно трепыхающихся рыбешек бился в ее венах. Она не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Она наматывала круги по квартире, чесалась, принимала холодный душ, пытаясь предпринять все возможное, чтобы заглушить эту зудящую дрожь. Но ничего не помогало.
Описать это чувство было невозможно. Как тогда, в двадцать два года, когда ей сообщили, что отец упал с крыши летнего дома и сломал шею. Тогда она тоже ходила кругами, и не было на земле места, где бы она могла найти покой, забыться, не чувствуя боли.
Вот и сейчас было то же самое, только хуже. Чувство тревоги, беспокойство не отпускало ее ни на минуту. Она металась по квартире, пока совсем не обессилела и не упала на стул, уронив голову на кухонный стол. В отчаянии она приняла две таблетки снотворного, запив его глотком белого вина, отдававшего канализацией.
Обычно от такой дозы она мгновенно отрубалась, но сейчас лишь почувствовала страшную тошноту, и пять минут спустя ее вырвало зеленой жижей с остатками таблеток.
Она мерила комнату шагами, рвала газету на мелкие, мелкие клочки, ползала по полу, скуля от отчаяния. Доползла до кухни, дотянулась до бутылки вина, стоявшей на столе и опрокинула ее, так что та упала на пол и разбилась у нее на глазах.
Виржиния подняла острый осколок.
Не задумываясь вжала острие в ладонь. Боль принесла облегчение, чувство реальности. Рыбешки в ее крови устремились к болевой точке. Выступила кровь. Она поднесла ладонь к губам, лизнула, пососала, и беспокойство улеглось. Она заплакала от облегчения, ткнула осколком в другое место и принялась сосать. Вкус крови смешивался со вкусом слез.
Свернувшись на кухонном полу, прижав ладонь ко рту, она жадно сосала, как новорожденный младенец, впервые отыскавший материнскую грудь, и во второй раз за этот ужасный день она чувствовала облегчение.
Не прошло и получаса после того, как она поднялась с пола, подмела осколки и заклеила ладонь пластырем, как внутри снова зашевелилось беспокойство. Тут-то и заявился Лакке.
Проводив его и закрыв дверь, Виржиния вошла в кухню и положила конфеты в шкаф. Затем она села на стул и задумалась, пытаясь отыскать во всем этот какой-нибудь смысл. Растущее беспокойство мешало думать. Еще немного — и она снова начнет метаться по комнате. Она знала одно — в этот момент с ней никого не должно быть рядом.
Тем более Лакке. Она могла причинить ему боль, с этим своим лихорадочным беспокойством.
Видимо, она подцепила какую-то болезнь. От любой болезни есть лекарства.
Завтра она пойдет к врачу, он обследует ее и скажет: «Все ясно, у вас приступ того-то и того-то. Придется вас полечить тем-то и тем-то пару недель». И все наладится.
Она снова принялась ходить по квартире. Беспокойство становилось невыносимым.
Она колотила себя по рукам и ногам, но рыбешки снова проснулись и ничего не помогало. Она знала, что нужно делать. Она всхлипнула от страха боли. Но боль была мимолетна, а облегчение так велико…
Она вошла в кухню, взяла острый ножик для фруктов, вернулась в гостиную и села на диван, приложив лезвие к сгибу локтя.
Лишь бы пережить эту ночь. Завтра она обратится за помощью. Понятно, что так дальше продолжаться не может. Пить собственную кровь! Это же очевидно. Нужно что-то делать. Но до тех пор…
Слюна наполнила рот от одного предвкушения. Она полоснула ножом по руке. Глубоко.
Оскар накрывал на стол, а папа мыл посуду. Утка получилась — пальчики оближешь. На этот раз без дроби. Тарелки даже мыть было незачем — доев дичь и почти всю картошку, они начисто подчистили всю подливку хлебным мякишем. Это было самое вкусное — вылить на тарелку соус и макать туда куски пористого белого хлеба, мгновенно впитывающие в себя жижу и тающие во рту.
Папа не особенно кулинарничал, но три блюда — картошку с мясом, жареную селедку и морскую птицу — он готовил так часто, что уже набил руку. Завтра им предстояло готовить картошку с остатками дичи.
Перед ужином Оскар провел целый час в своей комнате. У него здесь была собственная комната — довольно убогая, по сравнению с их городской квартирой, но ему здесь нравилось. В городе у него висели плакаты, фотографии и всякая всячина, которая постоянно менялась.
Здесь же никогда ничего не менялось, за что он и любил эту комнату.
Она выглядела так же, как когда ему было семь лет. Стоило ему сюда войти, втянуть носом хорошо знакомый запах сырости, еще витавший в воздухе после спешной протопки, — как у него возникало ощущение, что время здесь стоит на месте.
Тут по-прежнему хранились комиксы про Дональда Дака и медвежонка Бамсе, собранные за несколько летних каникул. В городе он их больше не читал, но здесь — друroe дело. Он знал все истории наизусть и все равно их перечитывал.
Пока из кухни струились запахи, он лежал на своей кровати и читал старый номер комиксов про Дональда Дака. Дональд Дак, утята и дядюшка Скрудж отправились в далекую страну, где не было денег, и крышечки от успокоительного лекарства дядюшки Скруджа стали твердой валютой.
Дочитав комиксы, Оскар какое-то время провозился со своими блеснами, крючками и грузилами, до сих пор хранившимися в старой коробке для шитья, — подарок отца. Прикрутил новые крючки к донке — целых пять штук — и привязал наживку на салаку на лето.
Потом они поели и, когда папа домыл посуду, сели играть в крестики-нолики.
Оскар любил вот так сидеть с отцом: листок в клеточку на узком столе, их головы, склоненные над бумагой, почти касаются друг друга. Потрескивание огня в печке.
У Оскара, как обычно, были крестики, у папы — нолики. Папа никогда не поддавался и до некоторых пор был непобедим, хотя время от времени Оскару и удавалось выиграть партию. Но теперь они играли на равных. Возможно, благодаря тому, что Оскар так увлекся кубиком Рубика.
Одна партия занимала чуть ли не половину листка, и это было Оскару на руку. Он хорошо просчитывал ходы, запоминая подходящие клеточки, куда при определенной последовательности папиных ходов можно было поставить крестик, и выдавал нападение за защиту.
Этим вечером выигрывал Оскар.
Три партии подряд были обведены в кружок с буквой «О» посредине, и только одна маленькая, за которой мысли Оскара были заняты другим, была помечена буквой «П». Оскар поставил очередной крестик, получив вилку из двух четверок — очевидное поражение отца, ведь он мог перекрыть ноликом лишь одну из них. Папа вздохнул и покачал головой:
— Да, похоже, нашелся и на меня достойный противник.
— Похоже на то.
Формальности ради папа блокировал ноликом одну четверку, а Оскар поставил пятый крестик в оставшемся ряду, обвел партию в кружок и аккуратно вывел букву «О». Папа почесал щетину и вытащил новый листок. Поднял ручку.
— Ну, уж на этот раз…
— Мечтать не вредно! Давай, ты начинаешь.
Четыре крестика и три нолика спустя раздался стук. Дверь распахнулась, и в прихожей послышался топот — кто-то отряхивал снег с сапог.
— Здорово, мужики!
Папа поднял глаза от листка, откинулся на спинку стула и выглянул в прихожую. Оскар сжал губы.
Только не это!
Папа кивнул гостю:
— Входи, входи!
— Благодарствую.
Мягкие шаги, будто кто-то шел в шерстяных носках по коридору. Через минуту в кухню вошел Янне со словами:
— Та-ак, сидите, значит, отдыхаете?
Папа жестом указал на Оскара:
— Да, ты же вроде знаком с моим пацаном?
— Ну еще бы, — ответил Янне. — Здорово, Оскар. Как жизнь?
— Хорошо.
Пока тебя не было. Валил бы ты отсюда.
Янне прошествовал к кухонному столу. Шерстяные носки сползли и болтались на ногах, как растянутые ласты. Он отодвинул стул и сел.
— В крестики-нолики режетесь?
— Да, только сын-то у меня теперь ас. Куда мне до него.
— Понимаю. Небось в городе руку набил? Ну что, может, тогда со мной сыграешь, а, Оскар?
Оскар покачал головой. Он даже не мог заставить себя посмотреть Янне в лицо, он и без того знал, что увидит. Пьяные глаза, рот, растянутый в овечью улыбку, — да, Янне походил на старую овцу, и его светлые кучерявые волосы лишь усиливали сходство. Один из папиных «дружков» — и заклятый враг Оскара.
Янне потер руки с таким звуком, словно ладони его были покрыты наждаком, и в свете прихожей Оскар увидел, как на пол посыпались чешуйки кожи. Янне страдал каким-то кожным заболеванием, делавшим его похожим на гнилой красный апельсин, в особенности летом.
— Ну-ну. Сидите, значит? Тепло, светло, и мухи не кусают…
Всегда одно и то же. Вали отсюда со своей мерзкой мордой и старыми прибаутками.
— Пап, ну что, доиграем?
— Да, только у нас же гости…
— Ничего, играйте-играйте!
Янне откинулся на спинку стула с видом человека, которому совершенно некуда спешить. Оскар знал, что битва проиграна. Вечер окончен. Все будет как всегда.
Ему хотелось закричать, что-нибудь разбить, желательно морду Янне, когда отец подошел к буфету, достал бутылку и две рюмки и поставил их на стол. Янне потер руки, и в воздухе снова заплясали чешуйки.
— О, смотри-ка, кое-что, значит, имеется в закромах-то…
Оскар смотрел на листок с недоигранной партией.
Вот здесь он поставил бы следующий крестик.
Но на сегодня с этим покончено. Ни крестиков, ни ноликов. Ничего.
Папа принялся разливать, и водка с бульканьем полилась из бутылки. Узкий стеклянный конус наполнился прозрачной жидкостью. Рюмка в руке отца казалась такой маленькой и хрупкой. Почти незаметной.
И все равно ей удавалось все испортить. Все.
Оскар скомкал листок с незаконченной партией и бросил его в печку. Отец не протестовал. Они с Янне завели разговор о каком-то общем знакомом, сломавшем ногу. Потом поговорили о других известных им переломах, разлили по новой.
Оскар сидел перед открытой дверцей печи, наблюдая, как вспыхивает и обугливается листок. Потом принес остальные партии и тоже кинул их в огонь.
Папа с Янне взяли рюмки и бутылку и перебрались в большую комнату, папа позвал его «посидеть с ними, поговорить», и Оскар ответил: «Может, позже». Какое-то время посидел, глядя в огонь. Жар ласкал его лицо. Он встал, взял с кухонного стола чистую тетрадь в клеточку, вырвал из нее все страницы и поджег. Когда тетрадь, включая обложку, превратилась в пепел, он принес карандаши и тоже бросил их в печь.
*
Было в ночной больнице что-то особенное. Мод Карлберг за стойкой регистрации окинула взглядом почти пустой зал. Кафетерий и киоски были закрыты, лишь несколько посетителей скользили, как призраки, под высоким потолком.
В такой поздний час ей нравилось представлять, что она и только она блюдет покой гигантского здания больницы Дандерюд. Конечно же, это было не так. В случае проблемы ей стоило лишь нажать на кнопку, и в течение трех минут перед ней возникал охранник.
Чтобы скоротать время поздними вечерами, она изобрела одну игру.
Она придумывала профессию, место жительства и приблизительную биографию некоего абстрактного персонажа. Возможно, какую-нибудь болезнь. А потом примеряла все это на первого попавшегося человека. Часто результат оказывался по меньшей мере забавным.
Например, она выдумала пилота, проживающего на Гетгатан с двумя собаками, о которых во время командировок заботилась тайно влюбленная в пилота соседка (ну или сосед). Проблема пилота заключалась в том, что ему или ей мерещились зеленые человечки в красных колпачках, парящие в облаках, когда он / она сидел / сидела за штурвалом.
Дальше оставалось только ждать.
Через какое-то время могла появиться суровая старуха. Женщина-пилот. В свое время слишком увлеклась спиртным в маленьких бутылочках из бортового запаса, допилась до зеленых чертиков, ее уволили. Теперь сидит целыми днями дома с собаками. А сосед все так по ней и страдает.
Так Мод коротала долгие ночные часы.
Иногда она ругала себя за эту игру, мешающую воспринимать людей всерьез. Но ничего с собой поделать не могла. Вот и сейчас — сидела и ждала священника, питающего страсть к ревущим спортивным авто и имеющего склонность подвозить случайных попутчиков в надежде обратить их на путь истинный.
Мужчина или женщина? Молодой или старый? Как может выглядеть такой человек?
Мод положила подбородок на ладони и посмотрела на вход. Что-то маловато сегодня народу. Время посещений было закончено, а новые пациенты с обычными субботними травмами, зачастую имеющими то или иное отношение к алкоголю, поступали в неотложку.
Вертушка дверей закрутилась. Вон он, святоша-автомобилист.
Но нет. Это был один из редких случаев, когда ей приходилось признать свое поражение. В дверях стоял ребенок. Хрупкая маленькая девочка лет десяти-двенадцати. Мод начала было выдумывать цепь событий, которые привели бы к тому, что эта девочка стала бы тем самым священником, но быстро перестала. У девочки был очень несчастный вид.
Девочка подошла к большой схеме больницы с разноцветными обозначениями проходов в то или другое отделение. Мало кто из взрослых мог разобраться в ней, что уж говорить про ребенка?
Мод перегнулась через стойку и тихо окликнула девочку:
— Тебе помочь?
Девочка обернулась, смущенно улыбнулась и двинулась к ней. Волосы ее были влажными, пара не успевших растаять снежинок белели на черных прядях. Она не потупилась, как часто делают дети, попав в незнакомую обстановку, — нет, темные печальные глаза смотрели прямо на Мод все то время, пока девочка приближалась к стойке. В голове Мод промелькнула мысль, четкая, как произнесенные слова:
Нужно ей что-нибудь дать. Что бы ей такое дать?
Впав в ступор, она начала лихорадочно перебирать в голове содержимое своего письменного стола. Карандаш? Надувной шарик?
Девочка встала перед ней, так что над краем стойки торчали лишь голова и шея.
— Извините, я… я ищу своего отца.
— Он пациент больницы?
— Да, вернее, я точно не знаю…
Мод посмотрела на крутящиеся двери, взгляд ее побродил по вестибюлю и остановился на девочке. На ней даже не было куртки. Только черный вязаный свитер, усеянный каплями и снежинками, сверкающими в свете ламп.
— Милая, ты совсем одна? Так поздно?
— Да, я… я только хотела узнать, здесь ли он.
— Ладно, посмотрим… Как его зовут?
— Не знаю.
— Как это — не знаешь?
Девочка потупила взгляд, будто ища что-то на полу. Когда она снова подняла голову, ее большие черные глаза увлажнились, а нижняя губа дрожала.
— Нет, он… Я знаю, что он здесь!
— Деточка, ну что ты…
Мод почувствовала, как в груди что-то вот-вот лопнет, и засуетилась, стараясь помочь делом: она наклонилась, вытащила из нижнего ящика стола рулон бумажных полотенец, оторвала кусок и протянула девочке. Она испытала облегчение оттого, что смогла ей хоть что-то дать — пусть даже кусок бумаги.
Девочка высморкалась и вытерла глаза каким-то очень взрослым жестом.
— Спасибо.
— Я даже не знаю… А что с ним?
— Он… Его арестовала полиция.
— Но тогда, может быть, тебе лучше спросить у них?
— Да, но его держат здесь. Он болен.
— А что у него за болезнь?
— Он… Я знаю только, что он здесь. Где он может быть?
— Наверное, на последнем этаже, но туда нельзя без предварительной договоренности.
— Я только хотела узнать, где его окно, чтобы я могла… Не знаю.
Девочка опять расплакалась. Горло Мод сжалось до боли. Девочка хотела знать, где ее папа, чтобы стоять под окнами больницы… в снегопад… и смотреть на его окно… Мод сглотнула.
— Если хочешь, я могу туда позвонить. Уверена, что тебя пустят…
— Нет, спасибо. Теперь я знаю… Теперь я могу… Спасибо. Спасибо.
Девочка повернулась к ней спиной и направилась к дверям.
Боже, эти несчастные семьи…
Девочка скрылась за дверью, а Мод сидела и смотрела ей вслед.
Что-то тут не так.
Мод попыталась припомнить, как она выглядела, как двигалась. Что-то в ней было не то, что-то странное… Через полминуты Мод поняла, в чем дело. Девочка была босая.
Мод выскочила из-за стойки и подбежала к дверям. Ей только в исключительных случаях разрешалось оставлять стойку без присмотра, но она решила, что сейчас тот самый случай. Она нетерпеливо протиснулась сквозь вертушку — скорее, да скорее же! — и выбежала на стоянку автомобилей. Девочки и след простыл. Что же делать? Нужно, наверное, вызвать социальные службы, чтобы они убедились, что за девочкой есть хоть какой-то присмотр. Видимо, никто не знал, что она здесь, — это все объясняло. Кто же ее отец?
Мод оглядела парковку, но девочки не было видно. Она пробежала вдоль больницы по направлению к метро. Пусто. По дороге обратно она лихорадочно соображала, кому позвонить и что предпринять.
*
Оскар лежал в своей постели в ожидании Оборотня. В его груди кипели ярость и отчаяние. Из гостиной доносились громкие голоса отца и Янне, заглушаемые музыкой из кассетника. «Братья Юп».[31] Оскар не мог различить слов, но он и без того знал эту песню наизусть.
Живешь в деревне — нужна скотина.
Фарфор продали, свинью купили…
На этом месте музыканты принимались изображать разных животных. Вообще-то они всегда казались ему смешными, но сейчас он их ненавидел. За то, что они принимают во всем этом участие. Поют свою идиотскую песню, пока папа с Янне сидят и напиваются.
Он прекрасно знал, как все будет дальше.
Через час-другой бутылка будет допита, и Янне отправится домой. Потом папа немного послоняется по кухне, пока не решит, что ему непременно нужно побеседовать с Оскаром.
Он войдет к нему в комнату, только это будет уже не папа, а воняющая перегаром размазня, полная слюнявых нежностей и сентиментальных соплей. Поднимет Оскара из постели. Поговорить. О том, как он до сих пор любит маму, о том, как любит Оскара, а Оскар его любит? Будет заплетающимся языком рассказывать обо всех нанесенных ему несправедливых обидах и в худшем случае совсем заведется и разозлится.
Он никогда не поднимал на Оскара руку, нет. Но для Оскара не было ничего хуже того, что в эти минуты происходило у него на глазах. От папы не оставалось и следа. Вместо него появлялся монстр, каким-то образом овладевший его телом.
Тот, кем папа становился после выпивки, не имел ни малейшего отношения к нему трезвому. Поэтому легче было думать о папе как об Оборотне. Представлять себе, что в теле отца действительно таится совсем другое существо. Как луна пробуждает в оборотне волка, так алкоголь пробуждал в папе эту чуждую сущность.
Оскар взял номер комиксов про медвежонка Бамсе, попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. Он чувствовал себя… брошенным. Через час или около того ему предстояло остаться наедине с Монстром. И единственное, что он мог сделать, — это ждать.
Он швырнул комиксы в стену, встал с кровати и вытащил бумажник. Билеты на метро и две записки от Эли. Он разложил их в ряд на кровати.
«В ОКОШКО — ДЕНЬ, А РАДОСТЬ — ИЗ ОКОШКА!»
И сердечко.
«ДО ВЕЧЕРА. ЭЛИ».
И вторая:
«МНЕ НАДО УДАЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ИЛИ ОСТАТЬСЯ И ПРОСТИТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ».
Вампиров не бывает.
Ночь повисла тонким покрывалом за окном. Оскар закрыл глаза и представил себе дорогу в Стокгольм, стремительно мелькающие дома, сады, поля. Он влетел во двор в Блакеберге и дальше — в ее окно, и увидел Эли.
Открыв глаза, он уставился на черный прямоугольник окна. Где-то там — она.
«Братья Юп» затянули новую песню про велосипед с проколотой шиной. Папа и Янне чему-то громко смеялись. Слишком громко. Последовал грохот какого-то предмета, падающего на пол.
Ну, и какого монстра ты выбираешь?
Оскар запихнул записки Эли обратно в бумажник и оделся. Проскользнул в коридор, надел ботинки, куртку, шапку. Несколько секунд тихо постоял в прихожей, прислушиваясь к голосам в гостиной.
Обернулся, уже собираясь уйти, но, заметив что-то, остановился.
На галошнице в прихожей стояли его старые резиновые сапоги, которые он носил, когда ему было года четыре. Они стояли здесь, сколько он себя помнил. А рядом — огромные отцовские сапоги фирмы «Треторн», на одном — заплатка из тех, какими латают велосипедные шины.
Почему он их не выбросил?
И Оскар понял. Из сапог вдруг выросли две фигуры, стоявшие к нему спиной. Папина широкая спина, а рядом — маленькая Оскара. Ладошка Оскара в папиной руке. Они шли по скалистому склону в резиновых сапогах, — наверное, за малиной.
Оскар шмыгнул носом. В горле стоял плач. Он протянул руку, чтобы коснуться маленьких сапог. Из гостиной донесся пьяный смех. Голос Янне, непохожий на себя. Наверное, кого-то пародирует — у него это хорошо получается.
Пальцы Оскара сомкнулись на голенищах маленьких сапог. Да. Он и сам не знал, почему, но это показалось ему правильным. Он украдкой открыл входную дверь и закрыл ее за собой. Ночь была морозной, снег переливался морем крошечных бриллиантов в лунном свете.
Крепко зажав сапоги в руке, он направился к шоссе.
*
Охранник спал — молодой полицейский, приставленный после того, как администрация больницы отказалась каждый день выделять по человеку на охрану Хокана. Правда, дверь запиралась на кодовый замок. Наверное, поэтому он и осмелился задремать.
Горел один ночник, и Хокан изучал размытые тени на потолке, как человек, лежащий в траве, наблюдает за облаками. Он пытался различить формы, фигуры среди теней. Он не знал, сможет ли теперь читать, но его неудержимо тянуло к книгам.
Эли больше не было рядом, и то, что определяло его прежнюю жизнь, постепенно возвращалось к нему. Ему дадут пожизненное заключение, и он потратит его на чтение книг, которые не успел прочесть, всего того, что давно обещал себе прочитать.
Он перебирал в голове все книги Сельмы Лагерлёф, когда тихий скрип прервал его мысли. Он прислушался. Снова скрип. Звук шел от окна.
Он повернул голову, насколько это было возможно, и посмотрел в ту сторону. На фоне черного неба проступал более светлый овал, освещенный лучами ночника. Рядом с овалом возникло маленькое светлое пятно, покачалось из стороны в сторону. Рука. Ему махали рукой. Ладонь скользнула по стеклу и послышался тот самый скрипучий звук.
Входи, любовь моя. Входи!
Но окно было заперто, и, даже если бы оно было открыто, его губы не смогли бы сложить слова, которые позволили бы Эли войти. Он мог бы, наверное, пригласить ее жестом, но он никогда толком не понимал, как это работает.
А может?..
Он осторожно спустил сначала одну ногу с кровати, затем другую. Попробовал встать. Ноги подкашивались, отказывая после десяти дней неподвижности. Он оперся о кровать, чуть не упав.
Трубка капельницы натянулась, оттягивая кожу там, где сидела игла. К ней подключили какую-то хитрую сигнализацию — вдоль всего шланга тянулся тонкий электрический провод. Стоит ему выдернуть наконечник — и сигнализация сработает. Он отвел руку назад, ослабляя натяжение, и повернулся к окну. Светлый овал все еще маячил в темноте, дожидаясь его.
Я должен это сделать!
Стойка капельницы была на колесиках, аккумулятор сигнализации был закреплен под пакетом. Хокан подтянул к себе стойку, ухватился за нее. Опираясь на нее, стал потихоньку подниматься. Осторожно сделал шаг. Комната поплыла перед его глазами. Он остановился. Прислушался. Дыхание охранника по-прежнему было ровным.
Муравьиными шажками он пересек комнату. При первом же скрипе колес он снова остановился и прислушался. Что-то подсказывало ему, что он видит Эли в последний раз, и он не хотел… все испортить.
Силы были на исходе, как после долгого марафона, когда он наконец добрел до окна и прижался к нему лицом, так что желатиновая пленка, покрывавшая кожу, размазалась по стеклу, и он снова почувствовал жжение.
Лишь пара сантиметров двойного стекла отделяла Хокана от его возлюбленной. Эли провела рукой по стеклу, словно лаская его изуродованное лицо. Хокан поднес глаз как можно ближе, и все равно черные глаза Эли стали расплываться, потеряли четкость.
Он думал, что слезные каналы были тоже выжжены, как и все остальное, но это оказалось не так. Слезы наполнили его глаз и ослепили его. Его искусственное веко не справлялось с работой, и ему пришлось осторожно провести здоровой рукой по глазу, в то время как тело сотрясалось от рыданий.
Его рука нащупала ручку створки. Повернула. Из дыры, некогда служившей ему носом, закапало на подоконник, когда ему удалось открыть окно.
Холодный воздух ворвался в палату. Еще немного — и охранник проснется, это был лишь вопрос времени. Хокан протянул здоровую руку Эли. Она вскарабкалась на подоконник, зажала его руку в ладонях и поцеловала. Прошептала: «Ну здравствуй, друг!»
Хокан медленно кивнул, давая понять, что он ее слышит. Затем высвободил свою ладонь и погладил Эли по щеке. Кожа под его рукой была как заледеневший шелк.
И на него снова накатило.
Он не станет гнить ни в какой тюрьме, погрузившись в бессмысленные буквы. Не станет терпеть унижения от других заключенных, в чьих глазах он совершил страшнейшее из преступлений. Он будет с Эли. Он…
Эли наклонилась к нему, скрючившись на подоконнике:
— Что я могу для тебя сделать?
Хокан отнял руку от ее щеки и указал на свое горло. Эли покачала головой:
— Но ведь тогда мне придется… тебя убить. После.
Хокан провел рукой по ее лицу. Прикоснулся указательным пальцем к ее губам, застыл. Снова отнял руку.
Указал на свое горло.
*
Дыхание белым облаком вырывалось изо рта, но он не мерз. Через десять минут Оскар уже дошел до магазина. Луна следовала за ним от самого отцовского дома, играя в прятки за верхушками сосен. Оскар посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Он вычитал в расписании, висевшем в прихожей, что последний автобус в Норртелье уходит в половине первого.
Он пересек площадку перед магазином, залитую светом с бензоколонки, и двинулся в сторону Капелльшерсвеген. Он никогда раньше не ездил автостопом, и мама бы с ума сошла, если бы узнала. Сесть в машину с незнакомыми людьми…
Он ускорил шаг, миновав пару освещенных вилл. Там в тепле сидели люди, и им было хорошо. Дети спали в своих кроватях, не беспокоясь о том, что их вот-вот разбудят родители и станут нести какую-то чушь.
Это папа во всем виноват, а не я.
Он посмотрел на сапоги, которые все еще держал в руках, швырнул их в канаву и остановился. Сапоги лежали на снегу в лунном свете, как два темных комка земли.
Мама больше никогда меня к нему не пустит.
Папа обнаружит его отсутствие примерно через час. Бросится его искать по окрестностям, звать по имени. Потом позвонит маме. Позвонит? Наверное, да. Узнать, не звонил ли Оскар. Мама сразу услышит по голосу, что папа пьян, и устроит…
Стоп. Придумал!
Как только он доберется до Норртелье, он позвонит папе из автомата. Скажет, что уехал в Стокгольм и заночует у приятеля, а завтра как ни в чем не бывало придет домой к маме.
И папе урок, и головной боли удастся избежать.
Отлично. И еще…
Оскар спустился в канаву, поднял сапоги и, распихав их по карманам, продолжил путь. Вот теперь все было хорошо. Теперь Оскар сам решал, куда пойти, и луна дружелюбно подмигивала ему, освещая дорогу. Он помахал ей рукой и запел:
Шел как-то Фритьеф Андерссон,
на шляпу сыпал снег…
Дальше слов он не знал, так что стал просто напевать мелодию.
Через несколько сот метров на дороге появилась машина Он услышал шум мотора задолго до ее появления и остановился, вытянув руку с оттопыренным большим пальцем. Машина проехала мимо, остановилась и дала задний ход. Дверь со стороны пассажирского сиденья открылась; за рулем сидела женщина чуть моложе его мамы. Бояться было нечего.
— Здравствуй. Тебе куда?
— В Стокгольм. Ну или в Норртелье.
— Я еду в Норртелье, так что… — Оскар наклонился, заглянув в машину. — Ой. А твои мама с папой знают, что ты здесь?
— Да. Папина машина сломалась, и… Короче, так получилось.
Женщина посмотрела на него, раздумывая.
— Ну ладно, садись.
— Спасибо!
Оскар сел в машину, закрыл дверь, и они тронулись с места.
— Тебе на автовокзал?
— Да, пожалуйста.
Оскар выпрямился на сиденье, радуясь теплу, растекавшемуся по телу, особенно по спине. Наверное, сиденье было с подогревом. Все оказалось проще, чем он думал. За окном проносились освещенные дома.
Ну и сидите там!
«С песнями, с плясками в Испанию и…» куда-то там еще.
— Ты живешь в Стокгольме?
— Да, в Блакеберге.
— Блакеберг… это где-то на западе, да?
— По-моему, да. Район называется Западный, так что наверное.
— Понятно. У тебя там какие-то дела?
— Да.
— Наверное, что-то важное, раз ты сорвался посреди ночи.
— Да. Очень.
*
В комнате стоял холод. Тело затекло после долгого сидения в неудобной позе. Охранник с хрустом потянулся, бросил взгляд на кровать — и тут же окончательно пришел в себя.
Пусто!.. Холод!.. Черт!
Он поднялся на дрожащих ногах, огляделся. Слава богу! Он не сбежал… Но как, черт возьми, он дотащился до окна?! И…
Это еще что?
Маньяк стоял, прислонившись к оконной раме, а у плеча громоздился какой-то черный комок. В прорези больничной рубашки белел голый зад. Охранник сделал шаг к окну и ахнул.
Комок оказался головой. Пара темных глаз уставилась прямо на него.
Он потянулся к кобуре, но вспомнил, что оружие у него отобрали. Из соображений безопасности. Пистолет лежал в сейфе в коридоре. К тому же при ближайшем рассмотрении он понял, что перед ним ребенок.
— Стоять! Ни с места!
Он бросился к окну, и девочка подняла голову.
В ту самую секунду, когда он добежал до нее, девочка соскочила с подоконника и метнулась куда-то вверх. Ее ноги еще долю секунду виднелись за окном, затем исчезли.
Она же босая!
Охранник высунул голову в окно, успев разглядеть тень, исчезнувшую на крыше. Рядом послышался тяжелый хрип.
Ах ты черт, вот черт!
Рубашка на плече и на спине маньяка отливала в лунном свете черными пятнами. Голова его повисла, а на шее зияла свежая рана. Сверху доносился металлический грохот, словно кто-то скакал по жестяной крыше. Охранника будто парализовало.
Так, как там по инструкции?.. Что важнее?
Он никак не мог вспомнить. Сначала следовало спасать жизнь. Но здесь были и другие, которые могли… он побежал к двери, набрал нужную комбинацию, выскочил в коридор и закричал:
— Сестра! Сестра! Скорее! Здесь срочно нужна помощь!
Он помчался к пожарной лестнице, в то время как дежурная сестра выбежала со своего поста и устремилась в палату, которую он только что покинул. Пробегая мимо него, она спросила:
— В чем дело?
— Неотложный случай. ЧП. Позовите кого-нибудь, произошло… убийство.
Это слово далось ему нелегко. Он никогда раньше такого не видел. Ему поручили эту нудную работу как раз из-за его неопытности. Можно сказать, незначительности. Он вытащил на бегу рацию и вызвал подкрепление.
Сестра готовилась к худшему: тело на полу в луже крови. Труп, болтающийся на скрученной простыне на трубе отопления. И с тем, и с другим ей уже приходилось сталкиваться.
Войдя в палату, она увидела лишь пустую постель. И какую-то кучу у окна. Сначала она решила, что это одежда, наваленная на подоконнике. Потом заметила, что куча шевелится.
Она бросилась туда, чтобы предотвратить непоправимое, но пациент ее опередил. Он был уже на подоконнике, наполовину свесившись наружу, когда она подоспела к нему. Она успела ухватить лишь край больничной рубашки за мгновение до того, как тело перевалилось через подоконник и наконечник капельницы выскочил из вены. Звук рвущейся ткани — и она осталась стоять с голубым лоскутом в руках. Пару секунд спустя она услышала глухой шлепок — это тело достигло земли. Затем сработала сигнализация на капельнице.
Водитель такси подъехал ко входу в реанимацию. Старик на заднем сиденье, всю дорогу развлекавший его рассказами о своей сердечной недостаточности, открыл дверь, но оставался сидеть, явно рассчитывая на помощь.
Ладно, ладно.
Водитель открыл свою дверь, обошел вокруг машины и протянул руку старикану. Снег сыпался за ворот его куртки. Старик уже оперся было на его руку, но тут взгляд его остановился на какой-то точке в небе, и он застыл.
— Давайте, я держу.
Старик указал куда-то вверх:
— Что это?
Водитель посмотрел туда, куда указывал старик. На крыше больницы стоял человек. Невысокого роста, обнаженный торс, руки по швам.
Нужно поднять тревогу!
Следовало включить рацию. Но он стоял, не смея двинуться с места. Малейшее движение — и нарушится равновесие, и маленький человечек упадет с крыши.
Он почувствовал боль в руке — старик впился когтистыми пальцами ему в ладонь. Но даже это не заставило его двинуться с места.
Снег летел в глаза, и он моргнул. Человек на крыше раскинул руки, поднял их над головой. Что-то натянулось между руками и телом, какая-то… мембрана. Старик оперся на его руку, вылез из машины и встал рядом.
В ту секунду, когда плечо старика коснулось его собственного, человек — ребенок — полетел вниз. У водителя вырвался невольный возглас, а пальцы старика снова впились ему в ладонь. Ребенок падал прямо на них.
Они инстинктивно пригнулись, прикрывая головы руками.
Ничего не произошло.
Когда они снова подняли головы, ребенка не было. Водитель огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме падающего снега в свете фонарей. Старик прохрипел:
— Ангел смерти. Это ангел смерти. Я никогда отсюда не выйду.
«Хабба-хабба зут-зут!»
На Хегторьет в вагон ввалилась компания орущих парней и девчонок. С виду ровесники Томми. Поддатые. Пацаны время от времени с криками падали на девчонок, а те, смеясь, отбивались. А потом снова заводили песню. Одну и ту же, раз за разом. Оскар украдкой поглядывал на них.
Я никогда таким не стану.
К сожалению. Он бы не отказался стать таким, как они. Им явно было весело. Но у него бы не получилось. Один из парней встал на сиденье и заорал: «А Халеба-Халеба, а-ха-Халеба…»
Старик, дремавший на местах для престарелых в конце вагона, поднял голову и крикнул:
— Потише нельзя? Здесь люди, между прочим, спать пытаются!
Одна из девчонок показала ему средний палец:
— Дома спать надо!
Все заржали и снова запели. Через несколько сидений от Оскара какой-то мужик читал книгу. Оскар вытянул шею, пытаясь различить название, но разглядел лишь автора: Йоран Тунстрем. Он такого не знал.
Напротив Оскара сидела старушка с вязаньем на коленях. Она что-то тихо приговаривала себе под нос и жестикулировала, обращаясь к невидимому собеседнику.
Оскар никогда не ездил в метро после десяти вечера. Неужели это те же люди, что днем чинно сидят и смотрят прямо перед собой или читают газеты? Или это отдельная каста, которая появляется только по ночам?
Человек с книгой перевернул страницу. Как ни странно, у Оскара на этот раз книги с собой не оказалось. А было жаль. Ему хотелось бы вот так сидеть и читать, отрешившись от всего происходящего. Но у него был лишь плеер и кубик Рубика. Он собирался послушать кассету Kiss, записанную для него Томми, поставил ее в автобусе по дороге домой, но через пару песен ему надоело.
Оскар вытащил из сумки кубик. Три стороны были собраны. На четвертой оставалось собрать лишь один угол. Однажды они с Эли целый вечер провозились с кубиком, обсуждая возможные решения, и с тех пор у него стало получаться гораздо лучше. Он оглядел кубик со всех сторон в поисках правильной стратегии, но перед глазами стояло лицо Эли.
Интересно, какой она будет на этот раз?
Он больше не боялся. У него было ощущение, что… что его просто не могло быть здесь и сейчас, он не мог поступить так, как поступил. Этого не могло быть. Это был не он.
Меня нет, а значит, никто не может мне ничего сделать.
Он позвонил отцу из Норртелье, тот плакал. Сказал, что кого-нибудь за ним пришлет. Это было второй раз в жизни Оскара, когда он слышал, как отец плачет. На какое-то мгновение он был даже готов сдаться. Но когда папа стал заводиться, заявил, что у него тоже есть право на личную жизнь и что он сам решает, как себя вести в собственном доме, Оскар положил трубку.
Тогда-то у него и появилось чувство, что его нет.
Компания подростков сошла на станции «Энтбюплан». Один из парней обернулся и прокричал:
— Спите спокойно, дорогие… — он не смог подыскать нужное слово, и одна из девчонок потянула его за собой. Когда двери уже закрывались, он вдруг вырвался, подбежал к дверям, не давая створкам сомкнуться, и выкрикнул: —… товарищи пассажиры! Спите спокойно, товарищи пассажиры!
Он отпустил двери, и поезд тронулся с места. Мужчина оторвался от книги, чтобы поглядеть на подростков на перроне, затем повернулся к Оскару и посмотрел ему в глаза. И улыбнулся. Оскар мельком улыбнулся в ответ и сделал вид, что снова занялся кубиком.
Грудь переполняло ликование — его признали за своего. Как будто человек с книгой посмотрел на него и мысленно сказал: «Все хорошо. Ты все делаешь правильно».
И все же он не осмеливался еще раз поднять глаза на человека с книгой. Оскару казалось: тот знает. Он пару раз крутанул кубик, но, передумав, сделал как было.
Кроме него в Блакеберге сошли еще два человека, правда, из других вагонов. Какой-то незнакомый взрослый парень и мужик пижонистого типа, пьяный в доску. Пижон подковылял к парню и выкрикнул:
— Эй, чувак, сигаретки не найдется?
— Сорри, не курю.
Пижон, похоже, уловил лишь сам отказ, потому что выхватил из кармана десять крон и принялся ими размахивать.
— Десять крон! За одну жалкую сигаретину!
Парень покачал головой и пошел дальше. Пижон стоял и раскачивался. Когда Оскар прошел мимо, он поднял голову и окликнул его:
— Эй, пацан!
Потом прищурился, сфокусировал взгляд на Оскаре и покачал головой:
— Не, ничего. Ступай с миром, брат!
Оскар поднялся в вестибюль, раздумывая, не взбредет ли пижону в голову помочиться на контактный рельс. Парень скрылся за дверями. Не считая дежурного, Оскар был один в вестибюле.
Ночью все казалось другим. Фототовары, цветочный и магазин одежды в переходе были закрыты, свет не горел. Дежурный сидел в своей будке, положив ноги на стол, и что-то читал. Тишина. Часы на стене показывали начало третьего. Ему давно полагалось быть в постели. Спать. Или хотя бы испытывать сонливость, но нет. Он так устал, что тело казалось пустой оболочкой, однако эта пустота была полна электричества, а не сонливости.
Внизу, на перроне, хлопнула дверь, и он услышал, как пижон затянул:
Дорогу, полицмейстеры с пудрой в париках…[32]
Он же и сам пел эту песню! Оскар засмеялся и припустил бегом. Выскочив на улицу, он помчался вниз с пригорка, мимо школы и автостоянки. Опять пошел снег, и крупные снежинки остужали его разгоряченное лицо. Он поднял голову на бегу. Луна по-прежнему следовала за ним по пятам, выглядывая между зданий.
Во дворе он остановился и перевел дух. Почти все окна были темными, но ему показалось, что из-за жалюзи Эли пробивается тусклый свет.
Как она сейчас выглядит?
Оскар поднялся на пригорок, бросил взгляд на черный прямоугольник своего окна. Там лежал обыкновенный Оскар и спал. Оскар… до Эли. С ссыкариком в трусах. Теперь-то он с ним завязал, ему это больше не требовалось.
Он вошел в дом и направился по коридору в ее подъезд. Он даже не остановился, чтобы посмотреть, осталось ли пятно на полу. Просто прошел мимо. Пятна больше не существовало. У Оскара не было ни мамы, ни папы, ни прошлой жизни, он был… сам по себе. Он вышел в соседний подъезд, поднялся по лестнице и остановился на площадке перед обшарпанной деревянной дверью с табличкой без имени.
А ведь за ней…
Он представлял себе, как взбегает вверх по лестнице и нажимает на звонок, но вместо этого лишь сел на предпоследней ступеньке у двери.
А что если она не хочет его видеть?
В конце концов, это она от него убежала. Может, она прогонит его, попросит оставить ее в покое, скажет, что…
Подвал. Там, где тусуются Томми и компания.
Не сидят же они там по ночам? Он мог бы переночевать на их диване. А с Эли можно встретиться завтра вечером, как раньше.
Как раньше больше не будет.
Он уставился на кнопку звонка. Уже ничего не будет как раньше. Нужен был решительный шаг — побег посреди ночи, бросок домой автостопом, — чтобы показать: это — важно. Он боялся не того, что она, судя по всему, питалась человеческой кровью. Он боялся, что она его отвергнет.
Оскар позвонил.
В квартире раздался резкий звонок, умолкший, как только он отпустил кнопку. Он посидел, выжидая. Потом позвонил еще раз, на этот раз подольше. Тишина. Ни звука.
Ее не было дома.
Оскар неподвижно сидел на лестнице. Разочарование камнем оседало в животе. Внезапно он почувствовал себя очень-очень усталым. Он медленно поднялся и начал спускаться по лестнице. На полпути вниз ему вдруг пришла идея. Глупая, но попробовать стоило. Он снова вернулся к ее двери и, чередуя длинные сигналы с короткими, вызвонил ее имя морзянкой.
Короткий звонок. Пауза. Короткий, длинный, короткий, короткий. Пауза. Короткий, короткий.
Э-Л-И
Подождал. С той стороны не доносилось ни звука. Он повернулся, собираясь уходить, как вдруг услышал ее голос:
— Оскар? Это ты?
Она! Несмотря ни на что, радость ракетой взорвалась в его груди, и он, не сдержавшись, громко выкрикнул:
— Да!
*
Чтобы чем-нибудь себя занять, Мод Карлберг принесла из кабинета за стойкой чашку кофе и села в своем темном закутке. Ее смена закончилась еще час назад, но полиция просила ее задержаться.
Двое мужчин в штатском водили кисточками с каким-то порошком по полу, там, где прошла босая девочка.
Полицейский, расспрашивавший Мод о девочке — что она говорила, что делала, как выглядела, — вел себя странно. Мод все время различала в его голосе упрек, будто она что-то сделала не так. Но откуда же ей было знать?
Хенрик, один из охранников, чья смена часто совпадала с ее дежурством, подошел к стойке и указал на чашку кофе:
— Это мне?
— Если хочешь.
Хенрик взял кофе, отхлебнул и оглядел вестибюль. Помимо тех, с кисточками, здесь был еще один полицейский в форме, общавшийся с водителем такси.
— У нас сегодня аншлаг.
— Ничего не понимаю. Как она могла туда забраться?!
— Не знаю. Они как раз сейчас это выясняют. Похоже, вскарабкалась по стене.
— Но это же невозможно!
— В том-то и дело.
Хенрик вытащил из кармана пакетик с лакричными конфетами в форме корабликов и протянул ей. Когда Мод покачала головой, Хенрик взял три штуки, запихнул их в рот и смущенно пожал плечами:
— Бросил курить. Набрал четыре килограмма за две недели, — он поморщился. — Да, видела бы ты его…
— Кого — маньяка?
— Ага. Всю стену кровью заляпал… и это лицо. Нет, уж если кончать жизнь самоубийством, то только таблетки. А прикинь, работать патологоанатомом. Все время…
— Хенрик?
— Что?
— Может хватит, а?
*
Эли стояла в дверном проеме. Оскар сидел на лестнице. В одной руке он сжимал ручку сумки, будто в любой момент собираясь уйти. Эли заправила длинную прядь за ухо. Вид у нее был совершенно здоровый. Маленькая, неуверенная в себе девочка. Она посмотрела на свои руки, тихо спросила:
— Ну, ты идешь?
— Да.
Эли почти незаметно кивнула, сцепив руки замком. Оскар продолжал сидеть.
— Можно… мне войти?
— Да.
И тут на него что-то нашло.
— Скажи, что мне можно войти.
Эли подняла голову, хотела что-то сказать, но промолчала. Потянула на себя дверь, будто собираясь ее закрыть, остановилась. Потоптавшись босыми ногами, она произнесла:
— Входи.
Она повернулась и ушла вглубь квартиры. Оскар проследовал за ней, закрыв за собой дверь. Он поставил сумку в прихожей, снял куртку и повесил ее на пустую вешалку.
Эли стояла в дверях в гостиную, уронив руки. На ней были трусы и красная футболка с надписью «Iron Maiden» поверх нарисованного черепа, украшавшего их диски. Оскар смутно припоминал эту футболку — он видел похожую на помойке. Неужели та самая?!
Эли изучала свои грязные ноги.
— Зачем ты так сказал?
— Ну, ты же так говоришь.
— Да. Оскар…
Она умолкла. Оскар стоял не двигаясь, держась за только что повешенную куртку. Глядя на нее, он спросил:
— Ты вампир?
Она обхватила себя руками, медленно покачала головой:
— Я… питаюсь кровью. Но я… не такая.
— А что, есть какая-то разница?
Она очень серьезно посмотрела ему в глаза и сказала:
— Разница очень большая.
Пальцы ее ног то сжимались, то разжимались. Голые ноги были совсем тоненькие; там, где заканчивалась футболка, можно было разглядеть белые трусы. Он махнул рукой в ее сторону:
— Так ты что… мертвая?
Она улыбнулась — впервые с тех пор, как он пришел.
— Нет. А что, не видно?
— Да не, я не в том смысле… Ну, ты типа когда-то умерла?
— Нет. Но я очень долго жила.
— Так ты старая?
— Нет. Мне двенадцать лет. Только уже очень давно.
— Значит, ты все-таки старая. Внутри. В голове.
— Нет. Не старая. Мне и самой это кажется странным. Никак не могу понять, почему я так и не становлюсь взрослее.
Оскар подумал, погладил рукав своей куртки.
— Может, как раз поэтому?
— В каком смысле?
— Ну… ты не можешь понять, почему тебе всего двенадцать, потому что тебе всего двенадцать.
Эли подняла брови:
— Хочешь сказать, я дура?
— Нет. Просто медленно соображаешь. Как все дети.
— Да что ты говоришь? И как успехи с кубиком Рубика?
Оскар прыснул, посмотрел ей в глаза и вспомнил ее зрачки. Сейчас они выглядели совершенно нормальными, но он же видел, какими они были… И все равно… это не укладывалось в голове. Он не мог поверить.
— Эли. Ты все выдумала, да?
Эли провела рукой по черепу на футболке, и ладонь застыла на открытой пасти чудища.
— Ты все еще хочешь заключить со мной союз?
Оскар невольно отпрянул:
— Нет!
Она посмотрела на него с грустью, даже упреком:
— Да не в том смысле! Ты же понимаешь, что…
Она умолкла. Оскар продолжил за нее:
— … что если бы ты хотела меня убить, ты бы давно это сделала.
Эли кивнула. Оскар сделал еще полшага назад. Сколько секунд потребуется на то, чтобы выскочить из квартиры? Взять сумку или оставить здесь? Эли, казалось, не замечала его беспокойства, внезапного желания убежать. Оскар остановился, напрягшись:
— А я не… заражусь?
Не отрывая взгляд от черепа на своей футболке, Эли покачала головой:
— Я не хочу никого заражать. Тем более тебя.
— Тогда что это за союз?
Она посмотрела туда, где, как ей казалось, он стоял, но обнаружила его совсем в другом месте. Помедлила. Потом подошла к нему, взяла его лицо в свои ладони. Оскар ничего не понимал. Вид у Эли был… бесстрастный. Отсутствующий. Но это не имело ничего общего с лицом, увиденным им в подвале. Кончики ее пальцев коснулись мочек его ушей. Оскар почувствовал, как по телу разливается спокойствие.
Ну и пусть.
Будь что будет.
Лицо Эли было сантиметрах в двадцати от его собственного. Изо рта ее шел странный запах, как в сарае, где папа хранил металлолом. Да Ее дыхание пахло… ржавчиной. Она погладила его ухо кончиком пальцев. Прошептала:
— Я так одинока. Никто ничего не знает. Хочешь узнать?
— Да.
Она быстро приблизила свое лицо к нему и обхватила его верхнюю губу своими — теплыми и сухими. Его рот наполнился слюной, и он сомкнул губы вокруг ее нижней губы, тут же ставшей влажной и податливой. Их губы плавно скользили, изучая друг друга, и Оскар погрузился в теплую темноту, вдруг наполнившуюся светом, превратившуюся в большое пространство, дворцовую залу, с длинным столом посредине. Стол буквально ломился от яств, и Оскар…
…подбегает к блюдам с едой, хватает ее руками. Вокруг него другие дети, большие и маленькие. Все едят. Во главе стола сидит… мужчина? Женщина?..
…Господин, с каким-то сооружением на голове, — должно быть, париком. Голову его венчает целая башня из волос. Он сидит, вальяжно откинувшись на спинку стула, с бокалом, наполненным темно-красной жидкостью, затем отпивает из него и благосклонно кивает Оскару.
Они все едят и едят. В глубине зала, у стены, Оскар видит бедно одетых людей. Они с тревогой следят за происходящим. Какая-то женщина, с коричневой шалью поверх волос, стоит, сцепив руки на животе, и в голове у Оскара проносится: «Мама».
Затем раздается позвякивание металла о край бокала, и все взгляды обращаются на господина во главе стола. Он встает. Оскар его боится. У него маленький, узкий рот неестественно красного цвета. Лицо белее мела. Оскар чувствует, как мясной сок стекает с его губ, во рту — кусок мяса, который он осторожно трогает языком.
Господин в парике вытаскивает кожаный кошель. Изящным движением он развязывает тесемки и высыпает на стол пару больших белых игральных костей. Кости катятся по столу, сопровождаемые гулким эхом, и замирают. Господин берет кости и протягивает их Оскару и остальным детям.
Человек открывает рот, собираясь что-то сказать, но в ту же минуту кусок мяса выпадает изо рта Оскара, и…
Губы Эли разомкнулись, она выпустила его голову из своих ладоней и сделала шаг назад. Превозмогая страх, Оскар попытался снова вызвать в сознании дворцовую залу, но тщетно.
— Это все было на самом деле, да?
— Да.
Они немного постояли молча. Потом Эли сказала:
— Хочешь уйти?
Оскар не ответил. Эли потянула край футболки, подняла руки, снова отпустила.
— Я никогда не причиню тебе вреда.
— Я знаю.
— О чем ты думаешь?
— Футболка… это та, с помойки?
— Да.
— Ты ее хоть постирала?
Эли не ответила.
— Ты все-таки иногда бываешь страшной грязнулей.
— Если хочешь, я переоденусь.
— Ага, давай.
*
Он читал о человеке, лежавшем сейчас на каталке. Серийный убийца.
Кого только не возил Бенке Эдвардс по этим коридорам, ведущим к моргу. Мужчин и женщин всех возрастов и размеров. Детей. Детских каталок у них не водилось, и мало что так брало Бенке за душу, как пустоты вокруг тела на каталке, когда приходилось возить детей: маленький контур под белой простыней у изголовья, а дальше — пустота и ровная материя. Для него эта пустота олицетворяла саму смерть.
Но сейчас перед ним был взрослый мужчина, более того — знаменитость.
Он вез каталку по пустынным коридорам. Единственный звук, нарушавший тишину, — скрип резиновых колес по линолеуму. Здесь не было никаких стрелок на полу. Попавших сюда непременно сопровождал кто-нибудь из персонала.
Бенке пришлось ждать на улице, пока полицейский фотографировал тело. За ограждением стояло несколько журналистов с камерами, снимающих здание больницы, сверкая мощными вспышками. Завтра эти фотографии окажутся в газетах, снабженные пунктиром, указывающим траекторию падения.
Одним словом, знаменитость.
Очертания под простыней ничем этого не выдавали. Очертания как очертания. Бенке знал, что мертвец выглядел как настоящий монстр, что тело его лопнуло, как воздушный шар с водой, упав на промерзшую землю, и был рад простыне. Под простыней все равны.
И все же многие, пожалуй, испытали бы облегчение, оттого что эта глыба мертвого мяса скоро окажется в холодильнике, чтобы затем переехать в крематорий, когда патологоанатомы сделают свое дело. У покойника была рана на шее, особенно заинтересовавшая криминального фотографа.
Хотя какая разница?
Бенке считал себя в некотором роде философом, — видимо, профессия накладывала свой отпечаток. Ему так часто приходилось видеть, что такое человек, когда не остается ничего наносного, что он даже разработал собственную теорию. Она была довольно проста: «Человек — это мозг».
Его голос гулким эхом отозвался в коридорах, когда он остановил каталку перед входом в холодильник, набрал код и открыл дверь.
Да. В человеческом мозге заложено все, с самой первой минуты. Тело — лишь система жизнеобеспечения, которую мозг обречен таскать за собой ради собственного существования. Но с самого начала в мозге заложено абсолютно все. И единственный способ изменить такого, как этот, под простыней, — это прооперировать мозг.
Ну или отключить.
Механизм, удерживавший дверь открытой десять секунд после набора кода, до сих пор не починили, так что Бенке пришлось придержать дверь одной рукой, а другой взяться за изголовье каталки и втолкнуть ее в холодильную камеру. Каталка ударилась о дверной проем, и Бенке выругался.
Небось в хирургическом в один миг бы починили!
И тут он увидел что-то странное.
Слева от выпуклости на месте головы покойника на белой простыне проступило коричневатое пятно. Дверь за спиной Бенке со стуком захлопнулась, когда он наклонился, чтобы получше разглядеть. Пятно медленно росло.
Кровь!
Бенке был не из пугливых. К тому же такое бывало и раньше. Наверное, тромб закупорил сосуд под черепной коробкой, и теперь от толчка кровь просочилась наружу.
Пятно все разрасталось.
Бенке подошел к аптечке первой медицинской помощи и взял хирургическую клейкую ленту и марлю. Он всегда находил смешным наличие аптечки в подобном месте, хотя она, ясное дело, предназначалась для живых людей, которые здесь работали и могли пораниться — прищемить палец носилками или еще что-нибудь.
Взявшись за край простыни, Бенке собрался с духом. Он, конечно, не боялся покойников, но этот выглядел как черт знает что. А Бенке нужно было его перебинтовать. Ему же первому достанется, если в холодильной камере натечет кровищи.
Поэтому он сглотнул и откинул простыню.
Вид покойника не поддавался описанию. Непонятно, как он прожил с таким лицом целую неделю. В нем не оставалось ничего человеческого, кроме уха и глаза.
Они что, не могли его заклеить?
Глаз был открыт. Естественно. Века практически не было. Глаз был настолько изуродован, что, казалось, даже белок покрылся шрамами.
Бенке оторвал взгляд от лица покойника и сосредоточился на своей задаче. Источником пятна, судя по всему, была рана на шее.
Послышался какой-то тихий звук, и Бенке быстро огляделся по сторонам. Черт. Он все-таки нервничал. Снова этот звук. Прямо у самых ног. Бенке посмотрел вниз. Капля воды сорвалась с края каталки и упала ему на ботинок. Кап.
Вода?!
Бенке изучил рану на шее покойника. Под ней скопилась целая лужа, которая медленно стекала вниз.
Кап.
Он отодвинул ногу. Капля упала на кафельный пол.
Кап-кап.
Он ткнул в жидкость указательным пальцем, потер его о большой. Это была не вода, а какая-то склизкая, вязкая прозрачная жидкость. Он понюхал пальцы. Запах был незнакомый.
Когда Бенке снова взглянул на пол, там уже собралась небольшая лужица. Жидкость оказалась не прозрачной, а розоватой. Это походило на расслоившуюся кровь в пакетах для переливания. То, что остается после того, как красные тельца выпадают в осадок.
Плазма.
Тело кровоточило плазмой.
Как такое возможно — пускай завтра выясняют эксперты. Вернее, уже сегодня. Его работа — остановить кровотечение, чтобы не перепачкать хранилище. Ему хотелось домой. Забраться в постель под бок к спящей жене, почитать пару страниц детектива про комиссара Бека[33] и уснуть.
Бенке соорудил из марли плотный компресс и прижал его к ране. Ну и как прикажете теперь его крепить? Горло покойника было так раскурочено, что на нем живого места не осталось. А, да гори оно все огнем! Он хочет домой. Бенке оторвал несколько длинных кусков ленты и перемотал горло кое-как, на скорую руку, — наверняка завтра ему придется за это ответить, ну да черт с ним.
Я смотритель, а не хирург.
Закрепив компресс, он вытер каталку и пол. Потом вкатил труп в комнату номер четыре, потер руки. Готово! Хорошо выполненная работа и отличная история про запас. Наводя перед уходом порядок и гася повсюду свет, он уже представлял, как будет ее рассказывать.
Слыхали о том маньяке, что вывалился из окна последнего этажа? Так вот, мне поручили отвезти его в морг. Закатываю, значит, его, смотрю — что такое?..
Бенке поднялся на лифте в свой кабинет, тщательно вымыл руки, переоделся и на ходу кинул халат в корзину с грязным бельем. Вышел на стоянку, сел в машину и, прежде чем завести двигатель, спокойно выкурил сигаретку. Бросив окурок в доверху набитую пепельницу, повернул ключ в замке зажигания.
Двигатель барахлил, как всегда в холодную или промозглую погоду. В конце концов он всегда заводился, но сначала непременно нужно было поартачиться. Когда с третьей попытки завывания мотора превратились в ровный гул, его вдруг осенило.
Она же не сворачивается.
Черт. Жидкость, вытекающая из шеи покойника, не свернется под компрессом. Она просочится сквозь марлю и зальет весь пол. И когда через пару часов дверь откроют…
Черт!
Он вытащил ключ из зажигания, раздраженно пихнул его в карман, вышел из машины и направился обратно к больнице.
*
Гостиная была не такой пустой, как прихожая и кухня. Здесь был диван, кресло и большой журнальный стол с кучей всякой мелочевки. Три картонные коробки, какие используют при переездах, громоздились друг на друге рядом с диваном. Одинокий торшер бросал слабый желтый свет на стол. И все. Ни ковров, ни картин, ни телевизора. Окна были завешены тяжелыми одеялами.
Как тюрьма. Просторная тюрьма.
Оскар посвистел, прислушался. Так он и думал. Эхо, хоть и слабое. Наверное, из-за одеял. Он поставил сумку рядом с креслом. Металлические застежки сиротливо звякнули, соприкоснувшись с жестким пробковым полом.
Он начал разглядывать вещи на столе, когда Эли появилась из соседней комнаты, одетая в просторную клетчатую рубашку, которая была ей заметно велика. Оскар указал рукой на обстановку в комнате:
— Вы что, переезжаете?
— Нет. С чего ты взял?
— Просто подумалось.
Вы?..
Как ему раньше не пришло в голову! Оскар окинул взглядом предметы на столе. Одни игрушки. Старые игрушки.
— Тот мужик, который здесь раньше жил… он ведь тебе не отец?
— Нет.
— А он тоже?..
— Нет.
Оскар кивнул, снова огляделся по сторонам. Сложно представить, чтобы кто-нибудь по собственной воле мог так жить. Если они, конечно, не…
— Ты что… бедная, да?
Эли подошла к столу, взяла какой-то предмет, похожий на черное яйцо, и протянула Оскару. Он подался вперед и поднес его к торшеру, чтобы лучше разглядеть.
Яйцо оказалось шероховатым на ощупь, и, приглядевшись, Оскар увидел причудливое переплетение золотых волосков, разбегавшихся по всей его поверхности. Яйцо было тяжелым, будто сделанным из какого-то металла. Покрутив его, Оскар заметил, что золотые волоски чуть утоплены в поверхность яйца. Эли встала рядом с Оскаром, и он снова почувствовал тот самый запах… запах ржавчины.
— Как думаешь, сколько стоит такая штука?
— Не знаю. Много?
— Таких в мире всего два. Если раздобыть оба, то можно на них купить… ну, скажем, атомную электростанцию.
— Да ладно?!
— Ну, не знаю. Сколько стоит атомная электростанция? Пятьдесят миллионов?
— По-моему, миллиардов…
— А-а-а. Ну, тогда нельзя.
— А зачем тебе электростанция?
Эли засмеялась.
— Положи его в ладони. Сложи их ковшиком. Вот так. И покатай.
Оскар послушался, осторожно покатал яйцо в сомкнутых ладонях, и вдруг оно… треснуло и рассыпалось у него в руках. Он ахнул и приподнял верхнюю руку. Яйцо превратилось в сотни, тысячи осколков.
— Извини! Я не специально, я…
— Тихо… Все в порядке. Осторожно, не рассыпь. Давай сюда.
Эли указала на белый лист бумаги на столике. Затаив дыхание, Оскар бережно высыпал сверкающие осколки из ладони. Некоторые из них были меньше капли воды, и Оскару пришлось провести пальцами по ладони, чтобы убедиться: в ней ничего не осталось.
— Я же его сломал!
— Вот, смотри!
Эли подвинула лампу ближе к столу, и тусклый луч осветил кучку металлических осколков. Оскар наклонился, посмотрел. Один осколок, не больше клеща, лежал в стороне, и, хорошенько приглядевшись, Оскар увидел на его гранях крошечные выступы и углубления, а с одной стороны — микроскопические бугорки. Он все понял:
— Это головоломка.
— Да.
— Но… ты что, сможешь ее собрать?
— Думаю, да.
— Но это же целая вечность!
— Да.
Оскар принялся разглядывать другие осколки, раскатившиеся по листку. С виду они были точь-в-точь как тот, который он только что видел, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что все они немного отличаются друг от друга. Впадинки располагались по-разному, бугорки выступали под другим углом. У одного из осколков была гладкая сторона, по которой проходила тонкая золотая нить. Внешняя часть.
Он опустился в кресло.
— У меня бы крыша поехала.
— А представь, каково было тому, кто это сделал…
Эли закатила глаза и высунула язык, став похожей на гнома Дурина. Оскар рассмеялся. Ха-ха. Звук его смеха эхом отдался в стенах квартиры. Сиротливо. Эли села на диван, скрестив ноги, и выжидательно посмотрела на него. Он отвел глаза и окинул взглядом стол, заваленный игрушками.
Сиротливо.
Он снова почувствовал страшную усталость. Она не была «его девочкой», не могла ею быть. Она была… чем-то другим. Их разделяла огромная пропасть, которую невозможно… Он зажмурился, откинулся в кресле, и чернота под его веками представилась ему космосом, разделяющим их.
Он отключился, на секунду погрузившись в сон.
Пространство между ними наполнилось мерзкими липкими насекомыми, летящими на него, и, когда они приблизились, он увидел, что они вооружены острыми зубами. Он замахал руками, гоня их прочь, и проснулся. Эли сидела на диване и смотрела на него.
— Оскар. Я такой же человек, как и ты. Можешь считать, что у меня… очень редкая болезнь.
Оскар кивнул.
В голове мелькнула какая-то мысль. Какая-то деталь. Что-то важное. Не сумев ее поймать, он сдался. Но тут в голову пришла другая, страшная мысль. Что она только притворяется. Что внутри нее сидит старый-престарый человек и изучает его, видит его насквозь и украдкой насмехается.
Не может быть.
Чтобы хоть как-то отвлечься, он порылся в своей сумке, достал плеер, вытащил кассету, прочитал надпись: «Kiss: Unmasked», перевернул: «Kiss: Destroyer», засунул обратно.
Нужно пойти домой.
Эли подалась вперед:
— Что это?
— Это? Плеер.
— Музыку слушать?
— Да.
Она ничего не знает. Такая умная, а ничего не знает. Интересно, что она делает целыми днями? Спит, конечно. А где же ее гроб? Точно! Когда она приходила ко мне по ночам, она никогда не спала. Просто лежала в моей постели и ждала рассвета. «Мне надо удаляться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью».
— Можно?..
Оскар протянул ей плеер. Она взяла его с видом человека, не знающего, как с этим обращаться, но потом вставила наушники в уши и вопросительно посмотрела на него. Оскар указал на кнопки:
— Нажми на кнопку «пуск».
Эли пробежалась глазами по кнопкам, нашла «пуск». Оскар почувствовал себя спокойнее. Это ведь нормально — дать другу послушать свою музыку. Интересно, понравится ли Эли Kiss?
Она нажала на «пуск», и Оскар даже со своего кресла услышал хрипящие завывание гитары, барабаны, голос. Плеер включился на середине одной из самых тяжелых песен.
Глаза Эли расширились, и она закричала от боли. Оскар так испугался, что резко откинулся в кресле. Оно закачалось, чуть не опрокинувшись. Эли с силой выдернула наушники из ушей, оборвав провода, отшвырнула их прочь, заткнула уши руками и заскулила.
Оскар сидел, разинув рот и тупо уставившись на наушники, отскочившие от стены. Потом встал, поднял их. Да, такое не починишь. Оба провода были вырваны с корнем. Он положил их на стол и снова опустился в кресло.
Эли отняла ладони от ушей:
— Прости… мне было так больно!
— Ничего.
— Он дорого стоил?
— Да нет.
Эли сняла верхнюю коробку, сунула в нее руку, вытащила несколько купюр и протянула Оскару:
— Держи.
Он взял бумажки, пересчитал. Три по тысяче и две сотенных. С чувством, похожим на страх, он взглянул на коробку, откуда Эли достала деньги.
— Я… Он стоил всего пятьдесят крон.
— Все равно возьми.
— Да ты что… там же только наушники сломались, а они…
— Возьми! Ну пожалуйста…
Оскар заколебался, затем пихнул деньги в карман брюк, пересчитывая их на рекламные листовки. Где-то год работы… двадцать пять тысяч розданных рекламок. Сто пятьдесят часов. Больше. Целое состояние. Купюры похрустывали в кармане.
— Ну спасибо.
Эли кивнула, взяла со стола какой-то спутанный клубок с узелками, — наверное, очередная головоломка. Оскар смотрел на нее, пока она возилась с клубком. Голова опущена, длинные тонкие пальцы скользят по нитям. Он припомнил все, что она ему рассказывала: про папу, тетку в городе, школу, в которую она ходила. Вранье, все вранье!
Откуда у нее вообще деньги? Украла?
Переполнявшее его чувство было настолько незнакомым, что он даже сначала не понял, что с ним. Это началось как легкое покалывание, которое становилось все сильнее и наконец острой ледяной дугой поднялось от живота к голове. Он… злился. Не расстроился, не испугался. Разозлился.
Она ведь врала ему, и потом… интересно, где она наворовала эти деньги? У тех, кого?.. Он сжал кулаки, лежавшие на животе, откинулся назад.
— Ты убиваешь людей.
— Оскар…
— Если это правда, значит, ты убиваешь людей. И воруешь их деньги.
— Деньги мне дали.
— Ты врешь! Все время!
— Это правда.
— Что правда? Что ты врешь?
Эли отложила клубок на стол, посмотрела на него страдальческими глазами, всплеснула руками:
— Ну что ты хочешь, чтобы я сделала?!
— Докажи!
— Что?
— Что ты… та, за кого себя выдаешь.
Она посмотрела на него долгим взглядом. Затем покачала головой.
— Не хочу.
— Почему?
— Угадай.
Оскар глубже погрузился в кресло. Нащупал деньги в кармане. Представил стопки листовок. Сегодняшнюю связку. Ее нужно было разнести до вторника. Серая усталость во всем теле. Серость в голове. Злость. «Угадай». Опять эти ее игры. Сплошное вранье. Домой! Спать!
Деньги. Она дала мне деньги, чтобы я остался.
Он встал с кресла, вытащил из кармана скомканные купюры, положил на стол, оставив себе лишь сотенную бумажку. Запихнул ее обратно в карман и сказал:
— Я пошел домой.
Она выпрямилась, схватила его за запястье:
— Останься. Пожалуйста.
— Зачем? Ты только и делаешь, что врешь.
Он попытался уйти, но она лишь крепче сжала руку.
— Отпусти!
— Я тебе не цирковой уродец!
Оскар сжал зубы, спокойно произнес:
— Пусти!
Она не отпускала. Холодная дуга ярости в его груди завибрировала, запела, и он накинулся на Эли. Бросился на нее, опрокинув на диван. Она почти ничего не весила, и он прижал ее к подлокотнику, усевшись ей на грудь. Дуга напряглась, задрожала, в глазах заплясали черные точки, и он поднял руку и изо всех сил ударил ее по лицу.
Резкий хлопок прокатился между стен, голова ее дернулась в сторону, с губ сорвались брызги слюны. Руку его охватил жар, дуга треснула, рассыпалась, и ярость улетучилась.
Он сидел у нее на груди и удивленно смотрел на ее маленькую голову, на профиль на черной коже дивана, на алеющую щеку. Она лежала не двигаясь, но глаза были открыты. Он провел рукой по своему лицу.
— Извини. Извини меня. Я…
Внезапно она вывернулась и, оседлав его, прижала к подлокотнику. Он попытался схватить ее за плечи, но промахнулся, обхватил ее бедра, и она упала плашмя, придавив животом его лицо. Он скинул ее с себя, перевернулся, и они вцепились друг в друга. Они боролись, катаясь по дивану. Мышцы собраны в комок, все всерьез, но так, чтобы не причинить друг другу боль. Их тела переплелись, и они случайно задели стол.
Осколки черного яйца посыпались на пол со звуком проливного дождя по жестяной крыше.
*
Подниматься за халатом он не стал. Его смена была окончена.
Это мое свободное время, так что я здесь развлечения ради.
Если работа окажется совсем грязной, можно будет одолжить один из запасных халатов патологоанатома, что висят в морге. Пришел лифт, он вошел и нажал на кнопку с надписью: «Подземный этаж-2». Ну и что ему делать, если он окажется прав? Звонить дежурным, просить их спуститься и зашить труп? Инструкция таких случав не предусматривала.
Скорее всего, кровотечение, или как это назвать, уже остановилось, но проверить стоило. Он бы все равно не заснул — лежал бы и представлял себе, как оно там капает.
Выходя из лифта, он улыбнулся. Много ли найдется нормальных людей, способных пойти на такое без дрожи в коленях? Единицы. Он гордился собой, тем, что… ну да, тщательно выполнял свои обязанности. Ответственно подходил к делу.
Просто я ненормальный, вот и все.
Это сложно было отрицать — в глубине души он надеялся, что кровотечение не остановилось, что ему придется звонить в дежурку, и здесь начнется настоящий цирк. Как бы ему ни хотелось домой и спать. Потому что история вышла бы куда интересней.
Да, он был ненормальным. Покойники его не беспокоили — подумаешь, роботы с отключенными мозгами. Но вот коридоры его пугали.
Одна только мысль о сети туннелей на глубине десяти метров под землей, о пустых залах и кабинетах, напоминающих адскую канцелярию. Просторно. Тихо. Пусто.
Трупы — цветочки по сравнению…
Он набрал код, по привычке нажал на кнопку автоматического открывания дверей, которая лишь беспомощно щелкнула. Тогда он вручную открыл дверь и, войдя в морг, натянул резиновые перчатки.
Ну а дальше что?
Покойник, оставленный им под простыней, лежал обнаженным. Его эрегированный пенис вздымался под углом, а простыня валялась на полу. Прокуренные легкие Бенке издали свист, когда он с шумом втянул воздух.
Значит, маньяк не умер. Значит, он жив… раз еще мог двигаться.
Медленно, как во сне, мертвец пошевелился. Руки замолотили по воздуху, и Бенке инстинктивно попятился, когда одна из них — имевшая мало общего с человеческой рукой — чуть не коснулась его лица. Покойник попытался сесть, но снова упал на стальную каталку. Единственный глаз смотрел прямо, не мигая.
Какой-то звук. Человек на каталке издал какой-то звук:
— Э-э-э-э-э…
Бенке провел рукой по лицу. Что-то случилось с его кожей. Она была какой-то странной на ощупь… Он взглянул на руку. Резиновые перчатки.
Сквозь пальцы он увидел, как покойник снова попытался сесть.
Черт, что же делать?!
Покойник опять упал на коляску, послышался плеск. Несколько капель этой его жидкости забрызгали лицо Бенке. Он попытался стереть их рукой в перчатке, но только размазал по щекам.
Он поднял воротник рубашки, утерся им.
Десять этажей! Он упал с десятого этажа.
Спокойно. Спокойно. У тебя проблема. Реши ее!
Если он не мертв, то по крайней мере должен быть при смерти. Значит, ему нужна медицинская помощь.
— Э-э-э-э-э-э…
— Я здесь. Я вам помогу. Я отвезу вас в реанимацию. Постарайтесь не двигаться, я…
Бенке подошел и положил руку на напрягшееся тело. Здоровая рука маньяка взметнулась и схватила его за запястье. Черт, до чего же он сильный! Бенке пришлось воспользоваться обеими руками, чтобы разжать его хватку.
Нужно было чем-то накрыть пострадавшего для поддержания нормальной температуры тела, но ничего подходящего, кроме одноразовых простыней, здесь не имелось. Бенке взял три штуки и попытался накрыть ими больного. Тот извивался, как червяк на крючке, не прекращая издавать этот странный звук. Бенке навалился на маньяка всем телом и, когда тот немного утих, накинул поверх него простыни.
— Сейчас я вас отвезу в реанимацию, хорошо? Постарайтесь не двигаться.
Он покатил каталку к дверям и, несмотря на шок, даже вовремя вспомнил, что двери не работают. Обойдя изголовье, открыл дверь, бросив взгляд на лицо маньяка. Лучше бы он этого не делал.
Рот, потерявший всякое сходство со ртом, начал открываться.
Полузажившие ткани затрещали и поползли по швам со звуком, с которым чистят рыбу. Только несколько лоскутов розовой плоти все не поддавались, растягиваясь по мере того, как дыра в нижней части лица становилась шире и шире.
— А-а-а-а-а-а!
Вопль пронесся по пустым коридорам, и сердце Бенке заколотилось со страшной силой.
Лежи смирно! Заткнись!
Если бы у него в руках в эту секунду оказался молоток, он бы не удержался от искушения впечатать его в эту отвратительную дрожащую массу с выпученным глазом, — оставшиеся лоскуты рта наконец лопнули, как натянутая резинка, и Бенке различил белые зубы, зияющие посреди красно-коричневого месива, некогда бывшего лицом.
Бенке обошел каталку с другой стороны и покатил ее по коридорам к лифту. Он почти бежал, до смерти боясь, что его груз свалится на пол.
Бесконечные коридоры расстилались перед ним, как в кошмаре. Да это и был настоящий кошмар. Все мысли о «хорошей истории» как ветром сдуло. Он мечтал об одном — оказаться среди людей, живых людей, избавиться от этого распластавшегося на каталке орущего монстра.
Он добежал до лифта и нажал на кнопку вызова, рисуя в голове путь до реанимации. Пять минут — и он там.
Уже на первом этаже найдется кто-нибудь, кто сможет ему помочь. Две минуты — и он вернется в реальность.
Ну давай же, чертов лифт!
Маньяк помахал здоровой рукой.
Бенке посмотрел на нее, закрыл глаза, снова открыл. Маньяк пытался что-то сказать. Подзывал Бенке поближе. Значит, он был в сознании.
Бенке встал рядом с каталкой, наклонился:
— Ну? Что?
И вдруг рука маньяка обхватила его за шею, пригибая голову вниз. Бенке потерял равновесие и упал на лежащее тело. Маньяк держал его железной хваткой, притягивая голову все ближе и ближе к… дыре.
Он попытался ухватиться за стальной поручень изголовья, вырываясь, но противник вывернул его шею так, что Бенке прижался лицом к промокшему насквозь компрессу на горле маньяка.
— Пусти ты, гадина…
В ухо ему вонзился палец, и он услышал, как затрещала барабанная перепонка, когда палец вошел глубже, проникая все дальше и дальше. Он заболтал ногами и, ударившись щиколоткой о стальную основу каталки, наконец закричал.
Тут в щеку ему вонзились зубы, а палец вошел так глубоко в ухо, что в глазах потемнело, и… он сдался.
Последнее, что он увидел, — это как мокрый компресс перед его глазами изменил цвет, слегка порозовев, пока маньяк пожирал его лицо.
Последнее, что он услышал, — это…
Дзинь!..
Двери лифта распахнулись.
*
Они лежали рядом на диване, потные, задыхающиеся. Все тело Оскара ныло, он совсем обессилел. Он зевнул так, что челюсти хрустнули. Эли тоже зевнула. Оскар повернулся к ней:
— Прекрати!
— Ты о чем?
— Ты же на самом деле не хочешь спать?
— Нет.
Оскар с трудом удерживал веки открытыми и говорил, почти не шевеля губами. Лицо Эли становилось расплывчатым, каким-то нереальным.
— А как ты… добываешь кровь?
Эли посмотрела на него. Молча, не отрываясь. Затем что-то для себя решила, и Оскар увидел, как щеки и губы ее заходили, будто она что-то пережевывала. Потом она обнажила зубы.
И он увидел клыки.
Она закрыла рот.
Оскар отвернулся и уставился в потолок, где с давно не использовавшейся лампы свисал кусок пыльной паутины. У него не осталось сил удивляться. Ну ладно. Значит, она вампир. Он же и раньше это знал.
— И много вас?
— Кого это «нас»?
— Ну, сама знаешь.
— Нет, не знаю.
Оскар пошарил глазами по потолку, разыскивая еще паутину. Нашел две. Ему показалось, что по одной из них ползет паук. Он моргнул. Потом еще раз. Глаза словно запорошило песком. Никакого паука.
— И как мне тебя теперь называть? Твое настоящее имя?
— Эли.
— Тебя правда так зовут?
— Почти.
— Так как же?
Пауза. Эли чуть отодвинулась от него, ближе к подлокотнику, перевернулась на бок.
— Элиас.
— Но это же… мужское имя.
— Да.
Оскар зажмурился. У него больше не было сил. Веки словно приклеились к глазным яблокам. Черная дыра начала расти, поглощая его. В глубине сознания еще теплилась мысль, что нужно что-то сказать, что-то сделать. Но он уже не мог.
Черная дыра взорвалась в ультрарапиде, медленно засасывая его, и он полетел вверх тормашками прямо в космос, погружаясь в сон.
Он почувствовал, как где-то далеко кто-то кого-то погладил по щеке. Не смог сформулировать мысль, что, раз он это чувствует, значит, это его щека. Но где-то на далекой планете кто-то кого-то погладил по щеке.
И это было приятно.
А дальше были только звезды.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Тролль и его друзья
Вот тролль с друзьями на пути, Он не позволит вам пройти.
Мост Транебергсбрун. Когда он открылся в 1934 году, то был ни больше ни меньше гордостью нации. Самый большой бетонный одноарочный мост в мире! Единая мощная дуга, соединявшая Кунгсхольмен и Вестерурт, который в то время представлял собой сборище мелких деревушек в Бромме и Эппельвикене и район Энгбю с его однотипными коттеджами.
Но прогресс шел семимильными шагами. В Транеберге и Абрахамсберге уже стояли первые пригородные поселки с трехэтажными домами, и государство к тому времени уже купило огромные земельные участки к западу от Стокгольма, чтобы несколько лет спустя запустить стройку, которая со временем превратится в Веллингбю, Хессельбю и Блакеберг.
И мост был призван объединить эти районы. Почти все, кто ехал в Вестерурт или из него, проезжали через Транебергсбрун.
Уже в шестидесятых поступили первые тревожные сигналы, что мост не выдерживает нагрузки. Его то и дело ремонтировали и укрепляли, но реконструкция, о которой временами поговаривали, постоянно откладывалась.
Так что ранним воскресным утром 8 ноября 1981 года мост выглядел неважно. Он был как видавший виды старик, горестно вспоминающий времена, когда небеса были светлее, облака легче, а сам он был крупнейшим арочным мостом в мире.
К утру снег стал подтаивать, и слякоть забилась в щели моста. Посыпать снег солью здесь не решались, опасаясь, что она разъест и без того изношенный бетон.
Машин в это время суток было немного, тем более в воскресенье. Метро еще не открылось, а редкие автомобилисты, проезжавшие здесь, мечтали либо оказаться наконец в постели, либо поскорее в нее вернуться.
Бенни Мелин был исключением. Он, конечно, тоже мечтал вскоре оказаться в постели, но сейчас он был слишком счастлив, чтобы спать.
Уже восемь раз он встречался с женщинами по объявлению, но Бетти, которой он назначил свидание в субботу вечером, оказалась первой, с кем они нашли общий язык.
У них все могло получиться. И оба это знали.
Они и сами посмеивались над тем, как смешно это звучит Бенни и Бетти. Будто комедийный дуэт, но что уж тут поделаешь? А если у них появятся дети, как их назвать? Ленни и Нетти?
Да, им действительно было хорошо вместе. Они сидели в ее новой квартире на Кунгсхольмен и описывали друг другу свои миры, пытаясь отыскать в них место для другого, — и находили. Под утро оставалось лишь два пути развития событий. И Бенни выбрал тот, что ему показался правильным, хоть это и было нелегко. Он попрощался, пообещав, что они снова увидятся в воскресенье вечером, сел в машину и покатил домой на Бруммаплан, распевая во всю глотку: «I can't help falling in love with you».[35]
Так что Бенни был не в том настроении, чтобы жаловаться или хотя бы заметить плачевное состояние моста тем воскресным утром. Для него это был мост, ведущий в рай, к любви!
Он почти переехал его, в десятый раз затянув припев, когда вдруг какая-то фигура в голубом выскочила на дорогу прямо в свет его фар.
Он успел подумать: «Только не тормозить!» — отпустил педаль газа и крутанул руль влево, когда между ним и пешеходом оставалось не более пяти метров. Он разглядел голубую рубаху и пару белых ног, прежде чем машина врезалась в бетонное ограждение между рядами.
У него заложило уши от скрежета, когда машину протащило вдоль ограждения. Боковое зеркало отломилось, а водительскую дверь вмяло аж до самой ноги, прежде чем машину швырнуло на середину дороги.
Он попытался выровнять руль, но машину вынесло на противоположную сторону, и она въехала в пешеходное ограждение. Второе зеркало оторвалось и полетело на обочину, отражая огни моста на фоне неба. Он осторожно затормозил, и на следующем витке машина выровнялась, лишь слегка коснувшись ограждения.
Метров через сто ему удалось остановиться. Он выдохнул, посидел со включенным двигателем, положив руки на колени. Во рту ощущался привкус крови — он прокусил губу.
Что за сумасшедший?
Он посмотрел в зеркало заднего вида и в желтоватом дорожном освещении разглядел фигуру человека, как ни в чем не бывало ковылявшего посреди дороги. Его охватила ярость. Сумасшедший не сумасшедший, но надо же и меру знать.
Он попытался открыть водительскую дверь, но у него ничего не вышло. Замок заело. Он расстегнул ремень безопасности и перелез на пассажирское сиденье. Прежде чем выбраться из машины, он включил аварийку. Затем встал возле машины, сложив руки на груди, и принялся ждать.
Теперь он увидел, что человек, бредущий по мосту, был одет в один лишь больничный балахон. Босые ноги, голые ляжки. Интересно, удастся ли ему что-нибудь втолковать.
Ему?
Человек приближался. Ноги его месили грязь, и он шел, словно невидимый поводок неуклонно тащил его вперед. Бенни сделал шаг ему навстречу, но остановился. Неизвестный был уже метрах в десяти, и тут Бенни ясно различил его… лицо.
Бенни судорожно задышал, опершись на машину. Затем быстро забрался через пассажирское сиденье в салон, включил первую передачу и сорвался с места, так что из-под задних колес полетели брызги слякоти прямо в… это существо на дороге.
Добравшись до дому, он налил себе здоровенный стакан виски и опрокинул в себя половину. Потом позвонил в полицию. Рассказал, что произошло. К тому времени, как он допил виски, раздумывая, не пойти ли ему спать, в городе была объявлена масштабная операция по поимке преступника.
*
Они прочесали весь лес Юдарнскуген. Пять собак, двадцать полицейских. Даже вертолет, что было необычно для подобных поисков.
Раненый человек в состоянии аффекта. Любая собака смогла бы взять его след.
Но дело получило широкую огласку в прессе (только на общение с журналистами, собравшимися вокруг оранжереи Вибуллз у станции метро «Окесхувс», было выделено два констебля), и полиции не хотелось, чтобы их упрекнули в бездействии этим воскресным утром.
К тому же было найдено тело Бенгта Эдвардса.
То есть предположительно его тело — на покойном было найдено кольцо с выгравированным именем «Гунилла».
Гунилла была женой Бенке, и его коллеги об этом знали. Никто не мог собраться с духом, чтобы ей позвонить. Рассказать, что он умер и что они даже не могут с уверенностью утверждать, что это он. Спросить, были ли у него особые приметы… скажем, на нижней половине тела?
Патологоанатому, явившемуся на работу в семь утра, чтобы заняться телом серийного убийцы, выпала совсем другая задача. Если бы он увидел останки Бенгта Эдвардса, не зная всех обстоятельств, он бы предположил, что тело пролежало несколько дней на улице в сильный мороз, все это время подвергаясь надругательствам крыс, лис, возможно даже росомахи и медведя, если слово «надругательства» могло быть применимо к животным. Как бы то ни было, растерзанную плоть, отделенную от костей, он бы приписал крупным хищникам, а повреждения выступающих частей тела — носа, ушей, пальцев — мелким грызунам.
В спешке написанное предварительное заключение патологоанатома было в срочном порядке передано в полицию и стало еще одной причиной столь масштабной операции. Виновного признали «крайне опасным преступником», пользуясь официальным языком.
В народе — чокнутым маньяком.
То, что он вообще оставался жив, относили к разряду чудес. Конечно, не из тех, вокруг которых Ватикан стал бы размахивать кадилом, но тем не менее это было чудом. Он был практически в коме еще до падения с десятого этажа, а сейчас разгуливал себе как ни в чем не бывало, и если бы только разгуливал.
Но долго он протянуть не мог. На улице, конечно, потеплело, но все равно температура держалась около нуля, а на нем был один больничный балахон. Насколько полиции было известно, пособников у него не было, и он не продержался бы в лесу больше пары часов.
Телефонный звонок от Бенни Мелина поступил почти час спустя после того, как он столкнулся с человеком на мосту Транебергсбрун. Но уже через пару минут после него позвонила одна пожилая дама.
Она выгуливала собаку, когда вдруг увидела человека в больничной одежде неподалеку от конюшни Окесхувс, где зимой содержались королевские овцы. Она немедленно вернулась домой и позвонила в полицию, решив, что овцы в опасности.
Через десять минут на указанное место прибыл первый патруль, и первое, что они сделали, — это прочесали стойла с пистолетами наизготовку.
Овцы забеспокоились, и к тому времени, как полицейские обыскали все здание, оно превратилось в клокочущее море колышущейся шерсти, громкого блеяния и почти человеческих воплей, на которые приехал еще один наряд полиции.
Во время обыска несколько овец очутилось в проходе, и, когда полицейские наконец заключили, что подозреваемого здесь нет, и со звоном в ушах покинули помещение, один баран выскочил во двор. Присутствовавший там старик-полицейский, родом из деревни, бросился на него и, ухватив за рога, затащил обратно в стойло.
Лишь после того, как баран оказался водворен на свое место, полицейский сообразил, что яркие всполохи, которые он видел краем глаза, были фотовспышками. Он ошибочно счел, что происходившие события были слишком серьезны, чтобы подобная фотография могла появиться в прессе. Тем не менее уже скоро журналистам пришлось отвести специальное место вне зоны розыска.
К тому времени часы уже показывали половину восьмого утра и рассвет незаметно поднимался из-за капавших талой водой деревьев. Преследование одинокого маньяка было хорошо организовано и продвигалось полным ходом. Поимку преступника предполагалось осуществить к обеду.
Лишь через несколько часов безуспешного наблюдения с вертолета, оборудованного термовидеокамерой, и поисков со специально обученными собаками возникло предположение, что разыскиваемого больше нет в живых. Что, пожалуй, стоит приступить к поискам трупа.
*
Когда первые бледные лучи рассвета, проникшие сквозь жалюзи, обожгли ладонь Виржинии, как прикосновение к раскаленной лампочке, она мечтала об одном: умереть. И все равно она невольно отдернула ладонь и отползла в глубину комнаты.
На коже ее зияло более тридцати порезов. Вся квартира была залита кровью.
Этой ночью она вскрыла себе вены, чтобы напиться, но, не успев все высосать или слизнуть, залила кровью пол, стол и стулья. Большой тканый ковер в гостиной выглядел так, будто на нем разделывали оленя.
С каждой новой раной, с каждым глотком своей все более разжиженной крови она испытывала все меньше удовлетворения и насыщения. К рассвету она превратилась в развалину, стонущую от ломки и отчаяния. Отчаяния от сознания того, что неизбежно придется сделать, чтобы жить.
Прозрение нарастало постепенно и наконец превратилось в уверенность. Чужая кровь… вылечит ее. Ей не хватало духа лишить себя жизни. К тому же это было наверняка невозможно — раны, нанесенные ножом для фруктов, заживали с нечеловеческой скоростью. Какими бы сильными или глубокими ни были порезы, через минуту кровь останавливалась. Через час на этом месте уже был только шрам.
Кроме того…
Она что-то почувствовала.
Дело шло к утру, а Виржиния все сидела на кухне и сосала кровь из раны на сгибе локтя, уже второй в этом месте, когда вдруг она будто заглянула вглубь собственного тела и увидела…
Заразу.
Ну, не то чтобы увидела, но внезапно перед глазами ее возникла четкая картина. Как беременные во время УЗИ видят на экране ребенка в своем животе, только в ее случае это был не ребенок, а большая извивающаяся змея. Вот что она вынашивала.
Она также увидела, что эта зараза жила своей жизнью, ведомая собственной движущей силой, не зависящей от ее тела. Что зараза останется жива даже после того, как сама Виржиния прекратит существовать. Мать умерла бы от шока, увидев такое на ультразвуке, но никто бы даже не заметил ее смерти, потому что змея завладела бы ее телом.
Таким образом, самоубийство было бесполезно.
Эта дрянь боялась лишь солнечного света. Тусклый луч, упавший на ладонь, причинял больше боли, чем самая глубокая рана.
Виржиния долго сидела, съежившись, на полу гостиной, наблюдая, как свет за окном пробивается сквозь жалюзи, отбрасывая решетку тени на запятнанный кровью ковер. Ей вспомнился внук, Тед. Как он приползал на то место на полу, куда падало полуденное солнце, ложился и засыпал в солнечных лучах, посасывая большой палец.
Голая, мягкая кожа, такая тонкая, стоит лишь…
Да что это со мной?!
Виржиния вскинулась, уставившись в пространство невидящим взглядом. Перед глазами стоял Тед, и она представила, как…
НЕТ!!!
Она ударила себя по голове и продолжала колотить, пока картинка не разбилась вдребезги. Теперь она никогда больше не сможет его увидеть. Ей больше никогда не встретиться ни с кем из тех, кого она любит.
Я больше никогда не увижусь с теми, кого люблю.
Виржиния заставила себя выпрямиться и медленно подползла к решетке света на полу. Зараза внутри нее противилась и упиралась, но Виржиния была сильнее и все еще контролировала свое тело. Свет резал глаза, квадраты решетки жгли сетчатку, как раскаленная проволока.
Гори! Гори огнем!
Ее правая рука была покрыта шрамами и засохшей кровью. Она протянула ее к свету.
Она даже представить себе такого не могла.
Субботняя боль была ласковым прикосновением по сравнению с тем, что она испытала сейчас — будто пламя сварочного аппарата обожгло ей руку. Через секунду кожа стала белее мела. Через две задымилась. Через три на ней выступил волдырь, который затем почернел и с шипением лопнул. Через четыре секунды она отдернула руку и со всхлипом отползла в спальню.
Запах горелой кожи витал в воздухе. Она даже не смела взглянуть на собственную руку, заползая в постель.
Спать.
Но постель…
Несмотря на опущенные жалюзи, в комнате было слишком светло. Даже натянув на голову одеяло, она чувствовала себя незащищенной. Слух ее улавливал малейшие звуки пробуждающегося дома, и каждый звук представлял потенциальную опасность. Кто-то прошел по комнате у нее над головой. Она вздрогнула, повернув голову в сторону звука, прислушалась. Звук выдвигаемого ящика, позвякивание металла.
Кофейные ложки.
По мелодичному треньканью она ясно распознала кофейные ложки. Увидела перед собой обшитую изнутри бархатом коробочку с бабушкиными серебряными кофейными ложечками, доставшимися ей от матери, когда та переехала в дом престарелых. Вспомнила, как открыла коробку, посмотрела на них и поняла, что ими никогда никто не пользовался.
Вот о чем думала Виржиния, когда она соскользнула с кровати, потянув за собой одеяло, подползла к платяному шкафу и распахнула дверцы. На нижней полке лежало запасное одеяло и пара пледов.
Она испытала что-то вроде грусти при мысли об этих ложках. Они пролежали шестьдесят лет в своем футляре, и за все это время их ни разу не вытащили, не подержали в руках, не использовали.
Звуки вокруг нее усилились — дом просыпался. Но она их больше не слышала — вытащив одеяло и пледы, она завернулась в них, залезла в гардероб и закрыла дверцы. Внутри стояла полная темнота. Она натянула одеяла на голову и замерла, как гусеница в двойном коконе.
Никогда.
Вытянувшись на своей бархатной подушке по стойке смирно — как на параде, в вечном ожидании. Маленькие хрупкие кофейные ложечки из серебра. Она свернулась в клубок, уткнувшись лицом в одеяло.
Кому они теперь достанутся?
Ее дочери. Да. Они достанутся Лене, и она будет кормить с них Теда. И ложкам будет приятно. Тед будет есть с них картофельное пюре. Вот и хорошо.
Она лежала, неподвижная как камень, чувствуя, как тело наполняет спокойствие. Прежде чем она впала в забвение, в голове промелькнула мысль: «Почему мне не жарко?»
Закутанная в одеяло, под несколькими слоями толстой ткани, — да она же должна исходить потом? Вопрос сонно кружился в большой черной комнате, пока ему навстречу не выплыл поражающий простотой ответ.
Потому что я уже несколько минут не дышу.
И даже сейчас, осознав это, она не испытала потребности перевести дух. Ни признаков удушья, ни нехватки кислорода. Ей просто это было больше не нужно, вот и все.
*
Служба начиналась в одиннадцать, но уже в десять пятнадцать Томми и Ивонн стояли на станции метро в Блакеберге в ожидании поезда.
Стаффан, певший в церковном хоре, сообщил Ивонн тему сегодняшней проповеди. Ивонн рассказала об этом Томми, осторожно поинтересовавшись, не хочет ли он к ним присоединиться, и, к ее огромному удивлению, он согласился.
Проповедь была посвящена современной молодежи.
Опираясь на текст Ветхого Завета, где говорится об исходе народа Израилева из Египта, священник не без помощи Стаффана написал проповедь, посвященную путеводной звезде, — о том, на что могла бы равняться современная молодежь, за чем следовать в своих скитаниях по пустыне и так далее и тому подобное.
Томми читал этот отрывок из Библии и сказал, что пойдет.
Так что когда поезд с грохотом выехал из туннеля на Исландсторьет, гоня волну горячего воздуха, растрепавшего волосы Ивонн, она была просто счастлива. Она посмотрела на сына, стоявшего рядом, глубоко запихнув руки в карманы.
Все будет хорошо.
Да. То, что он согласился пойти с ней на воскресную службу, было чудом. К тому же разве не свидетельствовало о том, что Томми наконец принял Стаффана?
Они зашли в вагон и сели друг напротив друга рядом с каким-то стариком. До прибытия поезда они обсуждали утреннюю новость, услышанную по радио, — поиски ритуального убийцы в Юдарнскуген. Ивонн наклонилась к Томми:
— Как думаешь, поймают его?
Томми пожал плечами:
— Наверное. Правда, лес большой, так что… это надо Стаффана спросить.
— Мне как-то не по себе. Представь, он сюда доберется!
— Да что ему здесь делать? Хотя кто его знает. В лесу ему тоже делать особо нечего. С тем же успехом может и здесь оказаться.
— Ужас!
Старик потянулся, передернул плечами, будто что-то стряхивая, и встрял в разговор:
— Может, это и не человек вовсе.
Томми посмотрел на старика, Ивонн хмыкнула и улыбнулась, и тот расценил это как приглашение к беседе.
— Я хочу сказать… сначала все эти ужасные убийства, а потом… в таком-то состоянии, после такого падения… Нет, я вам вот что скажу: это не человек, и я искренне надеюсь, что полиция пристрелит его на месте.
Томми кивнул, делая вид, что соглашается:
— Или повесит на первом суку.
Старик совсем разошелся:
— Именно! Я давно об этом твержу. Да его надо было усыпить еще в больнице, как бешеную собаку. Тогда нам бы не пришлось сейчас дрожать и, затаив дыхание, следить за этой безумной гонкой, устроенной на деньги налогоплательщиков. Вертолет! Да, я, между прочим, только что мимо ехал — у них там вертолет! На это, значит, у них денег хватает! Нет чтобы старикам пенсию поднять, после того как они всю жизнь вкалывали на благо общества, — на это у них денег нет. А на вертолете кататься да животных распугивать — это они могут…
Монолог продолжался до самого Веллингбю, где Ивонн и Томми сошли, оставив старика в поезде. Это была конечная, так что он, похоже, собирался еще раз прокатиться, чтобы поглазеть на вертолет, адресовав свой монолог кому-нибудь другому.
Стаффан уже поджидал их возле церкви Святого Томаса, смахивавшей на пирамиду из кирпичей.
На нем был костюм и бледно-голубой галстук в синюю полоску, напомнивший Томми картинку времен Второй мировой: «Шведский тигр». При виде их Стаффан расцвел и пошел им навстречу. Он обнял Ивонн и протянул Томми руку. Тот принял ее, пожал.
— Молодцы, что пришли! Особенно ты, Томми! Чему обязаны?
— Просто решил посмотреть, что у вас тут такое…
— А-а-а. Ладно, надеюсь, ты не будешь разочарован и мы тебя здесь еще увидим.
Ивонн потрепала Томми по плечу.
— Он читал тот отрывок из Библии, о котором пойдет речь.
— Да ты что? Вот это да!.. Кстати, Томми. Я так и не нашел ту награду. Но… будем считать, что тема закрыта, а? Что скажешь?
— Мм…
Стаффан явно ждал ответа, но, не дождавшись, обернулся к Ивонн:
— Вообще-то я должен быть в Окесхув, просто… не мог такое пропустить. Но как только все закончится, мне нужно бежать, так что мы…
Оставив их, Томми вошел в церковь.
На церковных скамьях к нему спиной сидели всего несколько стариков и старух — судя по шляпкам, главным образом старух.
Всю церковь заливал желтоватый свет ламп, висевших вдоль стен. Между рядами лежала красная дорожка с геометрическим узором, ведущая к алтарю — каменной стойке с цветами. Надо всем этим возвышалось огромное деревянное распятие с фигурой Христа, выполненное в модернистской манере. Выражение лица Иисуса можно было принять за презрительную усмешку.
У самого входа в церковь, где стоял Томми, располагались стойки с брошюрами, ящик для пожертвований и здоровенная купель. Томми подошел к купели, заглянул внутрь.
Отлично.
В первый момент он даже засомневался — ему не могло так повезти, наверняка она была наполнена водой. Но он ошибался. Купель была вырублена из монолитного камня и доставала ему по пояс. Сама чаша была темно-серой, шероховатой, и в ней не было ни капли воды.
Ну ладно. Тогда поехали.
Он вытащил из кармана крепко завязанный двухлитровый полиэтиленовый пакет с белым порошком и огляделся по сторонам. На него никто не обращал внимания. Он проделал пальцем дыру в пакете и высыпал его содержимое в купель.
Потом засунул пустой пакет в карман и вышел на улицу, на ходу придумывая, как бы оправдать свое желание сидеть на последнем ряду возле купели, а не рядом с мамой.
Можно было сказать, что он хочет иметь возможность уйти, никому не мешая, если ему станет скучно. А что, неплохо!
Прямо-таки идеально.
*
Оскар в ужасе распахнул глаза. Он не понимал, где находится. Комнату окутывал полумрак, и он не узнавал эти холодные стены.
Он лежал на диване, накрытый одеялом, от которого исходил странный запах.
Стены плыли перед его глазами, паря в воздухе, пока он пытался расставить их на свои места, сложив в знакомую ему картинку. Ничего не получалось.
Он натянул одеяло до самого подбородка. Затхлый запах ударил ему в нос. Он попытался успокоиться, перестать переставлять стены местами и вместо этого попробовать вспомнить.
Да. Теперь он что-то припоминал.
Папа. Янне. Автостоп. Эли. Диван. Паутина.
Он уставился в потолок. Пыльная паутина была там же, где и раньше, едва различимая в полумраке комнаты. Он заснул у Эли на диване. Сколько же с тех пор прошло времени? Уже утро?
Окна были завешены одеялами, но по краям можно было различить слабый серый свет. Он скинул с себя покрывало и подошел к балконной двери, приоткрыв одеяло. Жалюзи были опущены. Он чуть раздвинул их. Да, наступило утро.
Голова болела, свет резал глаза. Он охнул, выпустил из рук край одеяла и принялся ощупывать свое горло и шею. Нет. Конечно нет. Она же сказала, что никогда…
Но где же она?
Он огляделся по сторонам. Взгляд его остановился на закрытой двери в комнату, где Эли переодевалась. Он сделал несколько шагов по направлению к ней, замялся. Дверь была в тени. Он сжал руки в кулаки, пососал костяшки пальцев.
А что если она и правда… лежит в гробу?
Тьфу, вот бред-то. С чего бы ей лежать в гробу? Почему вампиры так делают? Потому что они мертвы. А Эли сказала, что она…
А вдруг?..
Он снова пососал костяшки пальцев и провел по ним языком. Ее поцелуй. Стол с яствами. Уже одно то, что она способна на такое… И эти зубы. Клыки.
Было бы хоть чуточку посветлее…
Возле двери он различил выключатель. Он нажал на него, не надеясь, что он сработает, но, вопреки его ожиданиям, люстра зажглась. Он зажмурился от яркого света, подождал, пока глаза привыкнут, затем повернулся к двери и взялся за дверную ручку.
От света стало ничуть не легче. Скорее, наоборот, страшнее — теперь, когда дверь оказалась обычной дверью. Такой же, как в его комнате. Один в один. Даже ручка была такой же на ощупь. А ведь она там лежит. Может, даже сложив руки на груди.
Я должен это видеть.
Он осторожно нажал на ручку, чувствуя легкое сопротивление. Значит, дверь не заперта, иначе ручка опустилась бы до упора. Он нажал сильнее, и дверь приоткрылась. Внутри было темно.
Стоп!
Не причинит ли ей свет вреда, если он откроет дверь?
Нет. Вчера вечером она как ни в чем не бывало сидела перед торшером. Правда, люстра была ярче, и не исключено, что в торшере какая-то специальная лампочка… для вампиров.
Вот глупости. «Магазин вампирских лампочек».
Вряд ли она бы оставила люстру, если бы боялась ее света.
И все же он с некоторой опаской открыл дверь, впуская медленно расширяющийся клин света в комнату. Здесь было так же пусто, как и в гостиной. Кровать и куча одежды — и все. На кровати — простыня и подушка. Видимо, одеяло, под которым он спал, было из этой комнаты. На стене над кроватью была приклеена какая-то бумажка.
Азбука Морзе.
Значит, она лежала здесь, когда…
Оскар глубоко вздохнул. Он почти об этом забыл.
По ту сторону стены — моя комната.
Да. Он находился в каких-то двух метрах от собственной постели, от нормальной жизни.
Он лег на кровать, едва сдержавшись, чтобы не постучать в стену. Оскару. По ту сторону стены. И что бы он сказал?
Г-Д-Е Т-Ы?
Он снова задумчиво пососал кулак. Он-то был здесь. Это Эли нигде не было.
Голова его кружилась, он совсем запутался. Оскар положил щеку на подушку, лицом к двери. От подушки шел странный запах. Как от одеяла, только сильнее. Затхлый, пыльный. Он посмотрел на кучу одежды в паре метров от кровати.
Фу, мерзость какая!
Ему хотелось поскорее оказаться где-нибудь в другом месте. Уж слишком здесь было тихо и пусто, слишком… ненормально. Взгляд Оскара скользнул по одежде и остановился на стенном шкафе, занимавшем всю противоположную стену до самой двери. Два двустворчатых гардероба.
Там.
Он подтянул колени, уставившись на закрытые створки шкафа. Он не хотел. У него болел живот. Покалывающая, сосущая боль в солнечном сплетении.
Ему хотелось в туалет.
Он встал с постели и подошел к двери, не спуская глаз со створок стенного шкафа. У него самого в комнате была пара таких, и он прикинул, что она вполне бы туда поместилась. Он знал, что она там, и убеждаться в этом ему расхотелось.
Свет в коридоре тоже работал. Он зажег его и прошел в ванную. Дверь в ванную оказалась заперта. Окошко над защелкой стояло на красном — занято. Он постучал в дверь:
— Эли?
Ни звука. Он снова постучал:
— Эли, ты там?
Тишина. Произнеся ее имя вслух, он вдруг вспомнил, что оно ненастоящее. Это было последнее, что она сказала, когда они валялись на диване. Что на самом деле ее звали… Элиас. Элиас. Мужское имя. Так она что, мальчик? Но они же… целовались и спали в одной постели, и…
Упершись руками в дверь, Оскар уткнулся лбом в тыльную сторону ладоней. Он соображал. Изо всех сил. И не понимал. Странно, он мог примириться с тем фактом, что она вампир, но что она мальчик — примириться с этим было гораздо сложнее.
Он знал это слово. Пидор. Пидорас. Йонни иногда так ругался. Неужели быть голубым хуже, чем…
Он снова постучал в стену:
— Элиас?
При звуках этого имени у него засосало под ложечкой. Нет. Он никогда не привыкнет. Ее… его зовут Эли, и точка. Но это уже было чересчур. Чем бы там Эли ни являлась, это стало последней каплей. Он так не мог. С ней все было не как у людей.
Он поднял голову и втянул живот, еле сдерживая переполненный мочевой пузырь.
Шаги на лестнице, звук открывающейся почтовой щели, глухой шлепок. Он вышел из ванной, посмотрел, что это. Реклама.
Фарш говяжий — 14.40 кр/кг.
Броские красные цифры и буквы. Он взял рекламку в руки, и вдруг его как током ударило — он приник глазом к замочной скважине, прислушиваясь к гулкому эху шагов, грохоту открывающихся и закрывающихся почтовых ящиков.
Через полминуты перед замочной скважиной мелькнула мама и исчезла на лестнице, ведущей вниз, — он успел разглядеть лишь волосы и воротник ее пальто, но знал, что это она. Кто же еще?
Ходит и разносит рекламки, пока его нет.
Сжимая листок в руке, Оскар сполз на пол возле двери и уткнулся головой в колени. Он не плакал. Нетерпеливое покалывание в мочевом пузыре, зудящее, как копошащийся муравейник, мешало сосредоточиться.
Но в голове его все крутилась и крутилась одна и та же мысль.
Меня нет. Меня нет.
*
Лакке всю ночь не находил себе места. С того момента, как он оставил Виржинию, его глодало смутное беспокойство, выгрызая нутро. В субботу он посидел часок с ребятами у китаезы, попытался было внушить свое беспокойство, но разделить его желающих не нашлось. Лакке чувствовал, что оно вот-вот потребует выхода, что еще немного — и он слетит с катушек и окончательно озвереет, поэтому предпочел уйти.
Потому что им на все глубоко насрать.
Это, конечно, не было новостью, но он думал… Ну что, что он думал?
Что мы все заодно.
Что хоть кто-то, кроме него, видел, что дело тут нечисто. Но все только и знали, что трепали языком и сыпали красивыми словами, особенно Морган, но, как только доходило до дела, никто и пальцем пошевелить не хотел.
Не то чтобы Лакке знал, что нужно делать, но он по крайней мере переживал. Хоть пользы, конечно, от этого… Бо́льшую часть ночи он лежал без сна, время от времени пытаясь читать «Бесов» Достоевского, но, поскольку на каждой новой странице он забывал, о чем шла речь на предыдущей, ему пришлось сдаться.
Однако ночь прошла недаром — он принял решение.
В воскресенье утром он побывал у Виржинии и долго стучал в дверь. Она не открыла, и он решил, вернее, понадеялся, что она отправилась в больницу. По дороге домой он прошел мимо двух беседующих теток и услышал краем уха что-то про убийцу, за которым гонялась полиция в районе Юдарнскуген.
Господи, за каждым кустом по убийце. Вот газетчики порадуются.
С тех пор как поймали маньяка из Веллингбю, прошло больше десяти дней, и газетам уже поднадоело рассуждать о том, кто он и почему совершил то, что совершил.
Статьи на эту тему отличались каким-то злорадством. Его текущее состояние описывалось с садистской педантичностью, и непременно упоминалось о том, что ему предстоит провести в больнице как минимум полгода. Рядом приводилась табличка с фактами о воздействии серной кислоты на тело человека, чтобы можно было в красках себе представить, как же это должно быть больно.
Нет, Лакке такие вещи не доставляли ни малейшего удовольствия. Его пугало, до какой степени люди распалялись, когда речь заходила о «справедливом наказании» и тому подобном. Он был категорически против смертной казни. Не то чтобы у него были очень современные взгляды на правосудие. Скорее, наоборот — первобытные.
Он рассуждал так: если кто-нибудь убьет моего ребенка — я убью его собственными руками. Достоевский много писал о прощении, милосердии. И это правильно. Со стороны общества — безусловно. Но я, как отец убитого ребенка, имею полное моральное право лишить жизни того, кто это сделал. А то, что общество потом упечет меня за это лет на восемь в тюрьму, — уже другой вопрос.
Достоевский, конечно, хотел сказать совсем другое, и Лакке это понимал. Но тут они с Федором Михайловичем расходились во мнениях.
Вот о чем размышлял Лакке по дороге домой на Ибсенсгатан.
Уже дома он вдруг почувствовал, что голоден, быстренько приготовил макароны и съел их прямо из кастрюли, приправив кетчупом. Пока он заливал кастрюлю водой, чтобы легче было отмывать, крышка почтовой щели звякнула.
Реклама. Его она мало интересовала, у него все равно не было денег.
Ах да, точно.
Он вытер стол тряпкой и вытащил отцовский кляссер из шкафа, тоже доставшегося ему от отца и с адским трудом перевезенного в Блакеберг. Он бережно положил альбом на стол и открыл.
Вот они! Четыре негашеные марки из самой первой серии, выпущенной в Норвегии. Он склонился над альбомом и прищурился, разглядывая вздыбившегося льва на голубом фоне.
С ума сойти.
В 1855-м, когда они вышли, эти марки стоили четыре шиллинга штука. А сейчас гораздо больше. То, что они были парными, лишь увеличивало их ценность.
Вот, что он решил этой ночью, пока лежал и ворочался в прокуренных простынях: пора. Случившееся с Виржинией стало последней каплей. Плюс неспособность его друзей понять простые вещи, внезапное осознание, что с этими людьми ему делать нечего.
Он уедет и заберет с собой Виржинию.
Плохие времена плохими временами, но триста штук за марки он выручит, а то и больше, плюс еще двести за квартиру. Вот тебе и домик в деревне. Ну ладно, два домика. Небольшая усадьба. Денег хватит, у них все получится. Как только Виржиния поправится, он все ей выложит. Ему казалось… нет, он был почти уверен, что она согласится, более того, придет в восторг!
Так он и сделает.
На душе у него стало спокойнее. Он все придумал, распланировал. И не только на сегодня, но и на будущее. Все будет хорошо.
Полный приятных мыслей, он вошел в спальню, прилег поверх одеяла на пять минут и заснул.
*
— Мы видим их на улицах и площадях и задаемся вопросом: что мы можем сделать?
Томми подыхал со скуки. Прошло всего полчаса, но он бы куда с большим удовольствием сидел и тупо пялился в стену.
«Будь благословен», «Возликуем», «Радость Господня» — так почему же все сидят с таким видом, будто смотрят вечерний матч между Болгарией и Румынией? Да потому что для них это пустой звук — все, о чем они тут читают и поют. И для священника, похоже, тоже. Бубнит себе, отрабатывает зарплату.
Хорошо хоть проповедь началась.
Если священник дойдет до того места в Библии, он это сделает. А нет — значит нет.
Пускай он решит.
Томми пощупал карман. Все было готово, купель — метрах в трех от последнего ряда, где он сидел. Мать села впереди — небось, чтоб удобнее было умиляться на Стаффана, пока тот распевает эту бредятину, чинно сложив руки на своей полицейской елде.
Томми стиснул зубы. Он надеялся, что священник вот-вот произнесет нужные слова.
— Мы видим потерянность в их глазах, потерянность заблудших чад, которые не могут отыскать дорогу домой. Когда я вижу такого подростка, мне вспоминается исход народа Израилева из Египта…
Томми застыл. Хотя, может, он еще и не дойдет до того отрывка. Может, начнет вместо этого рассказывать про Красное море… И все же он вытащил из кармана заранее приготовленные зажигалку и брикет для розжига. Руки его дрожали.
— …ибо когда-то нужно взглянуть на этих заблудших юнцов, часто приводящих нас в недоумение. Они блуждают по пустыне нерешенных вопросов и неясных перспектив. Но между народом Израиля и современной молодежью есть большая разница…
Ну давай, скажи, скажи…
— Народ Израилев был ведом Господом. Вы же помните, о чем гласит Слово Божье? «Господь же шел пред ними, днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Вот чего не хватает современной молодежи — столпа огненного…
Священник поднял взгляд от бумаг.
Томми уже поджег брикет и теперь держал его между большим и указательным пальцами. Кончик брикета горел чистым голубым пламенем, тянувшимся к его пальцам. Когда священник снова погрузился в свои бумаги, Томми воспользовался моментом.
Пригнувшись, он сделал шаг к купели, как можно дальше вытянул руку, кинул брикет и быстро вернулся на свое место. Никто ничего не заметил.
Священник снова поднял голову.
— …и мы, взрослые, обязаны стать этой путеводной звездой для подростков. Если не мы, то кто? А силу мы почерпнем в деяниях Господних…
Из купели повалил белый дым. Томми уже чувствовал знакомый сладковатый запах.
Сколько раз он это проделывал — поджигал смесь селитры с сахаром. Правда, не в таких количествах и ни разу — в закрытом помещении. Он напряженно ждал, какой выйдет результат безо всякого ветра, который мог бы развеять дым. Сцепив пальцы, он крепко сжал ладони.
Брат Арделий, исполнявший обязанности священника в приходе Веллингбю, первым заметил дым. Он так его и воспринял — как дым из купели. Всю свою жизнь он ждал знака свыше и в первую секунду подумал:
О Господи, наконец-то!
Но мысль тут же испарилась. Ощущение чуда покинуло его стремительно — явное доказательство того, что никакого чуда и не было. Просто дым из купели. Но что это значит?
Смотритель, с которым он не очень-то ладил, любил пошутить. Вода в купели могла… закипеть.
Проблема заключалась в том, что он не мог позволить себе раздумывать об этом посреди проповеди. Поэтому брат Арделий поступил, как большинство в подобных ситуациях: продолжил как ни в чем не бывало в надежде, что проблема рассосется сама собой, если на нее не обращать внимания. Он прокашлялся и попытался вспомнить, на чем остановился.
Деяния Господни. Что-то про то, что нужно почерпнуть силу в деяниях Господних. Пример.
Он покосился на свои записи. Там стояло: «Босиком».
Босиком? Что я имел в виду? Что народ Израилев был бос или что Иисус… Долгие блуждания…
Он поднял голову, увидел, что дым стал плотнее и превратился в столп, медленно поднимающийся к своду потолка. О чем то бишь он? Ах да. Теперь он вспомнил. Слова все еще витали в воздухе.
— А силу мы почерпнем в деяниях Господних.
Не такой уж плохой финал. Не идеальный, не то, что он себе представлял, но сойдет. Он растерянно улыбнулся своей пастве и кивнул Биргитте, дирижировавшей хором.
Хор, состоявший из восьми человек, встал, как один, и вышел вперед. Когда они очутились лицом к пастве, он понял по их взглядам, что дым не остался незамеченным. Слава богу — он немного опасался, что ему мерещится.
Биргитта вопросительно посмотрела на него, и он махнул рукой: начинайте, начинайте.
Хор запел:
Веди меня, Господь, веди меня вперед,
Позволь очам моим увидеть Божий путь.
Один из самых красивых гимнов старого доброго Весли. Брат Арделий расстроился, что не может вполне насладиться красотой гимна, — дым начинал его беспокоить. Плотный белый столп поднимался над купелью, а на дне что-то горело голубым пламенем, потрескивая и искрясь. Сладковатый запах достиг его ноздрей, и паства начала оглядываться в поисках источника звука.
Ибо лишь Ты, Господь, Спаситель мой,
Даешь душе моей надежду и покой.
Одна из женщин в хоре закашлялась. Все повернули головы от дымящейся купели и обратили взгляды на брата Арделия, будто спрашивая, как им себя вести, входит ли это в запланированную программу.
Люди закашляли, зажимая рты и носы платками или рукой. По церкви расползалась тонкая пелена, и сквозь нее брат Арделий разглядел, как кто-то поднялся с последнего ряда и выскочил на улицу.
Да уж. Единственное разумное решение.
Он наклонился к микрофону:
— Боюсь, у нас произошло небольшое недоразумение, поэтому будет лучше, если мы все покинем помещение.
Уже на слове «недоразумение» Стаффан покинул хор и направился к выходу быстрыми сдержанными шагами. Он сразу понял, в чем дело. Во всем виноват этот неисправимый ворюга и шалопай, сын Ивонн. Стаффан изо всех сил пытался держать себя в руках, чувствуя, что, попадись ему сейчас Томми, оплеухи тому не избежать.
Конечно, мерзавцу бы это не помешало, вот какого наставничества ему не хватает.
Столп Господень, спасите-помогите! Пара крепких затрещин — вот что нужно этому засранцу!
Но Ивонн бы никогда такого не допустила, по крайней мере сейчас. Потом, когда они поженятся, будет другой разговор. Тогда-то он, черт подери, возьмется за воспитание Томми. А сейчас главным было его найти. Хоть тряхануть чуток, и то дело.
Но Стаффан ушел недалеко. Слова брата Арделия, произнесенные с кафедры, паства восприняла как стартовый выстрел, чтобы покинуть церковь. На полпути проход заполонили старушки, с мрачной решимостью рванувшие к выходу.
Его правая рука потянулась к бедру, но тут он спохватился и сжал ее в кулак. Даже если бы у него была дубинка, вряд ли сейчас подходящий момент, чтобы ее использовать.
Дым над купелью постепенно рассасывался, но в церкви повисла дымка, пахнущая кондитерской и химикатами. Двери церкви распахнулись, и сквозь пелену проступил четко очерченный прямоугольник дневного света.
Паства, кашляя, устремилась к нему.
*
На кухне стояла одна-единственная табуретка, больше ничего. Пододвинув ее к раковине, Оскар встал на нее и помочился в слив, сполоснув его затем водой. Спрыгнув с табуретки, он поставил ее на место. В пустой кухне она смотрелась странно. Как музейный экспонат.
Зачем она ей?
Он огляделся. Над холодильником висел ряд шкафов, до которых было можно дотянуться, только встав на стул. Он снова подтянул табуретку и оперся на ручку холодильника. Живот свело. Он был голоден.
Не раздумывая, он открыл холодильник, чтобы посмотреть, что там есть. Мало чего. Открытый пакет молока, пол-упаковки хлеба. Масло и сыр. Оскар протянул руку к пакету молока.
Но… Эли…
Он стоял с пакетом молока в руках и моргал. Что-то здесь не так. Она что, обычную еду тоже ест? Да. Наверное. Он вытащил молоко из холодильника и поставил его на стол. В шкафу над холодильником почти ничего не было. Две тарелки, два стакана. Он взял стакан, налил молока.
И тут у него подкосились ноги. Он застыл со стаканом холодного молока, вдруг в полной мере осознав происходящее.
Она пьет кровь.
Вчера ночью, в путах усталости и оторванности от мира, в темноте, все казалось возможным. Но теперь, на кухне, где окна защищали только жалюзи, пропускавшие тусклый утренний свет, со стаканом молока в руках, все это представлялось… запредельным.
К примеру, такая мысль: Если у тебя в холодильнике молоко и хлеб, значит, ты все же человек?
Он сделал глоток и тут же выплюнул. Молоко прокисло. Он понюхал остатки в стакане. Точно. Кислое. Он вылил молоко в раковину, сполоснул стакан и выпил воды, чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту, затем посмотрел на число на пакете.
Срок годности — до 28 октября.
Просрочено на десять дней. Оскар все понял.
Это того мужика.
Дверца холодильника была по-прежнему открыта. Это была его еда.
До чего же противно!
Оскар захлопнул холодильник. Что делал здесь этот мужик? Что они с Эли тут… Оскара передернуло.
Она его убила.
Да. Эли держала того мужика как… источник пропитания. Ходячий банк крови. Вот как она решила эту проблему. Но почему мужик на это соглашался? И если она его убила, то где же тело?
Оскар покосился на полки на стене. Ему сразу захотелось убраться прочь из этой кухни. Да и вообще из квартиры. Он вышел в коридор. Увидел закрытую дверь ванной.
Она там, внутри.
Он поспешно прошел в гостиную, взял свою сумку. Плеер лежал на столе. Нужно было только купить наушники — и будет как новенький. Он взял плеер, собираясь положить его в сумку, и тут увидел записку. Она лежала на журнальном столике у изголовья дивана, где он спал.
Привет. Надеюсь, ты хорошо спал. Я тоже пойду спать. Я в ванной. Пожалуйста, не входи туда. Я тебе доверяю. Я не знаю, что сказать. Надеюсь, что я тебе не разонравлюсь теперь, когда ты все знаешь. Ты мне нравишься. Очень. В эту минуту ты лежишь на диване и храпишь. Пожалуйста. Не бойся меня.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не бойся меня!
Хочешь, вечером встретимся? Напиши, если хочешь.
Если ты напишешь «нет», я сегодня же уеду. Мне все равно скоро придется это сделать. Но если ты напишешь «да», я еще ненадолго останусь. Не знаю, что еще написать. Мне одиноко. Ты даже не представляешь, до какой степени. А может, и представляешь.
Прости, что я разбила твою музыкальную игрушку. Если хочешь, возьми деньги. У меня их много. Не бойся меня. Тебе не нужно меня бояться. Но ты, наверное, и сам это знаешь. Надеюсь, что знаешь. Ты мне очень, очень нравишься.
Твоя
Эли.
P. S. Если хочешь, оставайся. А если уйдешь, обязательно убедись, что дверь заперта.
Оскар пару раз перечитал записку. Затем взял ручку, лежавшую рядом, оглядел пустую комнату, жизнь Эли. На столе все еще валялись скомканные деньги. Он взял тысячную купюру, сунул ее в карман.
Он долго смотрел на пустое место под подписью Эли. Затем поднес ручку к бумаге и вывел крупными буквами, заполнив все свободное пространство:
ДА.
Положив ручку на лист бумаги, он встал и пихнул плеер в сумку. Потом обернулся в последний раз и посмотрел на перевернутые вверх ногами буквы:
ДА.
Он покачал головой, вытащил из кармана бумажку в тысячу крон и вернул ее на место. Выйдя на лестничную клетку, проверил дверь, подергав ее несколько раз.
*
Из сводки новостей, 16. 45, воскресенье, 8 ноября 1981
Поиски пациента, сбежавшего из больницы Дандерюд после совершенного убийства, не принесли никаких результатов.
В воскресенье полиция прочесала лес Юдарнскуген на западе Стокгольма, по следам мужчины, подозреваемого в совершении ряда ритуальных убийств. На момент побега подозреваемый пребывал в крайне тяжелом состоянии, и у полиции есть подозрения, что побег не обошелся без помощи соучастников.
Арнольд Лерман, представитель Стокгольмской полиции:
«Да, это единственное логичное предположение. Скрыться в том состоянии, в котором находится подозреваемый, физически невозможно. В операции задействовано тридцать человек, собаки, вертолет. Короче говоря, это невозможно».
«Вы продолжите поиски в лесу Юдарнскуген?»
«Да. Мы не можем исключить вероятность того, что он все еще находится в этом районе. Но мы сократим наблюдение, чтобы направить основные силы на то, чтобы расследовать, как ему удалось осуществить побег».
Лицо подозреваемого носит следы тяжелых физических повреждений, на момент побега он был одет в голубую больничную рубашку. Любые сведения о происшедшем следует сообщать по номеру…
Интерес широкой публики к операции в лесу Юдарнскуген достиг своего пика. Вечерние газеты сочли, что не могут в который раз публиковать авторобот маньяка. К этому времени все рассчитывали на фотографии захвата преступника, но, за неимением таковых, в газетах появилась фотография с бараном.
«Экспрессен» даже разместила ее на первой полосе.
Как бы там ни было, а эта фотография, по крайней мере, отличалась драматизмом. Полицейский с искаженным от напряжения лицом, растопыренные ноги барана, раскрытая пасть. Глядя на нее, сразу живо представлялось пыхтение и блеяние.
Одна газета даже обратилась к королевской администрации за комментариями — как-никак речь шла о королевском баране, подвергшемся столь бесцеремонному обращению со стороны властей. Правда, король с королевой всего за три дня до этого события обнародовали весть о том, что ждут третьего ребенка, и, видимо, решили, что этой новости вполне достаточно. Королевская администрация отказалась комментировать происшедшее.
Конечно же, несколько страниц занимали карты леса Юдарнскуген и всего Западного округа — где обнаружили подозреваемого, как продвигались преследователи. Но все это так или иначе уже фигурировало в прошлых выпусках. Фотография же барана была в новинку, а потому западала в память.
«Экспрессен» даже осмелилась пошутить. Под фотографией стояла подпись: «Волк в овечьей шкуре?»
Все посмеялись, и это было кстати. Потому что людей переполнял страх. Человек, убивший двоих или даже троих, снова расхаживал на свободе. Родители снова строго-настрого запретили детям выходить на улицу. Школьные экскурсии, проходившие по понедельникам в Юдарнскуген, были отменены.
И над всем этим витала ненависть к одному-единственному человеку, обладавшему властью подчинять себе жизни стольких людей лишь за счет своей порочности и… бессмертия.
Да. Эксперты и профессора, высказывавшиеся в газетах и на телевидении, как один, утверждали, что преступник не мог оставаться в живых. После чего немедленно добавляли в ответ на следующий вопрос, что сам побег был столь же невозможен.
Какой-то доцент из Дандерюда на интервью программы «Вести» повел себя просто вызывающе, раздраженно заметив: «Он еще недавно был подключен к респиратору. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что человек не может дышать самостоятельно. А теперь добавьте к этому падение с высоты тридцати метров…» Тон доцента намекал, что журналист идиот и что все это исключительно выдумки прессы.
Так что дело превратилось в мешанину догадок, ни в какие ворота не лезущих теорий, слухов и — конечно же — страха. Неудивительно, что газеты все же опубликовали фотографию с бараном. В ней, по крайней мере, была хоть какая-то конкретика. Так что барана растиражировали по всей стране и он предстал перед глазами миллионов читателей.
Лакке увидел эту фотографию, покупая на последние деньги пачку красного «Принца» в «секс-шопе» по дороге к Гёсте. Он проспал весь день и чувствовал себя Раскольниковым — мир казался расплывчатым и неправдоподобным. Он бросил взгляд на фотографию барана и кивнул своим мыслям. В его состоянии ему легко было поверить в то, что полиция теперь арестовывает баранов.
Только на полпути ему вспомнилась эта картинка, и он подумал: «Что это было?..» — но у него не было сил возвращаться. Он прикурил сигарету и продолжил путь.
Оскар увидел ее, придя домой после того, как весь день слонялся по Веллингбю. Когда он выходил из метро, в поезд вошел Томми. Томми был какой-то дерганый, на взводе. Сказал, что проделал «одну охренительную штуку», но, прежде чем он успел что-то добавить, двери закрылись. Дома на столе лежала записка от мамы: «Ужинаю с хором. Еда в холодильнике, листовки разнесла, целую».
На диване в кухне лежала вечерняя газета. Оскар изучил фотографию барана и прочитал все, что писали о розыске. После этого он решил взяться за любимое дело, которое он как-то запустил, — вырезать статьи о маньяке из газет за последние несколько дней. Он вытащил кипу газет из шкафа, свой альбом, ножницы, клей — и принялся за работу.
Стаффан увидел ее метрах в двухстах от того места, где она была снята. Томми он так и не поймал и, обменявшись парой слов с подавленной Ивонн, уехал в Окесхув. Кто-то мельком назвал незнакомого ему коллегу «овцеловом», но он не понял шутки, пока пару часов спустя не увидел вечерние газеты.
Высшее руководство было в бешенстве от бестактности газетчиков, в то время как большинство полицейских на месте происшествия скорее веселились, — конечно, за исключением самого овцелова. Ему пришлось еще несколько недель выносить блеяние коллег и шуточки вроде: «Красивый свитер! Это случайно не овечья шерсть?»
Йонни увидел ее, когда его четырехлетний сводный брат Калле принес ему подарок. Кубик, завернутый в газету. Йонни выпроводил его из своей комнаты, сказал, что не в настроении, и запер дверь. Потом снова достал альбом и принялся рассматривать фотографии папы — настоящего, а не отца Калле.
Через какое-то время он услышал, как отчим орет на Калле за то, что тот порвал газету. Йонни развернул подарок, покрутил кубик в руках и тут заметил фотографию барана. Он засмеялся, и смех отдался болью в ухе. Он положил альбом в сумку со спортивной формой — в школе он будет в большей безопасности — и принялся размышлять о том, в какой ад превратит жизнь Оскара.
Кадр с бараном даже стал поводом для дебатов об этичности использования провокационных фотоматериалов, но тем не менее вошел в обзор лучших фотографий года обеих вечерних газет. Баран, ставший виновником всей этой шумихи, весной был выпущен на пастбища в Дроттнингхольме, оставаясь в полном неведении о своем звездном часе.
*
Виржиния лежала неподвижно, завернувшись в пледы и одеяла и закрыв глаза. Вскоре ей предстояло проснуться. Она пролежала так одиннадцать часов. Температура ее тела упала до двадцати семи градусов, то есть до температуры воздуха в гардеробе. Сердце совершало четыре еле слышных удара в минуту.
За эти одиннадцать часов ее организм претерпел необратимые изменения. Желудок и легкие приспособились к новому образу жизни. Самым любопытным с медицинской точки зрения была растущая опухоль в синусно-предсердном узле, в участке, отвечающем за сокращения сердца. Она уже увеличилась в два раза. Ничто не препятствовало ракообразному размножению чужеродных клеток.
Если бы кто-нибудь взял эти клетки на анализ и рассмотрел результат под микроскопом, он бы увидел нечто, что любой кардиолог принял бы за недоразумение, перепутанные результаты анализов. Глупую шутку.
Опухоль в синусном узле состояла из клеток мозга.
Да. В сердце Виржинии рос маленький мозг. В процессе роста он нуждался в поддержке большого мозга. Теперь же он был совершенно независим от других систем, и то, что в минуту страшного откровения почувствовала Виржиния, полностью соответствовало действительности — он мог продолжать жить, даже если тело умрет.
Виржиния открыла глаза и поняла, что не спит. Поняла, несмотря на отсутствие всякой разницы — что с открытыми, что с закрытыми глазами, здесь было по-прежнему темно. Но ее сознание проснулось. Да. Сознание замигало, пробуждаясь к жизни, и в ту же секунду что-то быстро метнулось в тень.
Как если бы…
Как когда возвращаешься в летний дом, всю зиму простоявший пустым. Открываешь дверь, протягиваешь руку к выключателю, и в ту секунду, как зажигается свет, слышишь дробный топот маленьких лап, царапание когтей по полу и успеваешь заметить крысу, исчезнувшую под раковиной.
Омерзение. Ты знаешь, что эта тварь жила здесь все то время, пока тебя не было. Что она считает твой дом своим. Что она снова вылезет, как только ты погасишь свет.
Здесь кто-то есть.
Губы стали шершавым, как бумага. Язык онемел. Она продолжала лежать, вспоминая дом, который они с Пэром, Лениным отцом, снимали на лето несколько сезонов подряд, когда дочь была маленькой.
Крысиное гнездо они обнаружили под раковиной, в самом углу. Крысы разгрызли несколько пустых коробок из-под молока и хлопьев и соорудили себе целый миниатюрный дом, фантастическую конструкцию из разноцветных кусков картона.
Виржиния даже испытала некоторое чувство вины, прохаживаясь пылесосом по крысиному жилью. Нет, больше того — суеверное ощущение, что она преступила границу. Пока холодное механическое жерло пылесоса всасывало в себя то красочное и хрупкое, на постройку чего крыса потратила всю зиму, ее не оставляло чувство, что она изгоняет из дома добрых духов.
Так оно и вышло. Крысе оказались нипочем расставленные ловушки, и она как ни в чем не бывало продолжала жрать их запасы, невзирая на то что на дворе стояло лето, и тогда Пэр разбросал по всему дому крысиный яд. Они даже из-за этого поругались. Они из-за многого ругались. Из-за всего. К июлю крыса сдохла где-то между стен.
По мере того как вонь разлагающейся тушки распространялась по дому, их брак окончательно рассыпался в прах. Они вернулись домой на неделю раньше, чем предполагалось, не в силах больше выносить ни эту вонь, ни друг друга. Добрый дух покинул их навсегда.
Что стало с тем домом? Кто там сейчас живет?
Послышался писк, сопровождаемый шипением.
Да здесь же крыса! Где-то среди одеял!
Ее охватила паника.
Все еще закутанная в одеяла, она рванулась в сторону, ударилась о створки шкафа, распахнувшиеся от удара, и рухнула на пол. Она лягалась и размахивала руками, пока не высвободилась из пут. Преисполненная отвращения, она забралась на кровать, забилась в угол и подтянула колени к подбородку, не сводя глаз с кучи одеял, пытаясь различить малейшее шевеление. Чуть что — и она заорет. Заорет так, что весь дом сбежится с молотками и топорами и будет лупить по куче одеял, пока эта тварь не сдохнет.
Верхнее одеяло было зеленым в синюю крапинку. Кажется, там что-то шевелится? Она уже набрала воздуха в легкие, чтобы закричать, как вдруг снова раздался тот самый сипящий звук.
Я… дышу.
Да. Последнее, что она констатировала перед сном, — это что она не дышит. Сейчас она снова дышала. Она осторожно втянула воздух ртом, и опять услышала сипение. Оно шло из ее легких. Пока она спала, горло пересохло, и теперь дыхание давалось с трудом. Она прокашлялась, и во рту появился гнилой привкус.
И тут она вспомнила. Все от начала до конца.
Она взглянула на свои руки. Их покрывали ручейки засохшей крови, но ни ран, ни шрамов видно не было. Она принялась пристально разглядывать сгиб локтя, который резала не меньше двух раз — это она точно помнила. Ну, может быть, чуть различимая розовая полоска. Да. Возможно. А так — все зажило.
Она протерла глаза и посмотрела на часы. Четверть седьмого. Вечер. Темно. Она снова бросила взгляд на зеленое одеяло в синюю крапинку.
Откуда же свет?
Люстра не горела, за окном наступил вечер, жалюзи были опущены. Как же она так четко различала все контуры и цвета? В гардеробе было хоть глаз выколи. Там, внутри, она ничего не видела. А сейчас… сейчас было светло как днем.
Немного света всегда откуда-нибудь да проникнет.
Дышит ли она?
Сказать наверняка было сложно. Стоило ей задуматься об этом, как она начинала управлять своим дыханием. Может, она дышит, только когда об этом думает?
Но ведь тот, первый вдох, принятый ею за крысиный писк, — тогда-то она не думала? Правда, это было как… как…
Она зажмурилась.
Тед.
Она присутствовала при родах. Лена не видела отца Теда с той самой ночи, когда Тед был зачат. Какой-то финский бизнесмен, приехавший в Стокгольм на конференцию, и все такое. Так что при родах присутствовала Виржиния. Еле уломала дочь согласиться.
И теперь она это вспомнила. Первое дыхание Теда.
Каким он родился. Маленькое тельце, склизкое, фиолетовое, не имеющее почти ничего общего с человеком. Разрывающее грудь счастье, омраченное тучей тревоги — ребенок не дышит! Акушерка, спокойно взявшая на руки это маленькое существо. Виржиния уже представила, как сейчас она перевернет его вверх ногами и шлепнет по попке, но, как только младенец оказался у нее на руках, на губах его образовался пузырь. Пузырь рос, рос и вдруг лопнул, а за ним последовал крик — тот самый, первый. И он задышал.
Неужели?..
Вот, значит, чем был ее первый свистящий вдох? Криком… новорожденного?
Выпрямившись, она легла на спину, продолжая прокручивать в голове картинки родов, вспоминая, как ей пришлось мыть Теда, потому что Лена была совсем без сил — она потеряла много крови. Да. После того как Тед появился на свет, из разрывов хлынула кровь, и медсестры только успевали менять бумажные полотенца. Постепенно кровотечение остановилось само собой.
Куча окровавленной бумаги, темно-красные руки акушерки. Спокойствие, эффективность, несмотря на всю эту… кровь. Несмотря на кровь.
Пить.
Во рту пересохло, и она принялась снова и снова прокручивать в голове эти картинки, фокусируясь на всех предметах, покрытых кровью: руки акушерки —
провести языком по этим рукам, по скомканным обрывкам бумаги на полу, набить ими рот, высасывая до капли, Ленины разведенные ляжки, по которым струится тонкий ручеек…
Она села рывком, соскочила с кровати и на полусогнутых бросилась к ванной, подняла крышку унитаза и склонилась над ним. Ничего. Только сухие удушающие спазмы. Она прислонилась лбом к краю унитаза. Сцены родов снова встали у нее перед глазами.
Не хочу — не хочу — не хочу!
Она со всей силы ударилась лбом о фарфор унитаза, и гейзер ледяной боли взорвался в ее голове. Перед глазами все стало голубым. Она улыбнулась и упала на бок, на коврик, который…
Стоил 14.90, но мне отдали за 10, потому что, отрывая ценник, кассирша вырвала из него клок, а когда я вышла из «Оленса» на площадь, то увидела голубя, сидевшего и клевавшего остатки картошки фри из картонной упаковки, голубь был голубовато-серым… и…
…свет в лицо…
Она не знала, сколько пролежала без сознания. Минуту, час? Может, всего несколько секунд. Но что-то в ней изменилось. Ее переполнял покой.
Ворс коврика приятно щекотал щеку, пока она лежала, уставившись на покрытую ржавыми пятнами трубу, уходившую из-под раковины в пол. Форма трубы ей казалась необыкновенно красивой.
Сильный запах мочи. Нет, она не обмочилась, это… Это была моча Лакке. Выгнув тело, она поднесла лицо к полу возле унитаза, принюхалась. Лакке… и Моргана. Она сама не понимала, откуда это знает, но знала точно: это моча Моргана.
Но Морган же никогда здесь не был!
А вот и нет. Тем вечером, ну или ночью, когда они приволокли ее домой. Когда на нее напали. Когда она была укушена. Да. Конечно. Все встало на свои места. Морган здесь был, мочился в ее туалете, пока она, укушенная, лежала на диване в комнате, а теперь она видела в темноте, не выносила света и жаждала крови…
Вампир.
Вот, значит, в чем дело. Это не какая-нибудь редкая и страшная болезнь, от которой можно вылечиться в больнице, или психотерапией, или…
Светотерапией!
Она хрипло расхохоталась, перевернулась на спину и, уставившись в потолок, быстро перебрала в голове все симптомы. Мгновенно заживающие раны, солнечные ожоги на коже, кровь. Затем произнесла вслух:
— Я — вампир.
Этого не могло быть. Их не бывает. И все же ей стало легче. Как будто давление отпустило. Словно камень свалился с плеч. Она ни в чем не виновата. Эти чудовищные фантазии, тот ужас, который она вытворяла с собой всю ночь. Она ничего не могла с этим поделать.
Это было… совершенно естественно.
Она приподнялась, открыла кран и села на унитаз, глядя на струю воды, постепенно наполнявшую ванну. Зазвонил телефон. Для нее это был лишь бессмысленный сигал, механический звук. Он не имел никакого значения. Она все равно не могла сейчас ни с кем говорить.
*
Оскар еще не успел прочитать субботнюю газету, лежавшую перед ним на кухонном столе. Она уже давно была развернута на одной и той же странице, и он раз за разом перечитывал текст под фотографией, от которой не мог отвести взгляда.
Статья была посвящена мертвецу, найденному вмерзшим в лед у городской больницы. В ней описывалось, как его нашли, как проходили спасательные работы. Здесь даже было небольшое фото Авилы, указывающего рукой в сторону проруби. Цитируя физрука, журналист исправил его грамматические ошибки.
Все это было крайне интересно и, безусловно, стоило того, чтобы вырезать и сохранить, но совсем не на это он смотрел, не в силах оторвать глаз.
Он смотрел на свитер на фотографии.
Под пиджаком мертвеца нашли скомканный детский свитер, и на фотографии он был разложен на нейтральном фоне. Оскар узнал его.
Ты не мерзнешь?
Под фотографией значилось, что покойного, Юакима Бенгтссона, последний раз видели в субботу, двадцать четвертого октября. Две недели назад. Оскар помнил тот вечер. Когда Эли собрала кубик Рубика. Он погладил ее по щеке, и она ушла со двора. Той ночью они с этим ее мужиком поругались, и мужик выскочил на улицу.
Неужели в тот вечер она это и сделала?
Да. Наверное. На следующий день вид у нее был гораздо лучше.
Он посмотрел на фотографию. Она была черно-белой, но в статье писали, что свитер был светло-розовый. Автор статьи рассуждал, не значит ли это, что на совести убийцы жизнь еще одного ребенка.
Стоп.
Маньяк из Веллингбю. В статье было сказано, что у полиции есть веские основания полагать: человек во льду стал жертвой так называемого ритуального убийцы, чуть больше недели назад пойманного в местном спорткомплексе и сбежавшего.
Так, значит, это был тот мужик?! Но… пацан в лесу… его-то за что?
Ему вспомнилось, как Томми, сидя на скамейке на детской площадке, провел пальцем по горлу.
Подвесили на дерево… перерезали горло… вжик!
Он понял. Понял все. Все эти статьи, которые он вырезал, бережно хранил, передачи по радио и телевизору, все разговоры, весь этот страх…
Эли.
Оскар не знал, что делать. Как поступить. Так что он просто подошел к холодильнику и вытащил лазанью, приготовленную для него мамой. Съел ее, не разогрев, продолжая проглядывать статьи. Когда он доел, раздался стук в стену. Он закрыл глаза, чтобы ничего не пропустить. К этому времени он знал морзянку наизусть.
Я В-Ы-Х-О-Ж-У.
Он быстро поднялся из-за стола, вошел в свою комнату, лег на живот, растянувшись на кровати и простучал в ответ:
П-Р-И-Х-О-Д-И К-О М-Н-Е.
Пауза. Затем:
А М-А-М-А?
Оскар ответил:
Н-Е-Т Д-О-М-А.
Мама должна была вернуться не раньше десяти. У них было по меньшей мере три часа. Отстучав ответ, Оскар откинулся на подушку. На какое-то мгновение он обо всем забыл, сосредоточившись на морзянке.
Свитер… газета…
Он вздрогнул и собрался было встать, чтобы убрать газеты, разложенные на столе. Она же увидит и поймет, что он…
Потом снова откинулся на подушку. Ну и пусть.
Тихий свист под окном. Он встал с кровати, подошел к окну и перегнулся через подоконник. Она стояла внизу, запрокинув лицо к свету. На ней была вчерашняя безразмерная клетчатая рубашка.
Он поманил ее пальцем: Подойди к двери.
*
— Не говори ему, где я, ладно?
Ивонн поморщилась, выпустила сигаретный дым уголком рта в кухонное окно и ничего не ответила.
Томми фыркнул:
— С каких это пор ты у нас куришь в окно?
Столбик пепла на ее сигарете стал таким длинным, что начал клониться вниз. Томми кивнул на него, помахав указательным пальцем, будто сбивая пепел. Она не обратила на это внимания.
— Что, Стаффану не нравится? Не выносит сигаретного дыма?
Томми откинулся на спинку кухонного стула, глядя на пепел и недоумевая, что же туда кладут, что он никак не осыплется. Затем помахал руками перед лицом.
— Я вон тоже дым не люблю. В детстве вообще терпеть не мог. Что-то ты тогда не больно окно открывала. А теперь вы только на нее посмотрите…
Пепел упал, приземлившись на колено матери. Она смахнула его, и на штанах остался серый след. Она подняла руку с сигаретой.
— Ничего подобного, я и тогда окно открывала. Почти всегда. Разве что пару раз, когда у нас были гости… Да и вообще, кто бы про дым говорил!
Томми ухмыльнулся:
— Да ладно тебе, смешно же вышло, согласись!
— И ничего смешного! А если бы началась паника? Если бы люди… А эта чаша…
— Купель.
— Точно, купель. Священник чуть в обморок не упал, там же один нагар… Стаффану пришлось…
— Стаффан, Стаффан…
— Да, Стаффан! Он, между прочим, тебя не выдал. Он мне потом сказал, как ему было тяжело, с его-то убеждениями, стоять и врать священнику в лицо, но он все равно… чтобы тебя защитить…
— Да ладно, сама, что ли, не понимаешь?
— Что я должна понимать?
— Себя он защищает, а не меня.
— Ничего подобного, он…
— А ты подумай!
Ивонн сделала последнюю глубокую затяжку, затушила сигарету в пепельнице и тут же закурила другую.
— Это же антиквариат. Теперь им придется ее реставрировать.
— А виноват во всем приемный сын Стаффана. И как это, по-твоему, будет выглядеть со стороны?!
— Ты ему не приемный сын.
— Не важно, это детали. Представь, я бы сказал Стаффану, что собираюсь явиться к священнику с повинной и признаться, что это я во всем виноват и зовут меня Томми, а Стаффан — мой… приемный хахаль. Вряд ли ему бы такое понравилось.
— Придется тебе самому с ним поговорить.
— Не. Только не сегодня.
— Слабо?
— Говоришь как маленькая.
— А ты ведешь себя как маленький.
— Ну признайся, что это было немножко смешно?
— Нет, Томми. Не смешно.
Томми вздохнул. Он, конечно, был не такой дурак, чтобы не понимать, что мать рассердится, но надеялся, что где-то в глубине души она увидит во всем этом хоть немного комизма. Но теперь она была на стороне Стаффана. Оставалось это признать.
Так что проблема — настоящая проблема — заключалась в том, чтобы найти, где жить. В смысле, после того, как они поженятся. До тех пор он мог по вечерам ошиваться в подвале, пока Стаффан гостит у них, вот как сегодня. Около восьми у него закончится смена в полицейском участке, и он припрется прямиком сюда. Уж что-что, а выслушивать нравоучения этого хрена Томми был не намерен. Фиг.
Так что Томми зашел к себе, чтобы взять одеяло и подушку с кровати, в то время как Ивонн сидела и курила, глядя в кухонное окно. Когда Томми собрался, он встал в дверях кухни, зажав одной рукой подушку, другой — сложенное одеяло.
— Ладно. Я пошел. Будь другом, не говори ему, где я.
Ивонн повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы. Она слегка улыбнулась:
— У тебя такой вид, как в тот раз. Когда ты пришел и…
Слова застряли у нее в горле. Томми не двигался. Ивонн сглотнула, прокашлялась и, глядя на него ясными глазами, тихо спросила:
— Томми, что мне делать?
— Я не знаю.
— Ты думаешь, мне стоит…
— Да нет. Ради меня не стоит. Что уж там, ничего не поделаешь.
Ивонн кивнула. Томми почувствовал, как и его охватывает страшная тоска, подумал, что нужно идти, пока они оба не распустили нюни.
— Ма, ты же ему не скажешь?..
— Нет-нет, не скажу.
— Ну вот и хорошо. Спасибо.
Ивонн встала и подошла к Томми. Обняла. От нее несло сигаретным дымом. Если бы руки его не были заняты, он бы обнял ее в ответ. Но он не мог, поэтому просто уткнулся головой ей в плечо, и они так постояли какое-то время.
А потом он ушел.
Не доверяю я ей. Стаффан сейчас разведет канитель, он умеет…
Спустившись в подвал, он кинул одеяло и подушку на диван. Засунул под губу жевательный табак, лег и задумался.
Хоть бы его пристрелили, что ли.
Но Стаффан был не из тех, кто… нет-нет. Скорей уж он сам засадит пулю в лоб маньяку. Прямо в яблочко. Шоколадные конфеты от коллег, все дела. Герой. А потом припрется сюда и возьмется за Томми. Наверняка.
Он вытащил из тайника ключ, вышел в коридор, отпер бомбоубежище и вошел, прихватив с собой цепь. При свете зажигалки он разглядел короткий коридор с двумя хранилищами по обе стороны. В хранилище держали крупы, консервы, старые настольные игры, газовую плитку и прочие предметы первой необходимости. Он открыл первую попавшуюся дверь и зашвырнул туда цепь.
Отлично. Теперь у него был путь к отступлению.
Прежде чем выйти из бомбоубежища, он взял статуэтку стрелка и взвесил ее в руке. Килограмма два, не меньше. Может, загнать ее? Одного металла сколько. На переплавку.
Он изучил лицо фигурки. Вроде, на Стаффана похож? Тогда точно на переплавку.
Кремация. Однозначно.
Он рассмеялся. Прикольнее всего было расплавить все, кроме башки, а потом вернуть ее Стаффану. Оплавленный металл, а из него торчит голова. Но вряд ли такое возможно. А жаль.
Он поставил статуэтку на место, вышел и закрыл дверь, но колесо поворачивать не стал. Теперь в случае необходимости он мог незаметно проскользнуть туда. Не факт, что понадобится, но все же.
*
Выждав десять гудков, Лакке был вынужден положить трубку. Гёста сидел на диване, гладя рыжего полосатого кота. Не поднимая головы, он спросил:
— Что, не ответила?
Лакке провел ладонью по лицу и раздраженно сказал:
— Нет, блин, ответила! Не слышал, что ли, как мы разговаривали?
— Еще будешь?
Лакке смягчился, попытался улыбнуться:
— Ладно, я не хотел… Давай наливай. Спасибо.
Гёста наклонился, случайно защемив кота, который с шипением соскочил на пол и сел, возмущенно уставившись на Гёсту. Тот плеснул каплю тоника и солидную порцию джина в стакан друга и протянул Лакке:
— Держи. Да не волнуйся ты, она, наверное, просто… ну…
— В больнице. Да. Пошла ко врачу, и ее положили в больницу.
— Ну да… Точно.
— Что ж ты сразу так не сказал?
— Как?
— Ладно, проехали. Ну, будем!
— Будем.
Они выпили. Через какое-то время Гёста начал ковырять в носу. Лакке посмотрел на него, и Гёста отдернул палец и виновато улыбнулся. Он не привык к гостям.
Толстая серо-белая кошка распласталась на полу с таким видом, будто даже поднять голову ей стоило неимоверного труда. Гёста кивнул на нее:
— Мириам скоро окотится.
Лакке сделал большой глоток. Поморщился. С каждой каплей алкоголя, притупляющего чувства, он все меньше ощущал вонь в квартире.
— И что ты с ними делаешь?
— С кем?
— Ну, с котятами? Что ты с ними делаешь? Оставляешь в живых?
— Ну да. Правда, последнее время они мертвыми родятся.
— Так это ж… что получается? Эта жирная, как ее там… Мириам? Значит, у нее в пузе — выводок дохлых котят?
— Да.
Лакке допил содержимое стакана, поставил его на стол. Гёсте сделал вопросительный жест, предлагая продолжить, но Лакке только покачал головой.
— Не. Тайм-аут.
Он опустил голову. Оранжевый ковер был покрыт таким слоем кошачьей шерсти, что, казалось, он из нее и сделан. Кругом кошки, кошки. Сколько же их тут? Он попробовал сосчитать. Дошел до восемнадцати. Только в одной комнате.
— А ты никогда не думал их… чик-чик. Ну, кастрировать или, как это… стерилизовать? Достаточно же, чтобы один пол был бесплодным.
Гёста непонимающе посмотрел на него:
— И как ты себе это представляешь?
— Да не, я ничего…
Лакке представил себе, как Гёста сидит в метро, а с ним двадцать пять кошек. В коробке. Нет, в полиэтиленовом пакете. В мешке. Приезжает к ветеринару, высыпает своих питомцев: «Кастрацию, пожалуйста». Он невольно рассмеялся. Гёста наклонил голову:
— Что?
— Да нет, просто представил. Тебе небось оптовая скидка положена.
Гёста шутку не оценил, и Лакке махнул рукой:
— Да не, я просто… Черт, вся эта история с Виржинией… я…
Внезапно он выпрямился и стукнул рукой об стол:
— Не могу я здесь больше находиться!
Гёста аж подпрыгнул на диване. Кот, лежавший у его ног, бросился прочь и спрятался под креслом. Из глубины квартиры послышалось шипение. Гёста поежился, повертел в руках стакан.
— Ну так иди. Я тебя не задерживаю…
— Да я не об этом. Я про все это. Про Блакеберг. Весь этот чертов город. Дороги, по которым мы ходим, места, люди — все это будто какая-то чудовищная болезнь, понимаешь? Здесь все не так. Вроде как думали, планировали, хотели построить идеальный город. А вышло все наоборот. Дерьмо вышло. Как будто… не могу объяснить… как если бы здесь просчитали, скажем, углы расположения домов по отношению друг к другу. Чтобы создать гармонию и все такое. Но что-то случилось с линейкой или там с угольником, что там для этого используют, — и все пошло наперекосяк, а со временем только усугубилось. И теперь ходишь между этими домами и чувствуешь — нет. Нет-нет-нет. Здесь быть нельзя. Здесь что-то нечисто, понимаешь? Хотя дело, конечно, ни в каких не в углах, а в чем-то другом, это как… как болезнь, въевшаяся в стены. И я не хочу так больше.
Звяканье бутылки о край стакана — Гёста без спроса наливал Лакке новую порцию. Лакке с благодарностью принял стакан. Выплеск эмоций оставил после себя приятную расслабленность в теле, пустоту, которую спиртное заполнило теплом. Он откинулся на спинку кресла, выдохнул.
Они молча посидели, как вдруг раздался звонок в дверь. Лакке спросил:
— Ты кого-нибудь ждешь?
Гёста покачал головой, с трудом поднимаясь с дивана.
— Нет. Просто проходной двор какой-то.
Лакке ухмыльнулся и поднял бокал. Ему стало лучше. Можно сказать, совсем хорошо.
Дверь открылась, пришедший что-то сказал, и Гёста ответил:
— Входи.
Лежа в ванне, в теплой воде, окрасившейся от крови в розовый цвет, Виржиния решилась.
Гёста.
Ее новое «я» подсказывало: чтобы войти, ей нужно приглашение. Ее старое — что это не может быть никто из тех, кого она любит. Или кто хоть как-то симпатичен. Гёста отвечал обоим требованиям.
Она вылезла из ванны, вытерлась, надела брюки и блузку. Только на улице она заметила, что забыла пальто. Тем не менее она не мерзла.
Сплошные плюсы.
У высотки она остановилась, подняла голову на окна Гёсты. Он был дома. Он всегда был дома.
А если он будет сопротивляться?
Об этом она не подумала. Она вообще ни о чем не думала, кроме того, что придет и возьмет то, что ей нужно. А что если Гёсте хочется жить?
Конечно, ему хочется жить. Он же человек, и человеческие радости ему не чужды, а что станет с его котами…
Мысли затормозились, исчезли. Она приложила руку к сердцу. Оно делало пять ударов в минуту, и она знала, что должна его защитить. Что во всех этих суевериях про осиновый кол что-то есть.
Она поднялась на лифте на предпоследний этаж и позвонила. Когда Гёста открыл дверь и увидел Виржинию, его глаза расширились в слабом подобии удивления.
Он что, знает? Неужели так заметно?
Гёста произнес:
— Как… это ты?!
— Да. Можно?..
Она махнула рукой вглубь квартиры. Она и сама ничего толком не понимала. Только интуитивно знала, что ей нужно приглашение, а иначе… иначе дело плохо. Гёста кивнул и сделал шаг в сторону:
— Входи.
Она вошла в коридор, и Гёста закрыл за ней дверь, глядя на нее водянистыми глазами. Он был небрит; дряблый подбородок, свисавший над горлом, казался грязным от серой щетины. Вонь в квартире оказалась хуже, чем ей запомнилось, еще сильнее.
Я не хо…
Ее старый мозг отключился. Голод взял верх. Она положила руки на плечи Гёсты, вернее, увидела, как руки легли на его плечи. Допустила это. Прежняя Виржиния сидела, сжавшись в комок, в глубине собственной черепной коробки, больше не контролируя ситуацию.
Ее губы произнесли:
— Хочешь мне помочь? Не двигайся.
Она что-то услышала. Голос.
— Виржиния! Ты! Как я рад, что ты…
Когда Виржиния повернула к нему голову, Лакке отпрянул.
Глаза ее были пусты. Как будто кто-то воткнул в них иголки и высосал то, что являлось прежней Виржинией, оставив лишь безжизненный взгляд анатомической модели. Иллюстрация номер восемь: глаза.
Виржиния секунду смотрела на него, потом выпустила Гёсту, повернулась к двери и нажала на дверную ручку, но дверь оказалась заперта. Она повернула защелку замка, но Лакке схватил ее и оттащил от двери.
— Ты никуда не пойдешь, пока не…
Виржиния вырвалась, заехав локтем ему в губу, рассекшуюся об зубы. Он крепко схватил ее за руки, прижался щекой к ее спине.
— Джини, черт! Мне нужно с тобой поговорить! Я чуть с ума не сошел, так за тебя волновался. Успокойся, да что с тобой?!
Она рванулась к двери, но Лакке держал ее, подталкивая к гостиной. Он изо всех сил старался говорить тихо и спокойно, как с испуганным животным, направляя ее в нужную сторону.
— Сейчас Гёста нам нальет чего-нибудь, и мы сядем и спокойно обо всем поговорим. Я… я тебе помогу. Что бы это ни было, я тебе помогу, хорошо?
— Нет, Лакке. Нет.
— Да, Джини. Да.
Гёста протиснулся мимо них в гостиную, сделал Виржинии джин с тоником в стакане Лакке. Тот затолкнул ее в комнату, отпустил и встал, упершись руками в дверной проем, как охранник. Слизнул кровь с нижней губы.
Виржиния стояла посреди комнаты, напрягшись и оглядываясь по сторонам, будто ища путь к отступлению. Ее взгляд застыл на окне.
— Нет, Джини, нет.
Лакке держал ухо востро, готовый в любой момент броситься и схватить ее, если ей придут в голову какие-нибудь глупости.
Да что это с ней? У нее такой вид, словно вся комната набита привидениями.
Он услышал звук, напоминающий шкворчание яйца на раскаленной сковородке.
И еще, точно такой же.
И еще.
Комната наполнилась все нарастающим шипением.
Все коты в комнате поднялись и, выгнув спины и подняв хвосты, смотрели на Виржинию. Даже Мириам неловко встала, волоча живот по полу, прижала уши и оскалила зубы.
Из спальни и кухни в комнату хлынули другие коты.
Гёста замер с бутылкой в руках, глядя на своих питомцев широко раскрытыми глазами. Шипение повисло в воздухе, как наэлектризованное облако, набирая силу. Лакке пришлось перейти на крик, чтобы перекричать котов:
— Гёста, что это с ними?
Гёста покачал головой, махнув рукой и расплескав джин:
— Я не знаю… я никогда…
Маленькая черная кошка сделала прыжок и, впившись когтями в ляжку Виржинии, укусила ее. Гёста со стуком поставил бутылку на стол, произнес:
— Фу, Титания, фу!
Виржиния наклонилась, схватила кошку за загривок и попыталась оторвать ее от своей ноги. Еще две кошки, воспользовавшись предоставившейся возможностью, запрыгнули ей на спину и плечи. Виржиния закричала, оторвала кошку от ноги и отшвырнула в сторону. Одна из кошек на ее спине забралась ей на голову, вцепилась когтями в волосы и укусила ее за лоб.
Прежде чем Лакке подоспел, на нее запрыгнуло еще три кота. Они орали, когда Виржиния принялась молотить по ним кулаками, но все равно держались, терзая своими мелкими зубами ее плоть.
Лакке запустил руки в кишащую пульсирующую массу на груди Виржинии, ухватился за шкуры, скользившие над напряженными мускулами, и стал раскидывать в сторону кошачьи тела. Блузка Виржинии порвалась, она закричала, и…
Она плачет!
Нет, это кровь стекала по ее щеке. Лакке схватил кошку, сидевшую у нее на голове, но та только глубже впилась когтями и сидела, как приклеенная. Ее голова целиком помещалась в ладони Лакке, и он тянул ее из стороны в сторону, пока поверх всего этого гвалта не раздался глухой треск и морда кошки не уткнулась в волосы Виржинии. Из носа животного выступила капля крови.
— А-а-а-ай! Девочка моя!
Гёста подбежал к Виржинии и со слезами на глазах принялся гладить кошку, которая даже после смерти не разжала когтей.
— Девочка моя любимая!
Лакке опустил глаза, и их с Виржинией взгляды встретились.
Это снова была она. Виржиния.
Отпусти меня.
Через туннели своих глаз Виржиния наблюдала за тем, что происходит с ее телом и как Лакке пытается ее спасти.
Оставь, не надо.
Это не она сопротивлялась и размахивала руками. Это та, другая, которая хотела жить, хотела, чтобы ее оболочка продолжала жить. Сама она сдалась, как только увидела горло Гёсты и почувствовала вонь в квартире. Будь что будет. Она в этом участвовать не собиралась.
Боль. Царапины саднили. Но это скоро пройдет.
Так что оставь меня.
Лакке прочитал это в ее глазах. Но не смирился.
Сад… два дома… огород…
В панике он пытался оторвать котов от Виржинии. Они держались до последнего, клубки мускулов, покрытые шерстью. Те немногие, кого ему удалось отцепить, рвали ее одежду в лохмотья, оставляя на коже длинные кровавые полосы, но большинство впились насмерть. Он пробовал колотить по ним кулаками, слышал, как ломаются кости, но стоило одному упасть, как его место занимал другой. Коты карабкались друг на друга, сгорая от нетерпения… И вдруг — темнота.
Он отлетел на метр от удара в лицо, чуть не упал и ухватился за стену, хлопая глазами. Гёста стоял рядом с Виржинией, сжимая кулаки, и смотрел на него глазами, полными яростных слез.
— Им же больно! Им же больно!
Виржиния превратилась в клубок орущей и шипящей шерсти. Мириам дотащилась до нее, поднялась на задние лапы и укусила за ногу. Увидев это, Гёста наклонился к ней и погрозил пальцем:
— Милая, так нельзя. Это больно!
Лакке утратил всякое соображение. Он сделал два шага вперед и поддел Мириам ногой. Нога погрузилась в ее пузо, полное котят, но Лакке даже не испытал отвращения, лишь удовлетворение, когда мешок внутренностей отлетел в сторону и ударился о батарею. Он схватил Виржинию за руку —
Уходим! —
и потащил ее к входной двери.
Виржиния пыталась сопротивляться. Но и Лакке, и поразившая ее напасть были одинаково сильны, и их воля значительно превосходила ее собственную. Сквозь туннели она видела, как Гёста упал на колени, услышала вопль отчаяния, когда он взял мертвую кошку на руки и принялся гладить ее по спине.
Прости меня, прости меня.
Потом Лакке потащил ее за собой, и больше она ничего не видела, потому что очередная кошка вскарабкалась ей на лицо и укусила за голову. Все превратилось в сплошную боль, когти впивались в ее кожу, она оказалась внутри живой «железной девы». Она потеряла равновесие и упала, чувствуя, как кто-то волочит ее по полу.
Дай мне умереть.
Но кошка перед ее глазами съехала в сторону, и она увидела, как открывается дверь, темно-красную руку Лакке, тащившую ее за собой, затем лестничную клетку, ступеньки… Она поднялась на ноги, с трудом выбираясь из глубин сознания, пытаясь взять контроль в свои руки, и…
Виржиния выдернула руку из его ладони.
Лакке обернулся к живому клубку шерстяных тел, в который превратилась Виржиния, чтобы снова взять ее за руку, чтобы…
Чтобы что? Ну что?!
Чтобы выбраться. Прочь отсюда.
Но она протиснулась мимо него, и на какую-то секунду дрожащая кошачья спина прижалась к его лицу. Мгновение — и Виржиния оказалась на лестничной площадке, где шипение тварей многократно усилилось, как горячечный шепот, а она подбежала к ступенькам и…
Нет-нет-нет!
Лакке рванулся, чтобы остановить ее, но, как человек, уверенный, что не может разбиться, или которому уже на все наплевать, она подалась вперед и мешком покатилась вниз по лестнице.
Коты, придавленные ее телом, визжали, пока Виржиния катилась вниз, ударяясь о бетон ступенек. Легкий хруст тонких ломающихся костей, тяжелый стук, заставивший Лакке вздрогнуть, когда голова Виржинии…
Кто-то прошелся по его ноге.
Маленький серый кот с волочащимися задними лапами выполз на площадку, уселся и горестно завыл.
Тело Виржинии застыло у подножия лестницы. Выжившие коты оставили ее в покое и бросились обратно. Зайдя в квартиру, они начали вылизываться.
Только маленький кот оставался сидеть, сокрушаясь, что не смог поучаствовать в охоте.
*
В воскресенье вечером полиция устроила пресс-конференцию. Для нее в участке выделили зал на сорок мест, но этого оказалось недостаточно. Пришли даже несколько журналистов из иностранных газет и с телеканалов. Тот факт, что беглеца уже больше суток не могли поймать, лишь подогревал внимание прессы, и один британский журналист дал самый меткий анализ того, почему это событие вызвало такой интерес:
«Это охота на архетипическое Чудовище. Его внешний вид, совершенные им преступления… Это обобщенное Чудовище из любой сказки. И всякий раз, когда мы его ловим, нам хочется верить, что этот раз — последний».
Еще за четверть часа до назначенного времени воздух в плохо вентилируемом помещении стал душным и влажным, и единственными, кто не жаловался, оказались итальянские тележурналисты, заявившие, что им не привыкать.
Конференцию перенесли в другой зал, и ровно в восемь появился начальник управления стокгольмской полиции, сопровождаемый комиссаром, который возглавлял следствие и разговаривал с преступником в больнице, а также командиром бригады, отвечающим за операцию в лесу Юдарнскуген.
Они ничуть не опасались, что журналисты разорвут их на куски, потому что решили подкинуть им жирную кость. У полиции была фотография преступника.
Зацепка с найденными часами принесла результаты. В субботу часовщик города Карлскуга не поленился поднять картотеку устаревших гарантийных сертификатов и нашел номер, запрошенный полицией во всех часовых мастерских страны.
Он позвонил в полицию и сообщил имя, адрес и номер телефона человека, зарегистрированного в качестве покупателя. Полиция Стокгольма пробила имя по картотеке и обратилась к полиции города Карлскуга с просьбой отправить наряд по указанному адресу, посмотреть, не найдут ли что-нибудь.
Некоторое оживление вызвал и тот факт, что вышеупомянутый гражданин оказался семь лет назад судим за попытку изнасилования девятилетнего ребенка, был признан психически больным и провел три года в местах заключения, после чего получил справку о выздоровлении и был выпущен на свободу.
Полиция Карлскуга обнаружила владельца часов дома и в полном здравии.
Да, у него действительно были такие часы. Нет, он не помнит, что с ними случилось. Только после двухчасового допроса в полицейском участке и напоминания о том, что заключение о психическом здоровье может быть пересмотрено, он вспомнил, кому их продал.
Хокан Бенгтссон из Карлстада. Они когда-то встречались и вместе проводили время, но, чем именно они занимались, он не помнит. Он действительно продал ему часы, но адреса у него нет и внешность он может описать лишь приблизительно, и нельзя ли ему уже пойти домой?
Проверка по картотеке ничего не дала. В Карлстаде было найдено двадцать четыре человека по имени Хокан Бенгтссон. Половину из них сразу исключили по причине возраста. Начали обзванивать остальных. Поиск значительно облегчало то, что, если потенциальный кандидат мог говорить, это автоматически исключало его из списка подозреваемых.
К девяти часам вечера список сократился до одного человека. Некоего Хокана Бенгтссона, работавшего преподавателем шведского в старших классах школы и переехавшего из Карлстада, после того как при невыясненных обстоятельствах сгорел его дом.
Полиция позвонила директору школы и узнала, что, да, ходили слухи, будто Хокан Бенгтссон любил детей в неподобающем смысле этого слова. Несмотря на субботний день, директору пришлось пойти в школу и разыскать в архиве старую фотографию Хокана Бенгтссона из школьного альбома 1976 года.
Местный полицейский, у которого в воскресенье были какие-то дела в Стокгольме, переслал копию фотографии по факсу, а в субботу вечером привез оригинал. Фотография оказалась в руках стокгольмской полиции в час ночи с субботы на воскресенье, то есть чуть больше получаса после того, как преступник выпал из окна больницы и его смерть была засвидетельствована врачами.
Утро воскресенья ушло на то, дабы при помощи медицинской и стоматологической карт, запрошенных из Карлстада, удостовериться, что лицо на фотографии действительно принадлежало человеку, еще день назад прикованному к больничной кровати. Это подтвердилось: на фотографии был в самом деле он.
Во второй половине дня полиция провела собрание. Можно было с уверенностью заявить, что со временем удастся выяснить, чем преступник занимался с тех пор, как покинул Карлстад, и разобраться, насколько совершенные им преступления были частью единого замысла и не сопутствовали ли ему другие жертвы.
Но сейчас вопрос стоял по-другому.
Преступник был все еще жив и разгуливал на свободе, и главной задачей было отыскать его местожительство, так как существовала вероятность, что он попытается туда вернуться. Движение преступника в сторону Западного округа это подтверждало.
Таким образом, было решено, что, если преступника не обнаружат до пресс-конференции, придется прибегнуть к помощи ненадежного, но, ох, вездесущего свидетеля — широкой общественности.
Возможно, кто-то его видел в то время, когда он еще походил на человека с фотографии, и мог бы подсказать, в каком районе он жил. Кроме того — хотя это, конечно же, было соображением второстепенным, — нужно было что-то подкинуть прессе.
Так что в эту минуту трое полицейских сидели за длинным столом на сцене, и среди собравшихся журналистов прокатился гул, когда начальник управления скромным жестом, который, как он знал, лишь усилит драматизм ситуации, поднял увеличенную фотографию преступника и произнес:
— Человека, которого мы разыскиваем, зовут Хокан Бенгтссон, и до того, как его лицо претерпело изменения, он выглядел вот так!
Начальник управления сделал паузу, пока камеры щелкали затворами, а вспышки на какое-то время превратили зал в один сплошной стробоскоп.
Само собой, у них имелись копии снимка, чтобы раздать журналистам, но иностранные газеты наверняка предпочли более волнующую фотографию полицейского, так сказать, с убийцей в руках.
Когда снимки были розданы, а следователь и командир подразделения высказали свое мнение, настало время для вопросов. Первому дали слово журналисту из «Дагенс Нюхетер»:
— Когда можно рассчитывать на поимку преступника?
Начальник управления полиции сделал глубокий вдох и, решившись поставить на кон свою репутацию, наклонился к микрофону и ответил:
— Не позднее завтрашнего дня.
*
— Привет!
— Привет.
Оскар прошел в гостиную, не дожидаясь Эли, чтобы поставить музыку, которая вдруг ему вспомнилась. Перебрав мамину скромную коллекцию пластинок, он нашел, что искал. «Викинги». На обложке музыканты стояли внутри конструкции, похожей на остов викингского корабля, который не очень вязался с их блестящими костюмами.
Эли все не шла. Оскар вышел в коридор с пластинкой в руках. Она стояла в дверях.
— Оскар. Ты должен пригласить меня в дом.
— Но… а как же окно? Ты ведь раньше сюда входила.
— Это другой вход.
— Ага. Ну, тогда…
Оскар замолчал, облизал губы. Посмотрел на пластинку. Фотография была снята в темноте, со вспышкой, и «Викинги» сияли, как группа святых, приготовившихся сойти на землю. Он сделал шаг в сторону Эли, показал ей пластинку.
— Смотри. Как будто они в животе у кита.
— Оскар…
— Что?
Эли стояла, уронив руки, и смотрела на него. Он усмехнулся, подошел и помахал рукой в дверном проеме прямо перед ее лицом.
— Ну что? Хочешь сказать, здесь что-то есть?
— Не начинай.
— Нет, я серьезно. Что будет, если ты войдешь без приглашения?
— Не начинай, — Эли слабо улыбнулась. — Ты хочешь увидеть, что будет? Да? Ты этого хочешь?
Эли произнесла с явным расчетом, что Оскар скажет «нет», поскольку тон ее вопроса предвещал нечто ужасное. Но Оскар сглотнул и ответил:
— Да. Хочу! Покажи мне!
— Ты же написал в записке, что…
— Да, написал. Ну и что? Может, я хочу посмотреть, что случится?
Эли сжала губы, немного подумала и сделала шаг вперед, переступив через порог. Оскар напрягся всем телом, ожидая, что сейчас будет синяя вспышка или дверь распахнется, пройдя сквозь тело Эли, и снова захлопнется — ну или что-то в этом роде. Но ничего не произошло. Эли зашла в прихожую, закрыла за собой дверь. Оскар пожал плечами:
— И это все?
— Не совсем.
Эли стояла так же, как и на лестничной клетке, — уронив руки и не отрывая глаз от Оскара. Он покачал головой:
— Ну и что? Это же…
Он умолк — из глаза Эли выкатилась слеза. Вернее, из обоих глаз. Только это были не обычные слезы, темного цвета… Кожа ее лица меняла цвет, став сначала розовой, потом красной, потом темно-красной, кулаки ее сжались, когда поры вдруг открылись и по всему лицу выступили капли крови. С шеей творилось то же самое.
Губы Эли сжались от боли, из уголка рта вытекла струйка крови, слившись с быстро растущими каплями на подбородке, которые стекали вниз по окровавленной шее.
Руки Оскара беспомощно повисли. Пластинка выпала из конверта, ударилась ребром об пол и упала на половик. Он взглянул на руки Эли.
Тыльная сторона ладоней была влажной от тонкого слоя все прибывающей крови.
Он снова взглянул Эли в глаза, но не узнал их. Казалось, они утонули в глазницах, залитых кровью, стекавшей вдоль переносицы к губам и заливавшей рот. Два тонких ручейка струились из уголков рта, бежали по шее и исчезали в вырезе рубашки, на которой тоже проступили темные пятна. Каждая пора ее тела кровоточила.
Задыхаясь, Оскар закричал:
— Входи, входи… ты можешь… ты можешь войти!
Эли расслабилась. Ее кулаки разжались. Гримаса боли исчезла. Какое-то мгновение Оскар надеялся, что кровь тоже исчезнет, как будто ее никогда и не было, — теперь, когда он пригласил ее войти.
Но он ошибался. Кровь перестала течь, но лицо и руки Эли по-прежнему оставались темно-красными, и за то время, что они стояли друг против друга, кровь начала сворачиваться, застывая черными пятнами и комками там, где ее скопилось больше всего. Оскар почувствовал слабый запах больницы.
Он поднял пластинку, вложил обратно в конверт и сказал, не глядя на Эли:
— Прости… Я не думал…
— Ничего. Это же я решила. Но мне, наверное, стоит принять душ. У тебя есть пакет?
— Пакет?
— Ну да. Для одежды.
Оскар кивнул, вошел в кухню и вытащил из-под раковины пакет с надписью «Супермаркет „ИКА" — ешь, пей и радуйся жизни!». Затем он вернулся в гостиную, положил пластинку на журнальный столик и остановился с шуршащим пакетом в руках.
А если бы я ничего не сказал? Позволил бы ей… истечь кровью?
Он смял пакет в шарик, затем разжал пальцы, и он выскочил из его ладони на пол. Оскар поднял его, подкинул в воздух, поймал. В ванной включился душ.
Значит, все правда. Значит, она… Он…
Направляясь к ванной, Оскар расправил пакет. «Ешь, пей и радуйся жизни». За закрытыми дверями раздавался плеск воды. Окошко защелки показывало белый — не заперто. Он осторожно постучал:
— Эли?..
— Да. Входи.
— Да нет, я только… пакет принес.
— Ничего не слышу! Войди!
— Нет.
— Оскар, я…
— Я его тут положу!
Он положил пакет у двери и убежал в гостиную. Вытащил пластинку из конверта, включил проигрыватель и поставил иглу на третью песню, свою любимую.
Довольно длинное вступление — и наконец из колонок раздался мягкий голос певца:
В волосах у нее маргаритки,
Легким шагом по полю идет,
И лицо освещает улыбка,
Ей уже девятнадцатый год.
Эли вошла в гостиную. Она обмотала полотенце вокруг пояса, а в руках держала пакет с одеждой. Лицо было чистым, а мокрые волосы липли к щекам и шее. Оскар сложил руки на груди, стоя у проигрывателя, и кивнул ей.
Что улыбки той стало причиной,
У калитки столкнувшися с ней,
Спросит парень у девушки милой.
«Тот, кого я люблю всех сильней».
— Оскар?
— Что? — Он сделал потише и мотнул головой в сторону пластинки: — Фигня, да?
Эли покачала головой.
— Нет, по-моему, здорово. Вот это мне нравится.
— Правда?
— Да. Слушай… — Эли собиралась было продолжить, но только обреченно добавила: — А, ладно! — и развязала полотенце.
Оно упало к ее ногам, и она осталась стоять обнаженной в нескольких шагах от Оскара. Эли широким жестом указала на свое тоненькое тело и произнесла:
— Вот, чтоб ты знал.
Выйдут вместе на берег песчаный,
Выводить будут знаки, слова
И друг другу шептать неустанно:
«Как же ждал я тебя… Как ждала…»[36]
Короткий инструментальный финал — и песня закончилась. Из динамиков доносилось тихое потрескивание, пока игла скользила в промежутке между песнями. Оскар смотрел на Эли.
Темные соски выглядели почти черными на ее бледной коже. Узкая, прямая грудная клетка без малейшего намека на выпуклости, только ребра четко вырисовывались под светом люстры. Ее тонкие руки и ноги казались неестественно длинными, словно ветви юного деревца, обтянутого человеческой кожей. Между ног у нее… ничего не было. Ни складок, ни пениса. Лишь гладкая кожа.
Оскар провел легонько по волосам и так и застыл с рукой на шее. Как он ни сдерживался, у него невольно вырвалось это дурацкое мамино словечко:
— Но у тебя же… нет письки!
Эли наклонила голову и посмотрела себе между ног, будто для нее это было открытием. Началась новая песня, и Оскар не расслышал, что́ она ответила. Он нажал рычажок проигрывателя, и игла плавно поднялась над пластинкой.
— Что ты сказала?
— Я сказала, что раньше была.
— И что же случилось?
Эли засмеялась. Оскар понял, как глупо прозвучал его вопрос, и залился краской. Эли всплеснула руками и прикусила нижнюю губу.
— Забыла в метро.
— Тьфу ты дурочка.
Не глядя на Эли, Оскар прошел в ванную, чтобы убедиться, что там не осталась следов крови.
Горячий пар висел в воздухе, зеркало запотело. Ванна была такой же белой, как и раньше, только по краям виднелась чуть заметная желтая полоска застарелой несмываемой грязи. В раковине тоже было чисто.
Ничего этого не было.
Эли просто зашла в ванную для вида, для поддержания иллюзии. Но нет: мыло. Оскар взял его в руки. Мыло было розоватым, а под ним, в лужице воды в мыльнице, плавало нечто вроде головастика — да, что-то живое! — и он вздрогнул, когда оно вдруг —
поплыло:
«зашевелилось и, виляя хвостом, скользнуло в раковину и застыло на краю сливного отверстия. Но больше оно не двигалось — нет, все-таки не живое. Оскар пустил воду из крана и смыл эту дрянь, сполоснул мыло и вытер раковину с мыльницей. Потом снял с крючка свой халат, вернулся в гостиную и протянул его Эли, все еще стоявшей нагишом, оглядываясь по сторонам.
— Спасибо. Когда придет твоя мама?
— Через пару часов. — Оскар поднял пакет с ее одеждой. — Я выбрасываю?
Эли натянула на себя халат, завязала пояс.
— Нет. Я потом заберу. — Она дотронулась до его плеча. — Оскар? Ты понимаешь, что я не девочка, что я?..
Оскар сделал шаг в сторону.
— Блин, вот заладила! Да знаю я! Ты же говорила!
— Я ничего не говорила.
— Нет, говорила.
— Когда?
Оскар подумал.
— Не помню. Но я в любом случае знал. И давно.
— Ты очень расстроен?
— Чего это я должен расстраиваться?
— Ну не знаю. Может, тебе это неприятно. Друзья там…
— Прекрати! Вот дура. Прекрати!
— Ладно.
Эли повертела в руках пояс халата, потом подошла к проигрывателю и уставилась на крутящуюся пластинку. Обернулась, оглядела комнату.
— Знаешь, я так давно не была просто так у кого-то в гостях. Я уже забыла, как это… Что мне делать?
— Нашла кого спросить.
Эли опустила плечи, сунула руки в карманы халата и снова, как загипнотизированная, уставилась на черную дыру пластинки. Открыла рот, собираясь что-то сказать, закрыла. Вытащила правую руку из кармана, протянула к пластинке и прижала ее пальцем, так что та остановилась.
— Осторожно, сломаешь.
— Извини.
Эли быстро отдернула палец, и пластинка опять завертелась. Оскар заметил влажный отпечаток пальца, проплывавший мимо каждый раз, когда пластинка оказывалась в свете лампы. Эли снова засунула руку в карман, она продолжала смотреть на пластинку, будто пытаясь услышать музыку, и разглядывала дорожки.
— Это, наверное, глупо, но… — Уголки ее рта дрогнули. — У меня уже двести лет не было ни одного нормального друга.
Она взглянула на Оскара с виноватой улыбкой, словно оправдываясь: прости что я говорю всякие глупости.
Глаза Оскара округлились:
— Ты что, ты такая старая?!
— Да. Нет. Родилась я примерно двести двадцать лет назад, но половину этого времени я спала.
— Но я-то тоже сплю. Ну, по крайней мере по восемь часов — это сколько получается? Треть всего времени.
— Да, только когда я «сплю», я по нескольку месяцев не встаю вообще. А потом несколько месяцев живу. По ночам. А днем отдыхаю.
— Так положено?
— Не знаю. У меня — так. А потом, когда просыпаюсь, я опять маленькая. И слабая. И мне нужна помощь. Может, поэтому я и выжила. Потому что я такая маленькая. И люди готовы мне помогать. По разным причинам.
По ее щеке пробежала тень, она стиснула зубы, глубже засунула руки в карманы халата, что-то нащупала и вытащила какой-то предмет. Тонкая глянцевая полоска бумаги, видимо забытая мамой, — та иногда надевала его халат. Эли осторожно положила бумажку обратно в карман, будто какую-то ценность.
— И что, ты спишь в гробу?
Эли засмеялась и покачала головой:
— Да нет, я…
Оскар больше не мог сдерживаться. Его слова невольно прозвучали как обвинение:
— Но ты же убиваешь людей!
Эли посмотрела ему в глаза с легким удивлением, будто Оскар указал ей на то, что у нее пять пальцев на каждой руке или что-либо не менее очевидное.
— Да. Я убиваю людей. Мне очень жаль.
— Тогда почему ты это делаешь?
Вспышка раздражения в глазах Эли.
— Если у тебя есть идея получше, можешь ею поделиться.
— Но… ведь кровь, наверное, можно… как-нибудь…
— Нельзя.
— Почему?
Эли фыркнула, прищурив глаза:
— Потому что мы с тобой похожи.
— Чем это мы похожи? Я…
Эли рассекла рукой воздух, как если бы в ней был нож, и произнесла:
— Чего уставился, козел? Сдохнуть хочешь? — Она снова взмахнула невидимым ножом. — Вот тебе! Чтоб не пялился!
Оскар сжал губы, облизал их.
— Что ты такое говоришь?
— Это не я говорю. Это ты сказал. Первое, что я от тебя услышала. Там, на площадке.
Оскар вспомнил. Дерево. Нож. Как он наклонил лезвие и впервые увидел Эли.
Почему же тебя видно в зеркалах? Ведь я-то тебя тогда увидел в отражении.
— Я… никого не убиваю.
— Нет. Но хотел бы. Если бы мог. И уж точно убил бы, если б приперло.
— Но я же их ненавижу. А это большая…
— Разница? Ты так считаешь?
— Ну… разве нет?
— Если бы ты знал, что тебе это сойдет с рук. Если бы это произошло само собой. Если бы тебе стоило лишь пожелать, чтобы они умерли. Ты бы это сделал?
— …Да.
— Ну вот. И это ради забавы. Из мести. А я это делаю из необходимости. У меня нет другого выбора.
— Но ведь это только потому, что они… они меня бьют, они надо мной издеваются, потому что я…
— Потому что ты хочешь жить. Так же как и я.
Эли протянула руки, взяла лицо Оскара в свои ладони.
— Побудь немного мной…
И поцеловала его.
*
Пальцы господина сжимаются на игральных костях, его ногти покрыты черным лаком.
Тишина висит в зале душным туманом. Тонкая рука наклоняется… медленно, медленно… и из нее на стол выпадают кости… тук-тут-тук. Они ударяются друг о друга, вращаются, замирают.
Двойка. И четверка.
Оскар чувствует непонятное облегчение, когда человек обходит стол и встает перед строем мальчиков, как генерал перед своей армией. Голос его бесцветен — ни низок, ни высок, — когда он вытягивает длинный указательный палец и начинает считать, двигаясь вдоль ряда.
«Один… два… три… четыре…»
Оскар смотрит влево, на тех, кого уже посчитали. В позах мальчиков чувствуется расслабленность, свобода. Всхлип. Сосед Оскара сжимает плечи, губы его дрожат. Он шестой. Теперь Оскар понимает свое облегчение.
«…пять… шесть… и… семь!»
Палец указывает на Оскара. Человек смотрит ему в глаза. Улыбается.
Нет!
Но это же!.. Оскар отрывает взгляд от человека, смотрит на кости.
Теперь на них тройка и четверка. Соседний мальчик смотрит по сторонам непонимающим взглядом, будто только что очнулся от кошмарного сна. На какое-то мгновение их взгляды встречаются. Пустота. Непонимание.
Потом вопль с другого конца зала.
…Мама…
Женщина в коричневом платке бежит к нему, но между ними возникают две фигуры, хватают ее за локти и отбрасывают назад к каменной стене. Оскар тянет к ней руки, словно пытаясь подхватить, и губы его складываются в слово:
Мама!
И в эту секунду руки, тяжелые, как гири, опускаются на его плечи, выводят из строя и ведут к маленькой двери. Человек в парике, все еще грозя указующим перстом, следует за ним. Его вталкивают, втягивают в темную комнату, где пахнет…
…спиртом…
…затем мерцание, неясные картины; свет, темнота, камень, обнаженная кожа…
…пока ощущения наконец не складываются в единое целое. Оскар чувствует, как что-то давит на грудь. Он не может пошевелить руками. Правое ухо, кажется, вот-вот лопнет, оно прижато к какой-то деревянной доске.
У него что-то во рту. Веревка. Посасывая волокна, он открывает глаза.
Он лежит на животе на столе. Руки привязаны. Он обнажен. Перед его глазами две фигуры: господин в парике и еще кто-то. Низенький толстяк с видом весельчака. Нет, человека, считающего себя весельчаком. Вечно рассказывает шутки, над которыми никто не смеется. У весельчака в одной руке нож, в другой чаша.
Что-то не так.
Грудь, ухо, колени прижаты к поверхности стола. Но не пах. Как будто в этом месте в столе проделано отверстие. Оскар пытается вывернуться, чтобы проверить, но он слишком крепко привязан.
Господин в парике что-то говорит весельчаку, и тот со смехом кивает. Оба садятся на корточки. Господин в парике смотрит на Оскара не отрываясь. У него светло-голубые глаза, как небо холодным осенним днем. В них живое любопытство. Он смотрит Оскару в глаза, будто отыскивая в них то, что доставляет ему удовольствие.
Весельчак забирается под стол с ножом и чашей в руках. И тут Оскар все понимает.
Он понимает и то, что стоит ему избавиться от веревки — и ему не придется быть здесь. Он просто исчезнет.
Оскар отклонил голову назад, пытаясь прервать поцелуй, но Эли, будто готовая к такой реакции, положила руку ему на затылок и крепче прижалась к его губам, насильно задерживая его в своих воспоминаниях.
Веревка лишь крепче впивается в рот, воздух с шипением выходит из живота, когда Оскар пукает от страха. Человек в парике морщит нос и осуждающее цокает языком. Глаза его не меняются. Все то же выражение — как у ребенка, который вот-вот откроет коробку, зная, что там щенок.
Оскар чувствует, как холодные пальцы хватают его член, оттягивают его. Он открывает рот, чтобы закричаты «Не-е-ет!» — но веревка мешает, и из его уст вырывается лишь: «Э-э-э-э!»
Весельчак из-под стола что-то спрашивает у господина в парике, и тот кивает, не отрывая глаз от Оскара. Затем — острая боль. Раскаленный прут впивается в пах, поднимается к животу, к груди, огненной иглой пронизывая все тело, и он кричит, кричит, глаза его наполняются слезами, тело пылает.
Сердце колотится об стол, как кулак в дверь, и он закрывает глаза, впиваясь в веревку зубами, и слышит где-то вдалеке журчание, плеск, и видит…
…маму, стоящую на коленях у ручья и полоскающую белье. Мама. Мама. Какая-то тряпка выскальзывает у нее из рук, кусок ткани, и Оскар встает — он лежал на животе, и в паху все горит, — встает, бежит к ручью, к стремительно уплывающей ткани и ловит ее. Рубашка его сестры. Он поднимает ее к свету, протягивает маме, чей силуэт виднеется на берегу. С рубашки стекают капли, сверкая на солнце и со звонким плеском падая в ручей. Брызги попадают в глаза, и он ничего не видит, потому что лицо заливает вода, она стекает по щекам, и он…
…сквозь пелену видит светлые волосы, васильковые глаза. Видит чашу в руках у этого человека, видит, как он подносит ее к губам и пьет. Как он закрывает глаза, наконец-то закрывает их и пьет…
Время тянется… тянется до бесконечности… Он взаперти. Человек впивается зубами в его плоть. Кусает. И пьет. Кусает. И пьет.
Наконец раскаленный прут достигает его головы, перед глазами все розовеет, он дергает головой, высвобождаясь от веревки, и падает…
Оскар отпрянул, оторвавшись от губ Эли, который подхватил его и крепко обнял. Оскар ухватился за первое попавшееся — за тело Эли — и изо всех сил вцепился в него, непонимающе оглядываясь по сторонам.
Спокойно.
Вскоре перед глазами Оскара нарисовался узор. Обои. Бежевые обои с белыми, еле заметными розами. Он узнал их. Такие обои были в его гостиной. Он был у себя в гостиной, в квартире, где он живет вместе с мамой.
А этот, в его объятиях… Эли.
Мальчик. Мой друг. Да.
Оскар почувствовал тошноту и слабость. Он высвободился из объятий Эли, сел на диван и оглядел комнату, будто желая удостовериться, что он в самом деле вернулся, не остался… там. Он сглотнул, отмечая, что помнит в мельчайших подробностях то место, где только что побывал. Как настоящее воспоминание. Как будто это произошло с ним самим, и недавно. Весельчак, чаша, боль…
Эли встал перед ним на колени, прижал ладони к животу.
— Прости.
Прямо как…
— А что стало с мамой?
Эли неуверенно посмотрел на него и спросил:
— С моей?
— Нет…
Оскар умолк, представив свою маму у ручья, где она полоскала одежду. Только это была не его мама. Даже ни капельки не похожа. Он потер глаза и ответил:
— То есть да. Конечно. С твоей.
— Я не знаю.
— Но они же не могли…
— Я не знаю!
Эли обхватил живот руками так, что побелели костяшки пальцев. Плечи его поникли. Немного расслабившись, он ответил уже спокойнее:
— Я не знаю. Прости. Прости за все… за это. Я просто хотел, чтобы ты… не знаю. Прости. Это было глупо.
Эли был копией своей мамы. Тоньше, свежее, моложе, но… копией. Через двадцать лет Эли наверняка будет выглядеть точь-в-точь как та женщина у ручья.
Только не будет. Потому что через двадцать лет он будет выглядеть точно так же, как и сейчас.
Оскар тяжело вздохнул и откинулся на спинку дивана. Слишком много впечатлений. Легкая боль, покалывающая в висках, становилась все ощутимее, все сильнее. Слишком много… Эли встал:
— Я пойду.
Подперев рукой подбородок, Оскар кивнул. У него не было сил возражать или обдумывать свои действия. Эли снял халат, и взгляд Оскара снова упал на низ его живота. На этот раз он разглядел на светлой коже розовое пятно — шрам.
Как же он… писает? Хотя, может, ему и не надо…
Спрашивать он не стал. Эли сел на корточки возле пакета, развязал его и стал вытаскивать свою одежду. Оскар предложил:
— Можешь у меня что-нибудь взять.
— Да ничего.
Эли вытащил клетчатую рубашку. Темные пятна на голубом фоне. Оскар выпрямился. Головная боль стучала в висках.
— Слушай, ну хватит, возьми у меня…
— Не надо.
Эли начал натягивать на себя окровавленную рубашку, и у Оскара вырвалось:
— Это же отвратно, ты что, не понимаешь? Какой же ты отвратный!
Эли повернулся к нему, держа рубашку в руках:
— Ты правда так думаешь?
— Да.
Эли запихнул рубашку обратно в пакет.
— А что мне можно взять?
— Выбери там, в гардеробе. Бери что хочешь.
Эли кивнул и вошел в комнату Оскара в поисках гардероба, а тот тем временем сполз по спинке дивана, лег на бок и прижал руки к вискам, чувствуя, что они вот-вот лопнут.
Мама, мама Эли и моя мама, Эли, я. Двести лет. Папа Эли. Папа Эли? Тот мужик, который… Тот мужик.
Эли вошел в гостиную. Оскар открыл уже рот, чтобы что-то спросить, но при виде Эли тут же закрыл. На Эли было платье. Выцветший желтый сарафан в белую крапинку. Один из маминых нарядов. Эли разгладил его рукой.
— Ничего? Я специально выбрал тот, что похуже…
— Но это же…
— Я потом отдам.
— Ладно. Ладно.
Эли подошел к нему, сел перед ним на корточки, взял за руку.
— Слушай, прости. Я не знаю, что сказать…
Оскар махнул свободной рукой, чтобы тот перестал, и сказал:
— Ты слышал, что тот мужик сбежал?
— Какой мужик?
— Ну тот… который выдавал себя за твоего отца. С которым ты жил.
— И что с ним?
Оскар зажмурился. Перед глазами мелькали синие молнии. Цепь событий, восстановленная из газет, пронеслась перед ним, и он вдруг рассердился, вырвал руку и, стукнув себя кулаком по голове, выкрикнул, не открывая глаз:
— Хватит! Прекрати! Я все знаю, понял? Хватит претворяться. Хватит врать, у меня твое вранье вот где уже сидит!
Эли молчал. Оскар зажмурился, сделал вдох, выдох:
— Сбежал твой мужик. Его целый день уже ловят, только пока так и нашли. Теперь ты все знаешь.
Пауза. Затем голос Эли над его головой:
— Где?
— Здесь. В Юдарне. В лесу. Где-то в Окесхуве.
Оскар открыл глаза. Эли поднялся на ноги и теперь стоял, зажимая ладонью рот и глядя на него распахнутыми от ужаса глаза. Платье было ему велико и висело мешком на узких плечах — он казался ребенком, взявшим без спроса мамино платье и теперь ожидающим наказания.
— Оскар, — произнес Эли. — Не выходи из дому. Когда стемнеет. Обещай, что не выйдешь.
Это платье. Эти слова. Оскар прыснул и, не сдержавшись, ответил:
— Ты прямо как моя мама.
*
Белка сбегает вниз по стволу вяза — и вдруг замирает. Звуки далекой сирены.
По Бергслагсвеген проносится «скорая» с включенной мигалкой и сиреной.
В скорой три человека. Лакке Соренсон сидит на откидывающемся сиденье, зажав в ладонях окровавленную, исцарапанную руку, принадлежащую Виржинии Линдблад. Санитар поправляет шланг, снабжающий тело Виржинии физиологическим раствором, чтобы сердцу было что качать, так как она потеряла много крови.
Белка решает, что звук не представляет опасности и на него можно не обращать внимания. Она продолжает свой спуск. Весь день лес был наполнен людьми и собаками. Ни минуты покоя. Только теперь, когда стемнело, белка осмелилась спуститься с вяза, на котором пряталась весь день. Но сейчас лай собак и голоса наконец стихли, а гудящая железная птица, зависшая над верхушками деревьев, похоже, вернулась в свое гнездо.
Спрыгнув с дерева, белка бежит по толстому корню. Она не любит бегать по земле в темноте, но голод берет верх. Она действует осторожно, останавливается, прислушивается, оглядывается по сторонам через каждые десять метров. Обходит нору, где еще летом жило семейство барсуков. Она их давно не видела, но лучше перестраховаться.
Наконец она достигает своей цели: ближайшего запаса, заготовленного на зиму с осени. Ночью температура опять упала ниже нуля и снег, начавший было подтаивать за день, покрылся тонкой твердой коркой. Белка царапает корку когтями, ломает ее, копает дальше. Замирает, навостряет уши, снова копает. Разгребает снег, листья, землю.
Опасность.
Она зажимает орех в зубах и взлетает на сосну, даже не успев закопать тайник. На ветке берет орех в лапы и пытается определить источник звука. Голод велик, а пища в каких-то нескольких сантиметрах от ее рта, но сначала нужно отыскать опасность — убедиться, что ей ничто не угрожает, прежде чем приступать к еде.
Голова белки крутится из стороны в сторону, нос подрагивает, она смотрит на истоптанную людьми землю — и находит то, что искала. Предосторожность себя оправдала. Громкое царапанье доносится из барсучьего логова.
Барсуки не умеют лазить по деревьям. Белка немного успокаивается, начинает грызть орех, продолжая поглядывать на землю, теперь уже скорее как зритель в театре с балкона третьего яруса. Ей любопытно, что происходит, сколько там барсуков.
Но из логова вылезает не барсук. Белка вынимает орех изо рта, смотрит. Пытается понять. Сопоставить то, что видит, с известными ей вещами. Ничего не выходит.
Поэтому она снова берет орех в зубы и забирается еще выше, на самый верх.
Вдруг оно умеет лазить по деревьям.
Осторожность лишней не бывает.
Воскресенье, 8 ноября (вечер—ночь)
На часах половина девятого, вечер воскресенья.
В то время, как «скорая» с Виржинией и Лакке несется по мосту Транебергсбрун; в то время, как начальник полицейского управления Стокгольма демонстрирует фотографию преступника журналистам; в то время, как Эли выбирает платье из гардероба мамы Оскара; в то время, как Томми выдавливает клей в пакет и ноздри его наполняются парами сладкого оцепенения и забвения; в то время, как белка — первое живое существо за четырнадцать часов — видит Хокана Бенгтссона, Стаффан, один из его преследователей, наливает себе чаю.
Он не замечает, что носик чайника треснул и большая часть воды вытекает на стол. Он что-то бормочет и еще больше наклоняет чайник, так что чай выплескивается, а крышка падает в чашку. Крутой кипяток брызжет ему на руки. Он роняет чайник, опускает руки по швам и перебирает в уме буквы ивритского алфавита, чтобы сдержаться и не засандалить чайником в стену.
Алеф, бет, гимель, далет…
Ивонн вошла в кухню и увидела Стаффана, склонившегося над раковиной с закрытыми глазами.
— Что с тобой?
Стаффан покачал головой:
— Ничего.
Ламед, мэм, нун, самех…
— Ты расстроен?
— Нет.
Кофф, Реш, Шин, Тафф. Так, уже лучше.
Он открыл глаза, указал на чайник:
— Дурацкий чайник.
— Почему это дурацкий?
— Да из него все мимо льется.
— Никогда не замечала.
— И тем не менее это так.
— Не думаю, чтобы дело было в нем.
Стаффан сжал губы и выставил перед собой обожженную руку, будто говоря: Мир. Шалом. Молчи.
— Ивонн. Я сейчас испытываю невероятное желание тебя… ударить. Поэтому прошу тебя: больше ни слова.
Ивонн отступила на полшага назад. В глубине души она была к этому готова. Она никогда не позволяла этому смутному подозрению овладеть ее сознанием, но все же чувствовала, что за благообразным фасадом Стаффана таится сдерживаемая ярость.
Она скрестила руки на груди и сделала пару глубоких вдохов, в то время как Стаффан неподвижно стоял, уставившись на чашку с плавающей в ней крышкой. Затем спросила:
— И что, ты всегда так?
— Как «так»?
— Поднимаешь на других руку, когда что-то не по-твоему?
— Я тебя ударил?
— Нет, но ты сказал…
— Вот именно, сказал. И ты меня услышала. И теперь все у нас хорошо.
— А если бы я не услышала?
Стаффан, казалось, совсем успокоился, и Ивонн расслабилась и опустила руки. Он взял ее руки в свои и легонько поцеловал тыльную сторону ладоней.
— Ивонн. Люди должны друг друга слушать.
Чай был разлит по чашкам и выпит в гостиной. Стаффан про себя отметил, что нужно подарить Ивонн новый чайник. Она спросила его, как проходят поиски в Юдарнскуген, и Стаффан рассказал последние новости. Она изо всех сил старалась увлечь его разговором на отвлеченные темы, но в конце концов последовал неизбежный вопрос:
— А где Томми?
— Я… не знаю.
— Не знаешь? Ивонн…
— Ну, он у приятеля.
— Хм. И когда он появится?
— По-моему, он собирался там заночевать.
— Там?
— Ну да, у этого, как его…
Ивонн лихорадочно перебирала в голове имена друзей Томми. Ей не хотелось говорить Стаффану, что она не знает, где ночует ее сын. Стаффан строго относился к вопросам воспитания.
— У Роббана.
— Значит, у Роббана. Это что, его лучший друг?
— Да, пожалуй.
— А как его фамилия?
— Альгрен, а что? Ты что, его знаешь?
— Нет, так, подумалось…
Стаффан взял ложку, постучал ею по чашке. Раздалось мелодичное позвякивание. Он кивнул:
— Хорошо. А вообще, знаешь, я считаю, надо позвонить этому Роббану и попросить Томми зайти домой на минуточку. Хочу с ним побеседовать.
— У меня нет его телефона.
— Ну а фамилия-то на что? Ты же знаешь, где он живет? Поищем в телефонном справочнике.
Стаффан встал с дивана. Ивонн покусала нижнюю губу, чувствуя, что строит лабиринт, откуда становится все сложнее и сложнее выбраться. Он вытащил телефонный справочник их района и, встав посреди комнаты, принялся его листать, бормоча:
— Альгрен, Альгрен… Хм. Какое там название улицы?
— Я… Бьёрнсонсгатан.
— Бьёрнсон… Нет. Тут нет никакого Альгрена. Зато есть на Ибсенсгатан. Может, это он?
Ивонн не ответила, и Стаффан ткнул пальцем в страницу и сказал:
— Попробую, пожалуй, ему позвонить. Как там его, Роберт?
— Стаффан…
— Что?
— Я обещала ему не рассказывать.
— Стоп, ничего не понимаю.
— Томми. Я ему обещала не рассказывать, где он.
— Значит, он не у Роббана?
— Нет.
— Так где же?
— Я… я же обещала.
Стаффан положил телефонный справочник на журнальный столик, подошел к Ивонн и сел рядом. Она отхлебнула чай, задержав чашку у губ, будто пряча за ней лицо, пока Стаффан дожидался ее ответа. Ставя чашку на блюдце, она заметила, что руки ее дрожат. Стаффан положил руку ей на колено.
— Ивонн. Ты должна понимать, что…
— Я обещала.
— Я просто хочу с ним поговорить. Ты, конечно, извини, но мне кажется, что именно вот это твое неумение решать проблемы вовремя и есть причина того, что сейчас происходит. Мой опыт показывает, что с подростками дело обстоит так: чем быстрее реагируешь на их поступки, тем больше шансов, что… Взять, к примеру, героинщика — если бы кто-нибудь отреагировал, пока он еще курил анашу…
— Томми такими вещами не занимается.
— Ты в этом совершенно уверена?
Повисла тишина. Ивонн понимала, что с каждой секундой ее «да» в ответ на этот вопрос становится все более неубедительным. Тик-так. Теперь можно считать, что она ответила «нет», не произнеся при этом ни слова. Иногда Томми действительно вел себя странно, придя домой. У него было какое-то странное выражение глаз. А что если он…
Стаффан откинулся на спинку дивана, зная, что сражение выиграно. Оставалось лишь оговорить условия. Глаза Ивонн поискали что-то на столе.
— Что ты ищешь?
— Мои сигареты, ты не видел?
— На кухне, Ивонн.
— Да. Да! Только не ходи к нему сейчас.
— Ладно. Тебе решать. Если ты считаешь…
— Завтра утром, перед школой. Обещай. Обещай, что не пойдешь туда сейчас.
— Обещаю. Хм, ну и что же это за таинственное место?
Ивонн все ему рассказала.
Потом ушла в кухню, выкурила сигарету, выдувая дым в открытое окно. Закурила еще одну, уже не сильно заботясь о дыме. Когда Стаффан вошел в кухню, демонстративно разгоняя дым рукой, и спросил, где лежит ключ от подвала, она ответила, что забыла, но, возможно, вспомнит завтра.
Если он будет хорошо себя вести.
*
Когда Эли ушел, Оскар снова сел за кухонный стол, уставившись на разложенные статьи. Головная боль отпускала, по мере того как события постепенно прояснялись.
Эли объяснил ему, что тот мужик заражен. Вернее, хуже — кроме этой заразы, в нем не осталось ничего живого. Мозг умер, и тело его теперь было ведомо заразой. К нему, к Эли.
Эли сказал — нет, попросил — ничего не предпринимать. Завтра, как только стемнеет, он уедет — и Оскар, конечно, спросил, почему не сегодня, не сейчас.
— Потому что… я не могу.
— Почему? Я тебе помогу.
— Оскар, я не могу. Я слишком слаб.
— Как это? Ты же?..
— Так.
И тут Оскар понял, в чем причина слабости Эли. Это из-за него Эли истек кровью в коридоре. И если тот мужик до него доберется, во всем будет виноват Оскар.
Одежда!
Оскар вскочил, опрокинув стул на пол.
Пакет с окровавленной одеждой Эли все еще стоял на полу возле дивана, а из него свешивалась рубашка. Он запихнул ее поглубже — рукав был на ощупь как влажная губка. Затолкав рубашку в пакет, он завязал его и… Оскар замер и посмотрел на руку, только что касавшуюся рубашки.
Начавший заживать порез на ладони чуть треснул, и рана снова открылась.
…Кровь… он же не хотел смешивать… так, значит, я… заражен?
Он машинально дошел до входной двери с пакетом в руках и прислушался к звукам в подъезде. Там стояла тишина, и он вышел на лестницу, открыл дверцу мусоропровода, просунул пакет в отверстие, не разжимая пальцев, и тот повис, тихонько покачиваясь в темноте шахты.
В шахте гулял сквозняк, холодящий его неподвижную руку, сомкнутую на полиэтиленовом узле. Белый пакет выделялся на фоне черной шершавой стены. Если отпустить его, он полетит не вверх, а вниз. Гравитация притянет его к земле. К мусорному мешку.
Через несколько дней приедет мусоровоз и заберет мешок с мусором. Обычно он приезжает рано утром. Оранжевые отсветы мигалки заиграют на потолке его комнаты примерно в то же время, когда Оскар просыпается, и он будет лежать в своей постели, прислушиваясь к гулу поршней и треску перемалываемого мусора. Может быть, он даже встанет и выглянет в окно, посмотреть на людей в комбинезонах, привычными движениями бросающих мешки в кузов и нажимающих кнопку. Челюсти мусоровоза сомкнутся, люди в комбинезонах запрыгнут в кабину и поедут дальше, к следующему подъезду.
Эта картина всегда его… согревала. Здесь, дома, он был в полной безопасности. Здесь все шло по давно заведенному порядку. Но в то же время он испытывал какую-то тягу, желание оказаться там, в машине, с этими людьми, в тускло освещенной кабине водителя. Стремление уехать прочь.
Отпусти. Разожми руку.
Пальцы лихорадочно сжимали завязанный узлом пакет. Вытянутая рука затекла. По спине бегали мурашки от холодного сквозняка. Он разжал руку.
Шуршание пакета, задевающего стены, полсекунды свободного падения в полной тишине, затем шорох, когда пакет упал в мешок.
Я тебе помогу.
Он снова посмотрел на свою руку. Руку помощи. Руку, которая.
Я кого-нибудь убью. Возьму дома нож, а потом пойду и кого-нибудь убью. Йонни. Перережу ему горло, добуду его кровь и принесу Эли — какая теперь разница, я все равно заражен, и скоро я…
Ноги подкосились, так что ему пришлось опереться о мусоропровод, чтобы не упасть. Он действительно это подумал. По-настоящему. Это уже не какая-то там игра с деревьями. Он на какое-то мгновение всерьез решил, что сделает это.
Как жарко! Он весь горел, будто в лихорадке. Тело ломило, ему хотелось прилечь. Сию секунду.
Я заражен. Я стану вампиром.
С трудом передвигая ноги, он направился вниз по лестнице, опершись одной рукой — незараженной — на перила. Добравшись до квартиры, до своей комнаты, он рухнул на кровать и уставился на обои. Лес. Из листвы тут же выглянули знакомые фигуры. Маленький гномик. Оскар погладил его пальцем, а в голове пронеслась совершенно идиотская мысль.
Завтра в школу.
А он не сделал урок по географии. Им задали Африку. Нужно встать, сесть за стол, зажечь лампу и открыть атлас. Отыскать в нем бессмысленные названия и заполнить ими пробелы в заданном тексте.
Вот чем ему сейчас нужно заниматься. Он задумчиво погладил колпачок гномика. Потом постучал в стену. Э-Л-И.
Тишина. Наверное, где-то ходит и…
Делает то, что делают такие, как мы.
Он натянул одеяло на голову. Его трясло. Он попытался представить себе, что это такое — жить вечно. В окружении страха, ненависти. Нет. Эли не станет его ненавидеть. Если они будут вместе.
Он пытался представить себе, как это будет, рисуя в голове всевозможные картины. Вскоре послышалось, как в замке повернулся ключ, — мама пришла домой.
*
Мешки жира.
Томми тупо смотрел на картинку перед ним. Девка, выпятив губы, сжимала свои сиськи, напоминающие два воздушных шара. Смотрелось это дико. Он собирался подрочить, но, видно, у него с мозгами было что-то не то, потому что девка казалась ему каким-то монстром.
Неестественно медленно он закрыл журнал и запихнул его под диванную подушку. Малейшее движение требовало напряжения сознания. Кайф. Надышавшись клея, он был в полном отрубе. И хорошо. Никакого тебе мира. Только эта комната, а за ней — колышущаяся пустыня.
Стаффан.
Он попытался сосредоточиться на Стаффане. Ничего не получалось. Лицо его ускользало, перед глазами всплывал лишь картонный полицейский, выставленный перед зданием почты. В натуральную величину. Чтобы отпугивать грабителей.
Может, почту грабанем?
Да не, ты че, там же бумажный полицейский!
Томми прыснул — теперь у картонного полицейского было лицо Стаффана. Отправили в штрафное. Сторожить почту. А ведь на том картонном чуваке еще и надпись какая-то была.
«Нарушать закон — себе вредить»? Нет. «Полиция тебя видит»? Нет. Черт, да что же там написано?! «Смотри мне! Я — меткий стрелок!»
Томми расхохотался. Забился в смехе. Его трясло так, что, казалось, лампочка на потолке раскачивается в такт его хохоту. Он посмеялся этому. Не проходите мимо! Бумажный полицейский! С бумажным пистолетом! И бумажной башкой!
В голове его раздался стук. Видно, кто-то хочет зайти на почту.
Бумажный полицейский навостряет уши. На почте целых двести крон! Снять пистолет с предохранителя! Пиф-паф!
Тук. Тук. Тук.
Бум!
Стаффан… мать… ах ты, черт!
Томми застыл. Попытался сосредоточиться. Не получалось. В голове — лохматое облако. Вскоре он успокоился. Может, это Роббан или Лассе. Ну или Стаффан. Он же все равно из бумаги.
Хахаль важный, хрен бумажный.
Томми прокашлялся, спросил, еле ворочая языком:
— Кто?
— Я.
Голос был знакомый, но Томми никак не мог вспомнить чей. По крайней мере, не Стаффана, папашки из бумажки.
Палашка-мультяшка. Все, хорош!
— Кто «я»?
— Открой!
— Почта закрыта. Приходи через пять лет.
— Я принесла деньги.
— Бумажные?
— Да.
— Тогда ладно.
Он встал с дивана. Медленно-медленно. Контуры окружавших его предметов скакали и никак не хотели угомониться. Голова словно налилась свинцом.
Бетонная кепка.
Он постоял несколько секунд, раскачиваясь из стороны в сторону. Цементный пол кренился, как во сне, то влево, то вправо — прямо комната смеха! Он сделал шаг вперед, медленно переставляя ноги, поднял защелку, открыл дверь. На пороге стояла девчонка. Подружка Оскара. Томми смотрел на нее и ничего не понимал.
Солнце и вода.
На девочке было одно тонкое платьице. Желтое в белую крапинку, приковавшее взгляд Томми, — он попытался было сфокусировать взгляд на крапинках, но они тут же заплясали, задвигались, так что его затошнило. Она была сантиметров на двадцать ниже его.
Красивая, как лето.
— А что, лето уже наступило? — спросил он.
Девочка склонила голову набок:
— Что?
— Да нет, ничего, просто на тебе же этот, как его… сарафан.
— Да.
Томми кивнул, довольный тем, что отыскал нужное слово. Что она там сказала? Деньги? Понятно. Оскар вроде говорил, что…
— Ну? Хочешь что-то купить?
— Да.
— И что?
— Можно войти?
— Да-да.
— Скажи, что мне можно войти.
Томми сделал широкий шутовской жест. Увидел собственную руку проплывающей мимо, как в замедленной съемке, — обдолбанная рыба, пролетающая над полом.
— Входи. Добро пожаловать в наш… филиал.
Он больше не мог держаться на ногах. Пол притягивал его. Он обернулся и рухнул на диван. Девочка вошла, закрыла за собой дверь и опустила защелку. Она представилась Томми цыпленком невероятных размеров, и он засмеялся этому зрелищу. Цыпленок уселся в кресло.
— Что?
— Да нет, ничего. Просто ты вся такая… желтая.
— А-а-а.
Девочка сложила руки на небольшой сумке, лежавшей у нее на коленях. Как это он ее раньше не заметил. Не, не сумка. Скорее, несессер. Томми посмотрел на нее. Или сумка. Интересно, что в ней.
— Что у тебя… в этой штуке?
— Деньги.
— Ага, конечно.
Нет. Что-то не так. Тут что-то неладно.
— И что ты хочешь купить?
Девочка открыла молнию несессера и вытащила тысячную купюру. Потом еще одну. И еще одну. Три штуки. Деньги казались несуразно большими в ее маленьких руках. Она наклонилась и положила их на пол.
Томми выпалил:
— Это еще что такое?
— Три тысячи.
— Вижу. И что?
— Это тебе.
— Да ладно.
— Да.
— Это что, какие-нибудь бумажки из «Монополии», что ли?
— Нет.
— Нет?
— Нет.
— И что же ты за них хочешь?
— Хочу у тебя кое-что купить.
— Ты хочешь что-то купить, на три шту… брось!
Томми протянул руку, взял одну купюру. Пощупал ее, пошуршал, поднял на свет, убедился, что на ней есть водяные знаки. Морда короля или что уж там печатают на деньгах. Короче, купюра была настоящая.
— Ты это серьезно?
— Да.
Три штуки. Можно куда-нибудь поехать. Куда-нибудь слетать.
А вдруг мать со Стаффанам стоят где-то там и… Томми почувствовал, как в голове у него проясняется. Вся эта история была, конечно, бредом, но как-никак три тысячи. Это факт. Оставалось только узнать…
— И что же ты хочешь купить? Ты же на эти деньги столько всего можешь…
— Кровь.
— Кровь?
— Да.
Томми прыснул и покачал головой:
— Не, извини. Была и вся вышла.
Девочка сидела в кресле не двигаясь и смотрела на него. Даже не улыбнулась.
— Ладно, серьезно, — сказал Томми, — чего тебе?
— Деньги твои, если ты мне дашь немного крови.
— Но у меня же ее нет.
— Есть.
— Нет!
— Есть.
И тут до Томми дошло. Бред какой-то…
— Ты это серьезно?
Девочка указала на деньги.
— Это не опасно.
— Но… что… как?!
Девочка запустила руку в несессер, вытащила какой-то предмет. Небольшой белый кусок пластмассы. Потрясла его. Томми постепенно разглядел, что это было. Упаковка с лезвиями. Она положил ее на колени и вытащила еще кое-что. Прямоугольник телесного цвета. Большой пластырь.
Во прикол!
— Слушай, хорош. Ты что, не понимаешь? Я же могу просто зажать твои деньги — и дело с концом. Положу в карман и скажу: «А? Что? Какие три тысячи? В глаза не видел». Это же куча бабок, ты соображаешь? Где ты их вообще взяла?
Девочка закрыла глаза, вздохнула. Когда она их снова открыла, вид у нее был далеко не такой дружелюбный.
— Так ты согласен или нет?
Она не шутит. Черт, она ведь не шутит! Нет… Нет…
— И что, ты просто — вжик, и все?
Девочка с готовностью кивнула.
Вжик? Подождите. Подождите-ка… Как там это было? Свиньи…
Он нахмурился. Какая-то мысль металась в его голове, как каучуковый мячик в закрытой комнате, пытаясь хоть за что-нибудь уцепиться, чтобы остановиться. Остановилась. Он вспомнил. Открыл рот. Посмотрел ей в глаза.
— Да ну?!
— Ну да.
— Это шутка, да? Слышь, ты? Шла бы ты отсюда. Понятно? Давай вали!
— Это такая болезнь. Мне нужна кровь. Если хочешь, я тебе еще заплачу.
Она покопалась в несессере, вытащила еще пару тысячных, положила на пол. Пять тысяч.
— Пожалуйста.
Маньяк. Веллингбю. Перерезанное горло. Черт, не может быть… какая-то девчонка…
— Да что ты с ней делать-то будешь. Черт, ты же совсем ребенок!
— Боишься?
— Нет, я же могу… А ты боишься?
— Да.
— Чего?
— Что ты откажешься.
— Да я уже отказался! Это же вообще… Слышь, хорош дурака валять, иди домой.
Девочка неподвижно сидела в кресле, раздумывая. Потом кивнула, встала, подняла деньги с пола и убрала их в несессер. Томми посмотрел туда, где они лежали. Пять. Тысяч. Позвякивание защелки. Томми перевернулся на спину.
— Постой. Ты че, горло мне перережешь, что ли?
— Нет. Только сгиб локтя. Совсем чуть-чуть.
— И что ты будешь делать с кровью?
— Пить.
— Прямо здесь?!
— Да.
Томми прислушался к себе и увидел всю кровеносную систему, будто начертанную на кальке под кожей. Почувствовал, может впервые в жизни, что у него вообще есть кровеносная система. Не отдельные точки, откуда при порезе выступают капли крови, но огромное пульсирующее дерево вен, наполненных — сколько там может быть? — пятью-шестью литрами крови.
— И что же это за болезнь?
Девочка ничего не ответила, лишь продолжала стоять у двери, не убирая руки с защелки, и линии артерий и вен его тела, вся система кровообращения, вдруг напомнили ему… схему разделки мяса. Он отогнал эту мысль, и на смену ей пришла другая:
Стань донором. Двадцать пять крон и булка с сыром.
Потом сказал:
— Ладно, давай свои деньги.
Девочка расстегнула молнию несессера и снова вынула купюры.
— Давай я дам тебе три сейчас, а две потом?
— Как хочешь. Только неужели ты не врубаешься, что я и так в любой момент могу отнять у тебя эти деньги?
— Нет. Не можешь.
Она протянула ему три тысячи, зажав их между средним и указательным пальцами. Он проверил каждую бумажку на свет и вынужден был заключить, что они настоящие. Затем он скатал их в трубочку, зажав в левой руке.
— Ну что, давай?
Девочка положила оставшиеся деньги на кресло, присела на корточки возле дивана, вытащила из несессера упаковку с бритвами и вытащила одно лезвие.
Она и раньше такое проделывала.
Девочка покрутила лезвие в руке, будто решая, какая сторона острее. Потом поднесла его к своему лицу. В голове крутилось лишь это вжик. Она сказала:
— Никому об этом не рассказывай.
— А если расскажу?
— Не расскажешь. Никому.
— Ладно. — Томми покосился на сгиб локтя, на две тысячные бумажки на кресле. — И сколько ты возьмешь?
— Литр.
— А это много?
— Да.
— И что, я…
— Нет. Ты будешь в порядке.
— Она же восстановится, да?
— Да.
Томми кивнул, зачарованно глядя, как лезвие, зеркально поблескивая, коснулось его кожи. Как будто все это происходило с кем-то другим, где-то в другом месте. Он видел лишь переплетение линий. Скула девочки, ее темные волосы, его белая рука, прямоугольник лезвия, раздвигающего в стороны тонкие волосы на руке. Достигнув своей цели, острие замирает на мгновение на выпуклой вене, чуть более темной, чем кожа вокруг. Чуть надавливает, легонько-легонько. Край бритвы погружается в складки кожи, и вдруг —
вжик.
Томми резко дернулся и перевел дух, крепче сжимая деньги в кулаке. В голове что-то хрустнуло, и он сжал зубы так, что они заскрежетали. На сгибе локтя выступила кровь, выплескиваясь толчками.
Звон лезвия, упавшего на пол, — и девочка обхватила его локоть обеими руками, прижавшись губами к ране.
Томми отвернулся, чувствуя ее теплые губы и язык на своей коже. Перед глазами снова встала схема кровообращения, сосуды, переплетение вен, по которым течет его кровь, устремляясь к ране.
Я истекаю кровью.
Да. Боль усилилась. Рука онемела, он больше не ощущал прикосновений губ, лишь то, как кровь покидает тело, как ее высасывают, как она…
Вытекает.
Он испугался. Ему хотелось одного — чтобы это закончилось! Это было слишком больно! Слезы подступили к глазам, он открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог. Не было таких слов, которые могли бы… Он поднес свободную руку ко рту, прижав кулак к губам. Почувствовал прикосновение бумаги, торчавшей из сжатого кулака. Впился в нее зубами.
*
21.17, вечер воскресенья, Энгбюплан.
Возле парикмахерской замечен неизвестный мужчина. Он стоит, упершись лбом и руками в витрину. Производит впечатление человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пятнадцать минут спустя на место происшествия прибывает полиция. К этому времени человек успевает покинуть вышеуказанное место. Никаких повреждений витрины не обнаружено, за исключением следов глины или земли. В освещенной витрине выставлены фотографии подростков-фотомоделей.
*
— Ты спишь?
— Нет.
Облако духов и холодного воздуха ворвались в комнату Оскара, когда мама зашла и села на край кровати.
— Хорошо прошел день?
— Да.
— Что ты сегодня делал?
— Ничего особенного.
— Я видела газеты. На столе в кухне.
— Угу.
Оскар плотнее завернулся в одеяло, притворно зевнул.
— Хочешь спать?
— Угу.
И да и нет. Он действительно устал, причем так, что в голове все гудело. Единственное, чего ему хотелось, — это лечь, завернувшись в одеяло, запечатать все входы и выходы и не покидать комнату до тех пор, пока… пока… Но спать он не хотел, нет. И потом, может, ему теперь вообще не надо спать, раз он заражен?
Он расслышал, как мама что-то спросила про папу, ответил наобум «хорошо», даже не разобрав толком вопроса. Повисла тишина. Потом мама тяжело вздохнула:
— Солнышко, как ты? Я могу тебе чем-нибудь помочь?
— Нет.
— Ну а в чем же тогда дело?
Оскар зарылся лицом в подушку и задышал так, что нос, рот и губы покрылись испариной. Он так больше не мог. Слишком уж все это было тяжело. Он должен был хоть кому-нибудь рассказать. Он выговорил в подушку:
— …Я аажен…
— Что ты сказал?
Он оторвал голову от подушки:
— Я заражен.
Мамина рука погладила его по затылку, по шее и вниз по спине, так что одеяло чуть съехало.
— В каком смысле — зара… ой! Ты же в одежде!
— Да, я…
— Дай потрогаю лоб. Температура есть? — Она положила холодную ладонь ему на лоб. — Да у тебя жар! Вставай! Тебе надо раздеться и лечь как следует! — Она встала с кровати и бережно потрясла его за плечо. — Ну давай же!
Она сделала глубокий вдох, что-то вспомнив. Затем произнесла другим тоном:
— Ты у отца как следует был одет?
— Да. Дело не в этом.
— Ты в шапке ходил?
— Да! Мам, дело не в этом!
— А в чем же?
Оскар снова уткнулся лицом в подушку, обняв ее руками и ответил:
— … Яампир…
— Оскар, что ты говоришь?
— Я вампир!
Пауза. Тихое шуршание маминого плаща, когда она сложила руки на груди.
— Оскар. Вставай. И разденься. А потом ложись и спи.
— Я стану вампиром!
Мамино дыхание. Резкое, сердитое.
— Завтра выкину все эти твои дурацкие книжки!
Она сдернула с Оскара одеяло. Он встал, медленно разделся, не глядя на маму. Затем снова улегся в постель, и мама заботливо подоткнула одеяло.
— Что-нибудь хочешь?
Оскар покачал головой.
— Может, померим температуру?
Оскар еще решительнее помотал головой. Посмотрел на маму. Она стояла, склонившись над кроватью, упершись руками в колени. Изучающий, тревожный взгляд.
— Я могу что-нибудь для тебя сделать?
— Нет. Хотя вообще-то…
— Что?
— Да нет, ничего.
— Ну скажи?
— Можешь… рассказать мне сказку?
На мамином лице промелькнула целая гамма эмоций: грусть, радость, беспокойство, полуулыбка, тревожная морщинка. И все это за несколько секунд. Наконец она ответила:
— Я не знаю никаких сказок. Но если хочешь, могу тебе почитать. Если у нас есть подходящая книга…
Ее взгляд скользнул по полке над головой Оскара.
— Да нет, не надо.
— Почему? Мне не сложно.
— Нет. Я не хочу.
— Почему? Ты же сказал…
— А теперь не хочу.
— Может… тебе спеть?
— Нет!
Мама обиженно поджала губы. Потом раздумала обижаться, раз Оскар болен, и сказала:
— Если хочешь, я могу придумать какую-нибудь сказку…
— Да нет, не надо. Я хочу спать.
Мама еще немного посидела, затем пожелала ему спокойной ночи и вышла из комнаты. Оскар продолжал лежать с открытыми глазами, глядя в окно. Прислушался к себе, пытаясь представить, каким он станет. Он даже не знал, что должен чувствовать. Эли. Интересно, как это происходило с ним.
Потерять все.
Все бросить. Маму, папу, школу… Йонни, Томаса…
Он и Эли. Навсегда.
В гостиной включился телевизор, и мама тут же прикрутила звук. Тихое побулькивание кофеварки на кухне. Вот зажглась газовая плита. Позвякивание чашки о блюдце. Звук открывающегося шкафа.
Такие привычные звуки. Он слышал их сотни раз.
Ему стало тоскливо. Очень тоскливо.
*
Раны зажили. От царапин на теле Виржинии остались лишь белые следы да местами болячки, еще не успевшие отвалиться. Лакке погладил ее руку, прижатую к телу кожаным ремнем, и очередная болячка раскрошилась под его пальцами.
Виржиния сопротивлялась. Сопротивлялась изо всех сил, когда пришла в чувство и поняла, что происходит. Вырвала капельницу для переливания крови, орала и лягалась.
Лакке не мог смотреть, как ее усмиряют. Ее словно подменили. Он пошел в кафетерий и выпил кофе. Потом еще. Когда он стал наливать третью чашку, кассирша заметила, что в стоимость входит всего одна дополнительная порция. Лакке ответил, что у него ни копейки денег, а чувствует он себя так, будто вот-вот сдохнет, — может, она сделает для него исключение?
Она отнеслась к нему с пониманием. Даже угостила миндальным пирожным — «все равно завтра выбрасывать». Он жевал пирожное, превозмогая ком в горле, и размышлял об относительности добра и зла в человеке. Потом вышел на ступеньки, выкурил предпоследнюю сигарету в пачке и поднялся к Виржинии.
Ее связали ремнями.
Она так ударила медсестру, что у той разбились очки и осколок порезал бровь. Успокоить Виржинию не представлялось возможным. Врачи не решались вколоть ей успокоительное, учитывая ее общее состояние, поэтому пришлось связать ей руки кожаными ремнями, чтобы, как они выразились, «обезопасить ее».
Лакке потер болячку между пальцев: порошок, мелкий, как пигмент, окрасил его пальцы в красный цвет. Краем глаза он уловил какое-то движение: кровь из пакета на металлической подставке рядом с кроватью медленно стекала в пластмассовый цилиндр, а из него по капельнице проникала в вену Виржинии.
Определив группу крови, ей сделали переливание, а теперь, когда ее состояние стабилизировалось, подсоединили капельницу. На полупустом пакете была приклеена этикетка с кучей непонятных надписей, над которыми виднелась большая буква «А». Группа крови, ясное дело.
Стоп… погодите…
У Лакке была группа «В». Он прекрасно помнил, как они с Виржинией как-то заговорили об этом и выяснилось, что у нее та же группа, так что они могли… ну да. Именно так они и решили: в случае необходимости смогут отдать друг другу свою кровь, раз у них одна группа. А у него точно была группа «В», это он знал наверняка.
Он встал, вышел в коридор.
Не могут же они так ошибиться?
Он отыскал медсестру.
— Простите…
Она бросила взгляд на его потрепанную одежду и настороженно спросила:
— Да?
— Я только хотел спросить. Виржиния… Виржиния Линдблад, которую недавно сюда положили…
Медсестра кивнула с еще более недоброжелательным видом. Может, она тоже присутствовала при том, как…
— Я только хотел узнать. Группа крови…
— И что с ней?
— Там на пакете стоит «А», хотя у нее другая группа.
— Простите?
— Ну… видите ли… у вас есть минутка?
Медсестра быстро оглядела коридор — то ли в поисках того, кто мог бы ей помочь в случае возможного осложнения, то ли давая понять, что у нее есть дела поважнее, но все же проследовала за Лакке в палату, где лежала Виржиния, — глаза закрыты, капельница мерно отсчитывает капли крови. Лакке указал на пакет:
— Вот. Здесь стоит «А». Означает ли это…
— Да, в нем кровь группы «А». Кровь сейчас большой дефицит. Если бы люди только знали…
— Простите. Я понимаю. Но у нее же группа «В»! Разве не опасно…
— Да, опасно.
Медсестра вела себя не то чтобы грубо, но всем своим видом давала понять, что его право подвергать сомнению компетентность работников больницы близко к нулю. Пожав плечами, она добавила:
— Если бы у нее была группа «В». Но у этой пациентки группа «АВ».
— Но… здесь же стоит «А»?
Медсестра вздохнула, как если бы объясняла ребенку, что на Луне никто не живет.
— Людям с группой «АВ» подходит кровь любой группы.
— Но… ясно. Значит, у нее поменялась группа крови.
Медсестра подняла брови. Ребенок, похоже, настаивает на том, что сам был на Луне и видел там людей. Резко взмахнув рукой, будто обрубая невидимую нить, она ответила:
— Боюсь, это исключено. Такого просто не бывает.
Медсестра проверила капельницу в руке Виржинии, что-то в ней подкрутила и кинула на Лакке взгляд, говоривший, что это не игрушки и боже упаси его к чему-то здесь притронуться. Затем энергичным шагом покинула палату.
Что там бывает, если человеку перелить кровь не той группы? Кровь сворачивается.
Да нет, наверное, Виржиния в тот раз что-то перепутала.
Он направился в угол палаты, где стояли небольшое кресло и стол с искусственными цветами. Он сел в кресло, огляделся по сторонам. Холодные стены, глянцевый пол. Лампы дневного света на потолке. Металлическая койка Виржинии, светло-желтое одеяло с печатью районной больницы.
Вот, значит, как…
У Достоевского болезнь и смерть были почти всегда связаны с грязью, нищетой. Люди, раздавленные под колесами, глина, тиф, окровавленные носовые платки. И тому подобное. Но, черт его знает, уж лучше так, чем вот это. Кончить свои дни в отполированной стерильности.
Лакке откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Спинка была короткой, и голова запрокинулась назад. Он выпрямился, облокотился на поручни и подпер рукой подбородок. Посмотрел на пластмассовый цветок. Его как будто специально поставили, чтобы подчеркнуть: здесь нет ничего живого — одна только чистота и порядок.
Когда он закрыл веки, цветок все еще стоял у него перед глазами. Картинка преобразилась в настоящий цветок, который стал расти, превратившись в целый сад. Сад был разбит возле дома, который он собирался для них купить. Лакке стоял в саду и смотрел на розовый куст с яркими красными цветами. Со стороны дома упала длинная человеческая тень. Солнце стремительно заходило, и тень росла, становилась все длиннее, накрывая весь сад…
Он вздрогнул и проснулся. Ладонь была мокрой от слюны, вытекшей изо рта, пока он дремал. Он вытер ладонью рот, причмокнул и попытался поднять голову. Ничего не получалось. Шея затекла. Усилием воли он выпрямился, хрустнув суставами, замер.
На него смотрели широко открытые глаза.
— Привет! Ты проснулась!
Рот закрылся. Виржиния лежала на спине, связанная ремнями, лицом к нему. Но лицо это было совершенно неподвижным. Ни узнавания, ни радости — ничего. Глаза не моргали.
Умерла! Она мертва…
Лакке вскочил с кресла, и в шее снова что-то хрустнуло. Он упал на колени перед кроватью, схватился за стальную перекладину и поднес свое лицо как можно ближе к ней, словно пытаясь своим присутствием вдохнуть в нее жизнь, вызвать ее из глубины.
— Джини! Ты меня слышишь?
Тишина. И все же он мог поклясться, что глаза смотрели на него, что она не умерла. Он отчаянно пытался отыскать Виржинию за этими неживыми глазами, будто закидывая якоря в черные впадины ее зрачков, чтобы там, за завесой тьмы, зацепиться хоть за что-нибудь живое…
Зрачки. Неужели они всегда так выглядят, когда…
Зрачки ее были не круглыми, но вытянутыми, заостренными на концах. Он поморщился, когда боль снова пронзила шею, коснулся ее рукой, потер.
Виржиния закрыла глаза. Снова открыла. И теперь это была она.
У Лакке от неожиданности отвисла челюсть. Так он и сидел, продолжая механически потирать шею. Виржиния открыла рот с каким-то деревянным щелчком и спросила:
— Тебе больно?
Лакке отдернул руку от шеи, будто его застукали за каким-то непристойным занятием.
— Нет, я просто… А я думал ты…
— Я привязана.
— Да, ты немного сопротивлялась. Подожди, я сейчас. — Лакке протянул руку между металлическими прутьями кровати и начал расстегивать один из ремней.
— Не надо.
— Что?
— Оставь как есть.
Лакке замешкался, не выпуская из рук ремень.
— Ты что, опять собираешься драться?
Виржиния прикрыла глаза:
— Говорю же, оставь.
Лакке отпустил ремень, не зная, куда девать освободившиеся руки. Не вставая с колен, повернулся, подтянул к кровати кресло, превозмогая очередной приступ боли, неуклюже взгромоздился на него.
Виржиния еле заметно кивнула:
— Ты Лене звонил?
— Нет, но я могу…
— Вот и хорошо.
— Значит, не надо?
— Нет.
Повисла тишина — характерная больничная тишина, рожденная самой ситуацией: один в постели с какой-нибудь болезнью или травмой, а рядом другой, здоровый, — и этим все сказано. Слова кажутся незначительными, излишними. Произносится лишь самое важное. Они долго смотрели друг на друга, без слов говоря все то, что хотели сказать. Наконец Виржиния отвернулась и уставилась в потолок.
— Ты должен мне помочь.
— Все что угодно!
Виржиния облизала губы, сделала вдох и испустила такой глубокий и продолжительный выдох, будто на него ушли все скрытые резервы воздуха в ее легких. Потом изучающе скользнула по нему взглядом — так прощаются с телом любимого, желая запечатлеть его образ в памяти. Она пожевала губами и наконец произнесла:
— Я вампир.
Ему хотелось бы изобразить усмешку, ответить саркастическим замечанием. Но улыбка не складывалась, а замечание затерялось где-то в глубине сознания, так и не достигнув его губ. Вместо этого он лишь ответил:
— Нет.
Он потер шею, чтобы хоть как-то снять напряжение, нарушить неподвижность, превращавшую все слова в правду. Виржиния заговорила снова, спокойно и размеренно:
— Я пришла к Гёсте, чтобы его убить. Если бы не случилось то, что случилось, я бы его убила. А потом выпила бы его кровь. Я бы это сделала. Я все заранее продумала. Понимаешь?
Взгляд Лакке метался по стенам палаты, будто разыскивая муху, источник раздражающего жужжания, нарушавшего тишину, въедавшегося в мозг и мешавшего думать. В конце концов он остановился на лампах дневного света на потолке.
— Чертова лампа, гудит как незнамо что.
Виржиния посмотрела на лампу и произнесла:
— Я не выношу дневного света. Я не могу ничего есть. Мне в голову приходят чудовищные мысли. Я представляю опасность для людей. Для тебя в том числе. Я не хочу жить.
Наконец-то хоть что-то конкретное, на что можно было ответить.
— Не говори так, — сказал Лакке. — Слышишь? Не смей так говорить. Ты слышишь меня?
— Ты не понимаешь.
— Нет, не понимаю. Но, черт возьми, ты не умрешь! Поняла? Ты же здесь лежишь, разговариваешь, ты… все будет хорошо!
Лакке встал с кресла, сделал пару суетливых шагов, взмахнул рукой.
— Ты не должна… ты не должна так говорить!
— Лакке. Лакке?
— Да!
— Ты же знаешь… что это правда. Так?
— Что «это»?
— То, что я говорю.
Лакке фыркнул и потряс головой, а руки его сами собой принялись похлопывать по одежде и шарить по карманам:
— Мне надо покурить…
Он отыскал мятую пачку, зажигалку. Выудил последнюю сигарету, сунул ее в рот. Потом вспомнил, где он, и вытащил сигарету.
— Черт, они же меня отсюда в момент вышвырнут, если я…
— Открой окно.
— Хочешь сказать, я должен прыгнуть?
Виржиния улыбнулась. Лакке подошел к окну, распахнул его и высунулся как можно дальше.
Медсестра, с которой он говорил, распознала бы сигаретный дым за километр. Он прикурил сигарету и сделал глубокую затяжку, стараясь выдувать дым так, чтобы он не залетал обратно в окно, и посмотрел на звезды. Виржиния за его спиной снова заговорила:
— Это та девочка. Она меня заразила. А потом зараза распространилась по всем телу. Я знаю, где она сидит. В сердце. Она поразила все сердце. Как рак. Я не могу ничего с этим поделать.
Лакке выдохнул струю дыма. Его голос гулко раздавался среди высоток:
— Но ты же разговариваешь. Ты же… нормальная.
— Мне это стоит большого труда. И потом, мне перелили кровь. Но я могу исчезнуть. В любой момент. И мною снова овладеет эта дрянь. Я это знаю. Чувствую. — Тяжело дыша, Виржиния продолжила: — Вот ты там стоишь. А я на тебя смотрю. И хочу… тебя съесть.
То ли дело было в затекшей шее, то ли в чем-то другом, но по спине Лакке поползли мурашки. Он вдруг почувствовал себя совершенно беззащитным. Быстро затушил сигарету об стену и щелчком отшвырнул от себя бычок. Обернулся.
— Черт, но это же полный бред!
— Да. Но это так.
Лакке сложил руки на груди. С деланным смешком он спросил:
— И что же ты от меня хочешь?
— Я хочу, чтобы ты… уничтожил мое сердце.
— И как?
— Как угодно.
Лакке закатил глаза.
— Ты сама-то хоть себя слышишь? Понимаешь, как это звучит? Совсем сбрендила. И что я, по-твоему, должен загнать тебе в сердце осиновый кол или как ты себе это представляешь?
— Да.
— Ну уж нет, и не мечтай. Придумай что-нибудь получше.
Лакке усмехнулся и покачал головой. Виржиния смотрела, как он мечется по палате, по-прежнему скрестив руки на груди. Затем слабо кивнула:
— Ладно.
Он подошел к ней, взял за руку. Странно было ощущать, что она связана. Он даже не мог как следует взять ее за руку. Но, по крайней мере, рука была теплой и ответила на его пожатие. Другой ладонью он погладил Виржинию по щеке.
— Может, тебя все же развязать?
— Нет. Это может вернуться.
— Все будет хорошо. Все наладится. У меня же, кроме тебя, никого нет. Хочешь секрет?
Не отпуская ее руки, он сел в кресло и начал рассказывать. Он рассказал все. О марках со львами, о Норвегии, о деньгах. О домике, в котором они будут жить. Он будет красного цвета. Ударился в долгие мечты о том, как будет выглядеть их сад, какие цветы они посадят и как они поставят там небольшой столик, соорудят беседку, где можно сидеть и…
Посреди его рассказа из глаз Виржинии полились слезы. Беззвучные прозрачные капли, стекая по щекам, орошали наволочку. Ни одного всхлипа, только слезы, драгоценные жемчужины печали — или радости?
Лакке умолк. Виржиния крепко сжала его руку.
Потом Лакке вышел в коридор и отчасти уговорами, отчасти мольбами уломал персонал поставить в палату еще одну кровать. Пододвинул ее впритык к койке Виржинии. Выключил свет, разделся, улегся меж накрахмаленных простыней и нашарил ее руку.
Они долго лежали молча. Потом раздались слова:
— Лакке. Я тебя люблю.
Лакке не ответил. Слова остались витать в воздухе, обретая собственную жизнь, разрастаясь, пока не превратились в огромное красное одеяло, которое, покачавшись над палатой, опустилось и накрыло его, согревая всю ночь.
*
4.23, утро понедельника, Исландсторьет.
Несколько жильцов Бьёрнсонсгатан пробуждаются от громкого крика. Один из них звонит в полицию, полагая, что кричит грудной ребенок. Десять минут спустя на место прибывает полиция, но к этому времени крики прекращаются. Полиция обыскивает район и обнаруживает несколько мертвых котов. Некоторые из них найдены расчлененными. Полиция записывает адреса и телефоны с имеющихся ошейников, чтобы впоследствии оповестить владельцев животных. Для уборки территории вызываются городские службы.
*
Полчаса до рассвета.
Эли сидит, погрузившись в кресло гостиной. Он просидел дома целую ночь и весь день. Собрал все, что стоило взять с собой.
Завтра вечером, как только стемнеет, Эли дойдет до телефона-автомата и вызовет такси. Он не знает, по какому номеру звонить, но это наверняка знает любой прохожий. Нужно только спросить. Когда такси приедет, он загрузит все три коробки в багажник и попросит водителя отвезти его…
Куда?
Эли зажмуривается, пытаясь представить себе место, где хотел бы оказаться.
Как всегда, перед глазами встает дом, где он жил с родителями и старшими братьями и сестрами. Но его больше нет. На окраине Норрчёпинга, где он когда-то стоял, сегодня расположена дорожная развязка. Ручей, где мама полоскала белье, высох, зарос зеленью, превратился в лужайку на обочине.
Денег у Эли в избытке. Можно велеть водителю ехать куда глаза глядят до самой темноты. На север. На юг. Можно забраться на заднее сиденье и попросить отвезти его в любое место в северном направлении на расстояние двух тысяч крон. А потом выйти. Начать сначала. Найти кого-нибудь, кто…
Запрокинув голову, Эли орет в потолок:
— Я не хочу!!!
Пыльные нити паутины медленно колышутся от потока воздуха, вырвавшегося из его легких. Звук затихает в закрытой комнате. Эли подносит руки к лицу, надавливает кончиками пальцев на веки. Всем телом чувствует тревогу, говорящую о приближении рассвета. Он шепчет:
— Боже. Боже, почему Ты не можешь дать мне хоть самую малость? Почему я не могу…
Сколько раз он задавал этот вопрос.
Почему я не могу просто жить?
Потому что ты должен быть мертв.
Только один-единственный раз после превращения Эли пришлось повстречать другого носителя заразы. Взрослую женщину. Такую же циничную и извращенную, как тот господин в парике. Но зато Эли получил ответ на другой занимавший его вопрос:
— И много нас?
Женщина покачала головой и произнесла с театральной грустью:
— Нет. Нас так мало, так мало.
— Почему?
— Почему? Да потому что большинство кончают жизнь самоубийством, конечно! Сам должен понимать. Как нелегка эта ноша, ой-ой-ой! — Она всплеснула руками и визгливо заверещала: — О-о-о, мне не вынести всех смертей на моей совести!
— А мы можем умереть?
— Конечно! Достаточно себя поджечь. Или предоставить это людям — они охотно это сделают, как делали столько раз на протяжении веков. Или, — она больно ткнула указательным пальцем ему в грудь, над самым сердцем, — вот сюда. Оно же там сидит, правда? Ну а сейчас, дружок, мне в голову пришла отличная мысль…
И Эли в который раз пустился в бега, спасаясь от очередной отличной мысли. Как делал это и раньше. Как будет делать снова и снова.
Эли положил руку на сердце, прислушиваясь к его размеренным ударам. Может, дело в том, что он ребенок. Может, поэтому он никак не положит конец своим страданиям. Стремление жить сильнее угрызений совести.
Эли встал с кресла. Сегодня Хокан не придет. Но прежде чем удалиться на покой, нужно навестить Томми. Проверить, пришел ли он в себя. Заразиться он не мог. Но ради Оскара Эли хотелось убедиться, что с Томми все в порядке.
Эли выключил свет и вышел из квартиры.
В подъезде Томми он потянул на себя дверь в подвал, и она открылась — еще давно, играя здесь с Оскарам, он заклинил замок бумажным шариком. Эли вошел в подвальный коридор, и дверь за его спиной глухо хлопнула.
Он остановился, прислушался. Тишина.
Ни звука, ни сонного дыхания спящего, лишь назойливый запах чистящих средств и клея. Быстрыми шагами он прошел по коридору до склада, открыл дверь.
Пусто.
Двадцать минут до рассвета.
*
Ночью Томми то всплывал на поверхность, то снова погружался в муть сна, полубодрствования, кошмаров. Он не знал, сколько времени прошло, когда он начал окончательно просыпаться. Голая подвальная лампочка все так же светила под потолком. Может, уже рассвет, утро, день. Может, пора в школу. Ему было наплевать.
Во рту стоял привкус клея. Он сонно огляделся по сторонам. На его груди лежали две купюры. По тысяче крон каждая. Он согнул руку, потянувшись за ними, почувствовал боль. На сгибе локтя обнаружил большой пластырь с пятнышком проступившей крови.
Вроде там было больше.
Он вывернулся, шаря рукой по стыкам диванных подушек, и обнаружил скатанные в трубочку бумажки. Еще три штуки. Он расправил купюры, сложил их в одну стопку с найденными на груди деньгами, пересчитал, пошуршал бумажками. Пять тысяч! Сколько он всего может на них сделать!
Он посмотрел на пластырь и засмеялся.
Нехилые бабки за то, чтобы разок полежать с закрытыми глазами.
Кто же это сказал? Он помнил, что однажды…
Ах да, сестра Тоббе, как там ее… Ингела? Тоббе рассказывал, что она вроде как дает за деньги. Получает пятьсот за раз. Тогда-то Тоббе и добавил: «Нехилые бабки за то, чтобы разок полежать с закрытыми глазами».
Томми сжал кулак, скомкав банкноты. Она заплатила ему за его кровь. И выпила ее. Болезнь, говорит. Только что это за болезнь, интересно знать? Никогда о таком не слышал. И вообще, болеешь — иди в больницу, а не в подвал с пятью штуками.
Вжик!
Не может быть!
Томми выпрямился на диване, скинув одеяло.
Такого не бывает. Не, что за бред. Вампиры. Эта девчонка в желтом платье небось решила, что она… Постой-ка. А как же тот, маньяк, за которым все гоняются?
Томми уронил лицо в ладони, возле уха зашуршали бумажки. Что-то тут не складывалось. Как бы то ни было, от одних мыслей об этой девчонке его подирал мороз по коже.
Он уже начал подумывать, не подняться ли ему домой, невзирая на поздний час, — и будь что будет, как вдруг услышал: в подъезде хлопнула дверь. Сердце его затрепетало, как испуганная птица, и он огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь орудия.
Что угодно!
На глаза попалась лишь швабра. Рот Томми растянулся в мимолетной улыбке.
Швабра — отличное средство против вампиров!
Тут в голову ему пришла одна мысль, и он вышел из склада, запихивая деньги в карман. В один миг преодолел коридор и проскользнул в бомбоубежище. И тут же дверь в подвал открылась. Запереться он не посмел, опасаясь лишнего шума.
Томми сел на корточки в темноте, стараясь дышать как можно бесшумнее.
На полу поблескивало лезвие. Один край его был коричневатым, словно покрытым ржавчиной. Эли оторвал кусок обложки автомобильного журнала, завернул лезвие в бумажку и сунул в карман.
Томми не было, — значит, жив. Ушел без посторонней помощи, отправился домой спать и, даже если он о чем-то догадывается, все равно не знает, где Эли живет.
Все нормально. Все хорошо.
У стены стояла деревянная швабра с длинной ручкой.
Эли взял ее, переломил о колено почти у самого основания. Сломанный конец вышел неровным, заостренным. Острый кол с руку длиной. Эли приставил острие к своей груди, меж двух ребер. В то самое место, куда ткнула та женщина.
Он сделал глубокий вдох, сжал палку, играясь с мыслью:
Ну давай же! Давай!
Выдохнул, чуть разжал руки. Снова обхватил. Приставил к груди.
Минуты две он стоял, держа острие в сантиметре от сердца, крепко сжимая в руке палку, когда ручка двери лязгнула, нажатая до упора, и дверь медленно отворилась.
Эли опустил палку, прислушался. Медленные, неверные шаги в коридоре — будто ребенок. Очень большой ребенок, только что научившийся ходить.
Услышав шаги, Томми подумал: кто это? Не Стаффан, не Лассе, не Роббан. То ли больной, то ли несет что-то тяжелое… Дед Мороз! Рука взметнулась ко рту, чтобы заглушить смешок, вырвавшийся, когда он представил себе эдакого диснеевского Санта-Клауса, —
Хо-хо-хо! Скажи «мамочка»! —
ковыляющего по подвальному коридору со здоровенным мешком за плечами.
Губы под ладонью дрожали, и он крепче сжал зубы, чтобы они не стучали. Все еще сидя на корточках, он потихоньку стал отползать от двери. Почувствовав спиной угол, увидел, как свет в дверной щели померк.
Дед Мороз неподвижно стоял у двери в бомбоубежище, заслоняя собой свет. Томми зажал рот обеими руками, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, в ожидании, что дверь вот-вот откроется.
Некуда бежать.
Сквозь щель дверного косяка рваными линиями вырисовывался силуэт Хокана. Эли протянул палку насколько хватило руки, ткнул ею в дверь. Дверь открылась сантиметров на десять, дальше мешало стоявшее за ней тело.
Рука ухватилась за край двери, рванув так, что та ударилась об стену, сорвавшись с петель. Отлетела, болтаясь на одной петле, ударив по плечу фигуру, заполнившую теперь весь дверной проем.
Что тебе от меня надо?
На больничной рубахе, достававшей до колен, еще можно было различить светло-голубые участки. Остальное напоминало перепачканную карту из земли, глины и каких-то пятен, в которых чутье Эли распознало животную и человеческую кровь. Рубаха была порвана в нескольких местах, в прорехах зияла белая кожа, покрытая царапинами, которым не суждено было зажить.
Лицо его по-прежнему было бесформенным месивом из голого мяса, в которое будто шутки ради впечатали красный глаз — как спелую черешню, коронующую гнилое пирожное. И только рот теперь был открыт.
Черная дыра в нижней половине лица — никаких тебе губ, прикрывающих обнаженный ряд зубов, белеющий неровным венцом, отчего темнота вокруг становилась еще чернее. Дыра открылась и снова сжалась, словно что-то пережевывая, и из нее вырвалось:
— Э-э-э-и-и-и…
Непонятно, то ли это было «эй!», то ли «Эли!», потому что как «й», так и «л» требовали участия губ или языка. Эли выставил перед собой острие палки, нацелившись Хокану в сердце и ответил:
— Привет.
Что тебе надо?
Живой мертвец. Эли ничего о них не знал. Он понятия не имел, властны ли над этим существом те же законы, что и над ним самим. Может, в его случае недостаточно было уничтожить сердце. Но то, что Хокан неподвижно застыл в дверях, свидетельствовало об одном: ему тоже нужно было приглашение.
Зрачок Хокана метался вверх-вниз по телу Эли, казавшемуся таким беззащитным под тонкой желтой тканью сарафана. Эли хотелось, чтобы их тела разделяло что-то существеннее ткани, какая-нибудь осязаемая преграда. Он осторожно приблизил острие к груди Хокана.
Интересно, он что-нибудь чувствует? Он способен испытывать страх?
Эли и сам вдруг испытал почти забытое чувство: страх боли. Раны его заживали сами собой, но от Хокана исходила угроза такой силы, что…
— Что ты хочешь?
Пустой, гортанный звук — из легких монстра вырвался воздух, а из двух дыр на месте носа выкатилась желтоватая тягучая капля. Вздох. Затем дребезжащий шепот: «У-у-ю-ю» — и одна рука дернулась, словно в спазме…
Как младенец…
…ухватилась за нижний край рубахи и задрала ее.
Его член торчал под углом, настойчиво требуя внимания, и Эли уставился на твердый отросток, оплетенный сетью голубоватых вен, и…
Как же это… значит, у него все это время стоял?..
— У-у-ю-ю…
Рука Хокана рывками заходила туда-сюда, оттягивая крайнюю плоть, — головка пениса то появлялась, то исчезала, то появлялась, то исчезала, как игрушечный человечек на пружинке, а из груди монстра вырывались стоны не то удовольствия, не то страдания.
— У-у-ю-ю…
Эли засмеялся от облегчения.
И все это — чтобы подрочить.
Так и будет теперь, наверное, стоять, не в силах сдвинуться с места, до тех пор пока…
Интересно, он вообще может кончить? Он же так будет стоять целую вечность.
Эли вспомнилась неприличная заводная кукла-монах — поворачиваешь ключик, и полы рясы расходятся в стороны, а сам он дрочит, пока не кончится завод.
Чик-трак, чик-трак…
Эли снова рассмеялся. Он так увлекся этой картинкой, что не заметил, как Хокан сделал шаг и вошел без всякого приглашения. Эли очнулся лишь в ту минуту, когда кулак, еще минуту назад сжатый в предвкушении недоступного наслаждения, занесся над его головой.
Рука резко опустилась, и кулак заехал ему по уху с такой силой, что свалил бы и лошадь. Удар пришелся сбоку, и ушная раковина загнулась внутрь, да так, что ухо наполовину оторвалось от головы, с глухим стуком ударившейся о пол.
Поняв, что стоящий в коридоре человек не собирается входить в бомбоубежище, Томми отнял руки ото рта. Он сидел, забившись в угол, и прислушивался, пытаясь понять, что происходит.
Голос девочки.
Что тебе надо?
Затем смех. Потом чей-то голос, не похожий на человеческий. Затем глухие удары, звук падающих тел.
Судя по всему, там происходила какая-то борьба. Кто-то кого-то куда-то волок, и Томми даже знать не хотел, что там творится. Но вся эта возня заглушала любые другие звуки, так что он встал и по стенке добрался до кучи коробок.
Сердце колотилось, как игрушечный барабан, руки тряслись. Он не решился зажечь зажигалку. Чтобы максимально сосредоточиться, закрыл глаза, шаря рукой по верхней коробке.
Пальцы нащупали то, что искали. Стрелок Стаффана. Он осторожно поднял его, взвесил в руке. Если обхватить стрелка за грудь, основание вполне сошло бы за орудие. Открыв глаза, Томми обнаружил, что различает контуры стрелка.
Друг. Настоящий друг.
Прижимая трофей к груди, он снова осел на пол в углу, дожидаясь, когда же все это закончится.
С ним что-то делали.
Всплывая на поверхность из тьмы, в которую был погружен, Эли чувствовал, как с его телом — где-то далеко, по ту сторону темной воды, — что-то вытворяли.
Что-то жесткое под спиной, ноги, вывернутые из суставов, железные кольца на его лодыжках — еще мгновение — и щиколотки в железных кандалах очутились закинутыми за голову, а позвоночник натянулся как струна — того и гляди, переломится от напряжения.
Я же сейчас сломаюсь.
Голова превратилась в сосуд слепящей боли, тело было согнуто в бараний рог, связано узлом, как тюк.
Эли решил, что все еще не пришел в себя от болевого шока, поскольку, даже когда глаза снова обрели способность видеть, перед ними стояла лишь желтая пелена, а за нею — огромная колышущаяся тень.
Его вдруг пронзил холод. Тонкой кожи между его ягодицами коснулся кусок льда. Кто-то пытался — сначала робкими касаниями, потом толчками — проникнуть в него. Эли шумно выдохнул; тонкая ткань платья, прикрывавшего его лицо, слетела, и он все понял.
Над ним громоздился Хокан. Его единственный глаз пристально уставился на разведенные ягодицы Эли. Руки сжимали его щиколотки. Ноги Эли были бесцеремонно закинуты за голову, так что колени упирались в пол на уровне плеч, и, когда Хокан еще слегка поднажал, Эли услышал треск рвущихся сухожилий в ляжках.
— Не-е-ет! — выкрикнул Эли в бесформенное лицо Хокана, не выражавшее ровным счетом никаких эмоций. Ниточка тягучей слюны вытекла изо рта Хокана, растянулась и капнула на губы Эли, и рот его наполнил трупный привкус. Руки Эли были раскинуты в стороны, как у безжизненной куклы.
Пальцы что-то нащупали. Круглое. Твердое.
Он собрался с мыслями, напряг сознание, пытаясь представить себе шар яркого света в черном засасывающем мраке безумия. И в центре шара увидел себя. С колом в руке.
Да.
Эли ухватился за палку, сомкнул пальцы на тонкой спасительной соломинке, пока Хокан настойчиво продолжал тыкаться в него, пытаясь найти нужное отверстие.
Острие. Главное понять, с какой стороны острие.
Повернув голову, он разглядел, что острие направлено в сторону насильника.
Один-единственный шанс.
В звенящей тишине сознания он мысленно представил себе последовательность действий.
А потом сделал это. Одним движением оторвал палку от пола и со всей силой, на какую его хватило, направил ее в лицо Хокану.
Локоть скользнул по задранной вверх ляжке, палка прочертила прямую линию и остановилась в нескольких сантиметрах от лица Хокана — вытянуть руку дальше не позволяло положение.
Все пропало.
В следующее мгновение Эли успел подумать, что, возможно, сумеет приказать своему телу умереть. Если отключить все…
И тут Хокан дернулся вперед, наклонив голову. С чавканьем половника, опускающегося в кашу, деревянное острие вонзилось ему в глаз.
Хокан не закричал. Возможно, он ничего не заметил, и лишь удивление от внезапной слепоты заставило его разжать руки, сомкнутые на щиколотках. Не чувствуя боли от порванных сухожилий, Эли вырвался и ударил Хокана ногами в грудь.
Подошвы со смачным шлепком впечатались в кожу, и Хокан отлетел назад. Эли подтянул под себя ноги и, чувствуя волну холодной боли в спине, встал на колени. Хокан не упал, лишь согнулся пополам и теперь, как электрическая кукла в «доме привидений», снова выпрямлялся.
Они стояли на коленях друг против друга.
Палка, торчавшая из глазницы Хокана, начала выскальзывать размеренными рывками с четкостью секундной стрелки, пока наконец не выпала и, пару раз перекатившись по полу, не замерла.
Из зиявшей дыры потоком слез полилась прозрачная жидкость.
Ни один из них не шевелился.
Жидкость из глаза Хокана продолжала капать на обнаженные ляжки Эли.
Вложив всю оставшуюся силу в правую руку, Эли сжал кулак. Когда плечо Хокана дернулось и тело снова потянулась к нему, чтобы продолжить начатое, правая рука Эли со всей силы ударила Хокана в грудь у самого сердца.
Ребра хрустнули, кожа на мгновение натянулась и лопнула.
Хокан наклонил голову, чтобы посмотреть на то, чего больше никогда не мог увидеть, а дрожащая рука Эли вошла в его грудную клетку и нащупала сердце. Холодный мягкий комок. Совершенно неподвижный.
Оно же мертвое. И все равно нужно…
Эли сжал сердце в кулаке. Оно мгновенно поддалось, лопнув, как дохлая медуза.
Хокан отреагировал так, как если бы на него вдруг села муха, — лишь поднял руку, чтобы отмахнуться от досаждавшего ему насекомого, но, прежде чем ему удалось схватить Эли за запястье, тот выдернул руку с болтающимися лоскутами сердца.
Бежать!
Эли попытался встать, но ноги не слушались. Хокан слепо шарил руками перед собой, пытаясь найти его. Эли лег на живот и пополз к выходу, царапая колени о бетонный пол. Хокан повернул голову на звук, выкинул вперед руки и ухватил его за платье, умудрившись оторвать рукав. Добравшись до дверного проема, Эли снова встал на колени.
Хокан поднялся на ноги.
Через несколько секунд он тоже окажется в дверях. Эли сосредоточился, пытаясь усилием воли заживить мышцы, чтобы можно было хоть как-то стоять на ногах, но, к тому времени как Хокан дошел до двери, Эли удалось лишь еле-еле подняться, опираясь о стену.
Неотесанные доски царапали кончики пальцев, оставляя занозы, пока он брел вдоль стены, хватаясь за них, чтобы не упасть. Теперь он точно знал: даже без сердца, слепой, Хокан будет преследовать его до тех пор, пока… пока…
Я должен его уничтожить. Должен уничтожить.
Черная полоса.
Черная вертикальная полоса прямо перед его глазами. Раньше ее здесь не было. Он тут же сообразил, что нужно делать.
— Э-э-э-э…
Пальцы Хокана обхватили дверной косяк, затем в коридор вывалилась его туша и принялась шарить руками в воздухе. Эли вжался спиной в стену, ожидая подходящего момента.
Хокан сделал пару неуверенных шагов и застыл прямо напротив Эли. Прислушиваясь, принюхиваясь.
Эли наклонился, выставив руки вперед на уровне плеч Хокана. Затем, оттолкнувшись от стены, бросился на него, пытаясь сбить с ног.
Ему это удалось.
Хокан пошатнулся, сделав шаг в сторону, и отлетел ко входу в бомбоубежище. Зазор, показавшийся Эли черной полосой, расширился, дверь распахнулась вовнутрь, и Хокан рухнул в темноту, продолжая шарить перед собой, в то время как Эли упал плашмя на пол, успев смягчить падение руками, подполз к двери, ухватился за нижнее колесо и задраил вход. Затем он дополз до склада, взял палку и вставил ее в поворотный механизм, чтобы его нельзя было открыть изнутри.
Сосредоточив всю свою энергию на заживлении ран, Эли пополз к выходу. Красный шлейф крови, капавшей из уха, тянулся за ним от самого бомбоубежища. К тому времени как он дополз до входной двери, раны его зажили достаточно, чтобы он смог подняться на ноги. Он открыл дверь и на непослушных ногах зашагал вверх по лестнице.
Покой, покой, покой.
Он открыл дверь и вышел из подъезда, освещенного тусклым светом фонаря. Он был измучен, унижен, а на горизонте занимался восход.
Покой, покой, покой.
Но сначала нужно было уничтожить Хокана, и существовал лишь один известный ему способ. Огонь. Спотыкаясь, он вышел во двор и направился туда, где можно было его раздобыть.
*
7.34, утро понедельника, Блакеберг.
В универсаме «ИКА» на улице Арвида Мерне срабатывает сигнализация. Одиннадцать минут спустя на место прибывает наряд полиции и обнаруживает разбитую витрину. Владелец магазина, проживающий поблизости, также присутствует на месте происшествия. Он сообщает, что видел из окна убегающего человека с темными волосами, возможно ребенка. Полиция обыскивает помещение, но установить, что похищено, не удается.
7.36 — восход солнца.
*
Больничные жалюзи оказались гораздо надежнее, плотнее ее собственных. Лишь в одном месте полоски прогнулись и пропускали тонкий луч утреннего солнца, вычерчивавшего пыльно-серый клин на темном потолке.
Виржиния неподвижно лежала, вытянувшись на постели, и смотрела на серую полоску, подрагивавшую от каждого порыва ветра, сотрясавшего оконную раму. Мягкий отраженный свет. Лишь легкое раздражение, песчинка в глазу.
Лакке шмыгнул носом и зашуршал простынями в соседней кровати. Они долго лежали без сна, разговаривали. Вспоминали прошлое. Ближе к четырем утра Лакке все же заснул, держа ее за руку.
Она высвободила ладонь, лишь когда час спустя к ней зашла медсестра, чтобы померить давление и, довольная результатом, покинула палату, искоса бросив умиленный взгляд на Лакке. Виржиния слышала, как он уговаривал их позволить ему остаться, какие приводил доводы. Вот она небось и растрогалась.
Теперь Виржиния лежала, сцепив руки на груди, борясь с позывами тела отключиться. Сказать «заснуть» было бы неверно. Как только она переставала думать о дыхании, оно тут же прекращалось. Но ей нужно было оставаться в бодрствующем состоянии.
Она надеялась, что медсестра придет до того, как Лакке проснется. Да. Было бы лучше, если бы он проснулся, когда все это останется позади.
*
Солнце нагнало Эли у арки. Раскаленные щипцы впились в его разорванное ухо. Он инстинктивно отпрянул в тень, прижимая к груди три бутыли денатурата, словно защищая их от солнечного света.
Десять шагов до его подъезда. Двадцать — до подъезда Оскара. Тридцать — до подъезда Томми.
Я не могу.
Нет. Будь он здоровым и сильным, — может, он бы и попробовал добраться до Оскара сквозь завесу света, с каждой секундой набиравшего силу. Но не до Томми. И не сейчас.
Десять шагов. Потом в подъезд. Большие окна на лестничной клетке. А если я споткнусь… Если солнце…
Эли побежал.
Солнце голодным львом набросилось на него, вцепилось зубами в спину. Эли чуть было не потерял равновесие от этой яростной безумной силы. Сама природа плевала ему в лицо, оскорбленная его вторжением, тем, что он посмел хоть на мгновение явиться на свет.
Когда он добежал до подъезда, рванув на себя дверь, спина его пузырилась и шипела, будто ошпаренная кипящим маслом. Он чуть не потерял сознание от боли и вслепую бросился к лестнице — он даже не смел открыть глаза, боясь, что они расплавятся.
Он уронил одну из бутылок, и она покатилась по лестнице. Ничего не поделаешь. Опустив голову, одной рукой прижимая к груди оставшиеся бутылки, другой держась за перила, он, спотыкаясь, поднялся по лестнице до следующей площадки. Оставался последний этаж.
Солнце, бившее в окно, последний раз прошлось лапой по его шее и принялось кусать за ляжки, икры и пятки, пока он поднимался по лестнице. Он весь горел. Не хватало лишь языков пламени. Он открыл свою дверь и ввалился в спасительную прохладную темноту. Захлопнул за собой дверь. Но темнота была не полной.
Дверь в кухню была открыта, а там окна не были завешены одеялами. Этот свет все равно был слабее только что обжигавших его лучей. Эли поставил на пол бутылки и, не раздумывая, пошел дальше.
Свет игриво заплясал по его спине, пока он на четвереньках пробирался по коридору к ванной, и в нос ударил запах жженого мяса.
Эти раны никогда не заживут.
Он протянул руку, открыл дверь в ванную и заполз в плотную темноту. Отодвинув в сторону пару пластиковых ведер, закрыл дверь, заперев ее изнутри.
Прежде чем скользнуть в ванну, он успел подумать:
Я забыл запереть входную дверь.
Но было уже поздно. Сознание отключилось в ту же секунду, как он погрузился во влажную темноту. Ему бы все равно не хватило сил.
*
Томми неподвижно сидел, забившись в угол. Он задерживал дыхание, пока не зашумело в ушах, а тьму перед глазами не прорезал звездопад. Услышав, как захлопнулась дверь подвала, он наконец осмелился сделать глубокий выдох, эхом прокатившийся между бетонных стен, прежде чем растаять в воздухе.
Стояла тишина. Темнота была такой полной, что, казалось, обрела плотность и вес.
Он помахал рукой перед глазами. Ничего не видно. Он провел рукой по лицу — убедиться, что существует. Да. Кончики пальцев нащупали нос, губы. Те казались ненастоящими. Промелькнув под пальцами, снова канули в небытие.
Маленькая статуэтка в другой руке казалась куда реальней, живее, чем он сам. Он крепко прижал ее к груди.
Томми сидел, уронив голову между коленей, — глаза зажмурены, руки прижаты к ушам, чтобы не знать, не слышать того, что творилось на складе. Судя по звукам, девочку убивали. Он не мог, не смел ничего поделать и потому пытался отрешиться от происходящего, исчезнуть.
Он вспоминал, где был со своим папой. На футбольном поле, в лесу, в купальне Канаан. В конце концов память уцепилась за тот раз, когда они запускали радиоуправляемый самолет, одолженный папой у кого-то из сослуживцев.
Мама тоже сначала была с ними, но потом ей стало скучно смотреть на самолет, выделывавший петли в воздухе, и она ушла домой. Они с папой играли до тех пор, пока не стемнело и самолет не превратился в смутный силуэт на розовеющем вечернем небе. Потом они пошли домой через лес, держась за руки.
Томми с головой ушел в тот день, забыв о криках и безумии, творящемся в нескольких метрах от него. Сейчас для него существовало лишь сердитое жужжание мотора, жар папиной широкой ладони на его спине, пока он, дрожа от волнения, заставлял самолет выделывать широкие круги над полем и кладбищем.
В те годы Томми еще не приходилось бывать на кладбище; он воображал, как люди бесцельно бродят меж могил и роняют прозрачные крокодильи слезы, с плеском падающие на камни надгробий. Так он себе это представлял. Потом умер папа, и Томми узнал, что кладбища редко, слишком редко выглядят так, как он думал.
Ладони крепче зажали уши, заглушая эти мысли. Думай о лесной дороге, думай о запахе топлива для аэроплана, думай о…
Только услышав сквозь ладони, как поворачивается нижнее колесо двери, он отнял руки от ушей и открыл глаза. Бесполезно — бомбоубежище было куда темнее, чем чернота под его веками. Он задержал дыхание, пока не лязгнуло второе колесо, и не выдыхал, пока что-бы-это-ни-было не покинуло подвал.
Глухой стук двери в коридоре, отдавшийся в стенах, — и он выдохнул. Живой!
Пронесло!
Он не знал толком, от кого скрывался, но теперь он был в безопасности.
Томми встал с корточек. В затекших ногах покалывало, пока он на ощупь пробирался к двери. Ладони вспотели от страха и тепла — так долго он зажимал руками уши. Он чуть не выронил статуэтку.
Свободной рукой он повернул колесо, пытаясь открыть дверь.
Оно повернулось сантиметров на десять — и остановилось.
Это еще что такое?!
Он поднажал, но колесо оставалось неподвижным. Он бросил статуэтку, чтобы освободить вторую руку, и она упала на пол с глухим…
Шлеп!
Он замер.
Странный какой-то звук. Как будто она приземлилась на что-то мягкое.
Он присел на корточки возле двери, попробовал открыть нижнее колесо. То же самое. Колесо провернулось сантиметров на десять и остановилось. Он сел на пол. Попытался мыслить рационально.
Черт, и что мне теперь так здесь и сидеть?
Что-то в этом роде.
На него накатил тот самый страх, преследовавший его несколько месяцев после смерти отца. Он давно не испытывал ничего подобного, но сейчас, в полной темноте и под замком, страх снова дал о себе знать. Любовь к папе, пройдя через призму смерти, превратилась в боязнь отца. Того, что осталось от его тела.
В горле продолжал расти ком, пальцы окоченели.
Ну же, соображай скорее!
На полке хранилища на противоположной стороне бомбоубежища были свечи. Только вот как туда добраться в темноте?
Идиот!
Звонко ударив себя по лбу, он рассмеялся. У него же есть зажигалка! К тому же зачем нужны свечи, если их нечем зажечь?
Как тот чувак с тысячей консервных банок, но без открывалки. Умер от голода среди тонн еды.
Копаясь в кармане в поисках зажигалки, он думал о том, что его ситуация не так уж и безнадежна. Рано или поздно кто-нибудь спустится в подвал — да хоть та же мама, так что со светом он как-нибудь да выкрутится.
Он вытащил зажигалку, чиркнул.
Пламя на мгновение ослепило глаза, уже привыкшие к темноте, но, присмотревшись, он заметил, что не один.
На полу, прямо у его ног, растянулся…
…папа!..
О том, что отца кремировали, он и не вспомнил, когда в дрожащем пламени зажигалки увидел лицо покойника, более чем соответствовавшее его представлениям о том, как выглядит человек, пролежавший несколько лет в земле.
…Папа…
Он заорал так, что поток воздуха загасил пламя зажигалки, но, прежде чем оно потухло, он успел разглядеть, как голова отца дернулась и…
…Оно живое…
Содержимое его желудка с громким пуком вывалилось в штаны, обдав задницу теплом. Ноги подкосились, позвоночник обмяк, и он осел на пол бесформенной кучей, выронив зажигалку, которая отлетела в сторону. Рука его коснулась ледяных пальцев ног покойника. Острые ногти царапали ладонь, и, продолжая орать —
Ну что же ты, папа? Не мог постричь ногти на ногах? — он принялся гладить холодные ноги, будто замерзшего щенка, нуждающегося в ласке. Он водил рукой от лодыжки до бедра и, чувствуя, как напрягаются мышцы под кожей, всхлипывал и завывал как животное.
Кончики пальцев коснулись металла. Статуэтка. Она лежала между ног покойника. Он обхватил стрелка за грудь и умолк, на мгновение снова обретя почву под ногами.
Орудие.
В наступившей тишине послышался чавкающий звук — мертвец сел на полу. Почувствовав холодное прикосновение к тыльной стороне ладони, Томми тут же отдернул руку и крепче вцепился в статуэтку.
Это не папа.
Нет. Перебирая ногами, Томми пополз назад, прочь от покойника, размазывая липкое дерьмо по ягодицам. На какое-то мгновение ему даже показалось, что он обрел способность видеть в темноте, что слуховые ощущения вдруг превратились в зрительные, и он увидел, как покойник встает в темноте — желтоватый контур, напоминающий созвездие.
Пока он, отталкиваясь согнутыми в коленях ногами, двигался к противоположной стене, мертвец перед ним выдохнул короткое:
— …А-а…
И Томми увидел…
Маленького слоненка, маленького нарисованного слоненка, навстречу которому идет (ту-ту-у-у!) БОЛЬШОЙ слон, и — раз! — оба поднимают хоботы и трубят букву «а», а потом появляются Магнус, Брассе и Эва и поют «Там! Это здесь! Там, где нас нет…»[37]
Нет, как же там поется…
Мертвец, должно быть, споткнулся о сложенные штабелями коробки — в темноте послышался грохот расколовшегося об пол музыкального центра. Томми дернулся, так ударившись о стену затылком, что голову наполнил белый шум. Сквозь шум он различал, как голые одеревенелые ступни шлепают по полу, разыскивая его.
Здесь. Это там. Там, где нас нет. Нет. Да.
Точно. Его здесь нет. Его больше не было, как не было и того, кто издавал эти звуки. Это были просто звуки. Кто-то просто сидел и слушал, уставившись в черную сетку музыкальных колонок. Этого кого-то на самом деле не существовало.
Здесь. Это там. Там, где нас нет.
Он чуть было не принялся напевать, но чувство самосохранения из глубин сознания подсказало ему, что делать этого не следует. Белый шум постепенно исчезал, оставляя после себя пустующее пространство, куда к его отчаянию стали просачиваться мысли.
Лицо. Лицо.
Он не хотел думать об этом лице, не хотел о нем думать!
Но он заметил что-то важное в свете зажигалки.
Мертвец приближался. Он это понимал не только по шаркающим шагам, которые становились все ближе. Нет, он чувствовал его приближение, словно сгусток надвигающегося мрака.
Он закусил нижнюю губу, ощутив привкус крови во рту, и зажмурился. Представил, как его глаза исчезают, как два…
Глаза.
У него же нет глаз!
Движение воздуха у лица, когда мертвец махнул рукой в воздухе.
Слепой. Он слеп.
Томми не мог бы за это поручиться, но ему показалось, что на бесформенном коме над плечами мертвеца не было глаз.
Когда мертвец снова взмахнул рукой, Томми почувствовал волну воздуха за десятую долю секунды до того, как она коснулась его лица, и успел повернуть голову, так что пальцы лишь скользнули по его волосам. Он метнулся в сторону, упал на живот и, извиваясь, пополз по полу, проворно шевеля руками перед собой, как пловец на суше.
Зажигалка, зажигалка…
Что-то кольнуло щеку, и он едва сдержал спазм рвоты, поняв, что это ноготь мертвеца, — но вовремя откатился в сторону, уклонившись от его шарящих рук.
Здесь. Это там. Там, где нас нет.
Томми невольно фыркнул. Он попытался сдержать распиравший его смех, но ничего не вышло. С губ брызнула слюна, и из его сорванной глотки вырвались истерические всхлипы то ли смеха, то ли плача, в то время как руки, будто лучи радара, продолжали шарить по полу в поисках той единственной соломинки, которая, может быть, может быть, спасла бы его от преследовавшей тьмы.
Господи, помоги мне! Да озарит свет Твоего лица, Господи! Прости меня за то, что я сделал в церкви, прости за все. Господи. Я буду всегда-всегда в Тебя верить, что хочешь сделаю, только помоги мне найти зажигалку. Будь другом, Господи!
И произошло чудо.
В ту секунду, когда рука мертвеца ухватила его за ногу, подвал на долю секунды озарил бело-голубой свет, будто фотовспышка, и этого времени Томми хватило, чтобы разглядеть опрокинутые коробки, шершавые стены бомбоубежища, проход в хранилище.
И зажигалку.
Она лежала в каком-то метре от его правой руки, и, когда через мгновение темнота снова сомкнулась над ним, это место уже отпечаталось на его сетчатке. Он вырвал ногу из пальцев чудовища, выкинул вперед руку, схватил зажигалку и, зажав ее в кулаке, вскочил на ноги.
Не раздумывая, не слишком ли много просит, он завел в голове новую молитву.
Господи, пусть он окажется слепым, Господи, пусть он окажется слепым, Господи…
Он чиркнул зажигалкой. Вспышка, похожая на предыдущую, затем желтое пламя с голубой сердцевиной.
Мертвец неподвижно стоял, повернув голову на звук. Затем двинулся по направлению к нему. Пламя подрагивало в руке, когда Томми сделал два шага в сторону и приблизился к двери. Чудовище остановилось на том месте, где всего три секунды назад стоял Томми.
Он бы, наверное, порадовался, если бы еще мог испытывать радость. Но в слабом свете зажигалки все стало такими невыносимо настоящим. Он больше не мог утешать себя фантазией, что его здесь нет, что все это происходит не с ним.
Он был заперт в звукоизолированной камере наедине с кошмаром всей своей жизни. Что-то перевернулось у него в животе, но внутри уже не осталось ничего, что могло бы выйти наружу. Он лишь тихонько пукнул, и чудовище снова повернуло голову на звук.
Томми изо всех сил дергал колесо свободной рукой, так что пламя зажигалки задрожало и опять погасло. Колесо не поддавалось, но краем глаза Томми успел заметить, как чудовище приближается нему, и отскочил от двери к стене, у которой недавно сидел.
Он всхлипнул, шмыгнув носом.
Пусть это закончится! Господи, пусть это закончится!
Перед ним снова возник огромный слон, поднявший шляпу и заговоривший в нос:
Все закончилось! Трубите в трубы и в хоботы, ту-ту-у-у! Все закончилось!
Я схожу с ума, я… оно…
Он помотал головой и снова зажег зажигалку. На полу перед ним, лежала статуэтка. Он наклонился, поднял ее и тут же отскочил в сторону к противоположной стене, наблюдая, как чудище шарит руками на том месте, где он был секунду назад.
Слепой баран.
Зажигалка в одной руке, статуэтка в другой. Томми открыл рот, чтобы окрикнуть монстра, но с губ его сорвался лишь свистящий шепот:
— Ну, давай!
Мертвец навострил уши, обернулся и направился к нему.
Томми взял награду Стаффана на изготовку, словно биту, и, когда чудовище оказалась в полуметре от него, с размаху засадил ее прямо ему в лицо.
Как идеальный пенальти, когда, лишь касаясь ногой мяча, уже знаешь, что попал в яблочко, — вот что чувствовал Томми, занеся над головой статуэтку.
Йес!
И когда острая грань пьедестала врезалась мертвецу в висок с утроенной силой, наполнившей его руку, его уже охватило ликование победителя. И когда череп раскололся с треском ломающегося льда и холодная жидкость брызнула ему в лицо, а чудовище рухнуло на пол, — все это было не более чем подтверждение его победы.
Томми стоял, шумно дыша. Взглянул на тело, распростертое на полу.
У него же стояк!
Да. Член мертвеца торчал, будто минималистичное, чуть покосившееся надгробие, и Томми уставился на него, дожидаясь, что эрекция вот-вот спадет. Но этого не произошло. Томми рассмеялся бы, если бы не сорвал горло.
Пульсирующая боль в большом пальце. Томми опустил глаза. Пламя зажигалки лизало кожу пальца, по-прежнему зажимавшего клапан.
Он выровнял зажигалку. Тушить ее он не хотел. Не хотел оставаться один на один в темноте с этим…
Движение.
И Томми почувствовал, как что-то важное, что-то, что делало его человеком, покинуло его, когда чудовище подняло голову и стало медленно подниматься.
Слон, танцующий на то-о-оненькой паутинке!
Паутинка лопнула. Слон упал.
И Томми ударил еще раз. И еще.
Вскоре все это стало казаться ему страшно веселым.
Морган нахально прошел мимо будки дежурного, махнув проездным, истекшим еще полгода назад, в то время как Ларри остановился, вытащил мятую книжицу с билетиками и сказал:
— «Энгбюплан».
Дежурный поднял взгляд от книги, проштамповал два билетика. Когда Ларри подошел к Моргану, тот усмехнулся, и они пошли вниз по лестнице.
— Ну и какого хрена ты это сделал?
— Что? Купил билет?
— Ну да. Ладно бы еще до конечной взял, а так все равно ведь поймают.
— Я — не ты.
— Что?
— Ты меня с собой не сравнивай.
— Да что такого-то?.. Он же расселся там… Ему хоть фоткой короля маши — ничего не заметит.
— Да ладно, ладно. Не ори так.
— Что, думаешь, он за нами побежит?
Прежде чем они открыли двери на перрон, Морган сложил ладони рупором и заорал на весь зал: «Держи их! Держи! Зайцы!»
Ларри нырнул в дверь и сделал несколько шагов в сторону перрона. Когда Морган нагнал его, он сказал:
— Ведешь себя как дитя малое!
— Ага. Ну, рассказывай. Так что там за дела-то?
Ларри еще в ночи позвонил Моргану и вкратце изложил то, что Гёста рассказал ему по телефону за десять минут до этого. Они договорились встретиться в метро рано утром, чтобы поехать в больницу.
Он еще раз повторил всю историю от начала до конца. Виржиния, Лакке, Гёста. «Скорая», забравшая Виржинию вместе с сопровождавшим ее Лакке. Чуть приукрасил красочными подробностями, и к тому времени, как он закончил, подъехал поезд в сторону центра. Они вошли, заняли по два сиденья, развернутых друг к другу, и Ларри завершил историю словами:
— И они уехали под рев сирен.
Морган кивнул, погрыз ноготь большого пальца, поглядывая в окно, когда поезд выехал из туннеля и остановился на Исландсторьет.
— Ну и что на них нашло?
— Ты про котов? Не знаю. Взбесились, что ли.
— Все сразу?
— Ну да. А у тебя есть другая версия?
— Да нет. Вот твари. Лакке себе небось места теперь не находит?
— Мм. Он и раньше-то не того. Ну, последнее время.
— Это да, — Морган вздохнул. — Жаль Лакке вообще-то. Надо бы… не знаю… помочь, что ли.
— Виржинии, думаешь, легче?
— Нет, конечно. Но травма это как-то… все равно что болезнь. Тут все понятно. Лежишь себе. А вот сидеть рядом и… Не знаю, последний раз он был вроде как совсем не в себе. Что он там нес? Про оборотней, что ли?
— Вампиров.
— Ну да. Не сказать, чтобы это было признаком особого душевного здоровья.
Поезд остановился на станции «Энгбюплан». Когда двери закрылись, Морган добавил:
— Ну вот. Теперь мы в одной лодке.
— Мне кажется, они не так придираются, когда две зоны пробиты.
— Это тебе только кажется.
— Видел последний рейтинг леваков?
— Видел, видел. Ничего, к выборам сравняются. Знаешь, сколько людей в душе остаются социал-демократами, — сначала трясут предвыборными листовками, а потом все равно голосуют по велению сердца.
— Ага, это ты так думаешь.
— Нет. Я точно знаю. В тот день, когда коммунистов попросят из правительства, я поверю в вампиров. Хотя че тут верить: вон умеренных вокруг пруд пруди. Буман и компания, сам знаешь. Вот кто настоящие кровососы-то.
Морган оседлал своего конька. Где-то в районе Окесхува Ларри перестал слушать. У оранжереи стоял одинокий полицейский и смотрел в сторону метро. Ларри почувствовал укол беспокойства при мысли, что не доплатил за проезд, но, вспомнив, что там делает полиция, тут же успокоился.
Впрочем, вид у полицейского был довольно скучающий. Ларри расслабился; отдельные слова бесконечного монолога Моргана время от времени просачивались в его сознание, пока поезд громыхал дальше в сторону Саббатсберга.
*
Без пятнадцати восемь, а медсестра все не шла.
Грязно-серая полоска на потолке превратилась в светло-серую, и теперь жалюзи пропускали достаточно света, чтобы Виржиния ощущала себя, как в солярии. Разгоряченное тело пульсировало, но не более того. Хуже уже не будет.
Лакке лежал и посапывал в соседней кровати, пожевывая губами во сне. Она была готова. Если бы она могла дотянуться до кнопки вызова сестры, она бы это сделала. Но руки ее были по-прежнему привязаны к кровати, и оставалось только набраться терпения.
Она принялась ждать. Жар, обжигавший кожу, был мучителен, но не невыносим. Бороться со сном было куда тяжелее. Стоило лишь на минуту расслабиться, как дыхание прекращалось, свет в ее сознании начинал стремительно меркнуть, и приходилось широко распахивать глаза и мотать головой, чтобы он снова включился.
В то же время необходимость быть начеку была для нее посланием свыше — она не давала ей думать. Все ментальные усилия уходили на то, чтобы не заснуть. Места для сомнений, раскаяния или поиска альтернатив уже не оставалось.
Ровно в восемь вошла сестра.
Когда она открыла рот, чтобы произнести «Доброе утро!» или что уж там говорят медсестры по утрам, Виржиния прошипела:
— Тсс!
Рот медсестры захлопнулся с удивленным щелчком, она нахмурила брови, подошла в сумеречном свете к постели Виржинии, склонилась над ней и сказала:
— Так, ну и как мы…
— Тсс! — прошептала Виржиния. — Извините, не хочу его будить. — Она мотнула головой в сторону Лакке.
Сестра кивнула и понизила голос:
— Понятно. Но мне нужно померить вам температуру и взять анализ крови.
— Хорошо. А вы не могли бы… выкатить его отсюда?
— Выкатить?.. Так мне его разбудить?
— Нет. Просто выкатить его кровать.
Сестра взглянула на Лакке, будто решая, возможно ли вообще то, о чем ее просят, затем улыбнулась и ответила, покачав головой:
— Думаю, в этом нет необходимости. Измерим температуру орально, если вы стесняетесь…
— Не в этом дело. Пожалуйста, вы не могли бы… просто сделать, как я прошу?
Медсестра бросила взгляд на часы:
— Вы меня извините, но у меня есть и другие пациенты, которые…
Повысив голос насколько это было возможно, Виржиния прошипела:
— Умоляю вас!
Медсестра отступила на шаг назад. Ей явно сообщили о ночных событиях. Глаза скользнули по ремням, стягивающим руки Виржинии. Вид ремней ее немного успокоил, и она снова приблизилась. Теперь она говорила с Виржинией, как если бы та была умственно отсталой.
— Видите ли, я… мы… Чтобы иметь возможность вам помочь, нам нужно…
Виржиния закрыла глаза, вздохнула и смирилась. Она произнесла:
— Вы не могли бы поднять жалюзи?
Медсестра кивнула и подошла к окну. Когда она отвернулась, Виржиния, дернувшись всем телом, скинула одеяло и теперь лежала в постели обнаженная. Затаила дыхание. Зажмурилась.
Конец. Вот теперь она была бы не прочь отключиться. Она попыталась вызвать то состояние, с которым боролась все утро. Бесполезно. Вместо этого случилось то, о чем так часто говорят: вся жизнь пронеслась у нее перед глазами, как кинопленка.
Птенец, которого я держала в картонной коробке… Запах свежевыглаженного белья в прачечной… Мама, выпекающая булки с корицей… Папа, запах его трубки… Пэр… Домик в деревне. Мы с Леной, гигантская лисичка, которую мы нашли в лесу тем летом… Тед с перемазанными черничным вареньем щеками… Лакке, его спина… Лакке.
Глухой треск поднимающихся жалюзи — и она погрузилась в море огня.
*
Как всегда, в десять минут восьмого его разбудила мама. Как всегда, Оскар встал, позавтракал, оделся и, как всегда, в половине восьмого обнял маму, провожая ее на работу.
Все как всегда.
Он, конечно, испытывал беспокойство и дурные предчувствия — но для первого учебного дня после выходных в этом тоже не было ничего необычного.
Оскар положил в сумку учебник по географии, атлас и невыполненную домашнюю работу, и в семь тридцать пять он был собран. До выхода оставалось пятнадцать минут. Может, сделать эту чертову домашнюю работу? Да ну, нет сил.
Он сел за письменный стол и уставился в стену.
Значит, он все же не заразился? Или это просто инкубационный период? Нет. Тот мужик… У него это заняло всего несколько часов.
Я не заражен.
Ему следовало бы испытывать радость, облегчение. Но он ничего не чувствовал. Зазвонил телефон.
Эли! Что-то случилось…
Он бросился в прихожую, схватил телефонную трубку.
— Оскар!
— Э-э-э… Здравствуй, сын.
Папа. Всего лишь папа.
— Привет.
— Э-э-э… Ты, значит, дома?
— Убегаю в школу.
— Да-да, тогда не буду тебя… Мама дома?
— Нет, ушла на работу.
— Ну да, я так и думал.
Оскар сразу все понял. Вот почему он позвонил в такое неподходящее время — он знал, что мамы не будет дома. Папа прокашлялся.
— Слушай, я это… Я что хотел сказать… Как-то у нас в субботу вышло неважнецки.
— Да.
— Да. Ты маме рассказал?
— А сам-то как думаешь?
На том конце трубки стало тихо. Только статическое шуршание телефонных проводов длиной в сто километров. Он представил себе нахохлившихся ворон, сидящих на проводах, пока под их когтями проносятся сотни разговоров. Папа снова прокашлялся.
— Короче, я это… спросил про коньки — они твои.
— Мне пора.
— Да-да, конечно. Ну, удачи в школе.
— Ага. Пока.
Оскар положил трубку, взял сумку и пошел в школу.
Он ничего не чувствовал.
До начала урока оставалось пять минут, и большая часть одноклассников толпилась у входа в класс. Чуть замявшись, Оскар закинул сумку за плечо и направился к классу. Все взгляды обратились на него.
Прогон сквозь строй. Темная.
Да, он ждал самого худшего. Все, конечно, уже знали, что случилось с Йонни в четверг, и, хотя Оскар не нашел его среди собравшихся, Микке наверняка успел изложить в пятницу свою версию. Микке был здесь, стоял, как всегда, со своей идиотской ухмылкой.
Вместо того чтобы замедлить шаг, ища пути к отступлению, Оскар решительно устремился к классу. Он чувствовал себя опустошенным. Его больше не волновало, что будет дальше. Все это уже было не важно.
И конечно же, случилось чудо. Воды морские расступились.
Одноклассники, сбившиеся возле дверей, разошлись в стороны, оставляя проход для Оскара. В глубине души ничего другого он и не ожидал; будь то благодаря излучаемой им силе или из-за внушаемого им отвращения — ему было все равно.
Он стал другим. Они это почувствовали и расступились.
Оскар вошел в класс, не глядя по сторонам, и сел за свою парту. Он слышал гул в коридоре, и через пару минут остальные повалили в класс. Проходя мимо парты Оскара, Юхан показал ему большой палец. Оскар пожал плечами.
Потом появилась учительница, и через пять минут после начала урока в класс вошел Йонни. Оскар ожидал увидеть повязку на ухе, но он ошибался. Ухо было лиловым, опухшим и казалось чужеродной частью тела.
Йонни уселся на свое место. Он не смотрел ни на Оскара, ни на кого-либо другого.
Ему стыдно!
Да, так оно и было. Оскар, повернув голову, взглянул на Йонни, который вытащил из сумки фотоальбом и засунул его в парту. Он заметил, что щека Йонни того же цвета, что и ухо. Оскару захотелось показать ему язык, но он вовремя передумал.
Уж слишком это было по-детски.
*
По понедельникам Томми начинал учиться без четверти девять, так что в восемь Стаффан встал и, прежде чем отправиться проводить воспитательную работу, по-быстрому выпил чашку кофе.
Ивонн уже ушла, да и ему самому в девять нужно было заступать на пост в лесу Юдарн, где по-прежнему шли вялые поиски, хотя Стаффан был уверен, что они не принесут никаких результатов.
В любом случае, работа на свежем воздухе — дело приятное, да и погода обещала быть хорошей. Он сполоснул чашку под краном, немного подумал и надел форму. Он сначала хотел пойти к Томми в домашней одежде, чтобы, так сказать, поговорить по душам, но потом решил, что в конечном счете речь идет об административном нарушении, вандализме. К тому же форма придавала ему дополнительный вес, хотя авторитета ему и без того было не занимать.
Кроме того, это было удобно — он мог сразу после разговора отправиться на работу. Так что Стаффан облачился в полицейскую форму, надел куртку, бросил взгляд на свое отражение в зеркале, проверяя, какое производит впечатление, и остался доволен увиденным. Затем взял ключ от подвала, оставленный Ивонн на кухонном столе, вышел, закрыл дверь, проверил замок (профессиональная привычка) и начал спускаться в подвал.
К слову о профессиональных привычках: замок подвала в самом деле оказался неисправен. Ключ просто провернулся в замочной скважине — дверь была открытой. Стаффан присел на корточки, изучил замок.
Понятно. Шарик из бумаги.
Классический прием взломщиков — под каким-нибудь предлогом посетить помещение, которое предполагается ограбить, и немного помудрить с замком в надежде, что владелец ничего не заметит.
Открыв лезвие карманного ножа, Стаффан вытащил шарик.
Томми, понятное дело.
Ему даже не пришло в голову задаться вопросом, зачем Томми понадобилось мудрить с замком, если у него был ключ. Томми — вор, а это воровской прием. Следовательно, это он.
Ивонн рассказала, где в подвале скрывается Томми, и, пока Стаффан разыскивал нужную дверь, он репетировал в уме свою речь. Он хотел поговорить с ним по-приятельски, мягко, но эта история с замком его снова разозлила.
Он объяснит Томми — всего лишь объяснит, без всяких угроз, — что такое тюрьма для малолетних, социальные органы, наказуемый возраст и так далее. Чтобы он понял, на какой скользкий путь ступил.
Дверь склада оказалась открытой. Стаффан заглянул. Та-ак. Лис улизнул из своей норы. Тут от заметил пятна на полу. Стаффан сел на корточки, провел по одному из них пальцем.
Кровь.
На диване валялось одеяло Томми — на нем тоже виднелись темные пятна. Теперь, когда глаза пригляделись к полумраку, Стаффан увидел, что пол просто залит кровью.
Он с ужасом попятился к выходу.
Перед ним было… место преступления. Вместо отрепетированной речи, в голове замелькали страницы инструкции по осмотру места происшествия. Он знал ее наизусть, но, пока он отыскивал нужный параграф —
обеспечить сохранность объектов из материалов, поддающихся быстрому распаду… зафиксировать время начала осмотра… избегать контактов с поверхностями, где могут встречаться следы… —
он услышал позади какое-то бормотание. Бормотание, прерываемое приглушенными ударами.
В колесе двери торчала палка. Он подошел, прислушался. Да. Бормотание и звуки ударов доносились оттуда. Это напоминало религиозную мессу. Литургию, из которой он не мог различить ни слова.
Сатанисты!
Дурацкая мысль, но, присмотревшись к концу палки, торчавшей из колеса, он испугался. Темно-красные полосы сантиметров десять длиной, начинавшиеся от самого острия. Так выглядело высохшее лезвие ножа, ставшего орудием преступления.
Бормотание за дверью продолжалось.
Вызвать подкрепление?
Нет. Возможно, здесь совершается преступление, и, пока он будет бегать звонить, его доведут до конца. Придется разбираться самому.
Он расстегнул кобуру, готовый в любой момент выхватить пистолет, и зажал в руке дубинку. Другой рукой он вытащил из кармана носовой платок, бережно обернул им палку и потянул, вытаскивая ее из колеса. Прислушался, не привлек ли шум внимание тех, кто был внутри, не изменился ли характер звуков.
Но нет. Литургия и стук продолжались.
Наконец ему удалось вытащить палку. Он прислонил ее к стене, чтобы не смазать отпечатки пальцев.
Он понимал, что носовой платок — плохая гарантия сохранности отпечатков, поэтому, вместо того чтобы обхватить ладонью само колесо, он двумя пальцами взялся за внутреннюю ось и повернул.
Механизм сработал. Он облизал губы. В горле пересохло. Он повернул второе колесо до упора, и дверь приоткрылась.
Теперь он расслышал слова. Это была песенка. Тонкий надломленный голос выводил:
Триста восемь слоников
На паутинке то-нень —
(Бум!)
кой!
Если нравится игра,
Значит, друга звать пора,
Триста девять слоников
На паутинке то-нень —
(Бум!)
кой!
Если нравится игра…
Стаффан выставил вперед дубинку, толкнув ей дверь.
И увидел.
В бесформенном месиве, над которым на коленях стоял Томми, было сложно узнать человека, если бы не торчащая рука, наполовину отделенная от тела. Грудь, живот, лицо превратились в гору мяса, кишок и раздробленных костей.
Томми обеими руками сжимал четырехугольный камень, методично обрушивая его на изуродованные останки на одной и той же фразе. Орудие входило в плоть, будто нож в масло, с глухим стуком ударяясь об пол, и снова поднималось с появлением очередного слоника.
Стаффан не мог с уверенностью утверждать, что это был Томми. Человек, заносивший камень над головой, был с ног до головы покрыт кровью и ошметками мяса, так что узнать его… Стаффана чуть не вырвало. Он сглотнул все нараставшую кислую волну, отвел глаза от этого чудовищного зрелище, и взгляд его упал на оловянного солдатика, лежавшего у порога. Нет. Это был стрелок. Он его узнал. Стрелок лежал, направив пистолет в потолок.
А где же пьедестал?
И тут он понял.
Голова закружилась, и, не думая больше об отпечатках пальцев и сохранности улик, он оперся рукой о дверной косяк, чтобы не упасть.
Песня все продолжалась.
Триста десять слоников
На паутинке то-нень-…
Со Стаффаном явно творилось что-то не то, с ним приключилась галлюцинация. Ему показалось… да, четко и явно, что тело на полу в промежутках между ударами… шевелилось.
Пыталось встать.
*
Морган всегда любил делать глубокие затяжки, так что, к тому времени как он отшвырнул окурок в кусты у входа в больницу, Ларри докурил свою сигарету лишь до половины. Морган сунул руки в карманы и принялся слоняться по стоянке. Наступив в лужу дырявым сапогом и промочив носок, он чертыхнулся.
— Ларри, у тебя бабки есть?
— Ты же знаешь, у меня инвалидность…
— Знаю, знаю. Так есть у тебя бабки или нет?
— А что? Если хочешь занять, в долг я не даю.
— Да нет, я просто подумал — Лакке. Может, порадуем его? Ну, ты понимаешь, о чем я.
Ларри закашлялся, укоризненно взглянув на свою сигарету.
— И что, думаешь, ему от этого полегчает?
— Да.
— Сомневаюсь.
— Это почему? Потому, что у тебя нет бабла или потому, что жлобишься его отслюнявить?
Ларри вздохнул, сделал еще одну затяжку, закашлялся, поморщился и придавил бычок подошвой. Потом поднял его, положил в горшок с песком, служивший пепельницей, и посмотрел на часы.
— Морган… сейчас полдевятого утра.
— Ну и что? Через пару часов. Когда магазин откроется.
— Ладно, там видно будет.
— Значит, бабки у тебя есть.
— Так мы идем или как?
Они прошли сквозь крутящиеся двери. Морган провел пятерней по шевелюре и подошел к женщине за стойкой регистрации, чтобы узнать, где лежит Виржиния. Ларри встал напротив аквариума, изучая рыбок, сонно передвигавшихся в большом булькающем стеклянном цилиндре.
Через минуту подошел Морган, зачем-то отряхнул кожаный жилет и сказал:
— Сова облезлая! Не говорит.
— Да она небось в реанимации.
— И что, туда не пускают?
— Иногда пускают.
— А ты, я смотрю, все порядки знаешь.
— Знаю.
Они двинулись в сторону реанимации — Ларри знал, как туда пройти.
Многие из знакомых Ларри рано или поздно оказывались в больнице. Только сейчас двое лежали здесь, не считая Виржинии. Морган подозревал, что случайные знакомые Ларри превращались в приятелей и друзей ровно в тот момент, как оказывались на больничной койке. Тут-то он с ними и снюхивался, ходил навещал.
Почему он это делал — другой вопрос, и Морган уже собрался его задать, толкнув дверь в реанимацию, как вдруг увидел в коридоре Лакке. Он сидел на стуле в одних трусах, вцепившись в подлокотники, и смотрел в палату напротив, где бегали и суетились какие-то люди.
Морган втянул носом воздух.
— Черт, они что, теперь прямо тут кремируют? — он хохотнул. — Чертовы политики. Экономия, понимаешь. Пускай, мол, больницы сами заботятся…
Подойдя к Лакке, он умолк — пепельно-серое лицо, красные невидящие глаза. Почуяв неладное, Морган уступил слово Ларри, сам он в таких ситуациях терялся.
Ларри подошел к Лакке, положил руку ему на плечо:
— Здорово, Лакке, как ты?
В ближайшей палате по-прежнему царил бардак. Те окна, что были видны из дверей, стояли нараспашку, и тем не менее коридор наполнял едкий запах пепла. В палате плавали клубы дыма, посреди них стояли какие-то люди, громко переговариваясь и бурно жестикулируя. Морган уловил слова «ответственность больницы» и «нужно попытаться…»
Дальше он не расслышал, потому что в этот момент Лакке повернулся, взглянул на них, как на чужих, и сказал:
— Я должен был понять.
Ларри склонился над ним:
— Что ты должен был понять?
— Что это случится.
— Да что стряслось-то?
Глаза Лакке прояснились, он посмотрел в сторону окутанной пеленой и оттого кажущейся нереальной палаты и просто ответил:
— Она сгорела.
— Виржиния?
— Да. Она сгорела.
Морган сделал пару шагов по направлению к палате, заглянул. К нему тут же направился какой-то пожилой человек внушительного вида.
— Извините, но здесь вам не цирк.
— Нет-нет, я только…
Морган хотел было сострить, ответив, что разыскивает своего удава, но сдержался. По крайней мере он успел кое-что разглядеть. Две кровати. Одна — со смятыми простынями и откинутым одеялом, будто кто-то второпях выскочил из постели. Вторая по всей длине была покрыта толстым темно-серым покрывалом. Деревянное изголовье, черное от сажи. Под покрывалом проступали очертания на редкость худого тела — отчетливо выделялись лишь голова, грудь и таз, остальное с тем же успехом можно было принять за складки покрывала
Морган с остервенением потер глаза, чуть не на сантиметр вдавив глазные яблоки.
Значит, правда. Черт, это правда!
Он огляделся по сторонам в поисках кого-нибудь, кто разделил бы его удивление. Рядом стоял какой-то старикан, опиравшийся на ходунки, с подвешенной капельницей, и пытался заглянуть в палату. Морган сделал шаг в его сторону.
— Чего пялишься, дед? Может, ходунки из-под тебя выбить?
Старикан попятился, отступая мелкими шажками. Морган сжал кулаки, стараясь взять себя в руки. Потом вспомнил одну деталь, увиденную в палате, развернулся и пошел обратно.
Человек, сделавший ему выговор, как раз выходил из дверей.
— Вы, конечно, извините, но…
— Да, да, да, — Морган отодвинул его в сторону. — Мне только забрать одежду моего друга, если вы не против. Или, по-вашему, он должен весь день голый сидеть?
Сложив руки у груди, тот пропустил его в палату.
Морган взял со стула возле разворошенной постели одежду Лакке и бросил взгляд на соседнюю кровать. Из-под одеяла высовывалась черная обугленная рука с растопыренными пальцами. Рука была изуродована до неузнаваемости, но вот кольцо на среднем пальце он узнал. Золотое колечко с синим камнем, кольцо Виржинии. Прежде чем отвернуться, он успел заметить кожаный ремень, перетягивающий запястье.
Человек, пропустивший его, по-прежнему стоял в дверях, скрестив руки у груди.
— Ну, довольны?
— Нет. Какого черта ее привязали?
Его собеседник только покачал головой:
— Можете передать своему приятелю, что полиция приедет с минуту на минуту и, вероятно, захочет с ним пообщаться.
— Это еще зачем?
— Мне-то откуда знать, я же не полицейский.
— Правда? А так похожи.
В коридоре он помог Лакке одеться — не успели они закончить, как прибыли полицейские. Лакке был не в состоянии отвечать на какие-либо вопросы, но медсестра, поднявшая жалюзи, сохранила достаточно присутствия духа, чтобы подтвердить: Лакке не имел никакого отношения к происшедшему, он еще спал, когда все это началось.
И она осталась в окружении заботливых коллег, всячески пытавшихся ее успокоить. Ларри с Морганом вывели Лакке из больницы.
Выйдя из дверей больницы, Морган втянул ртом холодный воздух, сказал: «Мужики, я отойду на минутку» — и, склонившись над ближайшими кустами, выблевал на голые ветки остатки вчерашнего ужина вперемешку с зеленой желчью.
Придя в себя, он вытер рот рукой, а руку об штаны. Затем, подняв ладонь как вещественное доказательство, обратился к Ларри.
— Ну, старик, теперь уж точно придется раскошелиться.
Они доехали до Блакеберга, и, получив сто пятьдесят крон, Морган отправился в магазин, пока Ларри повез Лакке к себе домой.
Лакке послушно следовал за ним. За всю дорогу в метро он не произнес ни звука.
Пока лифт поднимался на седьмой этаж, Лакке вдруг заплакал. Не молчаливыми слезами — нет, он зарыдал в голос, как ребенок, только громче. Когда Ларри открыл двери лифта и вывел его на лестничную клетку, вой усилился, отдаваясь среди бетонных стен. В плаче Лакке звучала первобытная безграничная тоска, заполнявшая собой все этажи, проникая в щели почтовых ящиков и замочные скважины и превращая многоэтажный дом в склеп, возведенный на руинах любви и надежды. У Ларри мурашки побежали по коже; никогда еще он не слышал ничего подобного. Люди так не плачут. Не могут так плакать. От такого плача умирают.
Соседи. Они сейчас решат, что я его убиваю.
Ларри судорожно возился со связкой ключей, пока все человеческое страдание, все тысячелетия бессилия и разочарований, каким-то чудом вдруг обретя средоточие в хрупком теле Лакке, продолжали изливаться из его глотки.
Наконец ключ вошел в замок, и, преисполнившись неожиданной для него самого силы, Ларри втащил Лакке в квартиру и захлопнул дверь. Лакке продолжал кричать, — казалось, воздух в его легких никогда не кончится. Лоб Ларри покрылся испариной.
Черт, и что же мне теперь…
В панике он поступил так, как делают в кино, — отвесил Лакке пощечину и сам испугался звонкого хлопка, заставившего его тут же пожалеть о содеянном. Но это помогло.
Лакке мгновенно умолк, уставившись на него безумными глазами, и Ларри решил, что он сейчас даст сдачи. Но тут лицо Лакке несколько смягчилось, он захлопал ртом, будто хватая воздух, и произнес:
— Ларри, я…
Ларри обнял его. Лакке приник щекой к его плечу и зарыдал, сотрясаясь всем телом. Вскоре у Ларри стали подкашиваться ноги. Пытаясь высвободиться из объятий, он попробовал опуститься на стул в коридоре, но Лакке продолжал за него цепляться, наваливаясь всем телом. Ларри плюхнулся на стул, и Лакке упал на пол как подрубленный, уронив голову другу на колени.
Ларри принялся гладить его по голове, не зная, что сказать. Только шептал:
— Ну будет, будет…
У Ларри уже начали затекать ноги, но тут с Лакке что-то произошло. Плач затих, сменившись тихим поскуливанием. Ларри почувствовал, у него заходили желваки. Лакке поднял голову, вытер сопли рукавом и сказал:
— Я его убью.
— Кого?
Лакке опустил взгляд, уставившись на грудь Ларри и кивнул:
— Я его убью. Ему не жить.
*
На большой перемене в половине десятого к Оскару подошли Стаффе и Юхан, наперебой твердя: «Блин, ну ты даешь!» и «Будет знать!» Стаффе угостил его пастилками, а Юхан спросил, не хочет ли Оскар как-нибудь пойти с ними собирать пустые бутылки.
Никто его не пихал и не зажимал нос, проходя мимо. Даже Микке Сисков улыбнулся и одобрительно кивнул, столкнувшись с ним в коридоре возле столовой, как если бы Оскар рассказал смешной анекдот.
Как будто все только этого от него и ждали и теперь он стал своим.
Только вот никакой радости он не испытывал. Он лишь констатировал факт, но это уже не имело никакого значения. Хорошо, конечно, что его не трогали, но, если бы кто-нибудь сейчас посмел его ударить, он дал бы сдачи. Он больше не имел ничего общего с этими людьми.
На уроке математики он поднял голову и оглядел одноклассников, с которыми проучился шесть лет. Кто-то сидел, склонившись над тетрадью, кто-то грыз ручку, кто-то, хихикая, перекидывался записочками. И он подумал: «Ведь это же дети».
Он и сам был ребенком, но…
Он нарисовал в учебнике крест, потом переделал его в виселицу.
Да, я ребенок, но…
Он нарисовал поезд. Машину. Корабль.
Дом. С открытой дверью.
Беспокойство нарастало. К концу урока Оскар больше не мог сидеть спокойно — ноги выбивали дробь, руки барабанили по парте. Учитель удивленно повернул голову и попросил его угомониться. Оскар сделал над собой усилие, но вскоре его снова охватило беспокойство, дергая за ниточки, будто марионетку, и ноги снова принялись выплясывать по полу.
Дотянув до последнего урока, до физкультуры, он понял, что больше не выдержит. В коридоре он попросил Юхана:
— Скажи Авиле, что я заболел, ладно?
— Ты че, сваливаешь?
— Форму забыл.
Это было действительно так — он и правда забыл форму дома, но прогуливал не из-за этого. По дороге к метро он увидел, как его класс выстроился в шеренгу. Томас проорал ему вслед: «Б-у-у!»
Наверняка настучит. Ну и фиг с ним. Все это уже не имело значения.
Голуби взмыли в воздух, захлопав серыми крыльями, когда он пулей пронесся по центральной площади Веллингбю. Какая-то женщина с коляской поморщилась — надо же, никакого уважения к птицам. Но он спешил, и все, что отделяло его от цели, казалось лишь антуражем, препятствием, стоящим на пути.
Он остановился напротив магазина игрушек, заглянул в витрину. На фоне приторно-сладкого пейзажа выстроились миниатюрные тролли. Он из такого давно вырос. Дома в коробке лежали фигурки солдатиков, в которых он играл, когда был маленький.
Много лет назад.
Когда он открыл дверь в магазин, раздалось электронное треньканье дверного колокольчика. Он прошел по тесным рядам, забитым пластмассовыми куклами, пехотинцами и коробками с моделями самолетов. Возле кассы стояли упаковки с формами для оловянных солдатиков. Олово нужно было просить на кассе.
То, что он искал, оказалось на самом прилавке. Да, копий на прилавках с куклами было хоть завались, но оригиналы с логотипом Рубика держали здесь. Они стоили аж девяносто восемь крон штука.
Низкий полный продавец стоял за кассой с улыбкой, которую он назвал бы «угодливой», если бы знал это слово.
— Так, и что же мы ищем? Могу я чем-нибудь помочь?
Оскар знал, что кубик Рубика хранится на прилавке, и заранее придумал план.
— Да. Мне нужны краски для оловянных солдатиков.
— Пожалуйста!
Продавец указал рукой на ряд крошечных баночек с краской, расставленных на полке за его спиной. Оскар чуть наклонился вперед, положив руку на край прилавка рядом с кубиками, придерживая большим пальцем открытую сумку у самой стойки. Он сделал вид, что разглядывает краски.
— А золотая у вас есть?
— Конечно!
Стоило продавцу отвернуться, как Оскар схватил кубик, кинул его в сумку и тут же вернул руку на прежнее место. Продавец снова подошел, поставив перед ним две баночки. Сердце Оскара колотилось что есть силы, окрашивая щеки и уши в красный цвет.
— Матовую или перламутровую?
Продавец посмотрел на Оскара, которому казалось, что все его лицо превратилось в мигающее табло, большими буквами гласившее: «Я — вор!»
Чтобы скрыть румянец, он склонился над баночками и ответил:
— Наверное, перламутровую…
У него было двадцать крон. Краска стоила девятнадцать. Продавец упаковал ее в пакетик, и Оскар запихнул его в карман, чтобы не открывать сумку.
Выйдя на улицу, он испытал знакомый прилив восторга, только сильнее, чем обычно, и зашагал прочь от магазина, как отпущенный на свободу раб, только что скинувший оковы. Он не удержался и, добежав до парковки, спрятался за машинами, осторожно открыл упаковку и вытащил кубик.
Тот был гораздо тяжелее, чем его копия. Стороны прокручивались легко, как на подшипниках. Может, это и были подшипники? В любом случае, разбирать его он не собирался, чтобы не дай бог не сломать.
Пустая упаковка теперь казалась всего лишь дурацким куском пластика, и по пути со стоянки он выкинул ее в урну. Без нее было лучше. Он положил кубик в карман, поглаживая его пальцами, чувствуя его приятную тяжесть. Это был отличный подарок, хороший прощальный жест.
Оказавшись в метро, он остановился.
А вдруг Эли решит, что я…
Действительно: даря подарок, Оскар как бы соглашался с его отъездом. Вот тебе подарок, и пока! Но это же не так! Ему совершенно не хотелось…
Взгляд его пробежал по вестибюлю и остановился на ближайшем киоске. Стойка с газетами. «Экспрессен». С первой страницы на него смотрела огромная фотография мужика, выдававшего себя за отца Эли.
Оскар подошел и пролистал газету. Целых пять страниц было посвящено поискам в лесу Юдарн. Серийный убийца, прошлые преступления. А затем еще целая страница с его фотографией. Хокан Бенгтссон. Карлстад. На протяжении восьми месяцев место жительства неизвестно. Полиция призывает жителей города проявить бдительность. Если кто-то заметит…
Тревога снова острым шипом пронзила грудь.
Если кто-нибудь видел его или знает, где он живет…
Тетка в киоске высунулась из окошка.
— Ну, покупаешь или как?
Оскар покачал головой и бросил газету на место. Потом побежал. Уже на перроне он вспомнил, что даже не показал билет дежурному. Он притаптывал на месте от нетерпения, посасывая костяшки пальцев, на глазах выступили слезы.
Поезд, миленький, ну давай скорее…
*
Лакке полулежал на диване и, прищурившись, смотрел на балкон, где Морган безуспешно пытался приманить снегиря, примостившегося на соседних перилах. В какой-то момент голова его перекрыла предзакатное солнце и над волосами вспыхнул нимб света.
— Тихо, тихо, не бойся.
Ларри сидел в кресле перед телевизором и смотрел урок испанского. Неестественные персонажи, разыгрывавшие заученные сценки, двигались в кадре, обмениваясь репликами вроде: «Yo tengo un bolso». — «Que hay en el bolso?»[38]
Морган наклонил голову, так что луч солнца ослепил Лакке, и он прищурился, в то время как Ларри пробормотал, вторя телевизору: «Ке хай эн эль болса».
В квартире пахло застарелым сигаретным дымом и пылью. Пузырь был распит, пустая бутылка стояла на столе рядом с переполненной пепельницей. Лакке уставился на поверхность стола со следами бычков — они плавали у него перед глазами, как неторопливые жуки.
«Уна камиса и панталонис».[39]
Ларри тихонько хмыкнул:
— «…Панталонис».
Они ему не поверили. Вернее, поверили, но отказывались интерпретировать происшедшее согласно с его версией. «Спонтанное самовозгорание», — заявил Ларри, а Морган попросил его произнести это по слогам.
Спонтанное самовозгорание имеет ровно такое же научное подтверждение, что и вампиры. То есть никакого.
Но, понятное дело, проще было выбрать заведомо бредовое объяснение, требующее минимум вмешательства. Помогать ему они не собирались.
Морган с серьезным видом выслушал рассказ Лакке обо всем, что произошло в больнице, но, когда речь зашла о том, чтобы уничтожить источник заразы, сказал:
— Так ты что, хочешь, чтобы мы стали охотниками на вампиров? Ты, я и Ларри? Заточили б колья и… Не, ты меня, конечно, извини, но я как-то не того…
Первая реакция Лакке при виде их недоверчивых отстраненных лиц —
Виржиния бы мне поверила.
И боль снова выпустила когти. Он-то ей не поверил, вот она и… Он бы куда охотнее отсидел срок за эвтаназию, чем теперь жить всю жизнь с этим зрелищем, выжженным на его сетчатке:
Тело ее извивается в постели, кожа чернеет, дымится. Больничная рубаха задирается, обнажая лобок. Скрежет стальных пружин, когда бедра выгибаются, подпрыгивают на кровати в безумном соитии с невидимым любовником, пока пламя пожирает ее ляжки, и она кричит, кричит… Вонь паленых волос, жженой кожи наполняет комнату, ее полные ужаса глаза встречаются с моими и через мгновение раскаляются, белеют и лопаются…
Лакке выпил больше половины содержимого бутылки. Морган и Ларри возражать не стали.
«…Панталонис».
Лакке попытался встать с дивана. Затылок налился тяжестью. Он оперся о стол, поднялся. Ларри тоже встал, чтобы ему помочь.
— Черт, Лакке, ты бы хоть поспал.
— Не, пойду домой.
— И что тебе делать дома?
— Да так, есть одно дело.
— Только не говори, что оно имеет отношение ко всей этой истории.
— Нет-нет.
Морган вернулся с балкона, пока Лакке ковылял к выходу.
— Слышь? Куда это ты намылился?
— Домой.
— Я тебя провожу.
Лакке обернулся, с трудом пытаясь удержать равновесие и хоть немного протрезветь. Морган подошел к нему, распахнув руки, словно готовый в любую минуту его подхватить. Лакке покачал головой и похлопал Моргана по плечу:
— Мне надо побыть одному. Одному, понимаешь? Не волнуйся.
— Ты точно справишься?
— Точно.
Лакке кивнул несколько раз подряд; чувствуя, что его заело, усилием воли остановил трясучку, чтобы поскорее убраться, затем повернулся, вышел в прихожую и надел ботинки и пальто.
Он понимал, что напился, но с ним это случалось уже столько раз, что он приучил свое тело действовать независимо от мозга, на автопилоте. Он даже, пожалуй, смог бы сыграть в спичечный домик, не дрогнув рукой, по крайней мере какое-то время.
Из глубины квартиры доносились голоса приятелей.
— Может, нам все-таки стоит…
— Да не. Если он говорит, что хочет побыть один, значит, нужно оставить его в покое.
Они вышли в прихожую его проводить, неловко обнялись на прощание. Морган взял его за плечи, наклонил голову, заглядывая ему в глаза, и сказал:
— Только без глупостей, слышь? Если что — ты знаешь, где нас искать.
— Да-да. Нет-нет.
Выйдя из подъезда, он немного постоял, глядя на солнце, повисшее над кроной сосны.
Никогда больше… это солнце…
Смерть Виржинии, вся эта чудовищная сцена свинцом засела у него в груди, там, где раньше было сердце, заставляя его сутулиться, пригибаться к земле под немыслимой тяжестью. Сумеречный свет над городом казался насмешкой. Одинокие прохожие, спокойно передвигавшиеся в солнечных лучах… Насмешка. Как ни в чем не бывало они разговаривали о житейских вещах, будто бы им не грозило… где угодно, в любую секунду…
Вот так и на вас кто-нибудь прыгнет.
Какой-то человек у киоска склонился к окошку и беседовал с продавцом. Лакке увидел, как с неба ему на спину падает черный клубок, и…
Стоп!
Он остановился возле стойки с газетами, поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд на фотографии, занимавшей почти всю первую страницу. Ритуальный убийца. Лакке презрительно фыркнул. Уж он-то знал, как все обстоит на самом деле. Но…
Лицо показалось ему знакомым. Это же…
Тогда, у китаезы. Тот, с виски… Да не, не может быть.
Он сделал шаг вперед, пристально вглядываясь в фотографию. Да. Точно он. Те же близко посаженные глаза, тот же… Лакке поднес руку ко рту, прижал пальцы к губам. Фотография закружилась, в памяти всплывали все новые подробности.
Значит, он пил с человеком, прикончившим Юкке. Убийца его друга жил в его дворе, чуть ли не в соседнем подъезде. Он даже пару раз здоровался с ним.
Но ведь это не он убил, это же…
Голос. К нему кто-то обращался:
— Здорово, Лакке! Что, твой знакомый?
Продавец и его собеседник стояли и смотрели на него. Он ответил: «Да» — и пошел дальше, в сторону двора. Мир исчез. Перед глазами стояла лишь дверь подъезда, где исчез тот странный мужик. Завешенные одеялами окна. Ничего, он докопается до правды. Чего бы это ни стоило.
Ноги двигались все быстрее, спина распрямилась; свинец гулким колоколом стучал в груди, бил тревогу, заставляя дрожать все тело.
Я иду. Ну, сука, держись! Я иду!
*
Поезд остановился на станции «Рокста». Оскар кусал губы в панике и нетерпении — ему казалось, что двери слишком долго не закрываются, и, когда в громкоговорителе раздался щелчок, он уже решил, что машинист сейчас скажет, мол, поезд задерживается, но —
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
И поезд тронулся с места.
У него не было другого плана, кроме как предупредить Эли: кто угодно в любую секунду мог позвонить в полицию и сообщить, что видел того мужика. В Блакеберге. В таком-то доме. В таком-то подъезде. В такой-то квартире.
А что если полиция взломает дверь. А там, в ванной…
Поезд с грохотом выехал из туннеля на мост, и Оскар выглянул в окно. Два человека стояли у «секс-шопа», а за ними виднелся ряд ненавистных желтых газет. Один из них повернулся и быстро зашагал прочь.
Кто угодно. Кто угодно может его узнать. Да вот хоть этот мужик.
Не дожидаясь, пока поезд замедлит ход, Оскар встал у дверей, прижимая пальцы к их резиновым смычкам, будто они от этого могли быстрее открыться. Он прислонил голову к стеклу, приятно холодившему разгоряченный лоб. Заскрежетали тормоза, из динамиков с запозданием донесся голос машиниста:
«СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — БЛАКЕБЕРГ».
На платформе стояли Йонни и Томас.
Нет. Нет-нет-нет, только не это! Пусть они исчезнут!
Качнувшись, поезд остановился, и их взгляды пересеклись. Глаза Йонни расширились, и в ту минуту, как двери открылись, он что-то сказал Томасу.
Оскар собрался, выскочил из вагона и рванул к выходу.
Томас выставил вперед свою длинную ногу, ставя ему подножку, Оскар споткнулся и растянулся на перроне, поцарапав ладони в попытке затормозить. Йонни уселся ему на спину.
— Что, торопишься?
— Пусти! Пусти, я сказал!
— С какой это стати?
Оскар зажмурился, сжал кулаки. Сделал пару глубоких вдохов, насколько это было возможно с оседлавшим его Йонни на спине, и сказал в бетонный пол:
— Делайте что хотите. Только отпустите.
— Ладно!
Схватив его за руки, они подняли его. Оскар бросил взгляд на циферблат станционных часов. Десять минут третьего. Секундная стрелка, подергиваясь, скользила по кругу. Оскар напряг мышцы лица и живота, стараясь превратиться в камень, бесчувственный к ударам.
Лишь бы скорее отпустили.
Только увидев, что́ они собираются сделать, он начал сопротивляться. Но словно по молчаливому уговору, его мучители заломили ему руки за спину, так, что, казалось, одно движение — и перелом ему обеспечен. Они подтолкнули его к краю противоположной платформы.
Они не посмеют… Они не могут!
Но Томас был совсем без тормозов, а Йонни…
Оскар попробовал было упираться ногами. Они судорожно сучили по бетону, пока Томас и Йонни волокли его к белой ограничительной линии у самого края платформы.
Волосы у левого виска щекотали ухо, дрожа на ветру от приближающегося поезда из центра. Рельсы запели, и Йонни прошептал:
— Ну, прощайся с жизнью.
Томас прыснул и крепче сжал его руку. В голове у Оскара почернело: «Они это сделают». Они подтолкнули его так, что он согнулся пополам, свесившись над краем платформы.
Фары приближающегося поезда метнули на рельсы стрелу холодного света. Оскар вывернул голову влево и увидел, как поезд вылетел из туннеля.
ТУ-ТУ-У-У!
Поезд взревел, сердце Оскара рванулось в предсмертной судороге, по ногам потекла моча, а последней мыслью, промелькнувшей в его голове, было:
Эли!
И тут его рывком втащили на платформу, а перед глазами замелькали зеленые полосы, когда поезд пронесся мимо в каком-то дециметре от его лица.
Он лежал на спине на перроне, изо рта вырывался пар. Мокрые штаны холодили ноги. Йонни присел на корточки рядом с ним.
— Это чтобы ты понимал, с кем имеешь дело. Ну, теперь понял?
Оскар машинально кивнул. Лишь бы это скорее закончилось. По привычке Йонни осторожно пощупал распухшее ухо, улыбнулся. Затем взял Оскара за подбородок, сжав пальцами щеки.
— Раз понял, давай порося!
И Оскар завизжал свиньей. Они засмеялись. Томас сказал:
— Раньше у него лучше получалось.
Йонни кивнул:
— Придется опять его натаскивать.
К противоположной платформе подошел поезд. Они оставили Оскара валяться на бетоне.
Оскар еще немного полежал, чувствуя опустошение. Потом над ним возникло лицо. Какая-то бабка. Она протянула ему руку.
— Миленький, я все видела. Тебе надо заявить на них в полицию, это же…
Полиция!
… самое настоящее покушение! Пойдем, я тебе помогу.
Не обращая внимания на протянутую руку, Оскар вскочил на ноги. Ковыляя вверх по лестнице к выходу, он все еще слышал, как бабка кричит вдогонку:
— С тобой все в порядке?
*
Полиция!
Войдя во двор и увидев на пригорке полицейскую машину, Лакке вздрогнул. Возле машины стояли двое полицейских, один из них что-то записывал в блокнот. Лакке подозревал, что они ищут то же, что и он, но гораздо хуже информированы. Полицейские не заметили его замешательства, так что он направился к первому подъезду и вошел.
Имена жильцов ничего ему не говорили, но он и без того знал: второй этаж, правая дверь. У входа в подвал валялась бутылка денатурата. Он остановился, разглядывая ее, будто в ней таился ответ, что ему дальше делать.
Денатурат — горючее. Виржиния сгорела.
На этом ход мыслей зашел в тупик, и он, поднимаясь по лестнице, снова почувствовал волну холодной пронзительной ярости. Его словно подменили.
Голова прояснилась, а вот тело теперь никак не хотело слушаться. Ноги волочились по ступенькам, и он оперся о перила, преодолевая очередной пролет, пока мозг его раскладывал все по полочкам:
Значит так, вхожу. Нахожу эту тварь. Засаживаю ей что-нибудь в сердце. И жду полицию.
Он остановился перед безымянной дверью.
Ну и как же я войду?
Словно в шутку, он подергал ручку двери — и вдруг она открылась, являя его взгляду пустую квартиру. Ни мебели, ни ковров, ни картин. Ни одежды. Он облизал губы.
Ушла! Тогда мне здесь нечего делать.
На полу в прихожей лежали еще две бутылки денатурата. Лакке попытался сообразить, что же это значит. Может, эта тварь питается… Нет. Тогда…
Это значит лишь то, что кто-то недавно здесь был. Иначе бутылка не валялась бы на лестнице.
Да.
Он вошел, остановился в прихожей и прислушался. Тишина. Он прошелся по квартире, убедился, что окна в комнатах завешены одеялами. Почему, он и сам знал. Значит, он пришел по адресу.
Напоследок он остановился у двери в ванную. Подергал ручку. Закрыто. Но уж этот-то замок взломать было проще простого — достаточно найти отвертку или любой острый предмет.
Лакке снова попытался сосредоточиться на движениях. Переключиться с мыслительного труда на физический. Думать ему было незачем. Если он начнет думать, он станет сомневаться, а сомневаться ему ни к чему. Так что главное — двигаться.
Один за другим он выдвинул ящики стола. В одном из них обнаружил кухонный нож. Вернулся к двери ванной. Вставил лезвие в винт замка, повернул против часовой стрелки. Замок открылся, он распахнул дверь. Там стояла полная темнота. Он нашарил выключатель, зажег свет.
Господи помилуй! Вот это да…
Кухонный нож выпал из его руки. Ванна перед ним была до половины наполнена кровью. На полу лежало несколько канистр, на прозрачном пластике виднелись красные подтеки. Нож со звоном упал на кафель.
Язык прилип к небу, когда он склонился над ванной, чтобы… Чтобы что?
Коснуться рукой.
Казалось, им двигал примитивный инстинкт, вид такого количества крови завораживал. Его так и подмывало окунуть в нее руку.
Омыть руки в крови.
Он опустил пальцы в неподвижную темную гладь, и — они исчезли. Пальцы словно отрезало. Разинув рот, он погружал руку все глубже и глубже, пока она не наткнулась на…
Лакке с воплем отпрянул, выдернув руку из воды, и капли крови разлетелись дугой, забрызгав стены и потолок. Он инстинктивно поднес ладонь ко рту и, лишь почувствовав на губах что-то сладковатое и липкое, сообразил, что делает. Сплюнув, он вытер руку о штанину, прикрыв рот другой ладонью.
Там кто-то есть.
Да. Пальцы его уткнулись в живот. Прежде, чем выдернуть руку, Лакке почувствовал, как пружинит мягкая плоть. Чтобы отвлечься от тошнотворных мыслей, он пошарил глазами по полу, нашел столовый нож, поднял его и крепко сжал рукоятку.
Ну и какого черта я…
В трезвом уме он бы, наверное, отсюда ушел. Оставил бы эту запруду, в темной мути которой могло таиться что угодно. Например, расчлененное тело.
А может, живот… это просто живот.
Но алкоголь придал ему смелости, и, заметив на краю ванной тонкую цепочку, уходящую под красную жижу, он потянул за нее.
Пробка выскочила из сливного отверстия, в трубах забулькало, и на поверхности возник небольшой круговорот. Он присел на колени у ванной, облизал губы. Почувствовав на языке терпкий привкус, сплюнул на пол.
Крови становилось все меньше. На стенке ванной отчетливо отпечаталась красная полоса — отметка уровня крови.
Должно быть, давно стояла.
Через минуту на поверхности выступил нос. На противоположном конце ванной выглянули два больших пальца ног, вслед за ними наполовину обнажились ступни. Воронка на поверхности оказалась точно между ног, и теперь становилась все больше и вращалась все быстрее.
Он окинул взглядом контуры детского тела на дне ванной, постепенно проступавшие из-под крови. Руки, сложенные на груди. Коленные чашечки. Лицо. Остатки жидкости с тихим хлюпаньем исчезли в водостоке.
Представшее перед ним тело было темно-красного цвета. Липкое, в подтеках, как тело новорожденного. Пупок был на месте, а вот половые органы… Мальчик или девочка? Какая разница! Увидев вблизи это лицо с закрытыми глазами, Лакке его сразу узнал.
*
Оскар попытался бежать, но ноги не слушались.
Целых пять наполненных чернотой секунд он по-настоящему думал, что умрет. Что его столкнут под поезд. И теперь мышцы не могли свыкнуться с мыслью, что он жив.
На пути между школой и спортзалом ноги ему отказали.
Ему хотелось прилечь, — к примеру, упасть навзничь вон в те кусты. Куртка и толстые штаны защитят от колючек, а ветки мягко примут его в объятия. Но он спешил.
Нервный бег секундной стрелки по циферблату.
Школа.
Красный угловатый кирпичный фасад — камень на камне. Оскар представил, как он птицей несется по коридорам и влетает в класс. Видит Йонни. И Томаса. Они сидят за партами и насмешливо улыбаются.
Оскар наклонил голову, посмотрел на свои ботинки.
Грязные шнурки, один вот-вот развяжется. Металлический крючок на щиколотке погнулся. Он немного выворачивал стопы при ходьбе, поэтому искусственная кожа на пятках с внутренней стороны совсем износилась. И все равно ему придется проносить эти ботинки до конца зимы.
Мокрые, холодные штаны. Он поднял голову.
Они не должны победить. Они. Не должны. Победить.
Что-то теплое с журчанием потекло по ногам. Прямые линии кирпичной кладки накренились, смазались и исчезли — он побежал. Он понесся так, что из-под его подошв с хлюпаньем разлетались брызги. Земля убегала из-под ног, и теперь ему казалось, что она вертится слишком быстро, что он за ней не успевает.
Ноги сами несли его мимо высоток, старого универсама «Консум», кондитерской фабрики, и, влетев во двор, он по инерции и по привычке проскочил подъезд Эли, очутившись у своего собственного.
Здесь он чуть не налетел на полицейского, направлявшегося к входной двери. Полицейский широко расставил руки, ловя его.
— Ого! Кто-то сильно торопится!
У Оскара отнялся язык. Полицейский выпустил его, посмотрев… с подозрением?
— Ты здесь живешь?
Оскар кивнул. Он никогда раньше не встречал этого полицейского. Правда, вид у него был довольно дружелюбный. Нет — у него было лицо, которое Оскар в другое время назвал бы дружелюбным. Полицейский потеребил нос, сказал:
— Видишь ли, тут в соседнем подъезде кое-что случилось… Так что теперь я опрашиваю жильцов, не слышал ли кто что-нибудь подозрительное. Ну, или, может, видел.
— А в каком… в каком подъезде?
Полицейский мотнул головой в сторону подъезда Томми, и охватившая Оскара паника тут же отпустила.
— Вон в том. Ну, точнее, в подвале. Ты случайно не слышал ничего необычного в последнее время?
Оскар покачал головой. В голове бушевал такой вихрь мыслей, что он уже толком ничего не соображал, но ему казалось, что его волнение хлещет из глаз и полицейский это видит. Тот действительно склонил голову и внимательно посмотрел на него:
— С тобой вообще все в порядке?
— Да, все хорошо.
— Ты, главное, не бойся. Уже все закончилось. Так что беспокоиться не о чем. Родители дома?
— Нет. Мама. Нет.
— Ладно. Но я тут еще какое-то время пробуду, так что ты подумай, может, ты что-то видел.
Полицейский придержал для него дверь:
— Заходи.
— Да нет, у меня тут еще одно дело…
Оскар повернулся и изо всех сил стараясь идти как можно небрежнее, зашагал к соседнему подъезду. На полпути он обернулся и увидел, как полицейский зашел в его подъезд.
Они арестовали Эли.
Скулы заходили ходуном, зубы принялись выстукивать странную морзянку, отдававшуюся в позвоночнике, когда он открыл дверь в подъезд Эли и стал подниматься по лестнице. Может, они уже опечатали ее квартиру?
Пригласи меня войти.
Дверь была приоткрыта.
Если здесь побывала полиция, почему же они оставили дверь нараспашку? Так вроде не делают. Он тихонько взялся за ручку, потянул дверь на себя и проскользнул в прихожую. В квартире царил полумрак. Он обо что-то споткнулся. Пластиковая бутылка. Сначала он решил, что в ней кровь, но потом понял, что это спирт.
Дыхание.
Здесь кто-то дышал.
Двигался.
Звук доносился из ванной. Оскар двинулся вперед, осторожно ступая, закусил губу, чтобы унять стучащие зубы, и дрожь передалась в подбородок и горло, сводя судорогой намечающийся кадык. Он свернул за угол и заглянул в ванную.
Это не полиция.
Какой-то старик в поношенной одежде стоял на коленях возле ванны, свесившись через край вне поля зрения Оскара. Видны были только пара грязных серых штанов, стоптанные ботинки, упирающиеся носками в кафель. Край плаща.
Это же тот мужик!
Но он же… дышит.
Да. Хриплые вдохи и выдохи, почти вздохи доносились из глубины ванны. Даже не думая, Оскар подкрался поближе. Сантиметр за сантиметром он приближался к ванной и, подойдя почти вплотную, наконец увидел, что происходит.
Лакке никак не мог себя заставить это сделать.
Существо на дне ванны казалось совершенно беспомощным. Даже не дышало. Он положил руку ему на грудь и пришел к выводу, что сердце бьется, но делает всего пару ударов в минуту.
Он ожидал увидеть что-то устрашающее. Что-то одного порядка с ужасом, пережитым в больнице. Но это окровавленное бессильное создание вряд ли смогло бы встать, не то что причинить кому-то вред. Это же всего-навсего ребенок. Раненый ребенок.
Все равно что наблюдать, как рак пожирает любимого человека, а потом вдруг увидеть раковую клетку в микроскоп. Тьфу. Пустое место. Это?! И эта малость убила человека?!
Ты должен уничтожить мое сердце.
Он сник, уронив голову так, что она с глухим стуком ударилась о край ванны. Он не мог. Не мог убить ребенка. Спящего ребенка. Он на такое не был способен. В чем бы тот ни был повинен…
Поэтому он и выжил.
Оно. Оно. Не «он». Оно.
Оно набросилось на Виржинию, оно убило Юкке. Оно. Существо, лежащее перед ним. Существо, которое будет снова и снова убивать людей. А существо — это не человек. Оно ведь даже не дышит, а сердце бьется, как… как у зверя, впавшего в спячку.
Подумай о других.
Ядовитая змея в человеческом жилище. Неужели я не смогу ее убить лишь потому, что в эту секунду она кажется беззащитной?
И все же не это придало ему решимости, а нечто совсем другое — когда он снова взглянул на лицо, покрытое тонкой пленкой крови, ему показалось, что оно… улыбается.
Радуется совершенному злу.
Довольно!
Он занес нож над грудью чудовища, чуть отодвинулся назад, вкладывая всю силу в удар, и…
— А-А-А-А-А-А!
Оскар заорал что есть мочи.
Мужик не вздрогнул, но лишь застыл и, повернув голову к Оскару, медленно произнес:
— Я должен это сделать. Понимаешь?
Оскар его узнал — один из алкашей с его двора, они иногда здоровались.
Что он здесь делает?
Не важно. Главное, что у алкаша в руках был нож и его острие было направлено прямо в грудь Эли, обнаженным лежавшим на дне ванной.
— Не надо!
Алкаш задумчиво качнул головой из стороны в сторону, словно что-то разыскивая на полу.
— Надо…
Он обернулся к ванне. Оскару хотелось ему все объяснить. Что там, в ванне, лежит его друг, что он принес для него подарок, что это… это же Эли!
— Стойте!
Острие ножа упиралось в грудь Эли — еще немного, и оно вонзится в кожу. Оскар сам не понимал, что делает, когда запустил руку в карман куртки, вытащил кубик и протянул алкашу:
— Смотрите!
Лакке уловил краем глаза внезапное вторжение цвета в окружающую серость и черноту. Несмотря на решимость, облекавшую его, словно кокон, он не удержался и повернул голову, посмотреть, что это.
Кубик в руке пацана. Весь такой разноцветный.
В этой обстановке он смотрелся дико, нелепо. Как попугай среди ворон. Яркие цвета на какое-то мгновение загипнотизировали Лакке, но потом он снова повернулся к ванной и посмотрел на нож, приставленный к груди между ребер.
Осталось только… нажать…
Что-то изменилось.
Глаза существа были открыты.
Он напрягся, собираясь вонзить нож по самый черенок, когда висок вдруг взорвался болью.
Внутри кубика что-то треснуло, когда один угол врезался в голову мужика, и головоломка вылетела из рук Оскара. Мужик упал на бок, приземлившись на одну из канистр, которая откатилась в сторону, с барабанным грохотом ударившись о край ванной.
Эли сел.
Из дверного проема Оскар видел только его спину. Волосы облепили затылок, а спина представляла собой сплошную рану.
Алкаш попытался встать на ноги, но Эли не столько выпрыгнул, сколько выпал из ванной прямо ему на колени; ребенок, приползший к своему отцу за утешением. Эли обвил его шею руками и прижал к себе голову, словно для того, чтобы прошептать на ухо слова нежности.
Когда Эли вонзил зубы в его горло, Оскар попятился.
Эли сидел к нему спиной и не мог его видеть, но алкаш смотрел прямо на него, не сводя глаз, пока Оскар пятился по коридору.
Прости…
Не в силах вымолвить ни звука, Оскар произнес это слово одними губами, прежде чем спрятаться за углом, чтобы скрыться от этого взгляда.
Он стоял, вцепившись в ручку двери, когда алкаш вдруг закричал. И так же внезапно умолк, будто кто-то заткнул ему рот.
Оскар помедлил. Потом закрыл дверь. Запер ее.
Не глядя направо, он прошел по коридору в гостиную.
Сел в кресло.
Принялся напевать, чтобы заглушить звуки, доносившиеся из ванной.
Это мой единственный шанс
Высказать все, что я думаю.
Своего — впусти,
что мертво — зарой,
с кем не по пути —
не бери с собой.
Из радиопрограммы «Эхо», 16.45, понедельник, 9 ноября 1981 года.
В понедельник утром полицией был пойман так называемый «ритуальный убийца». В момент поимки разыскиваемый находился в подвале дома в районе Блакеберг западного округа Стокгольма. Бенгт Лэрн, уполномоченный представитель полицейского управления, ответил на вопросы:
— Да, полицией был произведен арест.
— Вы можете утверждать, что это именно тот человек, которого вы разыскиваете?
— С большой степенью вероятности. Однако ряд факторов усложняет окончательное опознание.
— Что это за факторы?
— К сожалению, в настоящее время я не могу обнародовать эту информацию.
После ареста подозреваемого поместили в больницу. Его состояние можно охарактеризовать как в высшей степени критическое.
Рядом с подозреваемым находился шестнадцатилетний подросток. Телесные повреждения при осмотре выявлены не были, но подросток пребывал в состоянии сильного шока, в связи с чем помещен в больницу для наблюдения.
В настоящее время полиция обследует указанный микрорайон, чтобы собрать максимально точные сведения о происшедшем.
Из диагностического заключения профессора хирургии Т. Хальберга, по поручению полиции.
Предварительное обследование затруднено… сокращение мышц спазматического характера… неустановленный возбудитель центральной нервной системы… деятельность сердца остановлена…
14.25 — мышечные спазмы прекращены. Вскрытие выявило неизвестные науке сильно деформированные внутренние органы.
…Подобно мертвому угрю, извивающемуся на сковородке… уникальный случай для человеческих тканей… Просьба оставить тело для дальнейших исследований. С уважением…
Из газеты «Веструрт», неделя 46.
КТО УБИЛ НАШИХ КОТОВ?
«От нее остался один ошейник». — Свеа Нурдстрем машет рукой в сторону заснеженного поля, где было найдено тело ее кошки вместе с еще девятью трупами питомцев жителей загородного поселка…
Из программы «Новости», понедельник, 9 ноября, 21.00.
Ранее сегодня вечером полиция проникла в квартиру, где, по некоторым сведениям, проживал так называемый «ритуальный убийца», пойманный сегодня утром.
Сведения поступили от жильцов, и благодаря им полиция смогла разыскать квартиру в Блакеберге, в пятидесяти метрах от места поимки преступника.
Наш репортер Фольке Альмарке передает с места происшествия:
— В эту минуту персонал «скорой помощи» выносит тело неизвестного мужчины, обнаруженное в квартире. Личность убитого пока не установлена. В остальном квартира оказалась пуста, хотя, судя по всему, в ней были найдены следы недавнего пребывания людей.
— Каковы действия полиции?
— Полиция весь день опрашивала жильцов дома, но принесло ли это какие-либо результаты, остается неизвестным.
— Спасибо, Фольке.
Сегодня его величество Карл Густав провел торжественное открытие моста Чернбрун, возведенного на шесть недель раньше назначенного срока.
Синие всполохи на потолке спальни.
Оскар лежит в своей постели, закинув руки за голову.
Под кроватью стоят две картонные коробки. В одной лежат деньги, куча денег, и две бутылки денатурата, в другой — головоломка.
Коробка с одеждой осталась в квартире.
Чтобы спрятать коробки, Оскар заслонил их настольным хоккеем. Завтра он отнесет их в подвал, если будут силы. Мама смотрит телевизор, кричит, что показывают их дом. Но ему достаточно выглянуть в окно, чтобы увидеть все то же самое, только с другой точки.
Коробки он еще засветло перебросил на свой балкон с балкона Эли, пока тот мылся. Когда он вышел из ванной, раны на спине зажили, а сам Эли был немного пьян от алкоголя в выпитой крови.
Они немного полежали, обнявшись. Оскар рассказал о том, что случилось в метро. Эли сказал:
— Прости. Это все из-за меня.
— Да нет. Уж лучше так.
Они замолчали. Надолго. Потом Эли осторожно спросил:
— А ты бы хотел… стать таким, как я?
— Нет. Быть с тобой — хочу, а так…
— Да, конечно. Я понимаю.
Когда сгустились сумерки, они наконец встали, оделись. Постояли, обнявшись, в гостиной, когда за дверью вдруг послышались звуки пилы. Кто-то спиливал замок.
Они выскочили на балкон, перепрыгнули через перила, довольно мягко приземлившись в кусты под окнами.
Из квартиры донеслось:
— Ах ты черт!
Они забились под балкон. Но рассиживаться не было времени.
Эли повернулся к Оскару, выговорил:
— Я…
Закрыл рот. Прижался губами к губам Оскара.
На какие-то несколько секунд мир представился Оскару глазами Эли. И он увидел… себя. Только гораздо лучше, красивее, сильнее, чем он сам о себе думал. Преображенного любовью.
На несколько секунд.
Голоса в соседней квартире.
Последнее, что Эли сделал, прежде чем они встали с кровати, — это снял со стены бумажку с азбукой Морзе. Теперь чужие сапоги громыхали в той комнате, где еще недавно Эли выстукивал ему послания.
Оскар приложил ладонь к стене:
— Эли…
Во вторник Оскар не пошел в школу. Лежа в своей постели, он прислушивался к звукам за стеной и раздумывал, не удастся ли им найти что-нибудь такое, что сможет навести полицию на его след. К вечеру звуки стихли, а к нему так никто и не постучал.
Тогда он встал, оделся и вошел в подъезд Эли. Дверь в квартиру была опечатана. Пока он стоял и смотрел на дверь, на лестнице появился полицейский. Но для него Оскар был всего лишь любопытным соседским мальчишкой.
Когда на улице стало темнеть, Оскар отнес коробки в подвал, накрыв их старым ковром, решив, что потом с ними разберется. Если к ним вдруг залезет вор, ему крупно повезет.
Оскар долго сидел в темноте подвала, думая об Эли, Томми, старике.
Эли все ему рассказал — он не хотел, чтобы так получилось.
Но Томми все-таки выжил. И скоро окончательно выздоровеет. Мать Томми сказала его маме, что завтра его выписывают.
Завтра.
Завтра Оскар опять пойдет в школу.
К Йонни, Томасу, ко всем остальным…
Придется опять его натаскивать.
Холодные жесткие пальцы Йонни, сжимающие его податливые щеки, насильно открывая рот.
А ну-ка повизжи!
Оскар сцепил ладони замком и положил на них подбородок, уставившись на небольшое возвышение под ковром. Затем встал, скинул ковер и открыл коробку с деньгами.
Тысячные бумажки, ворох мятых соток, несколько аккуратных стопок. Он покопался рукой в коробке, нащупал бутылку. Затем поднялся в квартиру и взял спички.
Одинокий прожектор отбрасывал холодный белый свет на школьный двор. Из сумрака за кругом света проступали контуры детской площадки. Столы для пинг-понга, настолько потрескавшиеся, что на них можно было играть только теннисными мячами, облепила слякоть.
Пара окон еще светилась. Вечерние курсы. Ради них боковые двери были открыты.
Он пробрался по темным коридорам в свой класс. Немного постоял, глядя на парты. Сейчас, вечером, помещение класса казалось каким-то неправдоподобным — будто призраки, беззвучно шепча, проводили здесь свои занятия.
Он подошел к парте Йонни, поднял крышку и облил содержимое спиртом. Потом проделал то же самое с партой Томаса. Немного постоял перед партой Микке. Решил, что не надо. Затем подошел к своей парте, сел, дожидаясь, пока спирт как следует впитается, как делают с углем.
Я призрак! Бу-у-у! Бу-у-у!
Он открыл крышку парты, вытащил номер «Воспламеняющей взглядом», улыбнулся названию и пихнул его в сумку. Тетрадка, в которой он написал понравившийся ему рассказ. Любимая ручка. Все в сумку. Потом встал, прошелся между рядов, наслаждаясь тем, что спокойно ходит по классу и никто его не трогает.
Когда он снова открыл крышку парты Йонни, в нос ударил химический запах. Он взял спички.
Нет, погоди!..
Он взял с полки в конце класса две грубые деревянные линейки, одной подпер крышку парты Йонни, другой — Томаса, чтобы иметь возможность в любой момент потушить огонь.
Два голодных ящера, разинувших пасти. Два дракона.
Он зажег спичку, прикрыл ладонью, дожидаясь, пока пламя станет ровным и ясным. Бросил ее.
Она упала — желтая точка, отделившаяся от его пальцев, и —
ПУФ-Ф!
Черт, ничего себе!
В глазах защипало, когда багровый хвост кометы взметнулся из открытой парты, лизнув его лицо. Оскар отскочил назад — он-то думал, что она загорится, как… уголь в филе, а вместо этого из нее поднимался сплошной столп пламени до самого потолка.
Огонь был слишком сильным.
На стенах трепетали блики, и бумажная гирлянда из алфавита, висевшая над партой Йонни, оборвалась и упала с полыхающими буквами «П» и «К». Вторая половина гирлянды прочертила широкую дугу, роняя пламя на парту Томаса, которая мгновенно вспыхнула с тем же —
ПУФ-Ф! —
глухим звуком, и Оскар вылетел из класса с сумкой, колотящейся о бедро.
Что если теперь вся школа…
Когда он добежал до конца коридора, врубился звонок. Металлический звон наполнил здание, и, только одолев несколько ступенек, он понял, что это пожарная сигнализация.
Во дворе резкий вой созывал отсутствующих учеников, тревожа покой школьных призраков и преследуя Оскара половину его пути домой.
Лишь дойдя до универсама, куда не доносились звуки сирены, он расслабился и спокойно пошел дальше.
Дома в ванной он заметил, что кончики ресниц у него закрутились спиралью, опаленные огнем. Он провел по ним пальцем, и они осыпались.
Он снова остался дома, сославшись на головную боль. Около девяти зазвонил телефон. Он не ответил. В середине дня он увидел за окном Томми, бредущего по двору со своей матерью. Он шел ссутулившись, едва переставляя ноги. Как старик. Когда они оказались напротив его окна, Оскар пригнулся, спрятавшись за подоконником.
Телефон звонил каждый час. В конце концов около двенадцати он снял трубку.
— Оскар.
— Здравствуй, это Бертиль Сванберг, я, как ты, наверное, знаешь, директор школы…
Он положил трубку. Телефон снова зазвонил. Он немного постоял, глядя на аппарат и представляя, как директор школы, в своем клетчатом пиджаке, барабанит пальцами по столу и строит гримасы. Потом оделся и спустился в подвал.
Он сел, достал белую деревянную коробку с головоломкой, где сверкали и переливались тысячи крошечных осколков стеклянного яйца, принялся перебирать их пальцами. Эли взял с собой только несколько тысячных бумажек и кубик. Оскар закрыл коробку с головоломкой, открыл вторую и запустил руку в шуршащие банкноты. Набрал пригоршню, швырнул на пол. Набил деньгами карманы. Принялся вытаскивать по одной, изображая из себя Мальчика Золотые Штаны, пока ему не надоело. Двенадцать мятых бумажек по тысяче крон и семь сотенных валялись у его ног.
Он собрал в стопку тысячные купюры, аккуратно согнул пополам. Остальные вернул на место, закрыл коробку. Поднялся в квартиру, отыскал белый конверт, вложил в него стопку денег. Посидел с конвертом в руках, раздумывая, как лучше поступить. Писать от руки он не хотел — кто-нибудь мог узнать его почерк.
Зазвонил телефон.
Да хватит уже! Нет меня. Непонятно, что ли?!
Кто-то очень хотел с ним поговорить. Спросить, понимает ли он, что наделал. Он все прекрасно понимал. Йонни и Томас тоже наверняка все понимали. Еще как понимали. Можно было не сомневаться.
Он подошел к своему столу, вытащил трафарет с переводными буквами. Посреди конверта он наклеил букву «Т», затем «О». Первая «М» вышла кривовато, зато вторая получилась ровной. Как и «И».
Открывая дверь в подъезд, он боялся больше, чем вчера в школе. Осторожно, с колотящимся сердцем он просунул конверт в почтовый ящик Томми так, чтобы никто не услышал и не подошел к двери или не увидел его в окно.
Но никто не шел, и, когда Оскар вернулся к себе, ему стало немного легче. Ненадолго. Потом к нему снова подкралось то странное чувство.
Мне здесь не место.
В три часа пришла мама, на несколько часов раньше, чем обычно. Оскар сидел в гостиной и слушал «Викингов». Она вошла в комнату, подняла головку проигрывателя и остановила пластинку. По ее лицу он догадался, что она обо всем знает.
— Как ты?
— Так себе.
— Понятно…
Он вздохнула, села на диван.
— Мне звонил директор школы. На работу. Он рассказал, что в школе вчера был пожар.
— Да? И что, она сгорела?
— Нет, но…
Мама закрыла рот, на несколько секунд уставилась в ковер. Потом подняла голову, и глаза их встретились.
— Оскар. Это ты сделал?
Он посмотрел на нее в упор и ответил:
— Нет.
Пауза.
— Да? В классе, конечно, много что сгорело, но пожар начался с парт Йонни и Томаса.
— Мм.
— И они, похоже, совершенно уверены, что… что это был ты.
— Но это был не я.
Мама сидела не двигаясь, вдыхая воздух через нос. Их разделял всего один метр. Бесконечное расстояние.
— Они хотят с тобой поговорить.
— А я не хочу с ними разговаривать.
Вечер обещал быть долгим. По телевизору не шло ничего хорошего.
Ночью Оскар никак не мог заснуть. Он встал с постели, на цыпочках пробрался к окну. Ему показалось, что он различил какую-то тень на детской площадке, но это была лишь игра воображения. Тем не менее он продолжал разглядывать тень внизу, пока веки не отяжелели.
И все равно, когда он лег в кровать, ему не спалось. Он тихонько постучал в стену. Тишина. Только сухое постукивание кончиков его пальцев и костяшек о бетон, как стук в дверь, закрытую навсегда.
Утром его стошнило, и он опять остался дома. Несмотря на то что он спал всего несколько часов, отдых не шел. Гнетущая тревога заставляла его наматывать круги по квартире. Он брал в руки предметы, разглядывал их, ставил на место.
Не оставляло ощущение, что ему надо что-то сделать. Что-то совершенно необходимое. Только он не знал, что именно.
Сначала он решил, что сделал это, когда поджег парты Йонни и Томаса. Потом — когда подкинул деньги Томми. Но каждый раз оказывалось, что это не то. Нужно что-то другое.
Будто грандиозное театральное представление подошло к концу, и теперь он ходит по огромной темной сцене, выметая оставшийся мусор. Хотя у него осталось важное дело.
Но какое?
В одиннадцать принесли почту — одно-единственное письмо. Когда он его поднял и перевернул, сердце в груди сделало кульбит.
Маме. В правом верхнем углу стоял штамп «Администрация школы Седра Энгбю». Не вскрывая конверт, Оскар порвал его на мелкие кусочки и спустил в унитаз. И тут же пожалел. Но было поздно. Ему было наплевать на содержание письма, просто, вмешиваясь, он только все усложнял.
Но все это не имело никакого значения.
Он разделся, накинул на плечи халат. Постоял перед зеркалом, изучая свое отражение. Представил, что это кто-то другой. Наклонился, чтобы поцеловать зеркало. В ту секунду, как его губы коснулись холодного стекла, зазвонил телефон. Не подумав, он поднял трубку:
— Да?
— Оскар?
— Да.
— Это Фернандо.
— Кто?
— Ну, Авила. Учитель Авила.
— А-а-а. Здравствуйте.
— Я только хотел узнать: ты сегодня придешь на тренировку?
— Я… немного приболел.
На том конце стало тихо. Оскар слышал дыхание физрука. Раз. Два. И затем:
— Оскар. Делал ты. Или не делал. Мне все равно. Если хочешь говорить — мы говорим. Не хочешь говорить — не будем. Но я хочу, чтобы ты пришел.
— Почему?
— Потому что, Оскар, ты не можешь сидеть, как caracol… Как это будет? Улитка. В своей скорлупе. Если ты еще не болен, станешь болен. Ты болен?
— Да.
— Тогда тебе нужна тренировка. Ты сегодня придешь.
— А как же остальные?
— Остальные? Что остальные? Начнут глупости, я скажу «бу!», они перестанут. Но они глупости не делать, это тренировка.
Оскар не ответил.
— О'кей? Ты придешь?
— Да.
— Хорошо. До встречи.
Оскар положил трубку, и вокруг снова воцарилась тишина. Он не хотел идти ни на какую тренировку. Но встретиться с физруком был не прочь. Может, прийти пораньше — в надежде его застать? А потом сразу уйти?
Вряд ли физрук его отпустит, но все же…
Он сделал пару кругов по квартире. Сложил форму в мешок, чтобы хоть чем-то себя занять. Хорошо еще, что он не стал поджигать парту Микке, — тот мог запросто явиться на тренировку. Правда, его вещи все равно наверняка пострадали, поскольку он сидит рядом с Йонни. Интересно, много всего сгорело?
Кого бы спросить…
Около трех снова зазвонил телефон. Оскар поколебался, но после той искры надежды, которая вспыхнула в нем при виде конверта, он не смог удержаться и поднял трубку:
— Оскар.
— Здорово, это Юхан.
— Привет.
— Как оно?
— Так себе.
— Пошли гулять сегодня вечером?
— Хм… во сколько?
— Ну… часиков в семь
— Не, я на тренировку.
— А, ну ладно. Жаль. Пока.
— Юхан?
— Что?
— Я… слышал, у вас там был пожар? Ну, в классе. И что, много сгорело?
— Да нет, несколько парт.
— И все?
— Ага. Ну, бумаги там всякие.
— Понятно.
— Твоя парта цела.
— А, ну хорошо.
— Ладно, пока.
— Пока.
Оскар положил трубку с каким-то гложущим чувством в животе. Он думал, все знают, что это он. А Юхан разговаривал с ним как ни в чем не бывало. К тому же мама говорила, что сгорел чуть ли не весь класс. Правда, она могла и преувеличить.
Оскар решил, что если кому и верить, то Юхану. По крайней мере, он все видел собственными глазами.
*
— Тьфу!
Юхан положил трубку, растерянно огляделся. Джимми покачал головой и выдул дым в окно спальни брата.
— Врать — и то не умеешь. Юхан жалобно ответил:
— Думаешь, это просто?
Джимми обернулся к Йонни, сидевшему на своей кровати, теребя кисточку покрывала.
— Че там? Полкласса выгорело?
Йонни кивнул:
— Его теперь все ненавидят.
— Ну а ты что нес?.. — Джимми снова повернулся к Юхану. — Как там сказал? «Бумаги всякие». И че, думаешь, он на это поведется?
Юхан пристыжено опустил голову:
— Я не знал, что сказать. Боялся, он что-то заподозрит, если я…
— Ладно, не бзди. Дело сделано. Теперь будем надеяться, что он придет.
Юхан переводил взгляд с одного на другого. Глаза братьев были пусты в предвкушении предстоящего вечера.
— Что вы собираетесь с ним сделать?
Джимми наклонился вперед на стуле, стряхнул с рукава случайно упавший пепел и медленно сказал:
— Он. Сжег. Все, что у нас оставалось от нашего отца. Так что вряд ли нам стоит посвящать тебя в подробности того, что мы с ним собираемся сделать. Правда?
*
Мама пришла в половине шестого. Вчерашняя ложь и недоверие все еще висели между ними холодным туманом. Мама сразу прошла в кухню и начала громыхать посудой. Оскар закрыл свою дверь, лег на кровать и уставился в потолок.
Он мог бы выйти на улицу. Во двор. В подвал. На площадь. Покататься на метро. Но не было такого места, где бы он… эх.
Он услышал, как мама подошла к телефону, набрала длинный номер. Небось папе звонит.
Оскар немного мерз.
Он натянул на себя одеяло, сел, прижавшись затылком к стене и прислушался к разговору родителей. Если бы только он мог поговорить с отцом! Но и этого он не мог. Разговоры у них никогда не складывались.
Оскар завернулся в одеяло. Вообразил себя индейским вождем, невозмутимо взирающим на мир, в то время как голос мамы становился все громче. Вскоре она уже орала, и предводитель индейцев упал на кровать, натянув на голову одеяло и заткнув уши руками.
Как же тихо в голове! Прямо космос.
Он представил, что полосы, цвета и точки, плывшие перед глазами, — это планеты и далекие солнечные системы, просторы которых он бороздит. Он сел на комету, немного полетал, спрыгнул и принялся парить в невесомости, пока с него не сдернули одеяло и ему не пришлось открыть глаза.
Над ним стояла мама. Искривленные негодованием губы. Голос — прерывистое стаккато. Она произнесла:
— Что ж, папа мне все рассказал. Про то, как он… В субботу… Что… И где же ты шлялся? А? Где ты был? Ты можешь мне ответить?
Она снова дернула за край одеяла у самого его лица. Ее шея покраснела от напряжения.
— Больше ты туда не поедешь. Никогда. Слышишь? Почему ты мне ничего не сказал? Нет, ну надо же… Вот мерзавец! Таким вообще нельзя иметь детей! Он тебя больше не увидит. Пусть сидит и нажирается сколько влезет. Слышишь? Он нам не нужен. Я…
Развернувшись, мама вышла, хлопнув дверью так, что стены затряслись. Оскар слышал, как она стала набирать тот же длинный номер, чертыхнулась, видимо пропустив цифру, и начала по новой. Через несколько секунд она снова принялась орать.
Оскар выбрался из-под одеяла, взял мешок с формой и вышел в коридор, где мама с таким жаром кричала на папу, что даже не заметила, как он напялил ботинки и, не завязав шнурки, направился к двери.
Она его окликнула, когда он уже был на лестничной площадке:
— Эй! Ты куда?
Оскар захлопнул дверь и побежал вниз по лестнице и дальше, к бассейну, шлепая болтающимися на ногах ботинками.
*
— Рогер, Преббе…
Джимми указал пластмассовой вилкой на пацанов, вышедших из метро. Порция салата из креветок, которую Йонни только что отправил в рот, застряла у него в горле, и ему пришлось лишний раз сглотнуть, чтобы не подавиться. Он вопросительно взглянул на своего брата, но внимание Джимми было обращено на двух парней, которые подвалили к киоску с хот-догами и обменялись приветствиями.
Рогер был худой, с длинными нечесаными волосами и в кожаной куртке. Его лицо было испещрено сотней крошечных кратеров, а кожа так плотно обтягивала череп, будто села при стирке. Глаза на этом лице казались неестественно большими.
На Преббе была джинсовая куртка с отрезанными рукавами, а под ней футболка, хотя на улице было всего пара градусов выше нуля. Здоровенный бык. Внушительные формы, короткий ежик. Пехотинец, потерявший форму.
Джимми что-то им сказал, кивнул, и они двинули в сторону трансформаторной будки над туннелем. Йонни прошептал:
— А зачем они здесь?
— Нам помочь, понятное дело.
— А нам что, нужна помощь?
Джимми усмехнулся и покачал головой, будто удивляясь наивности Йонни:
— А с физруком, по-твоему, как быть?
— С Авилой?
— Ну да. Думаешь, он будет просто стоять и смотреть, как мы туда вваливаемся и…
На это Йонни нечего было ответить, и он молча последовал за братом за небольшой кирпичный домик.
Рогер и Преббе топтались в тени, засунув руки в карманы. Джимми достал серебряный портсигар, открыл и протянул приятелям.
Рогер внимательно изучил шесть самокруток, лежавших в портсигаре, и со словами «О, готовые, ништяк» взял себе самую толстую и зажал ее между двумя тонкими пальцами.
Преббе поморщился, отчего стал похож на старикашек из «Маппет-шоу».
— В лежалых кайфа нет.
Джимми пододвинул портсигар ближе, ответил:
— Хорош ломаться, как целка. Я их час назад забил. Это тебе не марокканское говно, которое ты куришь. Мощняк!
Преббе запыхтел и взял самокрутку, прикурив от Рогера.
Йонни посмотрел на своего брата. Лицо Джимми резким силуэтом выделялось на фоне освещенного перрона метро. Йонни им восхищался, размышляя, сможет ли он сам когда-нибудь стать настолько крутым, чтобы говорить так Преббе: «Ломаешься, как целка».
Джимми тоже взял одну, прикурил. Скрученная папиросная бумага затлела. Он сделал глубокую затяжку, и Йонни окружил сладковатый запах, которым вечно пахла одежда брата.
Они немного покурили в тишине. Потом Рогер предложил косяк Йонни:
— Дунешь?
Йонни уже протянул было руку, но Джимми стукнул Рогера по плечу:
— Идиот. Хочешь, чтобы он таким, как ты, вырос?
— А что, было бы неплохо.
— Для тебя, может, неплохо. А для него — плохо.
Рогер пожал плечами и убрал косяк.
Когда они докурили, часы показывали половину седьмого. Джимми заговорил, нарочито артикулируя, будто каждое слово, выходившее из его рта, было сложным архитектурным сооружением.
— Короче. Это Йонни. Мой братан.
Рогер и Преббе понимающе кивнули. Джимми неловким движением взял Йонни за подбородок, повернув лицо в профиль к приятелям.
— Видали ухо? Тот ублюдок постарался. С которым мы сегодня побеседуем.
Рогер подошел, изучил ухо Йонни, причмокнул губами:
— Да, нехило он тебя.
— Экспертные мнения оставить при себе. Лучше слушайте сюда. Значит, так…
*
Решетка в коридоре между кирпичных стен была открыта. «Топ-топ» — выстукивали ботинки Оскара по полу, пока он шел ко входу в бассейн. Когда он открыл дверь, влажное тепло окутало его лицо и облако пара вырвалось в выстуженный коридор. Он поспешно вошел и закрыл дверь за собой.
Скинув ботинки, он прошел в раздевалку. Пусто. Из душевой доносились плеск воды и чей-то бас:
Besame, besame mucho.
Como si fuera esta noche la ultima vez…
Физрук. He снимая куртки, Оскар уселся на ближайшую скамью и принялся ждать. Вскоре пение и плеск прекратились, и физрук вышел из душевой кабины, обернув полотенце вокруг бедер. Грудь его оказалась заросшей черными кучерявыми волосами с легкой проседью. Оскару подумалось, что он выглядит как пришелец с другой планеты. Увидев его, Авила расплылся в широкой улыбке:
— Оскар! Значит, вылез из скорлупы!
Оскар кивнул.
— Там стало как-то… тесно.
Физрук засмеялся, почесал грудь — пальцы его исчезли в зарослях волос.
— Ты рано.
— Да, я хотел…
Оскар пожал плечами. Физрук перестал чесаться.
— Что хотел?
— Не знаю…
— Поговорить?
— Нет, я просто…
— А ну, покажись.
Физрук быстро подошел к Оскару, внимательно посмотрел ему в лицо, кивнул:
— Ага. О'кей.
— Что?
— Это был ты, — физрук указал пальцем на свои глаза, — я вижу. Бровницы горелые. Нет, как там их? Рес…
— Ресницы?
— Точно, ресницы! И тут, на волосах. Хм. Если не хочешь, чтобы кто-то знал, надо подстричь. Рес… ницы быстро растут. Понедельник — и все. Бензин?
— Денатурат.
Физрук негромко присвистнул и покачал головой:
— Очень опасно. Наверное, — физрук покрутил пальцем у его виска, — ты немножко сумасшедший. Не очень много. Чуть-чуть. Почему денатурат?
— Я… его нашел.
— Нашел? Где?
Оскар посмотрел в лицо учителя. Влажная глыба доброжелательности. И ему захотелось все рассказать. Все, от начала до конца. Он только не знал, с чего начать. Немного подождав, физрук сказал:
— Играть с огнем очень опасно. Может стать привычкой. Это нехороший метод. Гораздо лучше тренировка.
Оскар кивнул, и желание пропало. Физрук был свой человек, но он бы все равно не понял.
— Теперь переодевайся, и я покажу несколько приемов со штангой. О'кей?
Физрук повернулся, направляясь к спасательной будке. У дверей он остановился:
— И, Оскар… Ты не беспокоиться. Я никому не сказать, если ты не хочешь. Хорошо? После тренировки еще говорим.
Оскар переоделся. Когда он был готов, вошли Патрик и Хассе, два парня из шестого «А». Они поздоровались, но Оскару показалось, что они как-то уж слишком пристально на него смотрели, а когда он вышел в зал, тут же начали перешептываться за его спиной.
Оскар почувствовал себя несчастным. Он уже пожалел, что пришел. Но вскоре появился физрук, переодетый в футболку и шорты, и показал, как лучше держать штангу, фиксируя ее кончиками пальцев, и Оскар поднял целых двадцать восемь кило — на два килограмма больше, чем в прошлый раз. Физрук записал новый рекорд в свой журнал.
Вскоре появились остальные, в том числе Микке. Он улыбнулся своей многозначительной улыбкой, по которой сложно было понять: то ли он вот-вот вручит тебе подарок, то ли сделает какую-нибудь пакость.
Последнее предположение оказалось куда более верным, хотя Микке и сам еще не понимал, до какой степени.
По дороге на тренировку его нагнал Йонни, попросив сделать одну вещь и объяснив, что собирается подшутить над Оскаром. Микке согласился — пошутить он любил. К тому же во вторник у Микке сгорела целая коллекция карточек с хоккеистами, так что немного поразвлечься за счет Оскара он был не прочь.
Пока же он еще улыбался.
*
Тренировка шла своим чередом. Оскару казалось, что на него как-то странно смотрят, но стоило ему попытаться поймать чей-нибудь взгляд, как все тут же отворачивались. Больше всего ему хотелось вернуться домой.
…Не хочу…
Надо просто встать и уйти.
Но физрук все маячил возле него, то и дело подбадривая, и улизнуть никак не получалось. К тому же здесь было все-таки лучше, чем дома.
К концу тренировки Оскар так устал, что сил не осталось даже на расстройство. Он зашел в душевую, чуть отстав от других, и принялся мыться, повернувшись спиной к раздевалке. Не то чтобы это имело значение — все равно моешься голым, но…
Он немного постоял у стеклянной перегородки между душевой и бассейном, протерев ладонью окошечко в запотевшем стекле, наблюдая, как другие скачут вокруг бассейна, бегают друг за другом, перекидываются мячами. И снова его охватило то самое чувство. Даже не мысль, облеченная в слова, а нахлынувшее ощущение:
Я одинок. Я так одинок.
Тут физрук увидел его и замахал руками, приглашая искупаться. Оскар спустился по ступенькам и подошел к краю бассейна с химически-голубой водой. Прыгать ему не хотелось, так что он медленно, шаг за шагом, спустился по лесенке и погрузился в довольно холодную воду.
Микке, сидевший на краю бассейна, улыбнулся и кивнул ему. Оскар отплыл в сторону, поближе к физруку.
— Эй!
Он заметил летящий в него мяч на полсекунды позже, чем было нужно. Мяч шлепнулся в воду прямо перед ним, окатив его брызгами хлорированной воды. Глаза защипало, как от слез, и он принялся их тереть. Когда он поднял голову, перед ним стоял физрук, глядя на него с… состраданием?
Или презрением?
Может, ему показалось, но он отшвырнул в сторону мяч, качавшийся прямо перед его носом, и нырнул. Голова ушла под воду, волосы защекотали уши. Он вытянул руки, застыл, покачиваясь, на поверхности и представил, что умер.
Что теперь он так и будет качаться до бесконечности.
Что ему больше никогда не придется вставать и встречаться взглядом с теми, кто, по большому счету, желал ему только зла. Или что он сейчас поднимет голову — а мир исчез. И остался только он и необозримые водные просторы.
Но, погрузившись под воду, он различал приглушенный гул окружающего мира, и, когда поднял голову, мир, конечно же, оказался на месте — звонкий, орущий.
Микке исчез, а остальные играли в волейбол. Белый мяч летал в воздухе, выделяясь на фоне черных окон. Оскар отплыл к дальнему краю, на глубину, погрузившись в воду по самый нос, и принялся наблюдать за игрой.
Микке быстро вышел из душевой в противоположном конце бассейна и крикнул:
— Учителя к телефону!
Что-то пробормотав, физрук прошлепал вдоль бассейна к выходу. Кивнув Микке, он пошел в душевую. Последнее, что Оскар увидел, — это расплывчатый контур за запотевшим стеклом, и физрук исчез из виду.
Как только Микке вышел из душевой, они заняли свои позиции.
Йонни и Джимми проскользнули в тренажерный зал, Рогер и Преббе встали, прижавшись к стене возле входной двери. Услышав, как Микке позвал физрука, они встали на изготовку.
Негромкие шаги босых ног приблизились, миновав тренажерный зал. Несколько секунд спустя физрук Авила вошел в раздевалку и направился в кабинет. Преббе намотал на руку носок, набитый медяками, чтобы удобнее было бить. Как только физрук вошел, очутившись к нему спиной, Преббе выскочил и со всей силы ударил его по затылку.
Преббе не отличался ловкостью: физрук, похоже, что-то услышал и повернул голову так, что удар пришелся прямо над ухом. Тем не менее желаемый результат был достигнут. Авила рухнул, ударился головой о дверной косяк и застыл на полу.
Преббе уселся ему на грудь, зажав в ладони мешочек с монетами, чтобы в случае необходимости нанести еще один удар. Но необходимости, похоже, не было. Руки физрука чуть подрагивали, но он не оказывал ни малейшего сопротивления. За жизнь его Преббе не опасался. С виду вроде живой.
Подошел Рогер и склонился над распростертым телом, будто ничего подобного раньше не видел.
— Он что, турок?
— Да черт его знает. Вытаскивай ключи.
Пока Рогер выуживал связку ключей из кармана шорт Авилы, он увидел, как Йонни с Джимми вышли из качалки и направились в бассейн. Он вытащил связку и, косясь на физрука, начал подбирать ключ к замку от кабинета.
— Волосатый, как обезьяна. Сто пудов турок.
— Ладно, давай скорей.
Рогер вздохнул, продолжая искать нужный ключ:
— Для тебя же стараюсь. Чтоб тебя потом угрызения совести не мучили…
— Да мне по фиг!.. Давай скорей.
Рогер наконец подобрал нужный ключ и открыл дверь. Прежде чем войти, он кивнул на физрука и сказал:
— Может, слезешь? Он же задохнется.
Преббе слез с его груди и сел рядом со своим самодельным кастетом на изготовку, на случай если Авила вдруг что-нибудь выкинет.
Рогер обыскал карманы куртки, висевшей в кабинете, и обнаружил кошелек с тремя сотнями. В жестяной коробке на столе, где после недолгих поисков он нашел ключ, лежали десять книжечек с билетами на метро. Их он тоже положил в карман.
Да, негусто. Но ведь они здесь не ради наживы, а по дружбе.
Оскар все еще стоял в углу бассейна, пуская пузыри, когда в зал вошли Йонни с Джимми. Первой его реакцией был не страх, а негодование.
Они же в верхней одежде!
Даже ботинки не сняли, а ведь физрук всегда так тщательно следил…
Когда Джимми встал у края бассейна и оглядел зал, пришел страх. Оскар пару раз мельком встречался с Джимми, и он ему еще тогда не понравился. Теперь же было что-то в его глазах, в том, как он поворачивал голову…
Как Томми с пацанами, когда они…
Взгляд Джимми отыскал его, и Оскар, стуча зубами от страха, почувствовал себя совершенно голым. Джимми был одет, закован в броню. Оскар сидел в холодной воде, и каждый сантиметр его кожи был обнажен. Джимми кивнул Йонни, махнул рукой, и они двинулись к Оскару, каждый со своей стороны бассейна. Пока они шли, Джимми крикнул остальным:
— А ну валите отсюда! Пошли вон!
Остальные застыли или нерешительно перебирали ногами в воде. Джимми встал на краю бассейна, вытащил из кармана куртки нож, выкинул лезвие и наставил его на стайку мальчишек. Ткнул ножом в противоположную сторону бассейна.
Оскар сидел, забившись в угол и трясясь от холода, и смотрел, как другие мальчишки торопливо плыли или брели к противоположному краю бассейна, оставив его одного в воде.
Физрук… Ну где же он…
Чья-то рука вцепилась ему в волосы. Пальцы сомкнулись железной хваткой, так что заныли корни волос, и голова запрокинулась в самый угол. Над ним раздался голос Йонни.
— Вот это — мой брат, понял, гаденыш?
Он пару раз стукнул Оскара головой о край бассейна, так что вода заплескалась в ушах. Джимми подошел и присел перед ним с ножом в руках:
— Здорово, Оскар.
Захлебнувшись холодной водой, Оскар закашлялся, мелко вздрагивая. Каждое движение острой болью отдавалась в корнях волос, — пальцы Йонни сжимали их все крепче. Когда он прокашлялся, Джимми постучал лезвием ножа по кафелю пола:
— Слышь, я вот что решил. Мы, пожалуй, устроим небольшое соревнование. Сиди, не рыпайся.
Лезвие блеснуло у самого лба Оскара, когда Джимми передал нож Йонни и схватил его за волосы, сменив брата. Оскар боялся пошевелиться. Он на несколько секунд успел заглянуть в глаза Джимми и увидел в них… безумие. Столько ненависти, что страшно смотреть.
Голова его прижималась к углу бассейна. Руки бессильно болтались в воде. Ухватиться было не за что. Он поискал глазами остальных. Они толпились в торце помещения. Микке стоял дальше всех с той же самой ухмылкой, полной ожидания. Остальные выглядели не на шутку испуганными.
Ждать помощи было неоткуда.
— Значит, так… все просто. Правила элементарны. Ты остаешься под водой… скажем, пять минут. Справишься — отделаешься царапиной на щеке ну или еще где. Так, на память. Не справишься — я тебе выколю глаз. Усвоил?
Оскар высунул рот из воды. Отфыркиваясь и заикаясь, он произнес:
— Но это же… невозможно.
Джимми потрепал его по волосам.
— А это твои проблемы. Видишь те часы? Через двадцать секунд начинаем. Пять минут — или глаз. Так что давай дыши напоследок. Десять… девять… восемь… семь…
Оскар попытался оттолкнуться ногами, но ему приходилось стоять на цыпочках, чтобы не уйти под воду с головой, а рука Джимми крепко держала его за волосы, исключая возможность маневров.
Попытаться вырваться? Пять минут…
Когда он раньше ради шутки пробовал задержать дыхание под водой, у него выходило максимум три. Да и то с натяжкой.
— Шесть… пять… четыре… три…
Физрук. Наверняка он придет, прежде чем…
— Два… один… ноль!
Оскар успел схватить ртом лишь немного воздуха, прежде чем его голова ушла под воду. Он поскользнулся, и нижняя часть туловища стала всплывать на поверхность, так что подбородок оказался прижатым к груди в нескольких сантиметрах под водой. Голову его щипало от хлорки, обжигавшей лопнувшую кожу у корней волос.
Не прошло и минуты, как его охватила паника.
Он вытаращил глаза, но его окружала лишь голубизна. Стоило ему затрепыхаться в отчаянной попытке вырваться, как перед лицом начинала клубиться дымчатая розовая пелена. Без опоры любое сопротивление было бесполезным. Его ноги засучили по поверхности воды, и голубизна перед глазами всколыхнулась, переливаясь волнами света.
Изо рта вырвались пузыри, он раскинул руки в стороны, запрокинувшись на спину. Взгляд приковал холодный белый свет чуть покачивающихся ламп на потолке. Сердце стучало, как рука о стекло, и, когда он случайно хлебнул носом воды, по телу вдруг стало разливаться какое-то странное спокойствие. Но сердце стучало все сильнее, настойчивее, оно хотело жить, и он снова отчаянно забился, безуспешно ища, за что бы ухватиться.
Он почувствовал, как голова глубже уходит под воду и, как ни странно, подумал: «Уж лучше так. Чем глаз».
Через две минуты Микке всерьез задергался.
Они что, в самом деле решили?.. Он оглянулся на других пацанов, но никто из них явно не собирался вмешиваться, а сам он только сдавленно произнес:
— Йонни, да вы че…
Но Йонни, казалось, его не слышал. Он застыл на коленях у края бассейна, направив острие ножа в сторону воды, на расплывчатый белый силуэт, барахтавшийся в глубине.
Микке оглянулся на душевую. Блин, куда физрук-то подевался? Микке отошел в угол, к темной застекленной двери, ведущей в ночь, и скрестил руки на груди.
Краем глаза он заметил, как что-то упало с крыши. Кто-то принялся колотить в стеклянную дверь так, что та чуть не слетела с петель.
Встав на цыпочки, он выглянул в верхнее окно из обычного стекла и увидел маленькую девочку. Девочка подняла голову, посмотрев ему в лицо:
— Скажи: «Войди!»
— Ч-чего?..
Микке оглянулся посмотреть, что происходит в бассейне. Тело Оскара больше не дергалось, но Джимми все еще стоял, склонившись над бассейном, удерживая его голову под водой. Микке с усилием сглотнул.
Что угодно. Лишь бы это закончилось.
Девчонка опять заколотила рукой в стекло, на этот раз еще сильнее. Он вгляделся в темноту. Когда она открыла рот, обращаясь к нему, он заметил, что у нее что-то странное с зубами… И с руками…
— Скажи, что мне можно войти!
Будь что будет.
Микке кивнул, почти неслышно произнес:
— Ты можешь войти.
Девчонка отошла от двери и скрылась во тьме — на руках что-то сверкнуло, и она исчезла. Микке снова повернулся к бассейну. Джимми вытащил Оскара за голову из воды, забрал у Йонни нож, поднес к лицу Оскара, примерился.
Что-то блеснуло в окне посредине зала, и миллисекунду спустя оно разлетелось вдребезги.
Противоударное стекло разбилось не как обычное. Оно взорвалось тысячей крошечных круглых осколков, которые обрушились на край бассейна, разлетевшись по всему залу, переливаясь в воде, как мириады белых звезд.
Пятница, тринадцатое…
Гуннар Холмберг сидел в пустом кабинете директора, пытаясь разобраться в своих записях.
Он целый день провел в школе Блакеберга, осматривая место происшествия и беседуя с учениками. Два криминалиста из центра и один эксперт по анализу крови из судебно-медицинской лаборатории все еще работали в бассейне.
Вчера вечером там были убиты два подростка. А третий… бесследно исчез.
Он даже успел поговорить с Мари-Луиз, классной руководительницей, выяснив, что пропавший мальчик, Оскар Эрикссон, — тот самый ученик, поднявший руку на его лекции о героине три недели назад.
Ну, много читаю…
А еще он вспомнил, что рассчитывал первым увидеть его у полицейской машины. Он бы его прокатил. Чтобы слегка поднять его самооценку. Но мальчик так и не появился.
А сейчас он пропал.
Гуннар просмотрел записи бесед с мальчишками, которые вчера были в бассейне. Их показания были более или менее единодушны, и одно и то же слово повторялось из раза в раз: ангел.
Оскара Эрикссона унес ангел.
Тот же ангел, который, согласно показаниям свидетелей, оторвал голову Йонни и Джимми Форсбергам, оставив их покоиться на дне бассейна.
Когда Гуннар рассказал об этом криминальному фотографу, при помощи подводной камеры снявшему головы на дне, тот ответил:
— В таком случае, вряд ли это ангел с небес.
Да уж…
Он посмотрел в окно, пытаясь найти разумное объяснение.
Во дворе полоскался на ветру приспущенный школьный флаг.
При допросе учеников присутствовали два психолога, так как у многих наблюдалась тревожная тенденция говорить о происшедшем слишком беспечно, словно речь шла о кино, а не о реальных событиях, — хотя мальчиков можно было понять.
Проблема заключалось в том, что эксперт по анализу крови в какой-то степени подтвердил слова мальчишек.
Траектория следов крови и сами следы были обнаружены в таких местах — на потолке и балках перекрытий, — что первым напрашивался вывод: преступление было совершено кем-то, кто умеет… летать. Именно это сейчас и требовалось объяснить. Отмести как версию.
И конечно же, они это сделают.
Учитель физкультуры лежал в больнице с сильным сотрясением мозга, и допрос пришлось отложить до завтрашнего дня. Впрочем, вряд ли он сможет добавить что-то новое.
Гуннар крепко прижал ладони к вискам, оттянув кожу так, что глаза превратились в щелочки, и уставился на свои записи.
«Ангел… крылья… оторвал голову… нож… пытались утопить Оскара… Оскар был совсем синим… зубы, как у льва… забрал Оскара…»
И единственное, что крутилось у него в голове:
Пора в отпуск.
*
— Это твой?
Стефан Ларссон, контролер на маршруте Стокгольм — Карлстад, указал на чемодан на багажной полке. Такие сейчас не часто увидишь. Настоящий кофр.
Мальчик в купе кивнул и протянул ему свой билет. Стефан пробил его.
— Тебя кто-нибудь будет встречать?
Мальчик покачал головой:
— Он только с виду тяжелый.
— Ну ладно… А что у тебя в нем, можно полюбопытствовать?
— Да так, всякая всячина.
Стефан посмотрел на часы и щелкнул щипцами в воздухе.
— К вечеру приедем.
— М-хм.
— А коробки? Тоже твои?
— Да.
— Это, конечно, не мое дело… Но как ты будешь все это вытаскивать?
— Мне помогут. Потом.
— А, тогда ясно. Ну, счастливого пути.
— Спасибо!
Стефан закрыл дверь купе и двинулся к следующему. Мальчишка, похоже, прекрасно один разберется. Если бы ему предстояло тащить такую тяжесть, вряд ли он сидел бы с таким радостным видом.
Но в молодости все по-другому.
Если бы кому-нибудь пришло в голову проверить, какая погода стояла в ноябре 1981 года, он бы обнаружил, что зима в том году была на редкость теплой. Я взял на себя смелость слегка снизить температуру.
В остальном все описанное в книге — правда, даже если на самом деле все было совсем не так.
Я также хотел бы выразить благодарность отдельным личностям.
Эва Монссон, Микель Рубсахмен, Кристофер Шегрен и Эмма Бернтссон первыми прочли исходную версию книги и внесли ценные замечания.
Ян-Улоф Весстрем прочел и не внес никаких замечаний. Но он мой лучший друг.
Арон Хаглюнд прочел, и ему так понравилось, что это придало мне смелости отправить рукопись. Спасибо.
Кроме того, хочу поблагодарить работников библиотеки Вингокерс, которые с терпением и пониманием разыскивали и заказывали необычные книги, которые мне требовались для моей работы. Маленькая библиотека с широкой душой.
И конечно же, спасибо Мие, моей жене, которая терпеливо выслушивала фрагменты книги, зачитываемые мною по мере их появления, побуждая меня переделать то, что было совсем ужасно, и улучшить то, что было сносно. Страшно вспомнить те сцены, которые остались бы в книге, если бы не она.
Спасибо вам!
Йон Лйвиде Линдквист
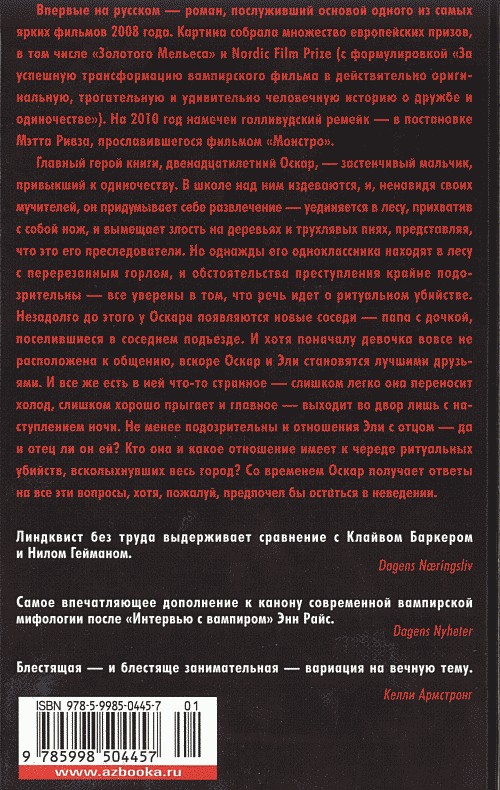
1
Рабочий район на окраине Стокгольма.
2
Документальный фильм 1979 года, режиссер Стефан Ярл.
3
Отсылка к «Божественной комедии» Данте Алигьери, согласно которой царь Минос, властитель второго круга ада, определяет степень наказания грешникам, обвивая хвост вокруг собственного тела.
4
Шведская детская песенка, которую разучивают в воскресных школах, автор — Альгот Эклеф.
5
«Не курю». — «О'кей». — «Что хотеть?» — «Нет, я…» — «Маленький? Хотеть маленьких?» (англ.)
6
«Сколько? Восемь, девять? Это сложно, но..» — «Нет!» (англ.)
7
«Что?» — «Нет, я просто…» — «Что?» — «Я… может быть… двенадцать?» — «Двенадцать? Ты хотеть двенадцать?» — «Я… да». — «Мальчик». — «Да». — «О'кей. Жди. Номер два». — «Что?» — «Номер два. Туалет». — «Ах, ну да». — «Десять минут» (англ.)
8
«Изведи, ожени, погреби, огреби» (перевод с англ. Н. Осановой) — перефразированная цитата из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану».
9
«Пять сотен» (англ.).
10
«Твой рот?» (англ.)
11
«Зачем?» — «Из-за… твоего рта. Может, получится сделать новые зубы» (англ.).
12
«Прости меня». — «Да» (англ.).
13
Ульф Адельсон — шведский политик, возглавлявший партию умеренных в 1981–1986 годы, пришедший на смену Гёсте Буману, возглавлявшему вышеупомянутую партию с 1979 по 1981 год.
14
Юхан Эрикссон — шведский преступник XVIII века, осужденный за детоубийство.
15
Известная кинокомедия 1980 года, классика шведского кино, режиссер — Лассе Оберг.
16
Персонаж вышеупомянутого фильма «Турпоездка».
17
Персонаж «Божественной комедии» Данте, флорентиец, выделывавший грифы к лютням и гитарам.
18
Яльмар Сёдерберг (1869–1941) — шведский писатель и журналист.
19
Абрахам Виктор Рюдберг (1828–1895) — известный шведский писатель и поэт.
20
Карл-Михаил Белльман — известный шведский поэт и бард (1740–1795).
21
Исключено (англ.).
22
Шведский юношеский фильм 1950 года, классика шведского кино.
23
Перевод Б. Пастернака.
24
Последние слова Сократа: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте».
25
Перевод М. Лозинского.
26
Детская пьеса театральной и музыкальной группы «Национальный театр».
27
Нильс Улоф Турбьёрн Фельдин — шведский политик, премьер-министр Швеции в 1976–1982 годах.
28
Перевод Б. Пастернака.
29
Пирам и Фисба — легендарная вавилонская пара, история которой имеет нечто схожее с историей шекспировских несчастных влюбленных.
30
Ян Гийу (род. 1944) — известный шведский писатель и журналист.
31
Шведская музыкальная группа 1960-х годов, состоявшая из трех братьев Юп. Группа получила известность после выхода песни «Жизнь в деревне».
32
Строки из известной шведской песни, автор — Эверт Тоб (1890–1976).
33
Мартин Бек — герой «полицейской декалогии» Пера Вале и Май Шевалль, выходившей в 1965–1975 годах.
34
Шведский мультипликационный сериал, впервые вышедший на экраны в 1966 году.
35
«Я не могу в тебя не влюбиться» (англ.) — известная песня Элвиса Пресли.
36
Перевод Анны Густафссон.
37
Сцена из популярной шведской детской телевизионной программы 1973–1975 годов «Пять муравьев — это больше, чем четыре слона», ведущими которой являлись Магнус Хэрнестам, Брассе Бреннстрем и Эва Ремаэус.
38
«У меня есть сумка». — «А что в сумке?» (исп..)
39
Исковерканная испанская фраза «одна рубашка и брюки».
40
Перевод Н. Осановой.