Книга: A под ним я голая
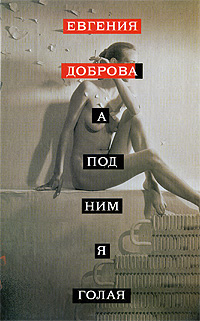
А под ним я голая
Принцип Гудини
Прозу поэта читать всегда интересно: здесь найдешь и ажур, и масштаб. Поэтому книгу Евгении Добровой я ждал с любопытством: подтвердится ли эта формула?
Подтвердилась. Закон селекции сработал без сбоев. Текст яркий, цветистый, местами даже намеренно усложненный, с изощренной вязью метафор. Да, это проза поэта. Так и есть.
Книга, которую вы держите в руках, состоит из дилогии «Двойное дно» и повести «У небожителей». Дилогия, при всей легкости и эфирности письма, весьма сложна композиционно: я насчитал семь ярусов повествования и даже нарисовал схему.
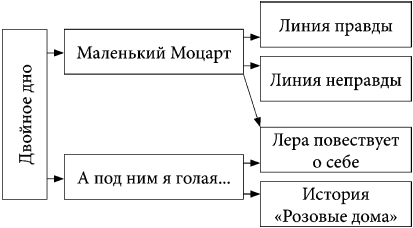
В основе сюжета «Маленького Моцарта» – анабасис (греч. – путь от побережья в глубь материка) юной девушки во взрослую жизнь. Окруженная ее реалиями, героиня ищет опору в воспоминаниях детства – но не может найти.
Тем временем в точке между детством и ответственностью складывается любовный треугольник: героиня, молодой муж и опекающий пару друг семьи. Можно ли усидеть на двух стульях? Нет, нельзя. Но, может быть, все-таки можно?
Произведение написано в стиле «фрагментарное письмо»; это французский жанр, однако повесть по-пушкински имеет завязку, кульминацию и развязку и по-чеховски – хронотоп.
Начиная со второй главы из мозаики, казалось бы, несвязанных фраз – на самом деле это россыпь смешных историй и остроумных диалогов – начинает складываться сюжет – и под занавес приходит к совершенно неожиданному финалу. В каком-то смысле это настоящая провокация. Художественная.
Вторая часть «Двойного дна» – еще одна из линий жизни начинающего литератора Леры Петровской: «закончив два года назад институт и перепробовав – надцать работ… от бензоколонки (оператор-кассир, сутки-трое) до пресс-центра президента Е. (ночной мониторинг средств массовой информации за о-о-очень символическое вознаграждение), я под конец остановила белку в колесе и осела на несколько месяцев в частном издательском доме. В конце концов, где еще приютиться писателю, как не возле книги, думала я».
В провокационном названии «А под ним я голая…» на самом деле нет ничего непристойного. Под ним – это под платьем, а порождена метафора житейским обстоятельством. Друг героини, который «в прошлой жизни был Мойдодыром», понуждает ее крайне тщательно убирать квартиру, и та, испортив хлоркой подол любимого платья, маскирует пятно задорной аппликацией на французском языке: «Nue Dessous». Под ним я голая.
Как и «Маленький Моцарт», повесть построена по принципу двойной композиции: игла в яйце, матрешка в матрешке. Героиня, отработав, как говорят психологи, мифологему Золушки, принимает волевое решение не играть более эту роль. «Моя карета слишком засиделась в тыквах!» – говорит она и хлопает дверью перед носом обомлевшего начальника. Но что Золушка знает о жизни? Она вам расскажет, вернее напишет, сама. Принимая за принцев обычных людей, обремененных собственными проблемами, она ходит по кругу и наступает на одни и те же грабли. Бам-с! – по лбу. Не сделаешь выводов – еще раз получишь.
Сюжетный параллелизм повести «У небожителей» не так сложен, как в предыдущих произведениях, но и тут не обошлось без него. Действие происходит в знаменитой сталинской высотке – Доме на Котельниках. В мастерской художника Кустова проходят частные уроки рисунка и живописи. Героиня натурщица, проводя многие часы в неподвижности, осмысляет грустную историю своей любви и думает, как жить дальше, – первый план; фоном идут легенды про высотку, Кремль, который хорошо виден из окна, и его обитателей. Сталин был вовсе не черным, а рыжим. Сын Менжинского разводил бабочек. Ночью в Мавзолее страшно.
По секрету скажу, что главных героинь Доброва пишет с себя, повествование ведет от первого лица – таким образом мы видим совпадение героя и автора, столь характерное для литературы наших дней (уже даже изобретен термин «я-проза»). И, надо отдать должное, взглянуть на себя со стороны у автора получается, и неплохо. Умение выписывать детали, взгляд сквозь вещи, небуквальная констатация фактов и в то же время непредвзятость – сильные стороны прозы Добровой.
Эту книгу смело можно назвать лирической – она соткана из личных переживаний, осмысления жизненного опыта. Я вижу экзистенциальные мотивы формирования личности, истоки жестокости, эгоизма – и поиски выходов. Доброва не любит открытых финалов и расставляет все точки над i (разве что «Маленький Моцарт» является исключением).
Еще не так давно имя Евгении Добровой было почти неизвестно, а буквально за год автор сделал заметную карьеру в литературе. Открыл Доброву «Новый мир» – по результатам работы мастер-класса этого журнала, прошедшего в рамках самого крупного российского совещания молодых писателей – Форума в Липках – в октябре 2007 года, она была отмечена как лучший прозаик семинара. Интересный поворот судьбы для человека, который всю жизнь писал стихи. А еще мне очень интересно узнать, каким будет продолжение у этих историй, талантливо рассказанных Евгенией Добровой.
Сергей Белорусец
Повествование в двух ключах
Самое плохое в макаронах что, что они быстро остывают. Мы – какой моветон! – едим макароны с хлебом.
– От священных коров, наверное, – говорит Миша, намазывая на румяный штрицель масло «Новая Изида». Что ему калории…
* * *
Сегодня мне приснилось, что у меня ярко-красный маникюр и что я учу французский язык.
* * *
Я хочу жить как младенцы, которым не исполнилось и полутора лет: они не делают ничего, даже еще не рисуют. Их главная idea в том, что они едят и растут.
И никто не потребует от них ни рисунка, ни пятерки по алгебре, ни денег в дом.
* * *
«…Некоторые исследователи считают, что в форме анонимного трактата написан также «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Он представляет собой аллегорию антиримского восстания в колониях. Трубящие ангелы – это диспозиция войск мятежников…» Мамочка, мамочка, мама моя! Пал Палыч меня изведет своими заказами.
* * *
И я, вместо того чтобы работать и соображать, уставилась, как на видишь фигу, на обложку «Истории русской живописи» Бенуа (репродукция картины Флавицкого), смотрю и думаю: опять тараканов надо травить… Нет бы: бедная княжна!
* * *
Под компьютером скапливаются тапочки, а на столе чашки.
* * *
Сегодня сказала Мише, что меня возбуждает «Крейцерова соната».
Он взялся читать.
* * *
Мне захотелось потрогать снег, и я дотронулась до заснеженного завитка ограды детского парка.
* * *
За последние пять дней пять раз звонил Пал Палыч: «Когда вы закончите предисловие?» А я ему говорю: завтра, завтра. Откуда я знаю, когда закончу.
* * *
Раскатились горошины антигриппина.
У меня инфлюэнца, и по вечерам Миша греет мне нос синей лампой.
– Сегодня у нас капрончик! – кокетливо говорю я и завязываю глаза от света колготками.
Какая уж тут работа…
* * *
И вообще я не хочу работать, а хочу сидеть в кружевах и конфетах. Я же девочка.
* * *
Самый сладостный в мире звук – звон серебряной ложечки, доносящийся с кухни, где муж пьет свой утренний кофе, перед тем как уйти. Я слышу его сквозь сон.
* * *
Иногда я засыпаю прямо за компьютером. Или с книжкой в руках в кресле-качалке, бабушкином.
* * *
…Проснулась я оттого, что кто-то погладил меня по плечу. Я вздрогнула: кроме меня, никого дома не было. Оказалось, под собственной тяжестью с плеча сползла накинутая кофта.
* * *
Приехал в гости Пал Палыч – навестить больную, – привез с собой пиццу и медовик. Пиццу мы съели сразу, а торт был очень большим, и добрая половина осталась. Мы все никак не могли его прикончить – и медовик казался свежим неделю. Это же ненормально! Я говорю Мише:
– Такого не может быть. Наверное, чего-то добавили.
Миша:
– Конечно, добавили. Дедушке на подводной лодке такие давали. Полтора месяца были как только что из пекарни.
* * *
– А ты знаешь, что произошло у нас в ванной?
– Что, кран опять сломался?
– Муха проснулась…
– Муха проснулась! – радуется Миша. – В феврале – муха!
* * *
На двадцать третье Миша получил говяжью отбивную в сметане. Первый кусок заглотил не жуя, а взявшись за второй, поморщился.
– Невкусно?!
– Нормально… Жестковато немного…
– Такое блюдо должен готовить мужик. Какой с меня спрос: единственное мясо, которое хорошо может сделать женщина, это человечина.
– Не-а. Это мушшина, – с набитым ртом поправляет Миша. И прожевав: – Про человечину сама придумала?
– В книжке прочитала.
– В какой?
– Не помню…
– Вешал бы таких писателей, – говорит Мишель. – Котлеты бы из них крутил.
– От тебя стоит держаться подальше.
– Но ты, я надеюсь, не станешь писать подобную ересь?
* * *
Кончились деньги. Надо срочно ехать за гонораром. За подобную ересь.
* * *
Одинокая потерянная пинетка, привязанная за шнурок к притолоке стеклянного павильона автобусной остановки, тихо покачивалась, влекомая дуновением ветра.
* * *
Сначала хотела добраться автобусом, но метро затянуло водоворотом подземного сухого тепла. Черт с ними, с пересадками.
* * *
Тум! – двери. «Менделеевская». И я вспоминаю о Любочке Менделеевой, и о Блоке, и о реке Пряжке, и о джинсовых ремнях от Пако Рабанна, – и опять о невских берегах.
* * *
Бородатый, но лысый мужчина плюхнулся рядом, повернулся в полоборота и уставился на меня в упор.
Глазел беспардонно и долго – как турист на афишный столб «Мулен Руж».
– Что вы на меня так смотрите? Вам нравятся уродины?
– Дура.
– Что, простите?
– Ничего.
И перешел в другой вагон. А как таращился!
* * *
Я все еще езжу в метро…
* * *
Домой вернулась только к ужину: пустилась в бегство по магазинам.
* * *
Когда человек в голодном расположении духа идет за продуктами, он обязательно купит в три раза больше, чем может съесть. Причем каких-нибудь оливок или чипсов. А потом ему неделю не на что жить.
* * *
Опять почти нет денег.
Много ли могут заработать начинающая писательница и неизвестный фотограф?
* * *
– Гомерически хочется курить.
– Гомер не курил. …Но пил.
* * *
Миша завел в записной книжке страницу на букву «э» – «экономия» – и пишет туда, сколько у кого взял в долг.
* * *
Покупаю резную деревянную рамочку для Мишиной фотографии, продавщица мне подает, смотрю – с трещиной.
– Боюсь, она треснула, – говорю продавщице.
– Не бойся.
* * *
Миша купил еще один объектив.
* * *
В субботу мы проснулись поздно, к полудню. Я ворочаюсь, зеваю и тру глаза: пока вся не изваляюсь, не встану. Миша протирает очки.
– Интересно, а в Японии есть евреи? – вдруг говорит он.
– Евреи? В Японии? А почему ты спросил? Неужели у меня так будка опухла?
– Ну ты и скажешь! Мне просто приснился еврейский погром в Токио.
– И чем все закончилось?
– Ты танцевала на площади «Хава Нагилу», и тебе надавали по шее. Не сильно, а так…
* * *
Это еще что. Однажды просыпаюсь и вижу Михаила, спящего, с пультом от магнитофона и микрофоном в руке. Интересно…
– Дорогой, а что ты делал сегодня ночью?
– Ждал, пока ты захрапишь. Хотел записать…
– И что, храпела?
– Не знаю. Я, пока ждал, уснул.
* * *
Еще покупка: в хозяйственном – пакеты для мусора. Сошью из них платья, и Миша снимет новое портфолио. Новое прекрасное портфолио.
Продавщица подает черный рулончик.
– А дайте лучше вон те, серебристые.
– Какая разница?! – бурчит под нос жрица Гермеса: не понимает моего эстетизма.
– Мне для другой цели.
Не могу же я ей сказать, что через такие не буду просвечивать.
* * *
В черной пластмассовой ванночке лежит лист: из его глубины медленно вырисовывается, приобретает знакомые очертания мое лицо. Через мгновение лист ловко поддевается пинцетом, и в лоток закладывается новая порция будущих анфасов и профилей. Все происходит со скоростью выпекания блинов. Свет красный, зловещий. Почему-то вдруг становится жутко.
Миша множит и множит меня. Как штаммы.
* * *
Сладковатый фотографический запах по всей квартире; никогда не выветривается. В ванную не зайдешь – вечно сушатся пленки. Языки, свитки, змейки – отовсюду, откуда только можно свисать, – серпантином вьются с бельевых веревок, шуршат еле слышно над головой.
Вот как тут стирать?..
Беру таз и ухожу на кухню.
* * *
Когда мы еще не были женаты, Миша спросил:
– А может, ты будешь моей музой?
– А может, ты – моей? – А потом подумала, что муз не выбирают, как и родителей.
* * *
В Мише проснулось чувство ответственности. «Я должен кормить семью», – сказал он и устроился осветителем на «Мосфильм» в ночную смену.
* * *
Мой муж – воплощенная химия и жизнь. Точнее, химия versus жизнь. Парацельс в век Интернета. Иногда просто слов нет. Мало ему своих фиксажей-реактивов – так нет, сегодня застукала его на кухне: в моей розовой чашке что-то дымилось.
– Что это?
– Это? Сплав Вуда.
– А зачем он тебе?
– Должен плавиться в кипятке.
Я заглянула в чашку. На дне лежали серебристые горошины.
– И что, плавится?
– Смотрю… Пока еще непонятно.
– А как же чашка?
– Отмоется…
* * *
Я вспомнила, где видела эти горошины. Микола, муж моей подруги Таньки Ниловой, отсыпал пригоршню в процессе разборки хозяйственного хлама, при коем мы присутствовали, в квартире, доставшейся ему после смерти отца.
* * *
Вечером позвонила папе.
– А сплав Вуда ядовитый?
– Конечно, ядовитый. – (А как же моя чашка?! Моя розовая китайская чашка!) – А зачем он тебе?
– Так просто спросила.
– Как вообще поживаешь?
– Вот, – придумываю на ходу, – ходила гулять, зашла по дороге в хозяйственный. Купила скалку и яйцерезку.
– Тебя что, муж обидел?
* * *
По «Культуре» передача про ландшафты Петергофа. Возлежим на диване как баре, любуемся причудами садовников. Камера дает крупные планы Монплезира, Марли, прудов и фонтанов, долго обозревает фигурные газоны… А наутро Миша предлагает сделать мне такую же прическу: короткая стрижечка с рельефными вензелями. Можно с разноцветными. В интимном месте. Слава телеканалу «Культура».
* * *
Кожаная подошва моей левой тапки всегда изрисована, исчеркана шариковой ручкой в духе графики Эшера: когда, сидя в кресле, болтаю по телефону, всегда для удобства подворачиваю ногу и машинально калякаю по подошве.
* * *
Покупаем зелень на рынке: три укропа по восемь рублей и китайский салат за восемнадцать.
– Сколько с нас?
– Шестьдесят.
– Сколько?
– Ой, пятьдесят два.
– Сколько-сколько?
– Сорок два…
– Будешь так шутить, бесплатно заберем, – грозится Миша.
– Ладно, ладно, вот нате вам яблочко, – бабка азербайджанка сует его в руки, возьми, мол, и с Богом проваливай.
– Не любим мы яблоки, персик дай!
* * *
Прошлой осенью Миша привез с дачи полрюкзака яблок. Одно из них было надкушено. И еще одно. Короче, несколько яблок были надкушены.
«Ки-ислые! – подумала я, – придется варенье варить».
И не ошиблась. Штрифель оказался, как говорил когда-то – правда, не про яблоки, а про мосфильмовские груши, на «Мосфильме» были неохраняемые полузаброшенные сады, – один калдырь, типчик со сломанным носом, завсегдатай массовки и душа местной компании, косым глаза вправлять!
* * *
И мы поставили сидр. А Мишиному папе сказали, что сварили варенье.
* * *
Сейчас ночь, и слышно, как на кухне свистит сидр. Такой тихий звук.
* * *
– Опять за своего Прусточка-Прустца!
Я уже в постели, с книжкой и маникюрной пилочкой в руках.
Миша ревнует.
* * *
Как медленно ползет по страницам закладка!
* * *
Но я же не могу читать быстрей, чем я читаю.
* * *
Мечтаю о том, чтобы на ночном столике лежало не девятнадцать книг, как сейчас, а одна.
* * *
– Сколько тебе говорили не ставить на ночь быструю музыку!
– Это же Бах…
– Это все равно, что засыпать под польку.
* * *
Миша, однажды в спальне: ты будешь Белоснежка, а я Семь Гномов!
– Осторожнее!! Ты меня понадкусываешь! Хотя на самом деле, когда у меня хорошее настроение, я просто душка, из меня веревки вить можно.
– Да? А потом на них вешаться?
* * *
– А давай я сошью тебе такие трусы. С длинным и узким карманчиком, как чехол для зонта.
– Не хочется от тебя засыпать!..
* * *
Даже не верится, что в наше время это возможно – жить таким безмятежием жизни…
* * *
Мама подарила мне байковую ночную рубашку, в клубничку и с длинными рукавами – как носят в детском саду, но только большую. Миша ее не любил, говорил, что она отбивает у него желание.
– Опять ты в клубничках! Это твоя мама специально…
Но рубашка была теплая, а я мерзла ночами и потому не сдавалась.
Дело кончилось тем, что мы пошли в салон дамского белья и купили мне новую ночнушку – черную, прямого и строгого кроя, с кружевными манжетами и маленьким бантиком на груди, – на что Миша изрек: «Теперь мне будет казаться, что я не в постели, а в опере». Взамен я дала слово никогда больше не надевать клубнички.
* * *
– Хочу тебе признаться в одной вещи. Знаешь, когда тебя нет, я иногда все равно сплю в клубничках.
* * *
В эту зиму мы занимались любовью мало. Допоздна работая на трех работах, я уставала, Миша это понимал и старался не приставать. Очень, очень уставала.
* * *
Звонит Миша из Питера – у него недельная выставка:
– Совсем мне без тебя не спится. Завел даже специальную маленькую подушечку, подкладываю ее под бок и думаю, что это ты.
* * *
По ночам мне снятся герои Пруста. Маленький Марсель, рыдающий над кустом розового боярышника в Комбре.
Сван, который уже встретил Одетту де Креси.
* * *
Красота причиняет мне боль. Я осязаю ее слишком сильно, слишком болезненно.
* * *
И чем дальше, тем хуже.
* * *
Все по-настоящему прекрасное драматично.
* * *
Однажды я любила мальчика, но только любила его не как мальчика, а как произведение искусства.
Как парки Винченцо Бренны, гудоновские головки или цветочные вазы о львиных лапах на террасе Павловского дворца.
Можно ли людей так любить?
Это же неприлично.
* * *
Сегодня вместе с мусорным пакетом выбросила в мусоропровод свои перчатки.
* * *
– Вы напишете нам о Прусте? Кому как не вам заказать…
– Постараюсь.
– Вот времена пошли – кто его сейчас читает… – вздохнул Пал Палыч.
– Например, мой муж. Когда мы только познакомились, он поинтересовался, какая у меня любимая книга. Говорю, Аксаков, «Детские годы Багрова-внука». «Дай почитать!» – «Пожалуйста». Через неделю встречаемся, он спрашивает: «А еще?» – «В поисках утраченного времени». С тех пор прошло два года – сейчас седьмой том дочитывает.
– Ваш муж вас очень любит.
* * *
Пассаж у Аксакова:
«Достал <…> одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием».
«Детские годы Багрова-внука». Первое произведение в русской литературе, написанное от лица ребенка. Это было за сто лет до Пруста.
От скуки на каникулах, дело происходило в Павловском Посаде, я прочла его в девять лет. У бабушки в шкафу стояло очень мало книг: история Великой Отечественной войны в шести томах, «Лекарственные растения», том Пушкина, собрание сочинений Шолохова, что-то еще – и вот Аксаков.
Это была первая книга в жизни, которая поразила меня.
* * *
И что за дурацкая привычка грызть карандаши! Пришла в редакцию читать корректуру предисловия и так увлеклась, что чуть не откусила ластик с карандаша главного редактора.
Когда правка была закончена, он попросил свой карандаш обратно, я отдала – и с ужасом увидела, что стирательная резинка мокрая. Больше всего в тот момент я боялась, что он станет что-то стирать и на бумаге останется пятно.
* * *
Пошла с Пал Палычем на книжную ярмарку, в новом пуховичке.
Палыч, мечтательно-сладко:
– Вы в нем такая толстенькая!
* * *
Вернулся из Питера Миша.
Он явился с мороза, и мне захотелось поцеловать его холодную щеку.
– Дай-ка тебя поцелую, пока не остыл. Тьфу ты, пока не нагрелся!
* * *
– Миша получил «Гран-при» за фотографию лошади, – сообщаю родителям по телефону. Лауреат, повязав фартук, моет посуду.
– Лошади! Сама ты лошадь… – раздается за спиной бурчанье. – Это чистокровный англичанин!
– Поучайте лучше ваших паучат! – И, пощадив недоумение мужа, поясняю: – Цитата из «Буратино».
* * *
– Интересно, а у Пегаса – гнездо или конюшня?
– Где?
– Где-где… на Олимпе.
* * *
Решили приготовить что-нибудь поесть, но оказалось, что из еды в доме остался только чай. Потом нашлись еще две луковицы, кетчуп и морковка.
* * *
И я стала варить луковый суп. (Миша сразу: как у американцев!)
Лук был такой старый, что даже не щипал глаза.
* * *
– Ну, с божьей помощью съели.
– Бог-то тут при чем?
– Бог при всем.
* * *
Не знаю, как там у американцев дела с луковым супом, но только, по-моему, единственное, что у них еще может быть вкусным, это жвачка и чипсы. Ну и еще начинка для курицы – in-the-bird cooking. (Миша про это: внутриптичная готовка. Он тоже ее любит.)
* * *
– Чипсы изобрел русский повар Иван Иванов. Он нарезал опасной бритвой картофелину и пожарил ее в кипящем масле.
– А я думала, чипсы придумали в Саратоге. Миша:
– Хочешь, я сам сделаю тебе чипсы? Надо только очень тонко порезать картошку. Бритвой. А потом вымочить, чтобы вышел лишний крахмал. В «Науке и жизни» написано. «Приготовление чипсов в домашних условиях». Правда.
* * *
Миша ошибся. Луковый суп у французов. Лучше всего получается из плавленого сырка за семь восемьдесят, такими еще алкоголики закусывают. Русские, разумеется, алкоголики.
А ведь вкусно, черт возьми, если разобраться.
* * *
Купили как-то соус вроде майонеза, в пластмассовой бутылочке. На наши «Три яйца» похож, только очень жирный. Но так вроде ничего.
А у бутылочки на горлышке наклейка. На ней написано: «№ 58. What is your favorite sport? Why?»
Миша: наверное, викторина, розыгрыш призов, вроде как у нас: вырежешь 100 кружочков из упаковок от пельменей – выиграешь машину. Только почему они на таком жирном майонезе такие диетические вопросы задают?
– А, – говорю, – дураки.
Но они, конечно, не дураки, как выяснилось. Просто там была еще одна фраза, мелким шрифтом, а мы ее не заметили. А когда заметили, получилось вот что: «Фирма «Крафт». Вопросы для начала застольной беседы. Вопрос № 58. А какой у вас любимый вид спорта?»
* * *
Миша за чаепитием: уберите Пушкина с конфет! Это амикошонство!
Посмотрела – и правда: карамельки «Пушкин».
* * *
Чай у нас называется утопленники, пакетики с ниточками. Миша учит их отжимать, обматывая ниточку вокруг чайной ложки.
* * *
Но я люблю совсем другое: цветки жасмина, прямо в чашке, нежные и скользкие.
* * *
На альбомном листе пишу объявление, с тем чтобы повесить его в холле на лестничной клетке: «Господа!
Не могли бы вы слушать музыку несколько тише, если это возможно. Соседи».
Как только текст готов, музыка стихает.
* * *
Наступила весна. С дома напротив наконец-то сняли леса.
Я чувствую, как исчезает страх.
* * *
Кофе и ситро
танцуют буги под шум метро, —
напеваю, шагая по лужам, это даже не лужи, а лужицы; дождь недавно прошел, и блестит вечерняя тьма, отблески фар длинные, дрожащие – как лунные дорожки на море.
* * *
Миша пришел с дождя, промокший до нитки: – Определенно, есть какое-то обаяние в этом светящемся мокром асфальте.
* * *
Как дразнят запахи!
На улице набрасываюсь на хот-дог, прикусывая салфетку.
* * *
Я знаю, как обанкротить магазин.
Однажды в супермаркете Global USA на вешалке уцененных товаров я приглядела демисезонное пальто. Его уценили в четыре раза – за то, что на рукаве не было пуговицы. Но сидело оно прекрасно.
– Надо брать, – сказала продавщица с бейджем «Can I help you?». – А пуговицу купите.
Но я сделала проще: нашла на другом этаже точно такое же пальто, зашла в примерочную и оторвала недостающую пуговицу.
А потом так и шла до метро с пуговицей в кулаке.
* * *
Осенью уценю у них дубленку. Выберу, какая понравится, и отстригу пару пуговиц. Или пояс вытащу, так надежнее. И через неделю приду за ней в секцию уцененных товаров. А пояс у меня уже есть!
* * *
Америттер – это, оказывается, аутентичное название поджаренного на растительном масле хлеба. Еда нищебродов, но как благородно звучит.
* * *
Когда у нас нет денег, я экспроприирую у родителей зубную пасту. Выдавливаю сколько надо в пустую баночку из-под фотопленки, а тюбик, чтобы не было заметно, надуваю.
Миша потом: «Ты спасла нас от кариеса!»
* * *
Странный невроз, три раза уже посещал. Начинаю чистить зубы, и вдруг мне кажется, что это не моя зубная щетка. Что бы это значило? А еще иногда мерещится, что яу себя в гостях. В прямом смысле: дома. Что-то вроде маминой квартиры: все можно трогать, есть, пить, всем можно пользоваться, но это – гости.
* * *
– Ой, как от тебя вкусно пастой пахнет! Подыши на меня, а то я зубы не чистил.
* * *
Семь Гномов в кои-то веки приготовили завтрак. Что ж, очень мило с их стороны. На завтрак у нас нерожденные курочки и петушки.
– Э-эй! Ко-ко-о! – пою, тормоша вилкой яичницу. У меня хорошее настроение.
– Чего?
– Это я не тебе.
– А кому?
– Яйцу!
– А, – говорят Гномы, – понятно.
О слепая судьба! О бедный птенчик!
* * *
– Расскажи что-нибудь из детства!
– В детском саду, во время тихого часа, в возрасте шести лет я занималась рукоблудием.
– Да ну?!
Мое детство. Этюды Черни, собирательство заграничных этикеток, рассказы Драгунского, журнал «Юный натуралист» – кто за меня определил, что мне нужен именно этот журнал? – бабушка, ее дом, ее город – Павловский Посад. Хожу по магазинам. Мне дают рубль, это три пломбира, два крем-брюле и одно «Морозко». Ангины не было никогда и нет до сих пор. Весной с соседкой одноклассницей ездили на кладбище – срезали нарциссы и продавали на Казанском вокзале по десять копеек за штуку. У меня была глиняная расписная копилка. Больше не помню. Опять в голове вертится Черни…
* * *
Часто играли во дворе с одной девочкой из соседнего дома.
– Ася, – спрашиваю я, – а как тебя по-настоящему зовут – Асетрина?
Это была, конечно же, аналогия «Катя и Катерина». Мне странно, что я помню эту осетрину, ведь мне было тогда три года.
* * *
Помню, я еще сказала ей тогда: «Давай дружить!» – а папа потом: никому не говори «давай дружить». А мы просто договорились.
* * *
Однажды маме в магазине понравилась мыльница. Это была мыльница на присоске, и маме ее очень захотелось. Мыльница стоила восемьдесят копеек, это было дорого. Но мама выпросила у папы эти восемьдесят копеек и купила ее.
Мыльница должна была присасываться к кафелю, но почему-то не присасывалась, а сразу отскакивала в сторону вместе с мылом. Мы с братом были в восторге, целый вечер присасывали ее к стенке и смотрели, как она отскочит.
На следующий день мама отнесла покупку обратно, чтобы поменяли, но мыльниц уже не было.
И тогда на эти восемьдесят копеек мама набрала папе носков.
* * *
В обмен на корпус от кассеты брат научил меня открывать папин сейф маминой пилочкой для маникюра, причем из всего набора подходила только одна – самая тоненькая; остальные не пролезали.
* * *
Помню родительский лексикон. У мамы с бабушкой было свое арго, специальный подвижной состав словечек, касающихся моего поведения, времяпрепровождения или уличавших меня в нездоровье:
– сачкует (пропускает занятия в школе, сказавшись больной, а на самом-то деле знаем мы эти простуды);
– питюкает (играет на пианино);
– не ботай! (не стучи ногами по стулу);
– через-не-хочу! (касательно геркулесовой каши);
– подкашливает (а это вообще предательство: можно в любой момент, как волшебный Сезам, произнести это слово, и она – то есть я – никуда не пойдет. Даже тихое учительское мошенничество типа ярмарка солидарности меня впоследствии меньше расстраивало);
– не мамкай!;
– не нервируй меня-а!;
– что за девка поперешная! (бабушкино любимое);
– одет как панано (это обычно папе);
– чумазая, как отымалка (а это уже мне, отымалка – грязная тряпка, которой протирали печь);
– Лера, кто ест руками? Одни свиньи едят руками!;
– красавица каканая! (по аналогии с писаной);
– сбагрить (отправить ребенка к бабушке. Ребенок при этом сразу же вспоминает багор, которым либо соседа Аркашу, утонувшего по пьяному делу в дачном пруду, либо когда Дед Мазай и зайцы);
– похоти! (мне никогда ничего сразу не покупали – требовалось некоторое время похотеть, от недели до нескольких месяцев, срок зависел от крепости маминых нервов).
И так далее в повелительном наклонении:
– Не выдумывай! Не пререкайся! Не отлынивай! Не паясничай! Поразглагольствуй у меня еще, поразглагольствуй!
* * *
Дом наш, и сад… Яблони в яблоках. Пасека, ульи и мед. «Бычье сердце» зреет в теплицах… Дедушка окучивает крыжовник… Дедушка… он был начальником следственного отдела, считал, что ему все можно, и воровал у соседей клубнику. До сих пор не пойму, что ему эта клубника – своей полно! Может, слаще была?
* * *
Бабушка:
– Поиграй, пока тетя Маша в огороде! Ну давай, давай! «К Элизе»!
Тетя Маша – бабушкина соседка, старуха, у нее еще губы всегда накрашены. Бабушка про тетю Машу: моложавая.
Опять эту Элизу…
* * *
И бабушка сразу окна настежь.
* * *
Чего не сделаешь ради бабушки.
* * *
А тетя Маша: «Ваша уже так хорошо играет! Маленький Моцарт!»
* * *
Конечно, хорошо играю. Конечно, «маленький Моцарт». Ведь бабушка ей по дешевке рассаду продает. Только я почему-то считала, что Моцарт – это скрипач.
* * *
И мама туда же. «Играй, играй! Тебе еще двадцать минут, я засекла. В перерыве между сонатиной и адажио можешь съесть яблоко, – мама пристраивает его на пюпитр. – Вот Скрябин – перед сном целовал свое пианино. В пять лет!»
* * *
Скрябин у них с бабушкой человек популярный, как ширпотреб: не ковыряй подбородок! Хочешь как Скрябин? От прыщика умереть?
* * *
В первом классе нас всех сфотографировали, и через неделю каждому выдали по большому глянцевому листу. В углу общего снимка в персональной рамочке сияла улыбкой наша классная – Глафира Сергеевна Карпова. Химия «мелкий бес», очки в пуленепробиваемой оправе, криво подведенная бровь – все как надо.
Грымза была ужасная. Однажды поставила мне «кол» за то, что неправильно держу ручку. Потом еще один. Ручка должна смотреть в плечо! – безапелляционный приговор висел надо мной все детство, как дамоклов меч: с младенчества держу канцпринадлежности с наклоном в другую сторону – от себя. Так, кстати, вся Америка пишет. Но Глафира Сергеевна в Америке не была. «Колы» продолжались. Положение становилось критическим. Поэтому писать как надо я все-таки выучилась. Так что у меня два почерка. (Миша: «Тебе еще повезло! Левшам раньше вообще руку к парте привязывали, чтобы они ею не писали».)
Так вот, внизу лучезарного лика классной руководительницы изящным курсивомбыла сделана подпись: «Учительница первая моя…». Меня эта подпись бесила. Какая, к черту, «учительница первая моя», когда можно «моя первая учительница»! Теперь я поняла, почему. Дети не думают инверсиями – они мыслят прямым порядком слов.
Это и есть черта. Когда ребенок перестает замечать в жизни инверсии – он уже взрослый.
* * *
Меня купают с марганцовкой. Бабушка сыплет ее из маленького стеклянного пузырька, на глаз, но всегда щедро: вода по цвету как малиновый сироп. Мне нравится ее обесцвечивать – сделаю дело и гляжу на волшебную метаморфозу.
– Ах ты, поганка, опять насикала!
* * *
– Не вытирай попу полотенцем для лица! Сколько можно говорить одно и то же!
Бабушка выхватывает его у меня из рук и стегает пару раз по только что вытертому месту. Вырываюсь, визжу, задеваю корыто с грязной водой, оно встает на дыбы и обдает бабушку с ног до головы обесцвеченной марганцовкой.
– А-а-а! – взахлеб кричит бабушка. Я сломя голову убегаю в сарай. Голая, прямо по огороду. Бабушка сейчас страшней, чем соседи.
* * *
Я, Мише, в ответ на его вопрос:
– Нет, в кровать никогда. Даже когда совсем маленькая была.
– А напрасно, матушка. Сразу тепло, хорошо… А приятно-то как! Не хочешь попробовать?
– Сейчас уже неинтересно…
* * *
Ах, сколько в жизни упущений…
* * *
Шаги на крыльце, а потом в коридоре, похожи на шум тяжелых шаров в недрах бильярда – густой, мелодичный и печальный.
Это идет с рынка бабушка.
* * *
– Будешь кино смотреть? – Мишин голос выводит меня из доледникового периода детства.
– Какое?
– Blow-up. Фотоувеличение.
– Blow-up – это взрыв.
– Ну, я не знаю… Может, и взрыв. В любом случае – трансформация материи…
* * *
– Ты поняла? – спросил потом Миша. – Ему все показалось. Никто никого не убивал.
* * *
Уже с утра я жду «Спокойной ночи, малыши».
* * *
Я сижу у бабушки в большой комнате, на коленках тарелка с овсянкой, в нее налито молоко, все это два раза размешано-перемешано мамой и бабушкой: каша-малаша. По телевизору «Веселые старты».
* * *
Бабушка, с поволжским акцентом на о:
– Мы в войну голодовали! Очистки ели! Это у нее последний козырь.
Ну как я могу быть хуже бабушки.
И я начинаю давиться остывшей овсянкой.
Хотя прекрасно понимаю, что бабушка хитрит. Очистки – они ведь не могут быть просто так, они от чего-то!
* * *
На ужин – тошницели с макаронами, томатный сок и молочные гренки.
* * *
Макароны – это конечно же молочные черви. Про них мне рассказывала тетя Клава, бабушкина подруга, директор Павлово-Посадского молокозавода.
Иногда бывают рожки, тогда это опарыши – я видела их, когда дедушка вялил рыбу в сарае.
Гренки похожи на губки для мытья посуды, жирные насквозь и скользкие.
Томатный сок пузырится, как выдуваемое через трубочку медсестрой, из тех, что с улыбкой Бабы-Яги – сейчас укусит комарик! – берут кровь из пальца.
* * *
Я нюхаю чашку и ставлю обратно на стол. Бабушка:
– Ешь, я сказала! Тарелка обязывает…
* * *
На обеденном столе у нас стоит жестяная чайная банка с надписью Duncan's. Однажды я спросила маму:
– А что такое «дункан»?
– Дункан? Любовница Маяковского. Любовница Маяковского! Этот титул показался мне каким-то необыкновенным, почти сказочным, – и долго не давал покоя воображению.
Как образ Шахерезады или Клеопатры.
* * *
Жестянка от чая прожила на столе почти двадцать лет. Из-за нее я провалилась на экзаменах вуниверситет.
Я же прекрасно знала, что Дункан – жена Есенина. Но от волнения почему-то ответила, что любовница Маяковского.
* * *
Реакция мамы: «Дурочка, год потеряла». Ну почему потеряла-то?
* * *
Помню, в детстве бабушка в три счета объяснила мне, что такое элегантный.
– Представляешь, вот едет, допустим, он в поезде, и все на него смотрят, потому что все у него лучше, чем у других, – зонт, чемоданы шикарные…
И я поняла.
* * *
А сегодня Петька спрашивает меня за столом, перед тем как идти в детский сад:
– Мам! А что такое цивилизация? Поди объясни.
* * *
Или: а что такое перфорация?
Это уже проще. У нас даже соревнование было в детском саду: кто ровней оторвет от рулона кусочек туалетной бумаги по линии перфорации.
* * *
ПалПалыч придумал про меня слово «хихихальщица».
* * *
Петька придумал двустишие:
Глядь —
это вам не блядь!
Первые детские рифмовки всегда неприличные: дирол – в жопе димедрол, Дональд Дак – мудак… Им иначе не интересно.
Да и вообще, поэзия – это всегда что-то стыдное.
* * *
Семейное предание хранит единственное стихотворение дедушки по папиной линии, написанное им в ранней молодости и посвященное сестре:
Нинка-дура
В печку бзднула —
Пироги крючком загнула!
Папа все восхищался: какая образность! Не как-нибудь, а именно крючком загнула!
* * *
Я редко бываю у родителей.
* * *
Ася Павлова беременная! – докладывает обстановку мама, когда в какой-то мой приезд мы всей семьей садимся обедать. Ася – моя подруга детства, играли вместе в песочнице, но только она давно уже не Павлова, а Тарелкина.
– Она даже в консерваторию ходит!
– В консерваторию? Зачем?
– Чтобы ребенок гармонично развивался. Они же там все слышат в животе. У них на пятом месяце уже есть слуховые косточки…
Я рада за Тарелку – но каковы методики!
– Правда? – удивлению моему нет предела. – А вы что, тоже в консерваторию ходили, когда я… ну, того?
Родители на минуту задумываются.
– Не, кажется, не ходили, – говорит мама.
– Мы в цирк ходили, – вспоминает папа. – Вот и доходились.
* * *
«Блю-у канери-и», – по телевизору танцуют ккло-уны. Это очень грустная песня, Blue Canary, и каждый раз, когда клоуны под нее танцуют, нам с Мишей как-то не по себе.
– У меня в повести появился ребенок.
– Ребенок? – переспрашивает Миша. – Ты с ума сошла. А в каком месте?
– Героиня собирает его в сад, а он ее спрашивает: «Мам! А что такое цивилизация?»
– И что?
– Что, что… Ты смог бы объяснить?
– Не знаю…
– Вот и она не может.
* * *
– Дети… Ты представляешь, какие у тебя могут быть дети? Да их еще до рождения на учет в детскую комнату милиции поставят! Придумала тоже…
– Полагаешь, лучше убрать?
– Лучше убери. От греха подальше.
* * *
– Мы с твоей мамой когда познакомились, здесь же сидели.
Меня привлекает порядок слов, я оборачиваюсь: за соседним столиком обедают респектабельный господин и плохо одетая девочка лет пяти. Странная парочка, думаю я. Вокруг носятся жеребцы в форме «Макдоналдса», драят пол.
– Хочу вырезать этот домик, – сказала девочка, разглядывая яркую коробочку от детского обеда. – Ножницами.
И она зашевелила пальчиками, изображая, что режет бумагу.
Она не поняла его…
* * *
А это пусть остается – как мизансцена.
* * *
Ночь. Тихо-тихо дома. Сижу на кухне, заканчиваю главу. Луна в небе желтая-желтая – как витаминка…
Внезапно в настенных часах что-то стукнуло, хрустнуло – и от неожиданности я вздрогнула так, что ручка, проехавшись по листу, перечеркнула написанное.
Отложила тетрадь и пошла к Мише в комнату.
* * *
М-да… Витаминка. Красиво, но неправильно. Метафорично, но нереалистично. Потому что образ «луна желтая» – не то что навеян, вбит литературой. Ну какая же она желтая! Она серебристая, голубоватая, зеленоватая в конце концов.
* * *
– А у Басё она похожа на срез спиленного дерева! А у Маяковского на горлышко бутылки!
– Миш, хочешь витаминку?
* * *
Миша: но ведь правда – желтая!
* * *
К утру зверски захотелось пива, и я упросила Мишу сходить в магазин.
– Тебе какого?
– Мне «Афанасий темное».
Вскоре Миша вернулся – с пивом, и потрясенный.
– Ты знаешь!..
– Что случилось?
Оказалось, Мишу разыграла продавщица. Он ей:
– Мне, пожалуйста, бутылку темного…
– Темное вредно для мужчин! – Пожилая, между прочим, тетя.
– Да я, собственно не…
Он хотел сказать «не себе», но не успел.
– Что, еще не мужчина? Тем более не надо пить! Я говорю: а ты что?
– Пошел в другой магазин…
Михаил у меня мужчина, да еще какой – от цели никогда не отступит.
* * *
– Миша, а вы не хотите сходить в воскресенье на выставку? В Дом художника. Там будет мой приятель, Петя Пирогов. Знаете такого? Абстракционист. У меня для вас с Лерой есть пригласительные.
* * *
Итак, вчера мы втроем – я, Пал Палыч и Миша – смотрели абстракциониста Пирогова. Запомнилась инсталляция из лесных орехов в виде щита с геральдической надписью: «Внутри эти орехи пустые старая плутня продает их в переходе метро театральная».
* * *
Уличное кафе около Дома художника. Контраст: ярко-синее небо и белая пластмасса – столики, стулья, стаканы, тарелки, ножи и вилки. Еще ложки – добавляет Пал Палыч. Я беру сосиску и кофе. Следом за мной к стойке подходит Миша:
– Мне то же самое. Только вместо кофе чай, а вместо сосиски чебурек.
Пал Палыч:
– Прелесть ваш Миша! Я думал, это только в нашей молодости так шутили. – Сам он заказывает большую пиццу.
Я пытаюсь порезать ее на порции пластмассовым ножом, придерживая пластмассовой вилочкой. Ну вот и готово.
– Как вы вкусно порезали, – говорит Пал Палыч.
– Да, но где-то нас ждет сюрприз. – И я (как Миша потом сказал, злорадостно) показываю вынутую из пиццы вилочку без одного зубца.
* * *
Сюрприз достался Пал Палычу.
* * *
Миша отказывается от кока-колы:
– Это кровь Микки-Мауса.
У Миши есть шорты с вышитым Микки-Маусом, подозреваю, детские, он их очень любит.
* * *
– Пиво какое-то с горчинкой… Я такое не люблю.
– С димедролинкой! – уточняет Пал Палыч. – Как раз от аллергии помогает. Есть у кого-нибудь аллергия?
Мы целый день гуляем в Парке Искусств, я напиваюсь и машу руками, как Марчелла Солтан, это актриса, а потом хочу писать.
* * *
И направляюсь в ближайшие кусты, впрочем, довольно жидкие.
– Не видно меня было?
– Не видно. Если б не слышно…
– Что же делать… Вы ведь не бой кремлевских курантов предполагали оттуда услышать…
* * *
Пал Палыч:
– Мороженого хотите?
– На пьяную меня мороженого лучше не покупать!
– На пьяную вас лучше водки не покупать!
Я: – Какая прелесть! Запишем этот каламбур. Не покупать мороже-ное или – ного? Пал Палыч: – ную!
* * *
Это кто еще из нас хихикальщик?
* * *
– Пиявочка вы моя. Лечебная.
* * *
Как быстро мои кавалеры нашли общий язык! Посетители вернисажа уже разошлись, а они сели в сквере на лавочке, беседуют и пьют водку. На меня ноль внимания. Я уже и книжку пробовала читать, и в туалет два раза сходила – сидят и сидят, как прилипли.
– Пошли погуляем, холодно так сидеть, – тяну Палыча за рукав, а им никуда неохота.
– Не, не, не, Лерочка, мы пока не пойдем, у нас тут проблемы.
Я (о, наглое и самонадеянное существо):
– У вас у обоих может быть только одна проблема. И эта проблема хочет гулять.
Спрашивается: зачем я это сказала? Пал Палыч-то ладно. Но Миша!
* * *
– Записывайте, записывайте свои истории, – сказал, затягиваясь «Житаном», Пал Палыч. – Про детство, родителей. Про то, как сами пишете. Про издательства, литературную жизнь. Про все. Ведите дневник! Потом получится роман, вот увидите. Минимум повесть. А я вас издам.
* * *
Я подошла к делу ответственно и принялась вспоминать.
* * *
Миша помогает:
– Тебя возили на море?
– Возили.
– И что?
– Ну, море. Теплое. На водных велосипедах катались. Родители в волейбол играли на пляже.
– И все?
– Ну, дяденька один клеил маму, все подходил ко мне и говорил: «Мама? А я думал, это твоя сестра. Такая молоденькая!» А потом на берег вышел папа, мама достала из сумки персики, разложила их на пакете, и мы стали полдничать. На маме был васильковый купальник, очень красивый. Она сидела на песке по-турецки и подкладывала мне хорошие, а сама брала с бочками. «У меня уже четыре складки на животе», – удрученно сказала она, глядя на линию горизонта. Папа ничего не ответил, а мне стало ее ужасно, просто нестерпимо жалко.
– Сколько ей было?
– Двадцать пять. Почти как мне.
– А у тебя сколько складок?
– Не знаю. Может, одна…
– Сейчас посмотрим.
Миша задрал мне футболку. Складок не было.
– Ноль, – облегченно сказала я.
– Значит, дело не в возрасте.
– Конечно, не в возрасте. Питались раньше по-другому. Послевоенных детей старались впрок накармливать, на всякий случай. Бабушка в войну наголодалась, поэтому вся пища дома – сахарку, маслица побольше. Все супы на поджарках, картошка на сале… А мама все ее рецепты унаследовала.
– Это же вкусно.
– Я от бабушкиной кухни страдала.
– У тебя просто плохой аппетит.
* * *
Есть ли у детей аппетит? Что-то не припомню, чтобы мне в детстве когда-либо было вкусно. Клубника? Нет. Земляника? Горчит. Крыжовник? Кислый. Вишня? То же самое. Черешня? Почти не покупали. Смородина? Фу, этот запах! Яблоки? А есть ли у них вообще вкус? Манго? Привкус жести от банки. Торты и пирожные? О, только не это! До рвоты. Конфеты? Без эмоций, хотя и не противно.
Сгущенка? Липкая.
Молоко? Противное, особенно если деревенское или прокипяченное.
Сметана? И как дедушка это ест…
Творог? Даже проглотить сложно, крупчатый.
Курица? Шкурки.
Колбаса? Невкусная. (Кроме охотничьей, но поедание оной было, по-моему, едва ли не однократное, так что не в счет.)
Котлеты? Нет.
Гречка? Пахнет ржавыми железками. Суп (щи, борщ, лапша на бульонном кубике и без мяса). Ну разве что.
И хлеб, пожалуй. Если корочку горелую срезать.
* * *
Зато во взрослой жизни аппетит меня догнал. Заманила сегодня Пал Палыча в грузинскую забегаловку: ничего не могу с собой поделать, уважаю харчо. Пал Палыч заказал чахохбили, я у него отъела кусочек – вкусно.
Хихикали. Кормила Пал Палыча мороженым с ложечки. Пихаю ему в усы клубничный пломбир и приговариваю:
– Вот, на всю жизнь запомните.
А он и не знает, как реагировать.
Ему пятьдесят три года или около того.
* * *
Если кормить его с ложечки, можно всю жизнь ужинать за его счет, думаю я. Но что скажут люди?
* * *
Образы пионерского детства преследуют меня по ночам. До сих пор не могу забыть лозунг из школьной ленинской комнаты:
Стал вожатым – не пищи,
легкой жизни не ищи!
Его сочинил один мальчик, отличник. Ему потом еще грамоту дали и путевку в Артек.
Для меня это было озарение. Я поняла, что поэт всегда будет избранным.
И решила стать поэтом.
* * *
Помню, как в лагере мальчишки ночью ходили мазать зубной пастой девчонок.
Это казалось нам непоправимо ужасным, до бесконечности непристойным – как вымазанные дегтем ворота в украинских деревнях. Но! – в то же время это было чертовски притягательно, потому что напоминало взрослую интимную жизнь: пока она в постели, он совершает над ней некое действо. Если она вдруг проснется – то та-ак завизжит! – и убежит, босая, по коридору в женский туалет. Далее всеобщий переполох, заспанная вожатая, негодяй посрамлен – но в то же время он герой!
Думаю, зубная паста – это был неосознанный символ спермы.
* * *
Что еще? Однажды мама вернулась из командировки и обнаружила на кухне поганку. Мы с папой жили вдвоем около месяца, и никто ничего не замечал.
– Нет, вы только взгляните! На самом видном месте!
– Где?
– Да вот же.
Мы посмотрели под ноги. Действительно, справа от двери из-под плинтуса торчала поганка на длинной худенькой ножке. Мама нагнулась, выдрала грибок и выкинула в помойное ведро.
* * *
Пока спала, забыла все на свете. Приоткрыв утром глаза, увидела на подушке слева, сантиметрах в пяти, голову Миши.
– Боже мой, кто это?! – подумала. Помню, что был испуг. Потом сообразила.
Переживание мимолетное, в долю секунды, – а взволновало, взбодрило на весь день.
Что-то подобное со мною случалось и раньше: «Я в Ясеневе. Квартира бабушкина. Еще есть… Миша…» – память загружалась с черепашьей скоростью, по кластерам.
– Представляешь? – рассказываю вечером Михаилу. – Нет, ну ты представляешь?!
С кем же я живу в уме, в космосе, если то и дело забываю за ночь, кто мой муж? Перебрала знакомых мужиков, да так и не нашла: никто не подходит. Может, одна?
С возвращением, дорогая!
* * *
В четыре руки чистим картошку. Миша:
– Ой, что ты делаешь, надо ножом!
– Пионеры в лагере всегда глазки ногтями выковыривают… Стоп, надо записать.
– Записывай. И больше никогда так не делай.
* * *
– Спасибо, дорогой, ты мне очень помог.
– Чем же?
– Ты сварил пюре. Дорогой, гордо:
– Это было акме пюрейной промышленности.
* * *
…В тот вечер Миши не было дома, и Палыч засиделся у меня в гостях. Мы поужинали, я взялась мыть посуду.
Почему-то помню, что у меня колыхались ягодицы… Пал Палыч подошел и обнял меня. От неожиданности я выронила чашку. Она и еще две тарелки разбились.
– Простите. Простите, пожалуйста! – Пал Палыч вернулся обратно к столу, вытащил из пачки сигарету и закурил.
– Будете кофе? – Но поскольку спросить как ни в чем не бывало не получилось, я выдержала паузу и добавила: – Вы с ума сошли.
– Вероятно. И вы это знаете.
– Господь с вами, Павел Павлович! Так мы всю посуду перекокаем.
* * *
– Не могу вас не бояться…
– Ах, молодость, молодость…
* * *
В три часа ночи он спохватился и стал звонить жене.
– Алё, Нина? – Голос у него был, как у ослика Иа.
– <…>
– В Ясеневе.
– <… >
– Есть голова на плечах!!!
Хрясь трубкой по аппарату, и весь разговор.
* * *
Всю ночь я боялась ложиться, и поэтому мы сидели на кухне, болтали и пили коньяк. Пал Палыч больше не приставал.
В полседьмого утра я проводила его до лифта, заперла дверь на оба замка и легла досыпать.
* * *
Потом он мне по телефону, укоризненно:
– Вчера приснилось, что я занимаюсь любовью со своей женой.
Во сне с женой любовью занимался! Вот ужас-то!
* * *
– Миша пригласит вас на дуэль!
– Вот именно что пригласит…
* * *
Роман «Это я, Эдичка» был написан в 1979 году, за два года до моего рождения.
Мама сожгла неприличную книгу в теплице – там стояла буржуйка.
– Это роман об одиночестве, – сказала я тогда маме. Это была первая «дура», которую она от меня получила.
* * *
– Ваша дочь что-нибудь пишет?
– Слава Богу, нет.
* * *
Они так ничего и не знают.
* * *
Ведь папа хотел, чтобы я была музыкантом.
* * *
Но у меня язык не повернулся соврать, что я до сих пор где-то играю. Ограничилась тем, что сказала: работаю в издательстве «Советский композитор». Все ближе к музыке…
* * *
Где-то зазвонил телефон, но я никак не могла понять, где он.
* * *
…Звук доносился из холодильника.
* * *
Здравствуйте, сказал голос Пал Палыча. Вот сейчас день, а ведь у меня было преодолимое желание позвонить вам в три часа ночи. – Что же не позвонили? – Я же говорю: преодолимое.
* * *
Может у девочки быть роман с дяденькой, черт побери, или нет?! Нет, не может. И все это знают.
Тем более, если девочка дылда, у девочки рост манекенщицы, а дяденька ей по плечо.
* * *
Нет и еще раз нет.
* * *
Но дяденька известный издатель, а девочка начинающая писательница.
* * *
– С Мишей мне жить, а с вами работать! – кричу я. – Как вы не можете понять?
Слова легли на язык, как облатка. Какая глупость. Уж лучше бы молчать…
* * *
Но разлюбить любимого человека так же сложно, как и полюбить нелюбимого.
* * *
Опять телефон. Это Миша.
– Ну скоро ты там?
– Дорогой, подожди три минуты, мне остался последний абзац. Я перезвоню.
– Надеюсь, твои абзацы не как у Пруста.
Он не любит, когда я называю его «дорогой».
* * *
Боже, как просто описывать! Как легко все описывать!
* * *
А почему бы, собственно, писателю не завести сюжет про то, что он писатель? Про бытность в сей роли? Если каждый уважающий себя художник имеет автопортрет в берете, с мольбертом и кистью, то есть ему не зазорно тиражировать себя так, чтобы все знали, что он такое, – то почему бы и писателю не писать про себя?
* * *
Приехал в гости Пал Палыч. Опять привез пиццу. Он почему-то всегда привозит пиццы – не знаем, как его отучить. С чего он взял, что я их люблю?
– Еле нашел вам без грибов.
– Да вы с ума сошли! Привезли бы с грибами.
– Вы же их не едите.
– Я только лесные не ем, потому что они ядовитые бывают, я боюсь. А шампиньоны ем.
– Недавно целый детский сад такими отравился…
– Тогда опять боюсь, – сказала я, а надо было: «Не знала, что в детском саду кормят пиццей».
* * *
Было Девятое мая, мы стояли втроем у меня на балконе, курили и смотрели салют. Потом кончилось пиво, и Палыча отправили в супермаркет.
– Пока вы отсутствовали, мы сочинили метафору, – сказала я, когда он вернулся. – Про небесный целлюлит. Собственно, это я сделала.
– Злая девочка, – как всегда в таких случаях, говорит Пал Палыч. Он очень любит злых девочек.
* * *
Я не злая, я наблюдательная. Я вижу то, чего не следовало бы. Вчера на Мише были совершенно замечательного цвета трусы, небесно-голубые с белой каемочкой. Но только почему-то в них плохо умещались… половые признаки.
Перед сном Михаил заметил, что я его разглядываю.
– Как тебе мои новые трусцы? – Он всегда говорил «трусцы» и «носцы» вместо трусов и носков.
– Смешные… Это мама подарила?
– Ага.
– Миш, – спросила я, когда мы уже легли, – а ты когда-нибудь сам покупал себе белье?
– Нет, – сказал Миша.
– А крем для бритья?
– Крем покупал.
Утром, когда он в семь вскочил на работу, я еще раз увидела голубые трусы. И рассыпающееся в стороны тело. И тут меня осенило страшной догадкой. У трусов не было мужских вытачек спереди.
– Миш! Поди сюда на минутку!
Но Миша, заподозрив неладное, скорее впрыгнул в джинсы и застегнул ширинку.
– Чего тебе?
– Нет, ничего, иди.
Так и есть. Трусы были женские.
* * *
Неожиданная новость. Миша набрался смелости и объявил маме, что решил в этот раз подстричься не у нее – за пятнадцать минут садовыми ножницами, – а у меня.
– Смотри, сейчас лето, шапку носить не станешь, а лысина к тебе не пойдет, – отреагировала она.
* * *
Пал Палыч:
– Ну что за девятый падеж: «лысина к тебе не пойдет»?
– Она так сказала.
– Да ну, исправьте. Это же текст.
Поддалась на уговоры. А зря, Пал Палыч ошибся. Не читал он «Записок интеллигента» академика Князева, где среди прочего сказано: «Некоторые из женщин ходят в морской форме, и к ним она чрезвычайно идет».
Миша:
– А скучают как? По вам? По вас?
– Я пишу «по вас», мне нравится. Как Паустовский. А тут еще ленинградцев прочла, военные мемуары. И все как один: стреляют – по нас!
* * *
Миша принес с «Мосфильма» огромную газовую зажигалку.
Я: – С какой стороны бояться?
* * *
Купила в «Седьмом континенте» карамельки Herba: пачка типа жвачечной: на каждую буквы названия – одна долька. Миша увидел и спрашивает:
– Что это у тебя такое?
– Карамельки «Херба». Вкусные-е! Видишь, одно ba осталось. А her я съела.
* * *
– Шел вчера вечером мимо нашего дома, вижу – весы лежат. Напольные. Старые такие, обшарпанные, кто-то выбросил за ненадобностью. Я обрадовался, как раз купить собирался. Встал на них, они показали 120 кг, я расстроился и не взял. Вставь в «Моцарта».
* * *
– Шампиньончики! – Продавщице скучно, вот она и комментирует, что видит у меня в пакете. – Чтобы стали беленькими, положите на минуту в уксус. Я просто раньше поваром работала.
– Спасибо, – говорю, – а может, вы подскажете, как делать маринад для огурцов? А то они у меня все какие-то мягкие получаются.
– Да нет никакого рецепта: вода, уксус и соль. Бывает, что в двух одинаковых банках получается совершенно по-разному. Все, деточка, от настроения зависит.
– «От настроения!» – ворчит на улице Миша. – А как же в заводских условиях? Им что, таблетки для хорошего настроения дают?
* * *
Придумала эпизод. Субботнее утро. Просыпаются муж и жена. Жена приподнимает одеяло, заглядывает под него и говорит: «О-о!.. Дорогой, а хочешь, встанем сегодня пораньше и сходим в «Военохот»?
Ты ведь давно собирался…» И так далее. Но какая чушь. Боже, какая чушь!
– Лерочка, не надо писать про то, чего вы не знаете. Пишите лучше про редакцию – про тот же «Советский композитор», который вы так ловко подсунули родителям. Вы же не первый год во всем этом крутитесь. Вот и пишите.
– Но я никогда не работала в «Советском композиторе». Вы невнимательно читали. Там же написано: героиня родителям лжет.
– Тогда пишите про одуванчики. Это несложно. Или про бабочек. Писал же Набоков…
* * *
И, чтобы уесть меня окончательно, Палыч рассказывает анекдот на тему плохого танцора. «Репетиция балетной труппы. В зал входит мужик с огромными ножницами и говорит: здравствуйте, я ваш новый балетмейстер».
Я: – Все неправильно! Это должна была быть репетиция не балета, а мужского хора, а с ножницами – не балетмейстер, а капельмейстер. Если не разбираетесь, сочиняйте про бабочек!
* * *
Пал Палыч часто шутит изобретательно, но не смешно: плавленый поворот, парсуна нон грата. Хихикаю только из вежливости.
* * *
Не удержалась, поддалась соблазну: довольно-таки сексапильные босоножки, черный лак и высокая шпилька. Во избежание семейного недопонимания (предыдущая пара втиснута в шкаф только вчера – красные замшевые мокасины с круглыми пряжками на носу) до поры до времени отдала коробку на хранение Пал Палычу.
– Я их вам легализую, – пообещал он. – На день рождения подарю. Ну и еще что-нибудь, конечно, подарю, чтобы вам не обидно было.
* * *
Постельное белье IKEA напрочь измарано чернилами гелевой ручки Zebra; ни хрена не отстирывается.
– А что ты хотел, койка писательницы. Миша:
– Да это тушь ресничная! Ты выдаешь желаемое за действительное.
* * *
– Ты что не спишь? – А почему ты решил, что я не сплю? – А потому что во сне не зевают.
* * *
Раннее утро. Мы с Мишей занимаемся важным делом. Звонит телефон. Миша, матюгаясь, хватает трубку:
– По производству детей, – и тут же ее бросает.
– Что «по производству детей»?
– Они спросили: «это фабрика»? Я ответил.
* * *
Сажаю в горшок с драконовым деревом косточки от овощей и фруктов, которые покупаем… Уже взошли лимон, гранат, айва, авокадо – Палыч как-то принес. Последней стала виноградная косточка.
Миша:
– Ты посадила себе розги! И они уже проросли.
* * *
Розги мне понадобятся, факт. Для самобичевания.
В понедельник надо сдать план диссертации. Ой, мамочки-и! Как говорит Мишель, крик индейца. Нет, невозможно дома работать: постоянно какая-нибудь ерунда отвлекает. Я даже полюбила мыть посуду. Как уважительный повод не заниматься поэтикой Бродского.
* * *
Пока только суббота. План отложен, на повестке разборка в шкафу, пыль и мокрая тряпка. Где-то в самом дальнем углу попадается книга. «Московская земля в творчестве Блока». Открываю посередине, в глаза бросается фраза: «Маленький Саша любил стихи».
Тоже, небось, чья-нибудь монография-диссер-та… фия.
* * *
Созналась Мише в растрате. И пожаловалась:
– Пал Палыч не отдает мои туфли!
– Он их… <грубо> многократно испачкал спермой.
Я:
– Ничего, отмоется.
* * *
В общественном туалете филфака на пол всегда аккуратно постелена «Русская мысль». Раз в неделю газета меняется – и посетители не теряют связь с внешним миром… Книжные новинки, расписание русскоязычных богослужений в Париже. Так, сидя в Москве, мечтаешь о Франции…
* * *
В статье про писателя Никонова Пал Палыч зачеркивает слово «талантливый» (а Никонов правда талантливый) и пишет сверху: «одаренный».
– Но почему?
– Политес, Лерочка, политес… Молодой еще потому что.
Смотрю на лист через плечо и с ужасом представляю, как про меня кто-нибудь возьмет да напишет, а он будет сидеть и вычеркивать «талантливая».
* * *
– Внучка, ко мне! Иди, мой хороший! – Старуха из квартиры над нами выгуливает на пустыре здоровенную псину.
Чего только не услышишь. Я, когда их встречаю, только и думаю, как бы она не укусила меня за пальто. Злая, зараза. Не люблю собак!
* * *
В пятом классе надо было учить есенинский стих про собаку. «Покатились глаза собачьи // Золотыми звездами в снег…» Я полагала, стих про живодеров – собаке выкололи глаза! – и всегда старалась его пролистывать.
* * *
А тут еще бабушка – нравоучает из книжки: «Долог день до вечера, коли делать нечего». Помню, все детство жалела этого Колю.
* * *
Бабушка расчесывает у зеркала химические кудряшки – старый-старый гардероб на звериных лапах, зеркало в рост, во всю створку. «Вон Машке – скоро шестьдесят, а у ней до сих пор коса до попы!»
Ну, это еще неизвестно, что у нее там до чего – коса до попы или попа до косы. И вообще она противная – так меня за волосы оттаскала, когда мы с Аськой играли в ее малиннике.
* * *
Однажды тетя Маша зашла к бабушке за семенами огурцов и увидала, что на веранде сушится белье. Я в это время сидела внизу под верандой и делала в земле секретики.
– Зин, – сказала тетя Маша, – и как ты только можешь в таких трусах ходить?
– В каких «таких»? – не поняла бабушка. Трусы у нее были самые обычные, как и у всех: белые «хэ-бэ».
– Ой, а я в таких не могу… Я только шелковые ношу. Бабушке, видно, это сильно запало в душу. Лет через десять, помню, она была просто счастлива злорадством, что видела у Машки на веревке во дворе – yes! – штопаные-перештопаные трикотажные серые панталоны.
* * *
Только теперь я поняла, какая тетя Маша была развратница.
* * *
Скольжение шелковой материи по телу…
И-и-у!
Sex through the…
Как? Как по-английски шелковый платок?
* * *
… Я поморщилась.
– Тебе не нравится, как я тебя глажу?
– Да.
– Почему?
– Мне кажется, что по мне ползают мухи.
* * *
Утро из далекого детства, я лежу в полусне, от окна на изножье кровати падает блик, он нагрел простыню. Мухи одолевают меня, садятся на лоб, щеки и плечи, ползают, снова взвиваются… Мне щекотно, почти невыносимо щекотно, но встать пока что нет сил – я могу только дернуться или мотнуть головой – и опять взмываю ко снам, они тоже роятся где-то над головой и один за другим слетают ко мне, я пытаюсь за ними следить, но сны беспрестанно меняются, траектории их полета такие же изломанные и беспокойные, как роение мух под люстрой в бабушкиной спальне.
* * *
Последней вспышкой сознания я почувствовала, как Миша, точно невод из моря, с усилием тянул с меня джинсы.
* * *
Миша читает книжку – снова Толстой, на этот раз «Воскресение».
Из книги по полу разлетелись закладки – точнее, это даже не закладки, а буквы картонного трафарета, сильно потрепанные от старости и запачканные масляной краской.
Их было три: Б, Г, О.
– Из этих букв можно сложить только одно слово.
– Да, – сказал Миша.
* * *
Мне было четырнадцать лет, когда бабушка отвела меня креститься.
– Опусти руки в купель и держи, – повелела помощница батюшки.
Я опустила. И тут она увидела, что у меня маникюр.
– Маникюр бывает только у Сатаны! – сказала старица. – Запомни!
И пока они там пели и кадили, я держала свои сатанинские пальцы в купели и запоминала. И запомнила на всю жизнь.
* * *
– Миш, – говорю я, – а ты знаешь, был в истории случай, когда одного человека за литературное произведение отлучили от церкви, а другого – в это же самое время – причислили к лику святых.
– Ты имеешь в виду Малую Терезу?[1]
– Да – (Пал Палыч бы пошутил: сохранение энергии.)
– Не понимаю, что тебя так рассмешило.
Отвечаю: то, что история мировой литературы иногда позволяет себе такие причудливые рокировки. Прелесть, а не сюжет! Китайская двусторонняя гладь.
* * *
…Задумалась и не заметила, как на экране закружились фракталы.
* * *
Улитка прилипла к языку и не отлипает. И не противная, а такая красивая, с рожками. При этом известно, что оторвать ее можно только вместе с мясом (или отрезать). Катаю я ее во рту, катаю, как конфету, и думаю: и как это меня угораздило улитку лизнуть, ведь я же знала, что она прилипнет. Проснулась от неразрешенного вопроса, пошарила языком во рту: фу, нет улитки, можно дальше спать.
– Ты не целовал меня ночью? Говорит, нет.
Что же это было?!
* * *
– Что-то Палыч давно не звонил… – заметил за завтраком Миша.
– Он на меня обиделся.
– За что?
– Да ни за что. За то, что я замужем..
* * *
Сижу в полупустом вагоне метро и, поймав свое отражение в крышечке пудреницы, подвожу глаза. Вроде никто не смотрит. Вот Нилова, та даже в зеркальце на людях не отважилась бы посмотреться. А мне все равно. Ужасно невоспитанная девчонка.
* * *
В Yves Rosher в подарок к флакону духов дали сиреневый бархатный конвертик размером 5х5 см, в нем еще что-то лежало, какие-то грошовые бусики.
Миша увидел и сразу нашел применение: – презервативница.
* * *
Приезжали родители. На кухне мама увидела, словно накрыла взглядом конфетницу. В ней пестрой горкой лежали «Лимончики» и «Барбариски».
– Ты была у бабушки?
– Нет.
Я поняла, почему она это спросила. Когда она произнесла «у бабушки», я вспомнила точно такую же вазочку на дачном овальном столе. «Лимончики» и «Барбариски». Все правильно. Иногда еще появлялась «Красная шапочка». Мне было семь лет.
* * *
Я сидела на диете и для пущей самоагитации повесила над обеденным столом записку – жирным черным маркером.
Записка гласила:
Блядь! Я похудею!!!
Первым в кухню вошел папа.
– Ты это… Сними пока…
Я отцепила скотч, положила листочек на подоконник надписью вниз и ушла с папой в комнату смотреть телевизор.
Но мама – известная проныра, вечно ей что-нибудь не так, – решила этот подоконник протереть, поскольку он ей показался грязным.
– Валерия! Ты почему Мишу не кормишь? – вскоре послышалось из кухни возмущенное контральто.
* * *
Но больше всего их расстроили презервативы на полочке. Как же, они свои всю жизнь прятали, а тут напоказ!
– Т-так-перетак! – сказала мама, уставившись на наши с Михой банановые кондомы.
Надо было спрятать в тот кармашек.
* * *
– К сожалению, в нашей конторе издать вашу повесть пока не получится… – Пал Палыч задумчиво листает россыпь страниц. – Но я познакомлю вас с Красичем.
– Это еще кто?
– О, это большая шишка. Директор Объединенных издательств. Заодно водки попьем.
* * *
На следующий день мы купили бутылку и отправились к Красичу. Он жил в Переделкине.
– А адрес вы взяли?
Пал Палыч показал мне листочек, сделанная синим грифелем надпись пересекала его по диагонали: «Дача напротив дачи Евтушенко Забор Дерево Калитка».
Поразительно, но мы сразу нашли… Забор, дерево, калитка… Озеро, облако, башня… Ночь, улица, фонарь… Что еще?
* * *
Красич оказался чаровник и остряк, поил малагой и кьянти, забрал у меня рукопись и обещал через неделю позвонить.
* * *
– Вы думаете, возьмет?
– Я его уговорю. Пусть сначала прочитает. В некотором смысле он мне обязан своим процветанием: совершенно случайно я устроил ему сделку века.
Будильник затренькал без четверти девять. Я встала, раздернула шторы, выглянула в окно. На улице, в тусклом, едва зарождающемся свечении позднего зимнего рассвета, чуть закручиваясь на лету, шел снег. Начиналось новогоднее утро.
* * *
В обед объявился Пал Палыч с поздравлениями и культурной программой.
– Вы не хотите сходить на Васильеву? В «Ленком»? Новогоднее представление. У меня два билета.
– Хочу. Но, к сожалению, не могу. Ко мне приезжают родители. С шампанским, «Птичьим молоком» и авоськой мандаринов. Так что я пас… Предложите Мише – может, он пойдет…
– Я не хочу с Мишей! – расстроился Пал Палыч. – Я хочу с вами.
* * *
За что люблю зиму – так это за мандарины.
* * *
На Новый год мне в подарок достался ситцевый кухонный фартук.
Миша: – Я очень люблю шить для девочек. И вообще я всегда хотел быть девочкой.
А я вот наоборот – ловлю себя на том, что когда в уме придумываю диалоги, то говорю за мужчину.
* * *
Сама я шить так и не научилась: на курсах кройки и шитья продержалась не больше недели.
Занятия вела томная дама в изукрашенном люрексом фиолетовом свитере и в облаке неизменного «Амариджа».
– Мулине, девочки, – проникновенным голосом рассказывала она, рассекая воздух классной комнаты бордовым маникюром, – происходит от слова мулевать. То есть рисовать.
* * *
На Васильеву я все-таки попала: Пал Палыч поменял билет на пятое число. Весь спектакль он сопел мне в шею, а после вызвался проводить. Я не возражала – вечерами в Ясеневе даже стреляют. Палыч благополучно доставил меня до подъезда и у дверей сказал следующее:
– Возможно, я покажусь вам нескромным, но не могли бы вы угостить меня чашкой чая?
Нет, нет и нет. Тем более, что Миши нет дома. Сказать ему, что у меня нет заварки?
– После того как вы от меня уезжаете, я весь день думаю о вас и болею. А мне завтра нужно работать.
– Но, Лерочка! Пустите хотя бы позвонить!
* * *
– Извините, что не прибрано. Совсем замоталась! Времени просто в обрез. Сегодня вот была дилемма: или покрасить волосы, или убраться в квартире. Успеваю – только что-то одно, на выбор. И решила: то, что я плохо выгляжу, увидят пять человек, а то, что дома бардак, – один. То есть Миша. Но он остался у родителей. А пришли вы. Так что все равно получается один.
– Да, с математикой у вас все в порядке.
– Зато с русским проблемы: пять раз подряд слово «что» – это же моветон!
* * *
– Послушайте. Я придумала. Мы вас усыновим. А что? Миша согласен…
Разве где-нибудь сказано, что усыновлять можно только детей?
* * *
– Ну ладно… Уже поздно. Пойду стелить постель.
– Вы хорошо подумали?
– Две.
– А теперь?
– Мне реагировать?
* * *
На ночь Пал Палыч рассказал мне о том, что давно, быть может, два года назад – тогда мы были едва знакомы, – напившись, он затосковал. Вспомнив, что я вроде бы живу в Ясеневе, он сел в метро и поехал; там долго бродил по перрону – но меня не было. Тогда он вернулся и, переходя на свою линию на Новокузнецкой, увидел…
– Меня? – разволновавшись, спрашиваю я.
– Нет, не вас. Я увидел, что на скамейке лежит какая-то женщина, а вокруг суетятся люди. Мне почему-то стало ясно, что она умирает. Я подошел. Это была моя бывшая соседка по коммуналке в Мерзляковском – я жил там несколько лет.
В пользу того, что это не она, был один-единственный аргумент: другое пальто. Но ведь пятнадцать лет прошло. Хотя, когда мы с ней были соседями, пальто у нее было только одно. Она очень много пила. Вы, Лерочка, кстати, тоже очень много пьете.
* * *
После его рассказа у меня было такое чувство, будто бы я избежала смертельной опасности.
* * *
– Вы думаете, я много проживу?
– Лерочка, в вашем возрасте все так говорят, и живут до восьмидесяти девяти.
– А то я иногда смотрю на свою руку. Или ногу. И вижу, что она мертва.
– Ну что мне с вами делать…
* * *
– Я часто разговариваю с вами. Мысленно. А это плохо.
* * *
– Наконец-то я увижу хваленый рассвет из вашего окна.
– Да, смотрите сюда. В створку буфета, он в ней отражается. Так лучше видно.
* * *
Пал Палыч сел писать про меня роман. Я, честно говоря, не знала, как к этому отнестись.
* * *
– Но ведь я тоже пишу про себя!
– Ну и прекрасно. Вы пишете свое, я – свое.
– Может, тогда нам стоит объединиться?
– Нет, дорогая, я не Ильф и Петров. Я не смогу.
– Но может, попробуем?
– Может, когда-нибудь и попробуем…
* * *
Конечно, остроумно дать главной героине имя Валентина, в то время как ее прототип (меня то есть) зовут Валерия. Правильно, чего далеко ходить. Пруст вон тоже называл своих баб мужскими именами: Жильберта, Альбертина, Андре…
Назвал бы, если уж на то пошло, хоть Александра… Как красиво: Саша! Ну, или Кира, на худой конец. Да мало ли имен…
* * *
Он пишет про девочку, которая рассказывает ему свои истории. Как училась в университете, как ходила замуж и как разводилась, как за ней ухаживали мужчины и как ей нравились женщины. Она рассказывает о своей бабушке и о том, как ее обижали старшие сестры. Как одноклассницы воровали в раздевалке сменку и как родители в целях наказания уже не вспомнить за что порвали билет на кремлевскую елку.
Она рассказывает и рассказывает, оттачивая житейские сказки за чашкой эспрессо или бокалом мартини. После пятого пересказа они отшлифованы так, что становятся притчами. А он, автор, передает их от ее лица.
И все они сводятся к тому, как она, в сущности, одинока.
* * *
Бег этот по узкому кругу, но, тем не менее, автор, переходя со своей спутницей из кофейни в кофейню, – за вечер они посещают не менее трех, – охотится за этими байками. А получается, что за ней. А она ускользает, и ускользает, и ускользает…
* * *
Через день они встречаются снова: она постоянно голодная – свидание как-никак назначено в ресторации.
* * *
Но мои истории в его изложении становились вульгарными – а не тревожными, как мне бы хотелось.
Он их зачитывал: ничего интересного.
Все люди одиноки. А что касается половинок – Платон гениально надул человечество.
* * *
Фрагмент из опуса Пал Палыча:
«…Только спьяну можно потащиться в Ясенево и битый час встречать поезда, ожидая невозможного, не зная даже, к какому из дальних, теряющихся в дымке сознания выходов она качнется в своем длинном пальто, рассекая воздух тяжелой коклюшкой зонта…»
* * *
Зарабатывает Пал Палыч немного. А я вытворяю вот что:
– А давайте еще во-он в тот ресторанчик зайдем..
– Лерочка, у меня всего сто рублей осталось!
– Что же вы так плохо подготовились?
Или:
– У вас деньги есть?
– Нет.
– Так займите.
* * *
– Пожалей старика, ты его разоришь, – заметил Миша.
– Я гусеница, я объедаю его, как молодую зелень.
– Скажи лучше, как горькую кору!
* * *
Вчера на даче Мишиного папы пережила экзистенциальный опыт.
– Пойдем чай пить! – позвал утром Миша.
Это вниз, значит. А мне совершенно не хочется вставать.
– Принеси сюда…
– Чего носить-то? Кухня есть. Пойдем.
– Сил нет.
– Давай я тебя понесу.
– Мы вдвоем не пройдем… – Факт, лестница узкая, как трап, и неудобная.
– Пройдем.
Миша берет меня на руки, и вот мы стоим над ступеньками. Он, конечно, не сможет спуститься со мною. С высоты смотрю вниз, на кафельный кухонный пол. Это длится мгновение.
– Да, не пролезем, пожалуй, – констатирует Миша, но все еще держит меня над люком. И вдруг мне мерещится: он разжимает руки, и я лечу. А он говорит мне сверху: «Ты же хотела на кухню – ну вот ты и внизу».
Я представила, как сверху выглядело бы мое тело.
Это длится мгновенье. Миша осторожно ставит меня на пол и спускается из мансарды за чаем.
Что, собственно, можно сказать… Вниз – это цель, а средство может быть каким угодно. Я подумала, что ничего не смогла бы ему возразить, ведь я действительно: а) хотела чаю; б) не хотела идти сама.
* * *
Принесла с рынка льняное масло – а оно горькое. В контексте прочих масел бутылочка кажется дорогой – пятьдесят рублей за пол-литра, но поскольку есть это нельзя, переводим в разряд косметики и получаем огромную бутыль массажного масла и/или средства для укрепления волос всего за каких-то несчастных полтора доллара.
* * *
Опять целый вечер ходила с Пал Палычем по заведениям и выкармливала из него деньги.
Кафе в доме архитектора Баженова, подвал с крашеными красно-коричневой краской покатыми сводами.
– Смотрите! Мы как внутри вывернутого наизнанку пасхального яйца, сваренного в луковой шелухе…
– Лерочка, фу!
* * *
Пал Палыч вызвонил за компанию хабалистого бородача по фамилии Ложкин; тот изводил официантку. Когда девчонка отошла, я на примере решительных действий Таньки Ниловой, она по молодости бегала с подносами, рассказала, что бывает с теми, кто неправильно себя ведет в общепите.
– Она что, опрокинула на голову тарелку?
– Нет, всего лишь украсила креветками в майонезе лацканы пиджака – со словами «я тоже их терпеть не могу!».
Подействовало. Ложкин поутих. Еще раз зарвется, скажу:
– Помните, как я спасла вам пиджак?
* * *
– Вы соблюдаете пост? – спросил, изучая меню, Пал Палыч, потому что была Страстная.
– Я… ну… внутри себя… – выкрутилась я и тут же придумала стихотворение:
Я царь – я раб, я червь – я бог!
О, все внутри тебя!
Вот скоро Пасха – так не ем
внутри себя сосиски я
и там же крашу яйца.
– Хороший стих, только печатать такое нельзя, – огорчил меня Палыч.
* * *
– Извините, я отойду.
* * *
В туалете я разговаривала со своим отражением:
– Петровская, ты зачем съела гамбургер? Не ешь гамбургеры.
Никогда больше не ешь гамбургеры.
Даже полгамбургера.
А то превратишься в говяжью котлету.
Ты уже котлета.
Петровская, вырви.
А ну быра иди и вытошни гамбургер.
Тебе шьют новое платье.
Узкое и приталенное, между прочим..
Ну, и чего мы ждем?!
* * *
– Сегодня я живу один. – Сказал Пал Палыч, когда мы вместе шли до метро, возвращаясь из ресторана. – Мои все на даче. Поехали ко мне? Купим мартини, вы же любите. Я покажу вам свой новый рассказ…
Но я испугалась, что на стенах будут висеть мои фотографии, и не поехала.
* * *
– Не пропадайте!
– Это без вас я пропаду!
Мы прощаемся на Третьяковке. Все еще чувствуя спиной пятно его взгляда, я стараюсь как можно скорее проскочить гребенку турникетов и смешаться с толпой.
* * *
Роман Пал Палыча вышел в самом начале лета.
Мы прочитали его всей семьей, усмехнулись, а мой зонт, который и в самом деле был зонтом-тростью, с тех пор получил обиходное название «коклюшка».
* * *
– Нашел смутный объект желания, – сказала мама. – Тоже мне Бунюэль.
* * *
– Лера, возьмите зонт, сегодня дождь обещали.
– Коклюшку? – машинально переспросила я. Пал Палыч покраснел.
Мне стало как-то нехорошо.
* * *
Этого он мне не простил.
* * *
Но моя книга была уже в типографии.
Желание проросло из меня, как мандрагора из семени висельника.
Я набираю номер карандашом: только что накрасила ногти.
– Затосковала темной тоской, – сообщаю Пал Палычу. – Это, наверное, писательская тоска. Сегодня у нас на ужин картофель фри и портер. Приезжайте, лучше всего, думаю, к девяти.
– У нас – это у кого?
– У нас с вами…
– Я занят.
– У вас влюбленность уже прошла, а у меня только начинается…
– Как вы сказали?
– Шутка. Бестактная злая шутка, отрепетированная дома перед зеркалом.
– То, что вы собираетесь сейчас сделать, – не от влюбленности, как вы соизволили выразиться, а от скуки.
* * *
А я и не собираюсь. Как раз хотела доказать себе, что на самом-то деле ничего и не собираюсь.
* * *
Желания приходят и уходят.
* * *
– Тогда расскажите мне что-нибудь на ночь, – прошу я.
– И вы мне.
– Договорились.
* * *
Любимая история дедушки:
Блокадный Ленинград. Некая мама водит трехлетнего мальчика в сад, пешком, на другой конец города. Зима. Они долго идут по улицам. На пути тут и там попадаются трупы – убирать некому. Мальчик уже знает их всех наизусть и помнит, кто где лежит. Некоторые покойники кажутся ему хорошими и добрыми, а некоторые – плохими и злыми, и, каждый раз, приближаясь к какому-нибудь злому, он просит маму обойти это место. И тогда они идут другой дорогой.
* * *
Всю ночь я проплакала, под утро мне снилось, что я кого-то убила, короче, на следующий день вид у меня был ни к черту.
– Что с тобой? – спросил Миша, вернувшись утром с «Мосфильма».
– Меня Пал Палыч обидел.
– Бедненькая… А ты с ним не водись.
– Не могу…
* * *
Люблю ли я Пал Палыча? О да. Но странною любовью. То есть по-своему. Если перевести на человеческий язык, это значит, что по каким-то причинам одному нравится мучить другого. Как заниматься по вторникам верховой ездой или играть в гольф.
Может ли человек прожить без гольфа? Конечно, может. Но чем тогда занять вторник?
* * *
Миша:
– Знаешь, почему Пал Палыч хромает?
– Почему?
– Потому что у него копытца в ботинках. Старый фавн!
* * *
Наш фавн все гоняется за молодыми нимфами. Вчера звонил Ниловой: «Я вас напечатаю, я вас напечатаю…»
Нилова мне:
– Он как вообще, нормальный человек?
– Нормальный. Поводит тебя сначала по ресторанам…
– Да? Он что, навязчивый? Приставать не будет? А то у меня муж ревнивый.
– Да нет… не будет, наверное…
– Так в чем проблема-то?
– А ни в чем…
И все же – в чем проблема-то?! В чем?
* * *
А меж тем мы вчера напились, и ночью Миша занимал любовью мое бесчувственное тело, а у меня все мешалось в сознании, и я представляла, что это не Миша, а Пал Палыч.
Ну как это понимать?
* * *
– Да не расстраивайся ты так! – сказала Нилова. – По-моему, тебе просто надо отдохнуть от всех твоих мужиков. Хочешь, поехали ко мне на дачу в Старую Руссу…
– Спасибо, – поблагодарила я верную Нилову и отказалась: – Боюсь, не получится. В воскресенье мы уезжаем в Нижний Новгород. Миха опять выставляется. Уже билеты купили.
* * *
Поезд идет очень медленно, и это завораживает. Я сижу у окна и смотрю на поля. Взгляд скользит по равнинам колосьев; косогоры с кулисами темных дубовых лесов… Я что-то придумываю… почти что невольно… Миша листает «Справочник редактора» Гиленсона – взяли от скуки в дорогу.
И я уже чувствовала рождение фразы, но тут, господи боже, Михаил, который до этого упорно и меланхолично молчал, вдруг, ни с того ни с сего, дернул меня за рукав.
– А ты знаешь, что у слова «верстка» общий корень со словом «верстак»? В переводе с немецкого – «рабочее место».
– Не-а, не знаю, – ответила я и опять повернулась к окну. Но та нерожденная фраза – уже почти что родившись – так и увязла в ореоле слова с навязчивым немелодичным «ёрст», напоминающим звук, издаваемый при чистке фаянса жестким ершом.
Я прочитала потом «Справочник редактора» – и точно знаю, что там этой глупости нет.
Миша сказал это просто так, от себя…
* * *
– Но ты знаешь, Лерочка, – пожаловалась Нилова, – у твоего Пал Палыча были такие грустные глаза, когда он меня провожал! Как будто сейчас заплачет.
– Да ладно тебе, я второй год на нем ужинаю.
– Нет, я так не могу…
* * *
На именины Пал Палыч прислал мне открытку.
Я замечаю: хвостик у буквы «В» в моем имени на конверте обведен несколько раз. В этом месте рука, надписывающая конверт, остановилась. Он задумался. Он думал что-то обо мне…
* * *
Но почерк так неразборчив, что непонятно, что там написано, в этой открытке: то ли тебя нельзя не любить, то ли тебе нельзя не любить.
* * *
А я-то думала, мы с ним на «вы».
* * *
Нет уж, позвольте мне эту роскошь. Цветаева, между прочим, собственного мужа на «вы» называла.
* * *
Если сидеть нога на ногу, большой палец правой ноги попадает точно по кнопке выключения компьютера.
Пропала вся моя ночная работа.
* * *
Миша:
– А знаешь, почему твои книги перестали продаваться?
– Почему?
– Потому что Палыч уехал.
– Ну и что?
– А кто, ты думаешь, их покупает?
– Ты полагаешь, он?
– Ну а кому они еще, по-твоему, нужны?
– Что он, больной, что ли? На фига ему столько?
– Как на фига – из любви к тебе… Какой жестокий.
* * *
Уж мне эти крейцеровы страсти!
– Не обижайся. Человеку, чтобы видеть себя со всех сторон, необходимо как минимум два зеркала. Особенно женщине.
* * *
Зазвонил телефон. Трубку снял Миша.
– А она не может сейчас разговаривать. У нее рот занят. Она вам перезвонит, когда мы закончим.
Ну как он мог сказать такую грубость…
* * *
Значит, это был Пал Палыч. И, скорее всего, он больше не позвонит.
* * *
Боже, думаю я, вот если б любовь могла быть такой же сильной и страстной, как хамство!
* * *
– Теперь я буду покупать тебе пиццу.
– Я ее не люблю.
– Все равно. Должен же кто-то это делать.
– Лучше бы ты унитаз починил! Можешь сделать так, чтобы вода в бачке не бежала?
– А надо просто с любовью потянуть за ручку, – научил Миша.
* * *
Никак не получается смывать с любовью. Течет вода и течет.
* * *
А слово Миша сдержал, принес из пиццерии большую «маргариту». Я откусила румяный край коржа, но тесто запеклось до жесткой корочки, и я поцарапала нёбо.
* * *
– Бромкамфору и три настойки боярышника, – говорю я аптекарше. Она узнает меня, укоризненно смотрит – в настойке семьдесят градусов, – но все равно продает. В следующий раз скажу: «тинктура гратеги». А все потому, что я очень молодо выгляжу, а может быть, к тому же еще и глупо. Продавщицы, медсестры и прочие чужие тетки всегда принимают меня за подростка. Вчера пришлось показывать паспорт, чтобы купить бутылку портвейна.
* * *
Чувствую себя ужасно подавленной, все это мне очень мешает. Хотя современному человеку все-таки проще, чем героям эпохи сентиментализма: можно прийти в аптеку и сказать: «Бромкамфору!» – и ты живешь и поешь, и бес спит.
* * *
– Не пей больше бромкамфору, – попросил Миша. – Она очень вредная. Плохо влияет на периферическое кровообращение и центральную нервную систему. Бром связывает ионы натрия в клетках, в результате чего образуется соль натрий хлор, известная как поваренная. А если связать весь натрий в организме, мышцы перестанут сокращаться и человек не сможет двигаться. Это in vitro, конечно, но все равно – чтоб ты знала. Пей лучше валерьянку. И вообще – нашла из-за чего расстраиваться.
Вечером Палыч все-таки перезвонил.
– А вы мне сегодня приснились – представляете? Вас убили. Ножом. Крови не было, но вы упали и умерли у меня на руках. Я только хотел узнать, как вы себя чувствуете. У вас ничего не случилось?
– Сожалею, но у меня нет даже насморка…
* * *
Ах, поганый язык!
Я же хотела с ним помириться…
* * *
– Вы не хотите пройтись после работы? И я хочу. Давайте встретимся на «Тургеневской».
– Во сколько?
Девушке ненакрашенной ехать к Пал Палычу – это абсурд! Час на выбор цвета лица, полтора на дорогу… Раньше восьми не получится.
* * *
– Сегодня вечером меня не будет. Деловая встреча.
Миша: ну-ну.
Усмешка. Извивающаяся усмешка.
* * *
– Да ладно тебе, – говорю. – Я его и раньше-то не любила. А теперь и совсем разлюбила.
* * *
Я вымылась, надела новые трусики в сеточку (Миша, конечно, съязвил, что ими можно креветок ловить), выпила кофе, накрасилась самой яркой помадой и ушла.
* * *
Но, не успев пройти и ста метров, услышала крики. Кричал Миша. С ним случилась истерика.
* * *
С улицы я видела, как он выбрасывает из окна какие-то бумаги и, словно пьяный, вопит на весь двор:
– Эта рукопись
достойна быть издана
лишь в переплете из ветра-а-а!
* * *
Один из листков долетел до меня. Это была моя новая повесть.
* * *
– Ты пишешь гнусный пасквиль!
* * *
На улице пахло дождем и мокрой собачьей шерстью. Достоевский бы написал, что взгляд у меня был тогда нехорош. Раз. Два. Три. Берем себя в руки.
– Что ты орешь, как Джельсомино!
* * *
– Все! С меня хватит! – надрывался Миша. – Можешь убираться к своему Палычу!
* * *
Но убираться мне не пришлось. Когда я на следующий день вернулась из редакции, ни Миши, ни его вещей в доме не было.
Одни пустые полки.
Да ладно, – успокаивала я себя, – подумаешь, муж ушел. Вот если бы дети умерли – тогда другое дело…
* * *
Как говорит папа, иногда в жизни бывают такие моменты, когда, чтобы остаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее.
* * *
Мое сознание чисто и прозрачно, как ванна, наполненная водой.
* * *
Ну вот. Облизав толкушку, я наконец-то села ужинать.
Что происходит?..
Сами собой падают и разбиваются чашки…
* * *
Вчера в метро увидела девочку, похожую на Мишу, и чуть не грохнулась в обморок. Боковым зрением мне почудилось, что это он, но это была всего лишь прекрасная незнакомка с очень бледным лицом.
* * *
И я вдруг вспомнила свою приятельницу Нану Виташвили. Она мне как-то: Петровская, так ты – рыжая! (А это у меня на самом деле крашеные темные волосы отросли, а то, что под ними выросло натуральное, яв лечебных целях – каждую неделю хной.) Я говорю: ну да. Не стану же на весь филфак объяснять. А Нана все свое: ах, голубые глаза, рыжие волосы, светлая кожа! Мой любимый ирландский тип! Ты, наверное, никогда не загораешь? А я – вот смотри! – и показывает какие-то белые полосы на загорелом запястье.
– Что это? – говорю.
– Пальцы. Вчера сидели с парнем на бульваре, и он держал меня за руку. Полчаса всего просидели…
«Дикая собака Динго»! Мысль о сходстве сюжетов увлекает меня – и я больше не думаю о Мише.
* * *
Но до сих пор – когда увижу кого-нибудь, хоть чем-то похожего на него, у меня начинает кружиться голова.
* * *
Ни с одним человеком мы не можем по-настоящему расстаться.
* * *
Ми-ша! Где, ты, Ми-ша-а!
* * *
Сама не знаю, зачем набрала его номер.
«Одну минуту», – сказала Мишина мама. Мне было слышно, как они переговариваются у телефона. «Кто это?» – спросил Миша. «Деушка ккая-то звонит…» – небрежно, проглатывая буквы, ответила его мама.
* * *
– Ты страшный человек, – сказал на прощание Миша.
– Почему?
– Для вас, писателей, люди – не больше чем песок истории.
– Это не совсем так… – начала было я, но он уже положил трубку.
* * *
– Здесь надо вставить «Потерявши, плачем», – посоветовал Пал Палыч.
– А первую часть фразы не надо?
– Не надо!
– Ну хорошо.
* * *
Потерявши, плачем.
* * *
– Послушайте, а если они где-нибудь случайно увидят вашу книгу?
– Кто?
– Ваши родители…
– А они не ходят в книжные магазины.
* * *
Но какая удача для начинающей писательницы! Пал Палыч пригласил поужинать в Клубе писателей в обществе генерального директора Объединенных издательств.
* * *
Я красила ресницы, завивала челку и представляла, как он скажет: «Хорошо выглядите».
– Это чтобы не заболеть, – отвечу я тогда. Нет, не так. Скажу: «Это от отчаяния».
* * *
Когда я уже собралась выходить, увидела из окна огромную черную тучу – и взяла зонт.
А потом так и шла с коклюшкой в руке, как дура: весь вечер было ясно.
Думала, будет дождь, а это по небу кралась, наползала ранняя осенняя темень.
* * *
На улице непролазная грязь, и я пробираюсь, приподнимая полы пальто, как фрейлина кринолин. У меня густые локоны, стоившие бессонной ночи в бигуди, высоченные шпильки и новая шляпка.
* * *
– Какая у вас прекрасная шляпка!
– Дурнушкам все время приходится отвлекать внимание от своего лица.
* * *
Моя некрасота доканывает меня.
* * *
Красич пришел с супругой; вероятно, поэтому они опоздали.
Но вот наконец-то все в сборе. Мы сидели за столиком – справа Палыч, напротив чета Красичей, – и я пыталась заразиться от этих небожителей удачливостью и везением.
– УЛеры тут очередной шедевр готов… Повесть. О современной жсизни. Может, вас заинтересует? Про будни издательства детской литературы. Гротеск, колоритные персонажи: начальник Чижопин, бухгалтер Узьминична… Одни имена чего стоят. И любовная линия есть, как без этого…
* * *
…Лезу в сумку за рукописью.
* * *
Когда я вытаскивала из ридикюля, забитого до отказа, свою толстенную папку, Пал Палыч, сидевший рядом со мной, заметил мелькнувшие среди книг и косметики старые стоптанные кеды. Он задержал на них взгляд, потом посмотрел на мои шпильки.
– Простите, можно вас на минуточку? Мы забыли позвонить Ниловой.
– Ниловой? – удивился Пал Палыч.
– Ну да.
– Мы сейчас придем, – сказала я Красичу, и мы вышли в фойе.
* * *
– Никому никогда не рассказывайте о том, что вы сейчас видели.
* * *
Но встреча была испорчена.
Оказалось, что я не умею пользоваться ножом и вилкой. Окорочок приземлился прямо на брюки директора Объединенных издательств.
* * *
Желто-красные автоматы с презервативами в туалетных комнатах ресторанов так нахально, так ярко и нагло напоминают об одиночестве.
* * *
К черту! Домой и креслокачаться!
* * *
В шесть утра я проснулась, поняла, что у меня ангина, и заплакала.
* * *
В девять позвонит Пал Палыч.
А я ему скажу: «Я чувствую себя такой несчастной, что даже вас мне не хочется видеть».
* * *
Точность – вежливость королей. Тут Палыч своего не упустит. Телефон вздрогнул и разразился руладой ровно в девять ноль-ноль:
– Живы? И слава Богу! – И короткие гудки.
Я даже сказать ничего не успела. Ничего себе, думаю. Ну как это называется?
* * *
– Я вам специально тогда позвонил, думаю: интересно, вставит в свои клочки или нет?
* * *
Ах ты, гад!
* * *
Что делает женщина, когда ей плохо? Ходит по магазинам.
* * *
И тогда я выпила панадол и отправилась поглазеть на витрины. В «Подарках» ничего хорошего не было. Хозяйственный оказался на учете. В булочной от сладкого запаха леденцов опять захотелось плакать.
В «Коврах» я сделала, наконец, покупку. Носовой платок. Папа потом смеялся.
* * *
С Мишей мы не виделись полгода (на самом деле – два месяца). Иногда я придумываю какой-нибудь повод, чтобы ему позвонить, но вообще такое со мной случается редко.
А сегодня опять не выдержала.
– Приезжай ко мне в гости! Нарежем сыр веером, посмотрим Вермеера… – от неуверенности я рифмую на ходу. Глупо… Но первое, что в голову пришло.
– Не Вермеера, а Вермера.
– В моем альбоме написано: «Вермеера».
– Выкини его в помойку, свой альбом!
* * *
Опять все закончилось склокой.
* * *
Мне снился сон.
Я стою в самом длинном и гулком коридоре филфака. За окнами темень, все уже разошлись, но я кого-то жду. В руках у меня буханка черного хлеба, и я, то ли от голода, то ли от скуки, отламываю по кусочку и ем. Наконец из дальних дверей выглядывает Миша и просит меня здесь не стоять, а подождать его в сквере.
Я выхожу, сажусь на скамейку напротив главного входа. Вскоре Миша показывается на крыльце, сбегает вниз по ступеням…
Я поднимаюсь, распахиваю руки навстречу. Мы бросаемся друг другу в объятия, валимся наземь, катимся по траве. Я хочу поцеловать его, но не могу. Еще раз пытаюсь – и не могу.
Потому что во рту у меня недожеванный черный хлеб.
* * *
Когда человек уходит, проблема не в том, что его больше нет, – а в том, чтобы вылюбить его из себя.
* * *
Радужное кружево моего сна безвозвратно похерено.
Просыпаюсь от грохота, железного жуткого лязга, гул нарастает, звук отдает во всем теле, заползает в руки и ноги, вибрирует, ввинчивается в мозг, фонтаном рассыпается в черепе. Что это?!!
* * *
Я открыла глаза.
Была конечная станция, и баба, толстая метрополитеновская баба в красном картузе, лупила ручным семафором по поручню, чтобы меня разбудить.
* * *
Ноль на улице, ноль – по Цельсию и по Реомюру… Конец ноября – и вдруг оттепель. Обувь приходится густо намазывать кремом. Чернеют сырые бульвары. Оттаивают стены, лестницы подземных переходов, тропинки и крыши. И я, я тоже понемногу оттаиваю.
* * *
Сегодня видела Мишу под ручку с незнакомой девушкой.
* * *
Я смотрю на язычок галстука, который ветром перебросило ему за плечо – как флажок… Сверкают подошвами его новые черные «ллойды» – мы покупали их вместе в универмаге «Москва».
Они удаляются.
* * *
Я тут ни при чем. Миша ушел по своим причинам. Миша ушел к бабе. Только и всего.
* * *
Выпила коньяку, закусила сушеным бананом. Красота! Определенно, жизнь налаживается. Одиночество – это почти полет. А то, что мы называем тоска, – на самом деле не ужасно, а прекрасно.
* * *
Теперь надо позвонить родителям.
* * *
– Как успехи? – поинтересовался папа.
– В понедельник уезжаю во Францию. На два месяца.
– Откуда деньги?
– Получила премию.
– Какую?
– Имени Моцарта.
– Я думал, ты бросила заниматься… А почему Моцарта? У него разве есть фортепианные произведения?
– Есть. Переложенные. – (Про двадцать семь концертов мы умолчим – сам виноват, что не знает.) – Ария Папагено из «Волшебной флейты». В первом классе музыкальной школы проходят. Помнишь, я играла? Ладно, шучу. Конкурс потому, что юбилейный год.
– Что исполняла?
– Прелюдии Шопена.
– Что ж, молодец… Хвалю. Не забудь позвонить, когда вернешься.
* * *
На гонорар за предисловие к антологии анонимных произведений можно было купить небольшое ожерелье от Картье.
Но я им распорядилась иначе: в понедельник я собрала чемоданы и уехала к Ниловой в Старую Руссу.
Она давно меня приглашала.
* * *
И вот ясность утра. Тонкий запах духов – травяные, холодные, резкие; остро оточенный грифель карандаша, и бумага – свежа и чиста, сладко пахнет. Рассеивается вчерашняя жуть, выжигается голубоватыми солнечными лучами.
К городу подступили ужасные холода: декабрь, Варвара, термометр лопнул на улице. Луна второй день в ледовитом зловещем сиянии, прозрачный сиреневый круг с красноватой каемкой, называемый гало, в нем она – как зрачок в глазном яблоке; дым из труб стелется в воздухе, кутает крыши, не идет вверх столбом. В город пришли холода…
Я открыла тетрадь и записала в дневнике число.
* * *
…Сегодня мне снова приснилось, что у меня ярко-красный маникюр и что я учу французский язык.
…Снова приснилось, что у меня маникюр ярко-красного цвета и я учу французский язык.
* * *
Какую же фразу выбрать?..
– Неправда, я все придумала, – сказала я.
– А вот и не все! – возразил Миша. – И это, между прочим, нечестно. Подумают еще, что я непорядочный человек.
– Ну, может, и не все. Может, половину.
– Тогда правду пиши одним цветом, а неправду другим.
– Думаешь?
– Да-да-да, – оживился Пал Палыч. – Я тоже хотел предложить нечто подобное. Ни к чему нам лишние пересуды. Сейчас, конечно, не пятидесятые – но все-таки я, слава Богу, не совсем пока еще забыт светским обществом…. Миша молодец. Это хорошая мысль: то, что было на самом деле, автор пишет, скажем, обычным шрифтом, а то, чего не было, – курсивом. Или наоборот, это как вам понравится. Словом – вперед!
Короче, так я и поступила.
Повесть Леры Петровской
Марина нашла ее на помойке, эту куклу. Вообще, она часто дарила мне всякий хлам, ненужные, но очаровательные вещицы, и всякий раз поясняла: спасла из контейнера. Она знала, что я люблю пахнущие стариной вещи. «Мясо, дважды побывавшее в котле», – говорила Марина, протягивая очередную вазу или статуэтку: она имела в виду старинную китайскую легенду, незатейливое содержание которой сводилось к тому, что испорченное мясо гораздо вкуснее свежего.[2]
– Какая прелесть! – Все это приводило меня в восторг. Я представляла тоненькую, хрупкую Марину – французский романист сравнил бы ее с танагреткой – в небесно-голубом сказочном платье, собственноручно сшитом по эскизу не то Бакста, не то Эрте, – как девочка на шаре, балансирующую на скользких отрогах помойной кучи: невинные глаза, ухмылка хулигана Квакина – знать ничего не знаю и знать не хочу – Марина зарывает не донесенные до адресатов последних двух домов – фу, надоело! – пачки бесплатных «Экстра-эм» и «Всего Северо-Запада».
Помойка находилась в старом околотке под названием «Розовые дома», дома были действительно розовые, в лучших традициях немецкой военнопленной архитектуры – четырехэтажные, с высокими скатами крыш, рустовкой, эркерами и уютными двориками. Мы очень любили гулять по этим проулкам, по Нелидовской улице, мимо кинотеатра «Полет» и дальше к реке, а если погода была не очень холодная, брели дальним маршрутом на Остров – там тоже было прекрасно.
– Хреновый из меня разносчик пиццы, – пнув напоследок звонкую жестянку из-под пепси, выводит горе-почтальон Марина, в очередной раз тайно избавившись от пуда рекламной макулатуры, так же, как, если верить бабушке Зине, избавлялись от запретного плода монахини Белорадовского монастыря, топя новорожденных чад в ближайшем пруду!
Глядя на куклу, я вспомнила Белорадово. Бабушка с детства пугала меня этим прудом.
– Твое произведение? – Вопрос отрывает меня от экрана. Я оборачиваюсь. Произведение состоит пока из одного абзаца.
– Мня-мнясная первая строчка! – Косая жует пирожок из французской пекарни, и поэтому я не могу разобрать, какая же, собственно, первая строчка классная или ужасная? Но переспрашивать я боюсь (скорее всего, нахамит), и, чтобы хоть как-то соблюсти политес, предлагаю, хотя уже ясно, что в пустоту:
– Могу дать почитать, когда допишу. Если захочешь, конечно.
– Из всей женской прозы я люблю только Нарбикову! – Она как бы фыркает и в то же время ест пирожок. Косая, наш менеджер, – выпускница Института культуры, и вкусы ее безупречны.
– Я… тоже ее люблю, – говорю я; меня разбирает смех. – Особенно последние вещи. Вот, например, сборник эссе, вышел недавно, кажется, в «Знамени». Называется «Девочка показывает».[3]
– Я такое не читала! – И тон, и строение фразы повергают меня на секунду в сомнение: а был ли сборник эссе? И на самом-то деле краснея как маков цвет, я что-то объясняю про аллюзии и синтаксический параллелизм.
Так вот, подруга Марина, по совместительству рекламный почтальон, портниха-надомница и главный редактор самодельного журнала «Голубые небеса», старалась время для разноса почты выбирать вечернее. И под покровом темноты в помойный бак утилизировались свежие газеты – и мимоходом извлекались вещи, перечисляю только самое ценное: а) уже упомянутая подаренная мне кукла; б) бальное платье с филигранными вышивками, достойными модного дома «Китмир»; в) часы с кукушкой (правда, выломанной, Марина потом туда нос Деда Мороза приделала, такой, на резиночке); пишущая машинка Urania; г) расписной фарфоровый чайник (к сожалению, без ручки, но Гарднер, Гарднер!); д) литературное приложение к журналу «Нива» за 1900 год; воротник в виде лисы с засушенной наглой мордой; е) гарнитур венских стульев с узорным маркетри на спинках, не очень почерневших от времени и не сильно испорченных древоточцем.
Реестр можно длить и дальше, абецедарный ряд будет развертываться, словно свиток, и, обрастая новыми припомненными подробностями, достигнет многих страниц. Судьба же все эти предметы постигала одна: счастливая.
Диковины и артефакты, отжившие век у прежних хозяев, незамедлительно отмывались, чинились, перешивались, раскрашивались – и оставались жить в чудесной Марининой квартире.
– Тебе не нужна в студию кукла? – спросила однажды Марина, когда я собралась уходить.
– Наверное, нет. У нас уже есть одна… – но тут я спохватилась. – А впрочем, давай. Пригодится.
Марина вручила пакет. Высунувшись из целлофана, странно скривившись – вероятно, сломался шарнир, – набок свисала несчастная, жалкая, с плоским лицом, с закатившимися под ресницы глазами, точно как у младенца-утопленника, печальная пластмассовая головенка. Беру! Беру!
– Фотографии потом покажешь!
– Обязательно. – Я уже стояла в прихожей и застегивала меховой френч.
Френч был действительно меховым, из шкурок теленка. Я купила его у Муртады – он держал секонд-хэнд на задворках Розовых домов. Заведение располагалось в многокомнатной квартире на первом этаже жилого дома, аккурат между булочной и ломбардом. Я забрела туда совершенно случайно и, увидев россыпи мехов, тканей и кож самых немыслимых фактур и расцветок, пришла в неописуемый, совершенно детский восторг. Это было похоже на что угодно: на костюмы с венецианского карнавала, испанской фиесты, парагвайского велорио,[4] гримерку оперной примадонны, реквизиторский цех киностудии, кибитку бродячего цирка, – но только не на комиссионку. Гипюр, габардин, бархат, парча, органза; ворох шелков, муар и атлас, жаккарды и крепы; кружева, блестки, стразы… Коллекция от ретро до нью-лука; Вудсток и Шампс Элизе, Банхофштрассе и Виа Монте Наполеоне – и все блестит, переливается в электрическом свете – до хоровода в глазах, до помутнения. Лавка праздника, сверкающая, как богемский хрусталь!
За все это великолепие Муртада просил копейки.
Сначала я даже слегка растерялась от яркости красок, хлынувших как из рога изобилия, да еще в таком странном месте. Но замешательство длилась недолго и вскоре сменилось азартом обновления гардероба. Я перерывала кучу за кучей, нагребая при этом собственную горку раритетов. Платье, отороченное гагачьим пухом, кофточка с бретельками из пайеток, огненно-оранжевый свитер, пашминовый палантин, практически новый свакаровый полушубок… Кучка находок росла. И уже было ясно, что за один раз это просто не унести.
– Можно, отложу до завтра?
– Прыхадыти, канечна, – разрешил Муртада, помогая запихивать сверток на антресоль, чтобы уже никто не позарился на мои будущие наряды.
– Утром забегу. – Поблагодарив Муртаду, я в самом прекрасном расположении духа покинула гостеприимный лабаз.
Но дотерпеть до утра было выше моих сил. Я вернулась уже через час, и не одна, а с Мариной. Уговаривать ее не пришлось.
– Где?! – закричала она. – Пошли скорее!
И мы продолжили охоту. Муртада сразу понял, что нам нужно. Футболки и джинсы он даже и не предлагал – подсовывал только самые экстравагантные одеяния, с ловкостью фокусника извлекая их из глубин огромных тюков, – и снова понеслось: расшитые левкоями халаты, юбки годе, и парашютом, и колокольчиком, горжетки и муфты, бисерные жабо, крокодиловые ридикюльчики…
Национальность хозяина так и осталась загадкой. По-русски он говорил крайне плохо, но крайне вежливо. Кроме того, Муртада поразил меня тем, что раз в полчаса уходил в дальнюю комнату, расстилал на полу маленький коврик, становился на колени лицом на восток и, окруженный своими затейливыми прет-а-пор-те, истово, усердно молился.
Мы скупили полмагазина и потом заглядывали туда чуть ли не каждый день. И правильно – ибо через месяц Муртада, этот загадочный негоциант, вместе со всем своим заморским добром вдруг исчез – так же внезапно, как и появился.
…Я стояла в прихожей и застегивала меховой френч. Кукла печально глядела из пакета стеклянным глазом.
– Назови ее! – Я чуть не забыла самое главное.
– Я подумаю. Завтра тебе позвоню.
Чмокнув дарительницу в румяную, пахнущую мускусом щеку, я, грохоча в гулкой подъездной норе каблуками, четырьмя синкопированными гран-жете сбежала по лестнице вниз.
Вернувшись после минутной отлучки на рабочее место, я обнаруживаю, что за моим компьютером восседает Косая (в сортир нельзя отойти!) и режется в преферанс.
– Как быстро меня здесь не стало… – не без ехидства замечаю в пространство.
– Ты хочешь сесть?! – Интонация угрожающе повышается.
– Ну что ты, сиди, сиди, это я так.
– Вот только не надо мне… этих… – выфыркивает Косая.
Ну же! Давай, Косая, давай! Как это правильно сказать по-русски? Думай! Нет, не выходит каменный цветок у Данилы-мастера… Ужас. Фраза без окончания повисает меж полом и потолком и раздражает слух подобно музыкальной теме, оставленной без разрешения в финале. Так просто ведь: жертв! Но, видно, энергия мысли до Косой не доходит, и она, уже уходя в коридор, сквозь зубы и мальборину продолжает шипеть:
– Таких этих!
Дальнее крыло нашего пятого этажа оккупировал начальник отдела графики Чипыжов, маленький, лысоватый и страшно охочий до женского пола – слава богу, меня уже упредили не реагировать на его шутки, а то не знаю, чем бы закончился сегодняшний день. За глаза коллеги звали главного графика не иначе как Чижопин, ловко сложив вольную анаграмму из букв его простонародной чижик-пыжи-ковской фамилии.
Когда я только поступила на службу, он отловил меня в коридоре и спросил, прямо в лоб:
– А где Багрецова?
– Кто?
– Кто, кто. Менеджер по календарикам. Ну эта… – и тычет себе в глаз.
– Пошла в ту комнату, – говорю, и иду себе дальше.
Чипыжов двинулся в указанном направлении, но, взявшись за ручку двери, внезапно обернулся и крикнул:
– Как вас зовут?
– А я не из этой комнаты, – сказала я на всякий случай.
– А в вашей комнате, что, нет имен?
Я только хотела ответить, что с десяти метров такие вещи не спрашивают, но начальник отдела графики уже скрылся за дверью той комнаты.
И тут же высунулся обратно:
– Так ты наша, что ли? Новенькая?
– Да.
– Хорошенькая. Вот если б у меня была такая секретарша, я бы ее каждый день заставлял чупа-чупсы во рту вертеть. По утрам и по вечерам. Корольков не заставляет?
Нет, Корольков, наш комдиректор и мой прямой начальник, пока не заставлял. Наверное, не любит чупа-чупсы.
Мамочки, куда я попала!
Боже, зачем я пошла работать в редакцию! Вернее, не так: Боже, зачем я вообще пошла работать! Зачем я послушалась маму и папу и пыталась тратить свое драгоценное время на такое ужасное и неблагодарное дело, как служба! Закончив два года назад институт и перепробовав – надцать работ (собственно, на работы меня безжалостно выпинывали, иного глагола и нет, пинком за дверь выставляли – меня, дочку родную! – заботливые, пекущиеся о благе ребенка родители), от бензоколонки (оператор-кассир, сутки-трое) до пресс-центра президента Е. (ночной мониторинг средств массовой информации за о-о-очень символическое вознаграждение), я под конец остановила белку в колесе и осела на несколько месяцев в частном издательском доме. В конце концов, где еще приютиться писателю, как не возле книги, – думала я.
– Ты веришь, что я напишу гениальный роман? – Вопрос этот болезненный и провокационный, потому что мне на тот момент двадцать лет, и с папой мы не очень дружим.
– Лет через тридцать, может, и напишешь… – Все серьезные разговоры происходят, как правило, за едой (почему?), и я, извлекая потом, через несколько лет, чем-то расстроившую и потому на веки засевшую в память фразу, вспоминаю не только интонацию, но и сопровождающие ее бублик, кефир, чавканье, зубы… Папа ковырялся в зубах спиченкой. Гениальный роман отменялся.
… И его нет до сих пор.
Уже через полмесяца выяснилось, что времяпрепровождение, то есть работа в издательстве «Март», куда, собственно, я была милостиво устроена сомнительными «своими», приводит меня вместо восторга в отчаяние.
От этого страдали все близкие, ибо я стала просто невыносимой. Гримаса непреодолимого отвращения, казалось, навечно пристала к моему лицу; я рявкала в трубку, когда звонил телефон, рыдала, когда подгорали котлеты, колотила о стену посуду, когда соседи включали рок-группу «Айнштюрценде нойбаутен»,[5] скандалила со старушками из-за места в троллейбусе, словом, как моська на людей бросалась, причем всеми доступными способами. Когда в день рождения позвонили бабушка с дедушкой, на вполне безобидный вопрос «как поживаешь?» я ответила, что они мне регулярно снятся, гоняются за мною по лесу и хотят убить.
Это была ложь, конечно.
Надо что-то делать. Жить, когда я в отчаянии, я не могу. Тем более – писать гениальные романы. Даже эту несчастную повестушку все никак не добью.
Еще через две недели оказалось, что мне очень мало платят. Сумма, которую собственноручно вписал в платежную ведомость коммерческий директор Корольков, равнялась пятидесяти долларам. Это было мало, ничтожно мало, так мало, что не хватало даже на еду. То есть на китайскую лапшу, конечно, хватало, но поскольку закалки голодным пайком у меня даже в студенчестве не случилось, давалась эта лапша тяжело.
В один из дней я набралась смелости и постучала в кабинет коммерческого директора.
– Мало вы мне платите, – сказала я Королькову. – Пятьдесят долларов – что за деньги? На жизнь не хватает…
Корольков отложил в сторону «Спорт-экспресс», снял очки.
– Говоришь, не хватает… Ты одна живешь?
– Да.
– А я восемь жоп кормлю. Ты не представляешь, как мне не хватает. Вот, думаешь, я много зарабатываю? Пятьсот долларов… За гараж платить надо? Бензин покупать надо? За английский ребенку надо? Другому за гитару, третьему за айкидо. Нянька, уборщица… У тебя большая квартира?
– Нет, – сказала я мрачно, мне уже все стало понятно.
– А у меня большая, сто десять метров! Сотку в месяц вынь да положь. Вот если посчитать, то у меня гораздо меньше денег остается, чем у тебя, а ты еще просишь. Твои проблемы цветочки по сравнению с моими.
Цветочки, стало быть. Нашел клумбу. Кикерон! Я вышла из кабинета, едва удержавшись от того, чтобы не пнуть дверь ногой.
– Я так больше не могу! – жаловалась я по телефону родителям. – Они не собираются повышать мне зарплату. Я даже зимние ботинки не могу купить. Хожу в позапрошлогодних.
– Ни копейки от нас не получишь, – отрезал папа. – Поняла? Ни копейки. Я в твои годы асфальт отбойным молотком долбил. А по ночам писал кандидатскую.
– Держись, – сказал слышавший наш разговор экспедитор Слава Сорока. – «Кто не пережил войну, любовь и нищету, тот не жил». Александр Сергеевич Пушкин.[6]
Сорока – это фамилия, но вполне могла быть и кличка – не Лисицей же его с таким клювом называть. Вечно взъерошенный, волосы темные, с блеском; черное пальто, полы как крылья летят, шея обмотана белым шарфом – сорока и есть, разве что серебро у господ не таскает. Иногда я просила слетать вместо меня в копи-центр или в «Диету» за хлебом, и он никогда не отказывал. А теперь он меня утешает.
– Все в порядке, – сказала я тогда Славе. – Писатель должен быть возле книги…
Впрочем, сказала я это не очень уверенно.
Мои служебные обязанности сводились к тому, что с утра до вечера я переписывала своими словами русские народные сказки из сборника Афанасьева, печатала платежки, вела клиентские карточки оптовиков, а в перерывах бегала за сигаретами для коммерческого директора.
Комдиректор издательства Корольков, в чьем непосредственном подчинении я находилась, курил исключительно «Парламент». В магазине «Диета» на Садовой-Триумфальной он стоил тридцать пять рублей. А в оптовой палатке на Даниловском рынке – двадцать четыре, то есть на одиннадцать рублей дешевле. В день у комдиректора уходила одна пачка, а если приезжали клиенты, то две. Иногда он брал еще пачку домой. Таким образом, моя прибавка к зарплате составляла от нуля до тридцати трех рублей в день.
К рабочему дню я готовилась с вечера. В правом кармане пуховика у меня была сделана специальная прорезь, которая вела дальше в подкладку. Туда помещалось три пачки. Поскольку пуховик был очень толстым, да еще и на три размера больше – мама в Салтыковке на рынке купила по случаю, – то получалось незаметно.
Когда Корольков посылал за сигаретами, я брала деньги, надевала пуховик с контрабандой, выходила на улицу и минут десять гуляла, держа пачку в руке – для того, чтобы она остыла, ибо в шкафу, где висела верхняя одежда, проходила труба с горячей водой, и все ужасно нагревалось.
После охлаждения товара я возвращалась в офис и как ни в чем не бывало выдавала сигареты из кармана.
Больше всего я боялась, что в теплую погоду сигареты не успеют остыть, и он все поймет.
Ужасно было и то, что я никак не могла постирать пуховик – куртка с такими карманами была у меня одна. Правда, в гардеробе висела еще песцовая шуба, подарок от бабушки ко дню совершеннолетия, но там вообще не было карманов, а стало быть, и возможности приработка. Короче, шуба не годилась.
Через два месяца постоянной носки воротник куртки из светло-желтого сделался… сделался… назовем это словом горчичный. Тогда я стала надевать поверх черный шерстяной платок – обматывала вокруг ворота и подворачивала внутрь бахрому.
Такой запеленатой матрешкой и проходила всю зиму.
Фамилия у Марины оптимистическая и жизнеутверждающая – как колокольчик над входом в магазин игрушек, где продают воздушные шарики, розовых пупсов и клоунов с гармошками, но никогда – скучные кубики и лото: Гамаза. Сплетение трех гласных, двух звонких и одного сонорного звука оповещало мир, и вовсе не ложно, о непоседливом и взбалмошном характере обладательницы. Друзья даже не произносили, а пели ее фамилию, как песенку про Буратино:
– Скажите – как его зовут?!
– Га!
Та-та-та-ти-та-та!
Ма!
Та-та-та-ти-та-та! – но тут уже чувствовалось, что одного слога не хватит, и фамилия пропевалась на итальянский манер.
– Зи!
Та-та-та-ти-та-та!
Но!
Та-та-та-ти-та-та!
И патетическое сфорцандо:
– Га! Ма! Зи! Но!!!
* * *
С Мариной Гамазой я познакомилась по объявлению. На стенде в вестибюле Дома культуры «Салют» белел тетрадный листок. Объявление состояло из пяти слов:
«Журнал «Голубые небеса» ищет гениев!» И номер телефона.
Единственным человеком, кто по нему позвонил, была я.
В какой области я считала себя гением, это другой вопрос. Наверное, в журналистике. Я страстно желала опубликовать статью про своего друга, замечательного фотографа Леню Лещинского. Ей-богу, он того заслуживал.
Но только не в таком СМИ. Издание оказалось рукописным, тиражом пять экземпляров, а выпускала, вернее, каллиграфическим почерком писала, а иногда и вышивала – ну да, прямо вот так, нитками, по тряпичным страницам, – словом, вела его Марина Гамаза. Содержание в основном составляли стихи, которые она время от времени сочиняла, начитавшись Ксении Некрасовой или Марии Петровых.
Увидев, как я расстроена, что журнал ненастоящий, она придумала утешительный приз – прелестную фетровую шляпку с огромной розой. Меня это тронуло; я решила проявить себя благодарным призером, и тоже чем-нибудь ее премировать. Например, промышленной бобиной фиолетовых ниток мулине для эксклюзивной полиграфии. Я была рада общению: из своих в околотке никого не осталось, школьные подруги повыходили замуж – признаться, я немного скучала. А тут такая личность, – и где, в соседнем доме!
На работу я все время опаздываю. Не могу встать с постели, и все тут. Будильник я слышу, и первый, и второй, и четвертый, но это ничего не меняет. Гири пудовые на ногах, на руках, и вообще приподнимите мне веки. Бухгалтерша Владлена Узьминична, лукавая старушенция с потерянной буквой, даже прозвище придумала: «Королевское опоздание» – по аналогии с джентльменским, – которое коллектив сократил до Опоздания. А, по идее, я должна приходить раньше всех.
– Мы тебя брали, чтобы в десять ноль-ноль у нас был живой телефон, – сказала Косая.
Мне нечего на это ответить. В каком-то учебнике по психологии я прочитала, что если человек не хочет просыпаться по утрам, то значит, он не хочет жить. Двигаясь в плотные миры, где жизнь труднее, то есть в сторону смерти, вы чувствуете себя плохо, – говорилось в той книге; – двигаясь в миры легкие, райские, вы чувствуете себя хорошо.
Надо, однако, менять маршрут. А то усну вот так и не проснусь.
Рабочее место Марина обустроила в эркере. С улицы можно было увидеть осиное тулово черного «зингера» на подоконнике, а если вглядеться в полумрак квартиры, то и саму хозяку за закройным столом у окна, – Гамаза колдовала над выкройками, задумывалась с лекалом над миллиметровкой, отмеряла, чертила обмылком по ткани, отрезала, сверялась со схемой, снова чертила… Так бывало обычно. Но сегодня, направляясь в эркер на примерку вечернего платья – за небольшие деньги Марина взялась передрать его из каталога итальянского модельера Роберто Капуччи, – сегодня ее фигуры в окне я не увидела.
Зигзаг этого дня повернул иначе. Марина была огорчена: в химчистке обнаружилось, что ей испортили пальто. На лацкане воротника, на светло-сером драпе, зияла маленькая, но хорошо заметная дырочка.
– Пытались доказать, что так и было. Почему мне все время врут, ты не знаешь? Весь мир против меня. Все словно сговорились. В супермаркете продали испорченную пиццу. «Только привезли, только привезли»… На работе сказали, что примут в штат, и не взяли. Даже мальчик на улице вчера обманул, когда спросила, где библиотека.
– Может, он сам не знал? – предположила я.
– Нарочно показал в другую сторону, понятно было… Как меня это расстраивает! Надо срочно посиморонить.
– Что сделать?
– Не знаешь про симорон? Такое волшебство, и смысл его в подменах. Чтобы мне перестали вешать лапшу на уши, я должна отождествить себя с этой самой лапшой. И обессмыслить образ настолько, чтобы он утратил свое значение.
– Как это? – не поняла я.
– Сгоняй за «Роллтоном», узнаешь.
Можно было пойти через дорогу, в супермаркет «Двенадцать месяцев», а можно в обычные «Продукты» на пересечении Сходненской и Нелидовской – хоть и дороже, но ближе. Насчет дороже я подумала по инерции, не собиралась ведь я, в самом деле, выгадывать рубль с одного пакетика вермишели быстрого приготовления. Короче, я свернула к «Продуктам». Они занимали часть бельэтажа в доме с аркой – предпоследнем, четвертом, если считать от метро, розовом доме.
У кассы собралась очередь. Дедок в пугачевском тулупе брал по сто граммов от каждого вида колбасы и сыра, и уже начал вводить народ в нетерпение, потому что ненадрезанных батонов и головок оставалось еще штук восемь.
– Пенсию, что ли, получил? Хорош, дед, закругляйся, люди на работу опаздывают, – подгоняли из очереди.
На стальное блюдце, прикрученное шурупом к столешнице, брызнула россыпь монеток и переломленных, затертых купюр. С помощью продавщицы дедок наковырял, сколько нужно, расплатился за свои деликатесы и ушел.
– Вам? – выдохнула продавщица, а получилось почти как «гав!».
– Один «Роллтон».
– Все?
– Все.
Продавщица достала с полки пачку лапши, метнула ее на прилавок. Как легкая лодочка, пакетик проскользил по стеклянной поверхности витрины и причалил точно мне в руки.
– Благодарю.
Интересно, как все-таки она будет отождествляться? Просто сожрет? Не похоже на Гамазу… Я стояла на крыльце магазина, нашаривая в кармане левую перчатку, и тут меня окликнули.
– Девушка! – бархатный такой баритон. Я обернулась: высокий, в кожаном плаще… Плащ сшит отлично, кожа отменной выделки.
– Умоляю вас, не ешьте это! – Он кивнул на желто-красную упаковку, которую я держала в руках. – Давайте я вам что-нибудь нормальное куплю! Хотите брауншвейгской колбасы? Сока? Огурцов, помидоров? Или пойдемте в кафе…
Вот так так! Чип и Дейл спешат на помощь!
– А может, я как раз люблю китайскую лапшу? – ответила я. – И вообще, что вы имеете против макаронных изделий?
– Три года этой гадостью питался и просто не могу смотреть! Настоящая отрава!
– Ладно, уговорили. От чашки кофе не откажусь.
Ближайшее заведение было в торце супермаркета «Двенадцать месяцев». Я шла и думала. Надо же, он обо мне позаботился. Он позаботился обо мне. Настоящий мужчина спас настоящую женщину от настоящей отравы.
Вот как это выглядело со стороны.
Звали настоящего мужчину Родион.
– А фамилия у вас, случайно, не Щедрин? – спросила я, когда мы выбрали столик и уселись на легкие венские стулья. – Какой-то вы загадочно щедрый.
– Салтыков-Щедрин, за справедливость который, – парировал Родион.
Поспорю, тут не справедливость, а основной инстинкт. Шатенку сероглазую, дитя голодающего Поволжья, спасает Он, рыцарь короля Артура, или как там тебя. И причиной тому желто-красный брикетик весом 60±3 грамма. Правы, правы маркетологи «Мак-доналдса», что желтое в сочетании с красным притягивает. Обязательно сошью костюм в этой гамме – от парней точно отбоя не будет.
– Что вам взять? Салат, пирожное, рыбу под соусом…
– Салат, пирожное, рыбу под соусом, – повторила я.
– Вы серьезно? Может, вместо пирожного кремсуп?
– Нет-нет, именно так. Вы же за мой рацион отвечаете, – вот и отвечайте, – велела я.
– А «Роллтон» вы все-таки не ешьте, – снова попросил «Родион Щедрин», когда официантка принесла заказ.
– Не буду, – заверила я. – Обещаю.
Я молниеносно поглотила заварной эклер, винегрет по-шефски и судака в маринаде. Аппетит у меня хороший – и впрямь можно подумать, что человек трое суток не ел, и когда в следующий раз удастся сухарик погрызть, неизвестно.
– Можно я вас провожу? На улице очень скользко, – предложил Родион, когда мы вышли из кафе.
– Буду вам очень признательна.
Как описать мужчину, когда он тебе едва знаком? Мужчина привлекателен. Лицо у мужчины бледное. Глаза зеленющие. Волосы темные, по плечи – а-ля свободный художник – и немного вьются. Всем подбираю типаж среди киноактеров, подберу и ему. Ален Делон? Брандо Марлон? Колесниченко Родион!
Та-да-да-дам! Первый этап акции «Не упусти свой «Роллтон»» завершился с успехом.
– Что ты бумагу вечно переводишь! Печатай на оборотках! – Косая нависает надо мной как грозовая туча. Не успела я сообразить, что такое оборотки, как она уже протягивает ворох листов, исписанных с одной стороны преферансными пульками. Я поморщилась. От бумаги исходил явственный запах воблы.
– Бери, бери, – повелела Косая. – Все равно свое печатаешь. Чистая бумага только для договоров.
Делать нечего, я покоряюсь воле Аллаха – однако желание печатать свое напрочь отбито. Ни мама, ни папа, ни бабушка, ни Косая, ни Слава Сорока – никто не узнает о том, что же было дальше с Мариной, Родионом, фотографом Леней, подаренной куклой и вашей покорной слугой.
– Где тебя носило! – накинулась Марина. – Ушла на десять минут, а прошло два часа.
– Смотри! Смотри скорее! – Я подбежала к окну и отдернула гардину. – Видишь, в черном плаще? Провожал! Красавец, между прочим… отсюда не видно.
– Одет неплохо, – оценила Гамаза, – плечи ровные, выправка, спортсмен, наверное. Только бы не охранник. Гарный парень. Приводи в следующий раз, хоть посижу рядом с красавцем. А вообще – мои поздравления.
– Хорошо. Он мне в четверг позвонит.
– Ты «Роллтон» принесла? – спросила Марина, когда Родион скрылся за углом дома.
– Вот. – Я выложила пачку на стол.
Марина вскипятила чайник и заварила в миске лапшу. А потом принялась делать то самое – симоронить.
– Чтобы избавиться от вранья, мне надо стать «Той, у которой лапша на ушах»… – говорила она, стоя перед зеркалом и навешивая мелко волнистые, как в прическе «мокрая химия», локоны «Роллтона».
– Не горячо?
– Нормально… Или лучше так: превратиться в «Лапшу, которая висит у Марины Гамазы на ушах». У лапши какие могут быть проблемы? У нее не могут болеть зубы, потому что их нет. Не могут заканчиваться деньги. Ее не могут выселить за неуплату. Ей не может изменять мужчина. А чтоб лапше лапшу повесить на уши! – исключено.
– Она может остыть, – апеллировала я к здравому смыслу. – Испортиться. А главное, ее могут съесть и переварить.
– Это не проблема, – возразила Марина. – Это реинкарнация. А сейчас пойдем кататься на трамвае.
Мы вышли из подъезда и направились к трамвайной остановке. Там уже собралась толпа: было шесть сорок пять, люди ехали с работы. Как по заказу, через минуту подкатила битком набитая «шестерка», и народ приготовился брать ее штурмом.
– Что бы ни происходило, не вмешивайся. – Марина пошла на таран в передние двери; я следом за ней.
Расталкивая людей локтями, Гамаза пробиралась в центр вагона. «Могла бы и поаккуратнее», – подумала я. Что и говорить, на помойной куче она была более грациозна. Однако, согласно правилам игры, я промолчала.
– Смотри куда прешь, корова! – Посреди вагона Марина столкнулась с пьяной компанией. Двухметровый верзила в черном «боксере» и шапочке-пидорке сильно пихнул ее локтем под лопатку: судя по всему, она наступила ему на ногу.
Марина ничего не ответила. Она пристроилась у самых дверей, на нижней ступеньке, и повернулась к парням спиной. Ей было больно, конечно, больно, но она промолчала. Это раззадорило молодчиков.
– Темыч, это новый спорт у баб такой: в час пик в вагон залезут и трутся сиськами об мужиков. Тебе куртку почистить сзади не надо? Сейчас она протрет!
– Не обижай спортсменку; сиськи могут пригодиться и в трамвае, а, Борь?
– Эй, сисястая! А ну иди сюда! Ты нам нужна!
И тут Марина обернулась к парням… И величественным жестом откинула волосы с ушей.
И они замолчали. Потому что реальность исказилась. Трамвай подошел к остановке «Западный мост», двери разверзлись, и Марина, гордо подняв голову, вышла. Теперь уже мне пришлось распихивать толпу локтями, чтобы успеть выскочить следом за ней.
Косая любит слушать радио. А я не люблю. О Господи, опять эта песня. «Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда». Я тихо схожу с ума. Я начала вторую пачку цитрамона. «Алена, Алена, Алена, Алена, Алена Боро-ди-на!» – орет динамик. Мало того что косая – она, наверное, еще и глухая. Так это, матушка, вам в дом инвалидов, а не в издательский бизнес.
Запретить Косой слушать музыку я не могла. Я решила бороться с ней тихо, по-партизански. Например, испортить приемник. Сломать, но так, чтоб было незаметно. В один прекрасный день он просто не включится, и все. Что, если выломать колесико тюнера? Выкрутить до упора, и – с силой – за упор. И эта Алена-Алена-Алена навечно заткнется. И я спасена. Пока Корольков расщедрится на новое радио, пройдет лет двести, не меньше.
Я перестала опаздывать на работу. Более того, теперь я приходила в офис раньше всех. Корольков, наверное, решил, что перевоспитал наконец эту клушу несобранную с тыквой вместо головы, но дело было не в том.
Каждое утро я подходила к динамику и крутила туда-сюда несчастное колесико. А оно все не ломалось. Так проблемы не решают, сказал бы папа. Я знаю, но все равно продолжаю выкручивать тюнер. Уж завтра-то я его точно доломаю, думала я. Но корпорация «Шарп», не иначе, предусмотрительно снабдила свою продукцию функцией foolproof, или babyproof, или как там у них называется. Защита от нежелательного направленного воздействия, одним словом. От дураков и детей.
Промаявшись неделю, я бросила это занятие. Stop, fool! Остановись, дурак! Функция сработала на пять баллов. Если я не выломала это чертово колесо за семь дней, глупо тратить на него утро восьмого. Лучше подольше посплю. Да и Косая почему-то стала раньше приходить. Что-то заподозрила, наверное.
Чу! Двери лифта распахиваются, меня окатывает волна ароматов райского сада – словно облако цветочной пыльцы залетело в наши темные, обшитые фанерной доской коридоры. Косая уже на месте, я унюхиваю ее с лестничной клетки. В султане «Крестьян-Диора», в идеально выглаженном платье она, можно сказать, почти обворожительна. Если б не глаз. И если бы не характер.
Я ее не ненавидела, нет. Мне многое нравилось в Косой. К примеру, восхищали идеально чистые ботинки. При любых обстоятельствах, и в дождь, и в снегопад, и в слякоть, они были просто стерильными, девственно-чистыми. Она что, летает?
Однажды раз я не удержалась и спросила. И Косая – о чудо! – ответила. Оказалось, специальный воск «Саламандер», только он стоит ровно столько, сколько я в неделю трачу на еду.
Непозволительная роскошь.
Но как сверкают ее ботинки!
– Доброе утро, – говорю я как можно более дружелюбно.
– Сделай зеленый чай, – отвечает Косая.
Как выяснилось, причина ее ранних приходов другая. Косой надо было успеть разобрать все пришедшие за ночь факсы, потому что днем она на полтора часа отлучалась – сдавала экзамены в автошколе.
И сдавала их уже довольно долго.
– Ну сколько можно отпрашиваться! Четвертый раз идешь! Что там у тебя не получается? – недовольствовал Корольков.
– В «бокс» не могу задним ходом въехать…
– Деточка, это же очень просто! – вдруг раздался прокуренный бас бухгалтерши Владлены Узьминичны. – Вот когда я училась водить машину, инструктор так объяснял: выкручивать руль нужно сразу, как только палка поравняется с плечом. Я тебе говорю – все получится. Давай, постарайся. И хватит уже прогуливать, поняла?
Вот бабка! – думаю я. Какую машину она, интересно, водила? «ГАЗ-А», что ли? Так и представляю ее за рулем кабриолета – лихачка, шарф развевается, волосы по ветру летят… Юрий Пименов, «Новая Москва», 1937 г, 140х170, холст, масло.
Владлена Узьминична у нас живая легенда. Ей восемьдесят четыре года. В прошлом математик, чемпион Одессы по шахматам, Узьминична прекрасно адаптирована к современной жизни. Она не боится компьютеров, электронных платежей, яндекс-денег, заказывает косметику в интернет-магазинах, у нее даже есть свой блог, который она ведет на сайте Live-Journal под псевдонимом Blondy_Vladdy, – я один раз подглядела.
Я понимаю Владлену Узьминичну: ей очень хочется жить.
Узьминична и зимой носит обувь на каблуках, шьет на заказ костюмы, стрижется под пажа и красит волосы в светло-пепельный с розоватым отливом цвет. У нее всегда французский маникюр и педикюр, наверное, тоже – проверить это возможности нет, но вряд ли я ошибаюсь. Узьминична курит элитные сигареты Sobranie и уважает коньяк. Муж ее остался в Одессе, и, похоже, они не общаются. Для полной законченности образа хочется распрямить ей спину, но нет, восемьдесят четыре года не шутка, и сгорблена она уже непоправимо.
И это единственное, что ее портит.
– Ух ты! Как в музее! – Родион ходил по квартире Марины и осматривал коллекцию артефактов. – Очень много мелких предметов. И крупных тоже. О, «Орел»! У моей бабушки были такие часы. Каждый час били, я спать не мог по ночам. И такая солонка с ложечкой… и тарелки с сиренью… и супница… и поильники кисловодские стояли в серванте. Эти вещи пригвождают нас к прошлому, пожирают пространство, – зачем они тебе?
– Знаете… – сказала Марина.
И рассказала нам случай. На первом этаже розового дома по Сходненской, сорок шесть, жила дворничиха Марь Матвевна. У нее была внучка лет четырех. Однажды они пошли гулять и во дворе увидели больного, чуть живого голубя. «Давай его возьмем!» – «С ума сошла всякую заразу подбирать!» Вернулись с прогулки, внучка думала, думала… «Бабушка! А если бы это была я?!»
– Марь Матвевна мне говорит: «И тогда я помчалась во двор, бегу и прошу: хоть бы он еще был там!! Потом восемь лет на балконе прожил». Вот и я, увижу игрушку на свалке и думаю: Господи! А если бы это была я?!
От безденежья я решила стать репетитором. Репетировать я могла только по одному предмету: по финскому языку, после филфака я его знала в совершенстве. А вдруг? Богатый район, вполне могут клюнуть на экзотику. Говорят, в Хельсинки недвижимость растет в цене… хорошая возвратность инвестиций… Тур-бизнес, опять же… Короче, нужная вещь этот финский язык, что ни говори.
Возникает вопрос: а что мешало преподавать, например, наш великий-могучий вкупе с литературой? От этой идеи я отказалась по заурядной причине: побоялась, что разовьется идиосинкразия к чтению, а врожденная грамотность превратится в приобретеннуюбезфамотность. И вот, пользуясь служебным положением, я напечатала сто копий объявлений «Финский язык, уроки вечером, недорого. Для бизнеса и души. Подготовлю в ВУЗ» – и потихоньку расклеивала их у подъездов соседних домов во время походов за «Парламентом».
Прошло две недели. Звонков пока не было, но я заметила, что в последние дни с объявлений стали исчезать язычки с номером телефона. Вчера шесть штук было оторвано, позавчера – четыре…
Может, надумают все-таки?
Остужая на улице сигареты, я увидела, как мужчина в черном пальто отрывает телефон с моего объявления. Что-то в его фигуре показалось знакомым. Я присмотрелась и узнала Славу Сороку. В первый момент я даже подумала: зачем ему финский язык? Но когда он небрежно скомкал бумажку и бросил ее на тротуар, я все поняла.
Он хотел дать мне надежду.
Самое ужасное, что я влюбилась в Родиона еще до того, как узнала, что он женат, – так что обратной силы это не возымело. Правда, женат он был формально: три месяца назад супруга выставила его за порог и жила теперь одна с дочерьми. То есть ужасное заключалось не в том, что штамп в паспорте, а в том, что у него были дети. И он их любил.
«Не прогоняй меня, пожалуйста», – сказал он через четыре дня после нашей встречи. И я сказала: оставайся. Я была еще неопытна в таких делах и принимала все за чистую монету. За один вечер мы собрали Родионовы вещи, и из грязного деревенского дома, который снимал в деревне Грибаново, он перебрался ко мне на Нелидовскую.
Эйфория длилась ровно неделю. А инерция несколько месяцев.
В день «Роллтона» в Розовых домах Родион оказался неслучайно: привез теще подарки для детей. Он и сам раньше жил здесь, да не ужился. История, с одной стороны, витиеватая, а с другой – обыденная до безобразия. Семья Родиона приехала из Ростова. С насиженных мест снялись по зову тещи, которая всю жизнь жила в Москве в общежитии, а потом получила трехкомнатную квартиру от трикотажной фабрики и от скуки выписала к себе дочерей: старшую Тамару, жену Родиона с тремя детьми, и младшую Елену, незамужнюю.
Против Москвы Родион ничего не имел; едва разобрав чемодан, он кинулся зарабатывать деньги, ибо вынашивал план со временем съехать от тещи. Судьба привела его за город, в дачный поселок Сосновый Бор: устроился хаус-кипером к подпольному миллионеру Гринбергу, владельцу банка «Гарант». Там же нашлась работа для Елены – детям банкира требовалась гувернантка. Тамара осталась в Москве. Несколько дней в неделю Родион и Елена жили в доме миллионера, а выходные проводили с семьей. Елена бывала в городе чаще – на уроки отводилось всего четыре дня в неделю, – и это обстоятельство повлияло на судьбу Родиона. Каверзным образом..
Лучше бы она в Москве сидела. Для всех было бы лучше.
Есть хотелось так… есть хотелось просто зверски. Просто истерически. Есть хотелось, как в Ленинграде в сорок втором году.
Корольков со свитой умотал на ревизию книжной точки в «Олимпийский», а мне было велено весь день сидеть у телефона и ни на шаг не отходить.
Впервые за два месяца работы в «Марте» я осталась одна. Эйфорическое, надо сказать, состояние. И первым делом… нет, не полезла изучать содержимое хозяйского холодильника, а выключила радиоприемник. Фуф! А теперь поглядим, что тут можно сожрать. Так-с… Сожрать нельзя ничего. А в морозильнике? И в морозильнике ничего. И в овощном отсеке. Одни ледяные наросты. Интересно, размораживать холодильник тоже я должна?
Умная девочка что бы сделала в такой ситуации? Сняла бы трубку с телефона, мол, занято, и сбегала бы в «Диету». А глупая? А глупая терпела бы до вечера. Только у нас глупых нет. У нас все умные.
Так-то, Корольков!
Что делает мужчина, обретя новый дом? Правильно: он затевает ремонт. Последний раз квартира ремонтировалась, когда ее хозяйка ходила в подготовительную группу детсада. То есть шестнадцать лет назад. И теперь покрытие потолка скорее походило на потрескавшуюся яичную скорлупу, чем на побелку. Четыре розетки из десяти не работали. Обои местами вытерлись так, что сквозь бумагу проступал прежний культурный слой. Это была хорошая мысль, о ремонте. Квартира его не просила, а требовала. Но как-то так получилось, что чисто мужская затея оказалась переложена на женские плечи. Родион занимался ветряными электростанциями, ездил на работу за город и приходил не раньше десяти, когда с ремонтных забот пора было переключаться на домашние. Скушать борщ. Посмотреть телевизор. Прочитать главу из Лавкрафта. Принять ванну. Лечь спать.
Впервые в жизни я управляла коллективом. Из четырех человек, едва понимающих по-русски. Ремонт пришелся на январь, я ездила на строительный рынок, как на работу, и собрала на себя все тридцатиградусные морозы.
Коллектив был узбеки; повиснув на стремянках под потолком, со жбаном «Родбанта» и шпателями, они пели жалобные народные песни, и мир становился каким-то нереальным.
Для удобства они придумали себе русские имена.
– Гена, а как тебя по-настоящему зовут?
– Гулом.
– А что это значит?
Долго и мучительно думает, как на экзамене.
– Ну… Он служит у Бога.
– Ангел, что ли?
– Ага, ангел! – это с облегчением.
Узбеки рады, когда на человека удается заработать сто баксов в месяц. Каждый первый из них нелегал, каждый третий в уголовном розыске, а у каждого десятого туберкулез. Паспортов у них нет, они их прячут, закапывают под старой сосной, чтобы не отобрала милиция: если узбек лишится паспорта, ему не уехать обратно.
Участковые свою поляну пасут исправно. Пронюхали, что мы ремонтируемся, и караулят по очереди у подъезда, ждут, когда узбеки очередную машину со стройматериалами начнут разгружать.
– Пройдемте. Составим протокол о нелегальном использовании иностранной рабочей силы.
– С чего вы решили, что они иностранцы? Вы видели хоть один паспорт?
– Тогда забираем всех для выяснения личности. Минус пятьсот рублей. Умножаем на количество разгрузок и получаем весьма приличную статью расходов.
Плюс – белоснежный потолок, новые флизелиновые обои, исправный санузел и – факультативно – познания, где среди ночи приобрести мешок цемента и как правильно приготовить узбекский плов. Это вообще-то секрет, но я открою: моркови должно быть больше, чем риса, а рис слегка недоварен. А «мама-не-мама» кто? Я долго соображала. Мачеха? Нет, оказалось, бабушка Ангела, он рассказывал про нее вечерами.
По настроению Родион вникал иногда в ремонтное дело и указывал на упущения. «У нас нет хорошего разводного ключа!» – замечал он с упреком, и тогда я с утра бежала в «Хозяйственный». Но было бы несправедливо говорить, что его вмешательство только прибавляет хлопот, – напротив, иногда у Родиона просыпался инженерный гений и виртуозно избавлял от них. Когда срочно понадобилась витая пара, он свил провод дрелью. Закрепил концы с одной стороны в струбцину, другой – в головку дрели, секундный вж-ж-жик! – и готово. Винтик-и-Шпунтик!
Сгон, керн, анкер, шлямбур, ригель, надфиль… Лексикон моей новой жизни расширился невероятно. Надо же, скольких слов я раньше не знала. И вот сейчас, одно за другим, они вереницей приходят ко мне. Интересно, вспомню ли через десять лет, что такое шлямбур? А какие попадаются метафоры! «Ругается, как сапожник» говорят все, а «ругается, как сантехник» не скажет никто. Напротив, их профессиональный сленг ласкает слух. Подумать только, как они называют типы переходников на трубы с резьбой наружу или внутрь. Кто делал ремонт, тот знает. Мама-мама. Папа-мама. Не х… – п…, п… – п…, прошу заметить. Роскошная синекдоха. Поэзия канализационных труб.
Бригаду мы сманили. В расположенном неподалеку кинотеатре «Полет» шла реконструкция: меняли лепнину и отделку фойе. Родион купил ящик водки, приготовил конверт, пошел к бригадиру и договорился о предоставлении нам на неделю двух штукатуров, электрика и маляра, который умел заодно клеить обои и немного разбирался в сантехнике. Этими скромными силами и обошлись.
Приведя квартиру в божеский вид, узбеки стали уговаривать нас сделать гипсовую лепнину, потому что в кинотеатре остались и формы, и гипс: «Очень дешево!» – а вообще это баснословные деньги, если не из пенопласта, а по классической технологии делать. Счастливый шанс. Исключительная возможность. Родион загорелся этой идеей. Он сходил в «Полет», посмотрел лепнину и вернулся в приподнятом настроении.
– Давай сделаем! Это же так красиво. Потолок сразу станет выше. У тещи была лепнина – от стен к потолку переход по дуге, падуга называется. Это моя бывшая придумала, подсмотрела в архитектурном журнале, и сделала так же. Здорово получилось. Тебе бы тоже понравилось.
Лепнина, окаймлявшая фойе кинотеатра, на мой вкус, оказалась совершенно вульгарной. Кто выбирал этот советский шик? Массивная, витиеватая, купеческая. Густой орнамент ровным ритмом вьется сразу в нескольких плоскостях. Пальметты, листья аканта, розаны и амфоры… Меандры и ромбы, звезды Давида и Красной Армии, дентикулы квадратные и треугольные…
Я бродила по гулкому холлу, разглядывала гипсовые формы и понимала, что совершенно не хочу иметь такое над головой. Я отказалась наотрез. О чем, придя домой, сообщила Родиону. Он продолжал уговаривать, ссылаясь на символическую цену.
– Родик, квартира не кинотеатр, – приводила я контраргумент – Здесь совсем другие пропорции. Потолок станет давить, а вовсе и не вознесется, как ты думаешь. Там плашка сорок сантиметров шириной, она же прямо на шкафу будет лежать. Смотри. – Я взяла с полки рулетку и, выпростав стальную ленту, потянулась ею к потолку. – Всего полметра над шкафом. Ну куда ее?
– Ты меряешь неправильно! – Родион выхватил рулетку, встал одной ногой на подлокотник кресла, а другой на стол и принялся измерять расстояние сам.
– Ну и?.. – сказала я. Результат был точно таким же.
– Можно шкаф другой купить, – не сдавался он.
– Я не хочу другой, мне этот нравится.
– А пошло все! – закричал внезапно Родион и швырнул метр на пол. Стальная змея отскочила от пола, больно вжикнула по ноге…
– А-ах! – выдохнула я от неожиданности. Родион выбежал из комнаты. Через минуту хлопнула входная дверь.
Отношения наши спасло только то, что гипсовые формы от узбеков все-таки пригодились: Родион никак не мог успокоиться, что возможность пропадает зазря, он поработал рекламным агентом – и через месяц лепнина вознеслась под потолок Марининой квартиры: сначала в маленькой комнате, потом, последовательно, в коридоре и в большой. Даже ванную и туалет опоясала фигурная галтель. С предубеждением я шла к ней смотреть результат, но, когда переступила порог, мнение свое изменила: в ее кунсткамере такое украшение было вполне уместно. Поразительное дело, лепнина мне даже понравилась. Вот ты отказалась, назидательно сказал Родион, а узбеки уже уехали. Но видишь, ты видишь, как хорошо получилось?
По пятницам, ближе к концу рабочего дня, в издательство съезжалась орава дружков Королькова – поиграть в преферанс. Для Королькова это занятие составляло если не смысл жизни то, во всяком случае, меру вещей. Припоминаю случай: когда, не расплатившись за часть тиража, бесследно исчезли посредники из Усть-Каменогорска, Корольков отреагировал примерно так: «Да Бог с ними, с этими ста баксами, – сказал он, зевнув, – завтра у Шапиры в карты выиграю».
Покручивая на толстых пальцах брелоки от автомобилей Volvo, приятели Королькова гурьбою вваливались в наш и без того тесный офис и усаживались за длинный директорский стол. Начиналось священнодействие, которое длилось, я полагаю, до поздней ночи.
В такие дни в мои обязанности входило закупать пол-ящика пива, два батона белого хлеба, кило телячьей колбасы, четыре ванночки сыра «Виола» и неизменный кулек пирожков, а наутро в понедельник мыть за игроками посуду. Это было непросто, потому как к пиву непременно прилагалась сушеная вобла, – и чашки, ложки, стаканы, блюдца и прочие столовые приборы чудовищно воняли рыбой самого неблагородного происхождения. Мыслимое ли дело – мытье посуды в вечно затопленном туалете, где чуть ли не по щиколотку воды, а стены сплошь покрыты зеленоватой замшей микрофлоры. Ничего, говорила я себе, Цветаева тоже работала судомойкой. Да, но она от такой жизни повесилась.
Я нарезала телячью колбасу, мазала на булку «Виолу», раскладывала на красном пластиковом подносе пирожки и как заправская старорежимная Глаша подавала все эти земные соблазны на стол.
К счастью, мой рабочий день официально заканчивался в шесть, и больше чем на час они меня обычно не задерживали. Это сверхурочное бдение, в общем-то, даже шло мне на пользу. Два бутерброда на блюдо – один в рот. А хвостики колбасы – в сумку. А пирожок в салфетку и тоже в сумку. Не помирать же с голоду. К тому же в конце рабочего дня Корольков заметно добрел. «Съешь, съешь еще булочку – там остались», – с отеческой заботой в голосе настаивал он, проходя мимо моего боевого поста курить в коридор.
Периодически кому-нибудь из игроков звонила жена.
– Тсс! – зажав динамик рукой, а другой подавая знак «мне пока не наливать», шипел застигнутый врасплох картежник. – Тихо! Это Наташка! Тихо, я сказал! – И в заговорщицкой тишине супруге серьезно и кратко сообщалось про неотложное заседание.
После случая с лепниной мне бы указать на дверь, но я распахнула ее еще шире, потому что простила его. Зачем? Примирение сблизило нас настолько, что Родион стал поверять темницы своей души. Я не искала этих бесед, напротив, я старалась от них увильнуть: Родион одолел рассказами про бывшую семью. Фигуранты трагедии – шесть женщин. Жена Тамара, красавица осетинка, ее сестра Елена, пава долговязая, теща и три девочки – две свои и одна Тамарина от первого брака: Софья, Мария, Надежда, по старшинству. (Несколько полароидных фотографий – серьезные малютки с красными глазами, – потеснив мою скудную утварь, заняли почетное место в серванте.) Восемь, пять с половиной и год. Все черненькие, глазастые. Старшая дочь, Соня, неродная: маленькая обаятельная вредина, похожа на Кристину Риччи в фильме «Семейка Адамсов». Средняя, Маша: любимая, ангельской красоты создание, хрупкая, как былинка. Младшая, Надя: грудной младенец, когда семья распалась, еще не умела говорить. Привязаться он к ней не успел. И-они-его-бросили!
Таким образом, полугодичное ежедневное нытье умещается в один телеграфный абзац. Но это ремарка. Пропьянствовав с горя неделю, Родион сделал жест: отправил друга в ломбард продать обручальное кольцо, и тот выручил за него четырнадцать долларов США. А после пропили и это.
Почему она прогнала его, безработная и с тремя детьми? Младшая, наверное, уже ходит. Подозреваю, что она не знает слова «папа». Странно, он говорил, что даже старшие называли его Родя. Представить не могу, что такого мог сделать человек, чтобы жена предпочла в одиночку растить троих. Даже если блудил – ну и что? Что? Я-то вижу, как он их любит. Их. Не меня.
Родион вспоминает детей чаще, чем было бы допустимо в контексте того, что теперь у него есть я. Это довольно жутко. Он вопит: «Машка!» – и катается по ковру, не обязательно пьяный, взрослый человечина двухметровый. Говорит, что когда-нибудь не вынесет этого. Я сижу рядом, а что мне еще остается.
«Я приезжал с работы каждое воскресенье. Мы жили тогда еще вместе, здесь, в сорок четвертом доме. Ей было пять лет. Она ждала меня каждый раз, на детской площадке, она бежала навстречу, падала, разбивала коленки. У нас был настоящий осенний роман…»
Не так страшен черт, как его малютка.
«В один прекрасный день я получил от Тамары странное письмо. Записку привезла Елена. В ней было сказано: «Я не хочу тебя ни с кем делить, и не хочу тебя более видеть». И далее угрозы прибегнуть к помощи службы безопасности в том случае, если я все же осмелюсь явиться сюда еще раз. Я думаю, это Елена. Из-за комнаты. Там было три комнаты: детская, тещина с Еленой и наша с Тамарой. А Елена хотела собственную, потому что писала диссертацию. А так – меня нет, Тамару к теще, а она одна – в ту комнату».
И далее драматическое повествование о том, как хитрая и коварная свояченица выкурила Родиона с семейной жилплощади, что при ревнивой жене оказалось проще простого. В два счета.
О, демонетта! Каждую среду Елена приезжала в Москву с полным чемоданом сплетен. Родион заигрывал с соседской экономкой; Родиона подвозила из торгового центра блондинка на голубой «нексии»; Родионова рубашка подозрительно пахнет духами «Шанель номер пять»… Калейдоскопом закружились темные фантазии Тамары. И Тамара написала это письмо. Прочитав его, Родион бросился на станцию. «Всю дорогу я думал, что делать, и не мог найти решение. До Москвы оставалась одна станция, Немчиновка, и тут меня осенило. Не было никакого письма!!! Елена забыла его передать. Я ничего не знаю. Ничего не произошло. Надо себя вести как ни в чем не бывало.
Я схожу с электрички, покупаю гостинцы, много гостинцев, икра, сервелат, коробки конфет, мандарины, бананы… Беру такси. Подъезжаю. Звоню в дверь. Открывает Тамара, в глазах изумление; но все же впускает. Захожу, отдаю теще сумки с покупками, целую детей – словом, веду себя совершенно обыденно. За обедом потихоньку рассказываю: всю неделю работал как Папа Карло; причем сюжет выстраиваю так, что любые криминальные поступки исключаются просто физически. Одинокая жизнь аскета, разогретые макароны на ужин, халтура по ночам – дежурства в банке у миллиардера, – зубная боль, спазган, перечитанный роман «Бесы», с таким трудом, по блату, добытый самокат для Соньки с Машкой – тогда мода была на самокаты…
И я вижу, что Тамара начинает мне верить.
А ночью я ей все-таки сказал:
– Знаешь, я получил твое письмо…»
Это была ошибка. «Какой же ты все-таки непорядочный человек», – ответила Тамара, и это были последние слова, которые он от нее услышал.
Вот за это она не простила его. За ложь. Печальная история. Она дура, конечно, но и он – какой же дурак! Так все испортить!
…Но почему – дурак? Правильно; сразу надо было хлопать дверью и уходить. Жена поверила не ему – сестре. Тут уже ничего не исправишь.
Он сделал еще несколько заходов, но все впустую: дверь перед ним захлопнули крепко. А потом Тамара неожиданно разругалась с матерью, снялась с якоря и вернулась с дочерьми в Ростов. Так Елена получила не одну, а сразу две комнаты.
Определенно, у Родиона в тот год был очень плохой гороскоп. После случая с запиской судьба поставила еще одну подножку: посадили банкира. Особняк опечатали, и из дома с мраморными лестницами пришлось перебраться в хибарку-пятистенок в соседней деревне Грибаново. Доходы тоже сократились: вместо прежней увесистой пачки купюр от банкира в бухгалтерии конторы по производству ветряных электростанций, куда Родион устроился сметчиком, теперь по двадцать пятым числам его ждали несколько бумажек. Тоже, в общем, неплохо, но по сравнению с прежним буржуйством – как полсиницы в руке.
В этой нижней точке синусоиды я ему и попалась – на углу Нелидовской и Сходненской, с пакетиком лапши в руках.
Так спасал он меня – или ловил?
Сочинительство напомнило сцену из фильма. Людоедша готовит обед; на первое суп с фрикадельками. Камера берет крупный план, потом наезжает на котелок – и видно, что это не фрикадельки вовсе: в золотистом бульоне, бурлящем на огне, плавают маленькие человеческие головки.
Я людоедша и есть; в растворе моего рассказа бултыхаются персонажи. Всплывет Колесниченко Родион и вновь идет ко дну – характер у него тяжелый, как топор. Качнусь на поверхности я… Мелькнет Леня…
Посмотрит сквозь толщу бульона Марина… Прибьются пеной к бортикам Елена, Тамара, дети…
Иногда я впадаю в отчаяние: я выдумала, собственным роллером написала героев, а теперь не знаю, что с ними делать. Стою и смотрю на котел. А они там кипят.
Склонюсь над плитой и мешаю, мешаю человечков в бульоне. Посолю. Поперчу. Добавлю деталей. Попробую. Нет, не готово…
Фен для волос японской фирмы «Супра» я получила в подарок на Восьмое марта, предварительно прожужжав Родиону все уши о том, что у меня в жизни никогда не было плеера. Это был хороший фен, очень мощный, волосы высыхали за минуту. Я пользовалась им с удовольствием, пока не произошел следующий случай.
В один прекрасный день Родион проснулся и не обнаружил чистых носков, а через полчаса ему нужно было выходить на работу.
– Сейчас-сейчас, – сказала я, схватила его вчерашние и побежала в ванную. Через минуту они были чистые, но сырые. Я сняла с крючочка чудо-фен, натянула на него первый носок и включила продувку на полную мощность. Наполненный воздухом, он стал похож на маленький воздушный шарик. Еще через полминуты носок был сух, но испорчен, ибо на нем прожглась дырка.
– Сколько же там градусов, спрашивается? Сто? И я этим голову сушу! – ужасалась я, сидя на кухне и штопая на стакане носок. И тут в соседней комнате раздался грохот. Господи, что он там делает? – подумала я. Через секунду послышался жалобный вопль:
– Я чуть не убился!
– Ты упал?
– Нет. То есть да. Турник упал. А я на нем висел.
С недошитым носком в руках я бросилась в комнату. Родион сидел на полу, прислонившись к стене, и потирал левое колено.
– Как это ты?
– Зарядку делал…
Я сбегала в ванную за фастум-гелем, смазала Родиону коленку – ушиб оказался несильным – и помогла подняться. Вместе мы осмотрели рухнувшую стальную перекладину и дверные откосы. И выявили причину. Оказалось, с одной стороны узбеки ввинтили слишком слабый дюбель, вот конструкция и не выдержала восемьдесят пять кило человеческого веса.
– Накосорезили! Повесить не могли по-человечески! – разозлилась я. – А если бы их лепнинища ночью на голову свалилась?
Прихрамывая, Родион пошел в спальню одеваться. Он уже начинал опаздывать; а вот этого он терпеть не мог. Отреставрированный носок его тоже не очень обрадовал. Было понятно, что день не задался. Это означало, что вечером лучше куда-нибудь смыться.
Двадцать девятого декабря издательство в добровольно-принудительном порядке уселось праздновать Новый год. Косая испекла торт и выложила на нем крыжовинками «2000». Я на эти циферки посмотрела и вообще ничего есть не смогла. Стала пить чай. Корольков специально выделил по случаю праздника денег, чтобы я взяла не обычный «Майский», а юннань «Золотая обезьяна». И чего ему эта обезьяна вдруг понадобилась, вон зеркало у ресепшна висит, смотрись хоть каждый день.
Фу! Ну и запах у напитка. Как в зоопарке! Я даже сначала подумала, что забыла чайник с вечера помыть, и он изнутри заплесневел. Сделала вид, что отхлебнула, благо чашка непрозрачная.
– Как чай? – спрашивает Корольков. – Что скажешь?
– Истошно вкусный.
Экспериментатор чертов! Гурман селедочный! Держись, я тебе такое после праздников заварю!
– Ой, а что это мы без музыки сидим? – спохватилась Косая и включила «Русское радио».
– Потанцуем? – пригласил меня Чипыжов. Я вспыхнула. И не сдвинулась с места.
– Как хочешь, у нас демократия, – сказал он и, слегка пританцовывая, направился к столику Владлены Узьминичны. Она уже выпила пару бокалов шампанского и в сотый раз рассказывала историю о том, как потеряла букву.
Когда выдавали паспорта, в их селе была еще одна женщина по имени Владлена Кузьминична, жена председателя колхоза, и вот представьте, председательша подкупала паспортистку, чтобы нашу Владлену записали без буквы «К» – мол, не расслышали, – а ей сказали, что все, бланков лишних нет. На «В» от Владлены они покуситься не могли, за это и сесть можно, а вот по батьке обрезали. Со временем Узьминична привыкла к своему новому отчеству и сама уже не хотела менять – она ведь была сирота, Кузьму ей в детдоме выдумали, что он ей, Кузьма, дурак деревенский, даже поговорки про него все глупые… А тут такая экзотика досталась.
– Тряхнем стариной, Узьминична, – зовет ее Чипыжов. – Запиши меня на кадриль.
Узьминична и рада, что с нее взять, кокетка. Главный график аккуратно, словно боясь поломать, крутит бабку влево и вправо – глаза ее горят из-под огромных ресниц, и она совершенно спокойно танцует все фигуры. Blondy Vladdy! Эх, понеслась душа в рай, еще и кавалера загонит.
Не загнала. Чипыжов остался цел и невредим и после пирушки подбросил меня до метро.
– Ты замужем? – поинтересовался он с самой беспечной интонацией, выруливая по темным проулкам на Садовую-Триумфальную.
Такого вопроса я ждала, поэтому ответ придумала заранее.
– Я очень прожорливая, – сказала я Чипыжову. – Очень. Как гусеница. Вы меня не прокормите.
После Нового года Корольков решил кинуть нам кость.
– Выделяю на всех семьсот долларов за успех нашего издательства на книжной ярмарке, – объявил он торжественно. – Книжки-вырезалки разошлись за три дня! Вы – трудовой коллектив, вот соберитесь и решайте, кому сколько, а потом доложите.
Это была не самая блестящая идея. Трудовой коллектив – Косая, Узьминична, Слава Сорока, Чипыжов, подчиненные ему верстальщики и редактриса, а также я, бедная Золушка, – уселись в конце рабочего дня за длинный директорский стол и начали делить добычу.
– Ну? – сказала Узьминична. – Поровну или по-братски?
– Чего это вдруг поровну? – ринулся в бой Чипыжов. – Я, между прочим, этим проектом руководил. А некоторые и палец о палец не ударили, – он посмотрел на меня.
– А я с регионами работаю, – ввернула Косая. – У нас основные продажи где?
– Лариса вообще-то каталась по Москве целыми днями…
– Я не виновата, что у меня нет лишних денег на взятку ГИБДД. А вы-то что делали?
– А кто этих кукол, по-твоему, нарисовал, а? – сказал главный график.
– А кто обтравливал? – взвились верстальщики. – По сто двадцать картинок на книжку! Это ж взбеситься можно, рука отсохнет, пока сделаешь.
– А кто в типографию мотался? Видели, какие были цветопробы? Лица серо-буро-малиновые! Если бы я брак тогда не отловил, весь тираж к чертям, никто ни одной книжонки не купил бы. А это вообще не моя работа! – сказал Сорока.
– Самое главное – предыстория. Если бы я не придумал пять лет назад печатать эти дурацкие вырезалки, вообще ни хрена б вы тут не сидели. – Градус беседы повысился, тон становился все резче.
Узьминичне такое не понравилось.
– Геночка, вы не правы, – ответила она Чипыжову. – Таких придумщиков у нас целый Полиграф. Если делать некому, то все свои придумки в задницу себе засуньте.
Обычная картина: никто друг без друга не может, и каждый при этом считает, что главное сделал он. Чем все заканчивается? После часа словопрений римского сената самая активная баба (в нашем случае Косая) пишет список, несет его барину, тот говорит – угу – и делит по-своему. И никому не говорит – мол, я переделил. Через два дня появляется ведомость – все молча получают, пар уже выпущен. Мудрый, собака, мудрый барин.
Иногда после работы я гуляю. Мой любимый маршрут – до метро «Проспект Мира». У Каретного перейти Садовое кольцо – и на север по недолгой шумной Долгоруковской. В советское время она называлась Каляевской. Сто лет назад эсер бросил самодельную бомбу под коляску московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Князя разорвало взрывом в клочья – в честь Каляева назвали улицу. Если взглянуть направо, видно, как среди домов маячит, стремится к небу палка черной, словно обгорелой колокольни Николая Чудотворца. В храме студия «Союзмультфильм» рисует мультики, а раньше люди шли к иконе с чудесами.
Потом по заснеженной Селезневке, мимо пожарной каланчи с тонким и легким шпилем – верхушка его, раздваиваясь, образует подобие тиары, – мимо Селезневских бань, прудика Андроповской ямы, магазинов для толстых людей… Это крюк, петля, но я сворачиваю на Достоевского – там, в больнице, работал его отец. Все дома – желтого цвета, службы и корпуса. Есть виварий. Когда прохожу мимо, мне всегда кажется, что они воют.
Вот памятник Достоевскому работы Меркурова – 1918 года. Раньше стоял на Цветном бульваре, в 1936-м перенесли сюда, в начало улицы Достоевского. По легенде, Меркуров ваял его с Вертинского – та же театрально-картинная, с воздетыми руками поза…
Из петли – снова в сторону проспекта; я почти в той же точке, только с другой стороны от театра; Самотека, зыбучие пески, дома на подземной реке, проседают, – и не могут открыть метро, и возносится пентаграммой Театр, вечером страшно между огромных колонн, подсвеченных, колоссальных, никакой с ним Казанский собор не сравнится – столько жути повисло в мертвых пустотах между его капителей…
В парке Советской Армии – красноармеец, печальный, как Вещий Олег, ногой попирающий череп: во взгляде покорность судьбе. Все предопределено…
А что лучи колосса-театра показывали на пять московских вокзалов – неправда: во время войны был замаскирован под церковь.
А что до него здесь была церковь – тоже неправда: была, во имя Иоанна-воина, но только не там, а где сейчас гостиница ЦДСА.
Институт благородных девиц – Екатерининский дворец. Раньше заседали масонские ложи – теперь музей Российской Армии и дом культуры. В клубе – бальные танцы, детская студия. Освещенный танцзал – окна первого этажа; припасть к стеклу и смотреть, и смотреть, как медленно – через счет – кружатся пары. Белые пышные платья… Новогодняя сказка.
Сгоревший летний театр. Будочка бывшей читальни – теперь картежно-шахматный клуб.
Правее – железобетонный остов бывшего кафе, вверху прочитывается надпись: «…илия». Илия пророк все уволок.
Лодочная станция.
Летняя эстрада, танцплощадка, которую бальники называют «сковородка». Рабочие валят деревья. Ресторан. Светомузыка.
Из парка – в боковую калитку. Уголок Дурова. Кто из великих сказал: «Цирк – это дьявол»?
Рядом конюшни, церковь с черными куполами, храм Троицы Живоначальной в Троицкой слободе, в нем – оркестр Вероники Дударовой. Репетируют Шнитке. Дзынь! – ударяют литавры. На espressivo и sforzando c крыши с карканьем взлетает стая ворон.
За Самотекой – проулками до гигантской бетонной таблетки Олимпийского – на него не смотреть, про накладные не думать, любоваться бирюзой синагоги и зубцами псевдоготического дома Нирнзее, теперь там билетные кассы спорткомплекса; пересечь площадь с уличным книжным торгом, посреди нее церковь Филиппа Митрополита, возведенная на месте встречи мощей задушенного по приказу Ивана Грозного святителя митрополита Московского, перенесенных из Соловецкой обители. Светло-желтое, с мозаиками, здание церкви считается неудачей: шайба на шайбе на шайбе, несоразмерно убывают объемы, – а мне кажется, есть в этой неправильности что-то трогательное, как в произведениях наивного искусства. Затем миновать офисный комплекс, «Мак-доналдс», окутанный шлейфом горелого масла, двухэтажный особняк с художественной галереей и конёнковскими атлантами под эркером…. Я почти дошла до метро. Прохожу турникеты, спускаюсь по эскалатору. Следующая станция – «Сухаревская». На «букашке» по Садовому этот отрезок занял бы десять минут. Мой крюк – равен часу.
В прошлой жизни Родион был Мойдодыром. Это несомненно. Малейшие беспорядок или грязь надолго выводили его из себя. Это был пунктик; Родион требовал, чтобы в доме было стерильно, как после автоклава. Он был беспощаден, неумолим, и это здорово поддерживало меня в тонусе; а я поддерживала чистоту в квартире.
Иногда уборка преподносила сюрпризы. Сегодня я получила целых два: приятный и не очень. Первым стал сложенный пополам тетрадный листочек с перечнем дел Родиона, обнаруженный в его комнате за батареей:
1. Вылечить зубы
2. Трудовая книжка
3. Загранпаспорт
4. Зимние ботинки
5. Ремонт
6. Получить права
7. Найти др. работу
8. Развестись
Пункт номер восемь обнадеживал. Я нежно сдула с бумажки пыль, положила ее на стол, придавив пресс-папье, и перешла к протиранию подоконника. Танцуя тряпкой между гераний и пеларгоний, я осознала вдруг, что громко напеваю марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Второй сюрприз поджидал в уборной: оттирая унитаз, испортила санитарным гелем платье. Я хотела всего лишь получше смочить им губку, но – кап-кап-кап! – дорожка мелких капель пересекла наискось подол, и ткань стала бледнеть прямо на глазах. Я заметила сразу, бросилась промывать пятна водой… Не помогло. Хлорка успела впитаться, и на плотной байке цвета черничного киселя остались белесые разводы.
Как жалко! Платье было простеньким, но я его любила. В расстроенных чувствах присела я на бортик ванны. Единственным человеком, кто мог чудесным образом спасти вещь от мусорной корзины, была Марина. В этом я не сомневалась. Но как? Сделать вытачку? Поставить заплатку? И тут я вспомнила, как она вышивает по ткани свои стихи. Мне нужна аппликация! Это должна быть какая-то надпись, подумалось мне. Озорная и остроумная. Возможно, даже хулиганская. И на другом языке, чтобы прочли только те, кто его понимает. Допустим, французский…
Из чего вырезать буквы, я уже знала: вчера любовалась на обрезки переливчатой фиолетовой материи от китайской кофты, которую Марина сшила дворничихе Марь Матвевне. Если сделать из них аппликацию, в пандан к черничному киселю будет неплохо.
Я взяла с журнального столика телефонную трубку, набрала номер…
– Сколько нужно ткани? – спросила Марина.
– Чтобы хватило написать по-французски что-нибудь типа «под платьем я голая», – ответила я, и мы стали думать, как сказать покороче.
– Может быть, sous cette jupe je suis nue?
– Нет, проще застрелиться, чем столько букв вырезать и пришить.
– Можно и проще: je suis nue?
– «Я – голая?» Некуртуазно. Да и какая же я голая, когда я в платье.
– Идея, – воскликнула Марина. – Nue dessous! Коротко и ясно.
– «Голая под…»! Отлично! – сказала я. – Всего одиннадцать букв. Управлюсь за полчаса.
Единственный на все издательство ксерокс стоял в кабинете у Чипыжова, и он к нему никого не подпускал. Когда нашему отделу требовалось снять копии с документов, я бегала на другую сторону Садового кольца и отдавала их в копи-центр. У Королькова, судя по всему, имелся под это дело бюджет, который он время от времени пытался зажать, отксерив по тихой у Чипыжова, после того как тот уходил домой. Сегодня был как раз такой случай – день экономии. Корольков выдал мне стопку листов, довольно увесистую, и, убедившись на вахте, что Чипыжов ушел, заслал меня диверсантом по чипыжовский ксерокс.
Я стояла лицом к окну, когда дверь распахнулась и в комнату влетел запыхавшийся хозяин – оказалось, забыл на столе барсетку.
– Что ты тут делаешь?!
Половину страниц, которые всучил Корольков, я отксерила, а вторую половину не успела.
– Вадим Петрович велел…
– Вон из моего кабинета! – рявкнул Чипыжов. – Сколько можно говорить! Мне Корольков картриджи не покупает! И нечего глазки строить, не поможет.
– Ухожу, ухожу.
– Ну я же просил! – не унимался Чипыжов. – Мы графику ксерим! Нам идеальный картридж нужен. Как вы не понимаете – идеальный!
– Хорошо, я передам Вадиму Петровичу.
– Вот и передай! Повторять ему не пришлось.
Я сгребла в охапку теплые страницы и ретировалась. Мне же лучше. Время половина седьмого, и какого дьявола я здесь торчу.
К нам на фирму часто приходят устраиваться художники. Мне их жалко. Они думают, раз у нас профиль «детские книги и календари», значит, нам нужны иллюстрации и они смогут подработать.
– Хорошо, – отвечает в таких случаях Чипыжов. – Но сначала нарисуйте нам бабу-ягу. А там поглядим, подходите вы или нет.
Коварный Чижопин! Не говорит пока, что будет платить по пять долларов за картинку.
У нас уже целая коллекция баб-яг, хоть выставку вешай.
Зачем он так делает? Может, в детстве книжки с картинками не покупали?
Но кто-то ведь соглашается, рисует для Чипыжова за эти деньги. И предложение если не перекрывает, то во всяком случае равняется спросу. Иначе сборники сказок выходили бы с пустыми страницами. Но как у нас принимают работы! «Вы недостаточно изучили анатомию кошки». «Веселее мышка должна смотреть, веселее!» Еще и придирается, гад, – а девочка эту несчастную мышкув четвертый раз принесла. Сидит, вот-вот разревется.
Я не говорила Родиону, что подрабатываю фотомоделью. Официальной версией моих вечерних отлучек было преподавание русского языка марокканцу, инструктору по физическим контактам в Главном разведывательном управлении. Статус последнего предполагал некую таинственность и недоговоренность вокруг происходящего, так что в эту часть моей жизни Родион понимающе не лез.
Для достоверности приходилось выдумывать казусы.
– Знаешь, чем он сегодня отличился? «В полях растет пышница»! Понимаешь – пышница! Жалко даже поправлять.
На самом деле у меня было занятие поинтереснее. По вторникам, средам и пятницам, в восемнадцать часов тридцать минут, к памятнику Пушкину подъезжал джип фотографа Лени Ленинского, «тойота рав четыре» с номерами 1945 («очень легко запомнить – победа над Германией»), и я, придерживая меховые полы френча, садилась в душистый, пахнущий дорогой кожей салон авто. Машина трогалась, за окном сверкала Тверская, проносилось Садовое кольцо, потом Леня сворачивал на Космодамианскую набережную, и, доехав до ветхого двухэтажного особняка, в котором располагалась студия, парковал машину в темном сыром закутке между помойным контейнером с одной стороны и бетонным забором с другой.
О, сколько раз, оказавшись в этой зловонной норе, я вспоминала Марину!
Старые дома исторгали сонмы состарившихся и отживших свое вещей, которые ни за что ни про что мокли, сырели под снегом и, оскверненные соседством картофельной шелухи и рыбьих голов, всем своим видом беззвучно взывали о помощи – чтобы пропасть через день в оранжевом чреве мусоровоза.
Апофеозом беспощадности помойки стал день, когда на месте парковки мы обнаружили кабинетный рояль, старый расстроенный «Оберфилд», он стоял среди мусора, одинокий и никому не нужный, как белый слон.
– Поиграем? – предложил Леня.
Мы отыскали пару ящиков, уселись за инструмент. Лещинский вспомнил пьесу Вила-Лобоса и побежал тонкими пальцами по костяным клавишам, я нашла нужную гармонию в басах и придумала пронзительный контрапункт, и лилась, вилась, словно дым, музыка.
Под конец мы совсем разошлись, прямо дубасили по клавишам, все ребра инструменту отбили. Это была среда. А в пятницу он исчез…
В студии я сбрасывала френч, Леня пристраивал на оленьи рога свой берет «модлен», бросал на стол трехгранник «Тоблерона» – обожаю этот шоколад – нарезку брауншвейгской колбасы, хлеб, сигареты и зажигалку, мы пили мате из отделанных серебром калабасов, потом я долго красилась, сооружала на голове вавилонскую башню, подбирала наряды, Леня расставлял аппаратуру, настраивал освещение, после чего усаживал, укладывал или устанавливал меня в нужные позы, он снимал ретро, это нужно было для тематического сборника клип-артов, и в ход шли веера, павлиньи перья, ридикюли, горжетки и жабо Муртады.
Позирование продолжалось до позднего вечерас последовательным переходом от неприступной матроны с туго заплетенными косицами вокруг чела к куда более раскрепощенным сюжетам. Мне и самой смешно было наблюдать, как шаг за шагом презрительно поджимавший губки синий чулок превращается в полуобнаженную красотку с плакатов пин-ап. Пленительная ролевая игра; и так не хотелось потом снимать веселые юбки в крупный горох, матроски и гольфы, разрушать бабетту…
Но – ничто не вечно. Окончен бал, часы двенадцать бьют… Карету мне, правда, все равно подадут – но только до метро. За сорок минут пути грезы развеются, взор погаснет, и я приду домой уставшая и никакая.
– Как марокканец? – спрашивал обычно Родион, едва я переступала порог прихожей.
– Тюль… – отвечала я, закатывая к небу глаза.
– Какой еще тюль?
– Представляешь: это у него тюльпаны. Весь вечер бились – так и не научился.
Четвертый час сижу над «Машей и медведями». «Жили-были старик со старухой…». Вот как, как перескажешь это своими словами? «Однажды два пенсионера…», что ли? А надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать и успеть сделать это до вечера, потому что завтра уже будут верстать.
Корольков с Сорокой уехали на склад, в офисе осталось одно бабье царство. За спиной у меня квакают бухгалтерша Владлена Узьминична и Косая. «Квака», или, по-правильному, «Квейк», их любимая компьютерная игра, прямо оторвать невозможно. Мне тоже интересно, я бросаю несчастных «медведей» и иду подсматривать через бухгалтершино плечо.
– Хочешь за меня поквакать? – вдруг снисходит бухгалтерша, – а я пойду покурю.
– Спасибо, Владлена Узьминична, я воздержусь. То, что в комнатах надо искать, а в коридорах – убивать, я и так знаю.
А на самом-то деле я просто не умею. Не умею я в эту тупую игру. И мне стыдно признаться.
Утро Родиона начиналось с каши, и только каши, и это был ритуал.
Кашу сварить непросто. Это только кажется, что ерунда – высыпал манку в кипящее молоко, размешал и крышкой накрыл. Я проделывала эти действия изо дня в день, но так и не смогла угодить Родиону.
– Детка, я люблю жидкую! А ты мне опять клейстер сварила. Не могу я жрать этот обойный клей! Или молока побольше наливай, или крупы поменьше клади!
Настроение у мужчины испорчено. Если не на весь день, то до обеда точно. Я и сама не рада: ему добычу в дом носить – а у голодного мужика какая добыча? Я знаю, что он сейчас скажет. У Тамары были такие вкусные каши! Салаты и пироги! Осетины вообще замечательно пекут. Это москвички-неумехи блюдо из двух компонентов состряпать не могут. Столичные самоуверенные дуры, недооценивают значение питания мужчины. Да. Я проверяла этот квест на Леониде, и ответ был таков: «Встречаешь барышню. Сначала видишь красоту. Потом эрудицию. Потом – секс. А потом задаешь себе вопрос: «А буду ли я есть ее суп?» – «То есть вкусный суп важнее лица?» – «Ну конечно!»
Так что моя личная жизнь была под угрозой. Я это понимала и всеми силами старалась исправить. В журнале «Космополитен» я вычитала рецепт «Помидоры, фаршированные кокосами с сыром». Он был несложным, но многообещающим. Полкокоса натереть + сыра столько же + укроп, петрушка, чеснок, орегано + майонез. Перемешать начинку и нафаршировать помидоры. Сверху украсить веточкой петрушки. Я закупила в «Двенадцати месяцах» ингредиенты и, закатав рукава, приступила. Через полчаса помидоры были готовы. Попробуем… Отлично! Возрадуйся, Апициус! Все получилось.
– Вкусно? – с замиранием сердца спросила я Родиона.
– Терпеть не могу редьку. – Он отодвинул тарелку с экзотическим блюдом на середину стола.
– Там нет редьки, – сказала я.
– А это что? – Родион поддел вилкой холмик начинки.
– Тертый кокос…
Родион посмотрел на меня, как на ненормальную, и полез изучать содержимое холодильника.
Тамарочка его, конечно, повкусней кормила. «Девушка, я вас умоляю, не ешьте это! Три года этой гадостью питался и просто не могу смотреть!»
Несчастья повалились на меня с того дня, как уволили экспедитора Славу Сороку. У Славы тоже была маленькая зарплата. И он тоже нашел выход из положения: нанимал машину для доставки тиража на пять часов, а оборачивался за три. Оплата шла наличными. Половину разницы он отдавал шоферу, чтобы тот молчал, а половину забирал себе. После чего отпускал машину и шел в ближайший «Макдоналдс» читать «ТВпарк» или «Спид-Инфо». За этим его и застукал зашедший туда по нужде один из приятелей Королькова.
Сопровождать тиражи меня, девушку, они, конечно, заставить не могли, но все остальные мелкие побегушки, ранее входившие в обязанности Сороки, пополнили реестр моей ежедневной рутины.
О, поездка на книжную ярмарку в «Олимпийский» была еще отрадой. Сделав дела – забрать выручку и передать накладные, – можно было пройтись по книжным рядам и даже, если повезет, купить недостающий том Пастернака. Магазин «Библио-Глобус» тоже меня не пугал – скорее наоборот, привлекал своим отделом «Подписные издания». Со всем этим еще можно было смириться, но сим дело, к сожалению, не исчерпывалось. Высшей мерой наказания был склад «Центр-книги» в далеком и ледяном Карачарове. Мало того что автобус от станции метро «Авиамоторная» ходит туда раз в полчаса – потом еще от остановки минут пятнадцать топать по пустынной промзоне, где из каждой подворотни на тебя норовит броситься стая четвероногих друзей человека.
Вот и сейчас – из-под забора показалась лохматая рыжая морда и после недолгого размышления взяла прямой курс на посторонний объект.
– Малыш, Малыш, у-тю-тю… – Складских собак всегда почему-то зовут Малыш. Не помогло. Косматое чудовище неслось на меня со всех ног.
– Стой! – заорала я что было сил. – Сто-ой!!! Подняв облако снежной пыли, Малыш затормозил передними лапами и, готовый броситься на меня в любую секунду, продолжал отчаянно гавкать.
Чем бы его? Сумкой? Ногой? Здоровый, гад. Я пожалела, что не купила в свое время перцовый баллончик.
– Стой, сукин сын!!
Мы стояли друг против друга и тявкали целую вечность – пока не прибежал сторож и не увел разъяренного пса. Я перевела дух. Надо же, пронесло. Рваные брюки, анализы, сорок уколов от бешенства… С таким зарядом адреналина я могла бы выиграть чемпионат мира по боксу.
В темпе спортивной ходьбы, как мальчик из сказки про трубадуров, которому жгла задницу печеная картошка в карманах, я бежала дальше по Карачарову. Все бы ничего – встряски мне даже на пользу, но вот ботинки… Ботинки безбожно промокали, а на новые не получалось накопить даже с учетом нетрудовых доходов. Они просили каши, а получили порцию жевательной резинки, заменившей некстати закончившийся в общем-то второсортный клей «Сапожок».
Чав! Чав! Боги, вы слышите, как чавкают мои ботинки? Боги, ну где же вы? Наверное, мажете кремом фирменные сапожки Косой, новенькие, с иголочки? С шильца сапожного, чтоб оно там обломилось – и в пятку ей, в пятку.
Сегодня опять проспала. Придется позвонить на работу и сказаться больной.
– А-ло?! – вопрошает трубку Косая, манерничая и нараспев. Но, несмотря на то что на каждое ее такое «алло» так и тянет ответить: «съешь говна кило», – приходится говорить:
– Добрый день.
Я так больше не могу. Добрый день. Добрый ltym. Lj, hsq ltym.
Завтра нарочно забуду переключить в нужном месте регистр в паролях клиентских карточек и буду поить весь офис вчерашней заваркой.
Леня посадил куклу на ломберный столик и осветил софитом. Такая модель годилась для сцены угрюмой; не для детских портретов, а рассказа о хрупкости жизни… что-то в этом роде… настолько битый у нее был вид.
– С парковки?
– Не совсем. Подруга отдала. А впрочем, все одно. Она нужна такая?
Леня взял куклу, приподнял ей сломанное веко – теперь она глядела в оба синих глаза, – провел рукой по волосам… Я думала, что он откажет кукле, но чем-то она его все-таки тронула, возможно, своей ущербностью, беззащитностью, – и он увидел сюжет. Для кадра требовались веревки, требовалась кукла и требовалась я. Еще крючок на потолке. Он был.
Пока я переодевалась в короткое, детского покроя платье, Леня извлек из шкафчика моток шпагата, отмотал с бобины несколько метров и нарезал восемь примерно одинаковых веревок. Закрепив четыре конца за крючок, он подвязал меня, как марионетку: от щиколоток и запястий вверх тянулись нити, смыкаясь на крюке для люстры. Рядом на полу стояла кукла. К рукам и ногам ее тоже были привязаны стропы, я сжимала их в правой руке, как поводья, подняв правую руку до уровня плеч и немного согнув ее в локте. По замыслу Лени, я была простоволосая и босая.
Замри! Внимание! Снято. Еще раз. И еще. Стой-стой, не двигайся, продолжаем…
Кукловод и сам кукла. А где его хозяин? Четыре луча натянутой туго бечевки уходили за кадр… Незаметно перенося вес с одной ноги на другую, я отрешенно смотрела в объектив.
Как джентльмен, Леня всегда подвозил меня до метро. Путь на «Таганку» был коротким, минут пять, не больше, и я ловила себя на том, что мне хочется ехать и ехать, и чтобы Леня со мной разговаривал. Но он все больше молчал, а если и открывал рот, то обычно ехидничал.
– Твою куклу зовут как груши! – Леню вдруг осенило, прямо за рулем.
– В смысле? – не поняла я.
– Шмелева читала?
– Читала.
– Помнишь, у него груши «мари-луиз»?
– Где?
– В «Солнце мертвых».
– Ах, вот оно что. Да ты просто ревнуешь.
– Кого?
– Меня к ней.
– Хм, – говорит Леня. – Все возможно. Приехали.
Леня обходит машину, открывает дверцу с моей стороны, галантно подает руку в тонкой серой перчатке. Я соскакиваю с подножки на топкий, разъеденный солью тротуар, а потом долго стою и смотрю, как джип Лещинского разворачивается в плотном потоке автомобилей на Таганской площади.
На бусы-грушки «мари-луиз» Шмелев смотрел в «Солнце мертвых». Страшная эта книга… и красивая; красоту имеет и смерть… вымирание… угасание… Целы плоды на ветке! Еще одну ночь провисели. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный. Выжженная солнцем земля, горы, Кастель, Куш-Кая, Бабуган, и синее море внизу, бескрайнее море… Крым, 1921 год; красный террор; голод. А в грушах – спасение.
Мари-Луиз… Почему Марина дала ей такое имя? Я попросила – и она назвала…
Я переложила сумку с куклой в другую руку. Поскольку мой пластиковый пакет совсем развалился, домой она ехала в красном лаковом саквояже «Версаче» – Леня одолжил до среды. Если вуду действительно существует – может, теперь и моя жизнь наладится?
В полдвенадцатого я вспомнила об ужине. Скоро должен был прийти с работы голодный Родион, а у меня даже макарон сваренных нет. Но только я это осознала и побежала на кухню ставить воду, пикнул «пилот» и погас свет.
Соседи, кто не спал, выглянули на лестничную клетку. У тети Вали нашелся фонарик, она посветила в записную книжку и отыскала телефон диспетчерской.
Оказалось, в третьем подъезде сгорел автомат, но бригада уже выехала ремонтировать.
– Это на всю ночь, – сказала тетя Валя, она всю жизнь тут живет, сразу после постройки дома въехала.
– У вас плита газовая? Завтра попрошусь к вам на газ, если свет не дадут. А то у нас электро.
– Да хоть сейчас.
Но поскольку тетя Валя была уже в ночнушке и в бигуди, я сказала спасибо и отказалась.
Голодный Родион был застигнут звонком на выходе из конторы.
– У меня вообще ничего из еды нет. Ты хоть чая на работе попей. Или пойдем в ресторан поужинаем..
– Отлично! Через час подъеду в «Торо-даро», подходи.
Я взвесила, охота ли мне по морозцу топать в «Торо-даро», и решила, что да, – бокал шабли закажу. Ну и глупость какую-нибудь съем вроде мусса из риса саго с мятой.
При свете свечного огарка напялила одежду, накрасила ресницы и долго искала ключи. Наконец отыскала и вышла под тихий, ленивый мартовский снегопад. Воздух был сыр и приятен в гортани. Как хорошо, что кончилась зима…
Я накручивала на вилку кресс-салат под тамариндовым соусом и разглядывала Родиона. Сегодня он был в горчичном кашемировом свитере, тонком и легком, и шелковом кашне «Хьюго Босс», в черно-бело-тонко-красную-и-горчичную, опять же, полоску. Неплохо. Это я с манекена шарфик сняла, в «Стокманне», влезла прямо в витрину и оголила негру шею собственной рукою (аплодисменты за смекалку). И тут подумалось: интересно, а как я сама выгляжу со стороны? Глянула на свои рукава – и чуть не подавилась кресс-салатом, потому что одежда на мне была наизнанку.
Над столом висела яркая лампа и светила мне прямо в макушку; а Родион так ничего и не заметил. И тут до меня дошло, почему. Потому что он вообще на меня не смотрит.
Спасла меня «Центркнига», та самая «Центркнига» в далеком и ледяном Карачарове. Еще в первый приезд, зайдя в огромный, ярко освещенный зал с книжными витринами, я обалдела. На площади, равной минимум четырем школьным спортзалам, рядами стояли стеллажи, сверху донизу облепленные книгами, как горчичниками. Вот это да! Такого количества печатной продукции я не видела никогда в жизни. И все это продавалось поштучно. И стоило очень дешево.
«Букинисты»! – подумала я. Здесь покупать, и туда сдавать. Но что? Маринину с Донцовой? Эдварда Радзинского? С чего начать? На первую закупку с трудом наскребалось триста рублей – все, что осталось от последней зарплаты у Королькова.
Я ходила между рядами и один за другим отлепляла и прилепляла на место горчичники.
– Что-то ищите? Для Вадима Петровича? – узнала меня ассортимент-менеджер Танечка, она занималась сбором заказов и доукомплектацией.
– Думаю, что бы такое купить и перепродать. Сижу у Королькова на голодном пайке, – сказала я честно.
– Папюс, «Практическая магия», – ответила Танечка, не задумываясь. – Ну и всякое там про этих… электросенсов. Вон прямо посреди зала стеллажи. У нас это лучшие продажи. Беспроигрышные позиции, голодной точно не останетесь.
Танечка была права. «Букинисты» действительно брали книги по эзотерике. Я стала мотаться в Карачарово пять раз в неделю, и то лишь потому не семь, что в субботу и воскресенье склад не работал. «Центркнига» открывалась в восемь утра, а издательство «Март» начинало работу с десяти. Путь от склада до офиса занимал час двадцать минут, и если встать в полседьмого, то я без труда оборачивалась. Вечером того же дня электросенсы отправлялись на прилавки магазинов. Меня так взбодрило, что наконец-то смогу заработать, что я даже перестала бояться собак. Я была на подъеме. Не успевала я закупить товар, как звонили приемщицы и требовали новые партии «Книги Перемен», «Агни-Йоги», «Гадания на Таро», «Ауровидения» и «Звенящих кедров России».
А потом я чуть не погорела, потому что нарвалась на подделку. Выяснилось это в букинистическом отделе магазина эзотерических товаров «Путь к себе», особенно любимого мною по многим причинам: во-первых, он работал до девяти; во-вторых, принимал в любой день; и в-третьих, находился в километре ходьбы от издательства «Март».
Приемщица Лена была хоть и молода, но в эзотерической литературе секла хорошо.
– А это что вы даете? – спросила она, указывая на темно-зеленую обложку «Диагностики кармы».
– Я вам их всегда приношу…
– Вы приносили Лазарева, – сказала Лена. – А это Лазорев, прошу заметить. Через «о».
– Обложка та же самая… Я и не знала, что книги подделывают.
– Еще как! На прошлой неделе Анастасию нам приносили, про магию кедров которая пишет, – так было Анастосия, и вместо духовного развития сборник кулинарных рецептов на основе кедрового масла. А обложка один в один – ветки, шишки…
Мне было бы смешно, если бы не было так грустно. Анастосия, Лазорев… Вот уроды! Ботинки, мои новенькие непромокающие ботиночки отдалялись, я прямо увидела это физически, представив их уплывающими на льдине, все дальше и дальше от берега. Нет, допустить этого я никак не могла. И решилась прибегнуть к крайнему способу: я соврала.
– Знаете, я изучила этого Лазорева. Там не рецепты, там тоже про духовность. Даже еще понятнее. Со всей ответственностью заявляю: если человек прочтет эту книжку, ничего страшного с ним не случится. А один экземпляр я лично вам подарю.
– Ладно, давайте попробуем, – ответила приемщица.
В какой-то момент мне стало казаться, что людей вокруг вообще интересует только одна тема, одна-единственная – изменение реальности. И ничего плохого по этому поводу сказать не могу. Мою-то реальность эти книги точно изменили: через двадцать шесть дней после открытия в себе таланта коробейника я пошла в ГУМ и купила две пары отличных ботинок: на лето и на зиму.
Окна в доме уже горели: тетя Валя ошиблась, автомат заменили за пару часов. Квартира встретила нас полной иллюминацией: я, оказывается, оставила тумблеры включенными. Родион разделся, аккуратно сложил шарф, перчатки и шапку, повесил на крючок пальто, вымыл руки и по привычке пошел на кухню. Там он увидел в раковине Эверест немытой посуды и! и! наорал на меня. Первый раз в жизни на меня повысил голос мужчина. За что – за не вымытую в потемках посуду! Это было несправедливо. Кто там у нас за что боролся? Ну-ка напомните мне.
– Я не кухарка, чтобы работать при свече.
– Эти тарелки были в мойке еще вчера!
– Никогда больше на меня не кричи, – сказала я спокойно и вежливо, мысленно досчитав до трех и представив себя ледышкой в морозильнике. Вышло убедительно.
– Прости меня, пожалуйста, – опомнился Родион. – Терпеть не могу, когда дома бардак. Я один раз даже Сонькины и Машкины игрушки выкинул, потому что они их не убрали.
– Игрушки? Выкинул?
– Я их несколько раз предупреждал. Что соберу все, что на полу, и выброшу. А они все равно не слушали. В один прекрасный день поиграли, все расшвыряли и так и оставили, и ушли гулять. Я прихожу – дома бардак. Тогда я сгреб, что на полу валялось, и отнес на помойку.
– Никогда бы не подумала, что ты такой жестокий.
Родион усмехнулся.
– Ну, самые любимые игрушки я, конечно, оставил. У Соньки был плюшевый кот, а у Машки – Почтальон Печкин. Я их просто спрятал подальше. А вот железную дорогу, кубики, куклы, конструктор…
– И как они отреагировали?
– Как, как. Ревели весь вечер. Тамара даже на помойку ходила, хотела обратно забрать, но там ничего уже не было. На следующий день мы, конечно, пошли в «Детский мир» и опять все купили. И больше они уже никогда ничего не разбрасывали. Поиграли – убрали. Поиграли – убрали.
– А где вы тогда жили? Здесь, на Сходненской?
– Да, уже здесь…
– Пойду чайник поставлю. – У меня мелькнула догадка. Но вместо того чтобы отправиться на кухню, я порылась в каптерке и вытащила за волосы Маринину куклу. – Не ваша?
– Наша!
Как чувствовала, что у этой куклы грустная история.
– Было ваше – стало наше. А как ее раньше звали?
– Не помню. Кажется, Аня. Откуда она у тебя?
– Гамаза нашла на помойке…
Спали мы под одним одеялом. Имея разные представления о жизни, разные вкусы – настолько, что даже хлеб последнее время ели каждый свой: Родион отрезает от французского багета, а я – от обсыпного батона «Колос», – мы все-таки сходились в том, что одеяло у мужчины и женщины должно быть общим. И оно примиряло, сближало, сплачивало нас – легкая пуховая стежка в белоснежном конверте пододеяльника.
Мы легли, как обычно, в начале второго. Родион нащупал на тумбочке пульт, включил на середине поздний фильм, но усталость взяла свое; не прошло и пяти минут, как он повернулся лицом к стене и тихо засопел. Я высвободила пульт, нажала на красную кнопку – моргнул экран, – потом погасила ночник, взбила подушку и долго лежала с открытыми глазами и думала о жизни.
Очнулась я оттого, что среди ночи, во сне, Родион злобно, с остервенением, рванул на себя одеяло. Я услышала треск оборвавшихся ниток – и тут же оказалась совершенно голой. О, сколько всего было в этом рывке! Сколько ненависти, и раздражения, и превосходства, и силы. Воздух вошел колом в горло, застрял за грудиной. Мы и раньше, случалось, перетягивали друг у друга одеяло, но то была игра, веселая супружеская забава, всякий раз оканчивавшаяся объятиями… Этот жест – значил совсем иное. Я почувствовала это всей кожей, я словно вдруг оказалась на людях без одежды, словно с моей души сорвали тонкую защитную пленку – и она осталась нагая под ледяным дождем. Nue dessous. И ей очень холодно. И очень больно. Я поняла: все, мне в этой постели делать нечего. Стоп. Почему это мне. Ему.
Утром, пока Родион еще спал, я сходила в сберкассу, оплатила коммунальные счета, сложила квитанции в ящик стола, написала записку, где кроме прочего сообщила, что быть жилеткой, вышитой слезами по Тамаре, в мои планы не входит никак, и стойким оловянным солдатиком тоже, тихо закрыла за собой дверь и уехала к бабушке в Белорадово. Первое время Родион мне снился, а потом перестал.
Какое счастье, что я не поддалась тогда на уговоры и не испортила квартиру этой ужасной лепниной!
Полдень был хорош: солнечный, теплый… Я сидела на скамейке у Белорадовского пруда и грызла шоколадные галеты. Пруд только что освободился ото льда, и вода отблескивала, как серебряная парча на изломах. Где-то на дне спали вечным сном младенцы. Над парчой летел малиновый звон, низко кружила стая грачей. Я услышала, как сзади, на набережной, остановилась машина, но не придала этому никакого значения – продолжала сидеть и глядеть на подвижную амальгаму пруда.
– Детка! Так нельзя! Я обернулась: Леня!
– Уехала, никому ничего не сказала. Я из твоего этого… Эдика… Родика… всю душу вытряс, пока он раскололся, где тебя искать.
– Он что, еще там? – спросила я мрачно.
– И не один, – усмехнулся Леня. Это становилось интересно.
– А кто с ним?
– Твоя подруга. Бывшая хозяйка куклы.
«Бедная Марина! – подумала было я, но потом возразила себе: – Почему это бедная? Если они сошлись на лепнине, сойдутся и на манной каше».
– И чем они там занимаются?
– Она, похоже, просто так зашла, а этот барахло свое пакует. Никак не хотел говорить, куда ты делась. Думал уже, бить придется.
– Вот и побил бы, – сказала я сладострастно. При любых обстоятельствах обожаю, когда из-за меня сцепляются самцы.
– Не люблю я драться, детка. У меня для таких случаев калькулятор.
– Калькулятор? – переспросила я. – Зачем?
– Для окончательных расчетов. Не слышала такую шутку? Пойдем, покажу устройство. В багажнике лежит. – И Леня повел меня к машине.
– Ничего себе! – обомлела я. – А как же гаишники?
– У меня охранная грамота есть. – Он полез в карман пиджака и вытащил фотокарточку, запечатлевшую его в обнимку с премьер-министром К.
– Как мало я о тебе знаю… – сказала я.
– Хочешь узнать побольше? А что мне терять? Да, хочу.
– О'кей. Считай, что ты на допросе. Вопрос первый: зачем тебе фотографии?
– Честно? Я любовался. Тобой. – Сказал Леня с улыбкой Чеширского Кота.
Ответ принят и даже приятен. Вопрос номер два.
– А калькулятор… зачем?
– Муляж. С киностудии Горького. Журнал «Эскорт» войнушку заказал на разворот. У меня и пилотка есть, хочешь померить? Ой, детка, тебе пойдет… – И Леня окинул меня взглядом профессионала.
– А К.?!
– По-твоему, я выпить с премьером не могу?
– Можешь, наверное…
– Хорошая работа, правда? «Фотошоп» мне вчера ребята поставили. Всю ночь тренировался.
– А нарисуй меня со светлыми волосами. И с челкой. Все думаю – отстричь, не отстричь… И в длинном желто-красном платье. Нарисуешь?
– И не подумаю. Я его тебе куплю.
– Учти, это очень опасно. Я буду аппетитна, как пакетик картошки фри в «Макдоналдсе», и все сразу захотят меня съесть.
– Вот и отлично.
Я посмотрела на Леню, на серебристый джип «тойота рав четыре» с номерами победы над Германией, на белые стены монастыря, на солнце и облака, и стало мне хорошо-хорошо. Как во сне. А суп варить я научусь.
Упс! Мясо возвращается обратно в котел. Чип и Дейл снова спешат на помощь. Вот кто настоящий спасатель. Тот был не принц, принц – этот! Он позаботился о ней – и она готова идти за ним на край света. Я подложила под ноги героини те же самые грабли. И она на них опять наступает. И уходит на тот же круг, который только что прошла. И можно водить ее так всю жизнь, но здесь я поставлю точку.
Были последние числа марта, солнечного и морозного, ледяной воздух звенел, сиял, пел. В начале девятого утра я бодро шагала с рюкзачком, полным книг, по заснеженному Карачарову. Улицы были пусты, даже собаки и те куда-то подевались. Совсем рядом проходила железная дорога, ветер доносил запах копоти и смолы, гулко громыхали составы, и хотелось взять да уехать в далекие страны, в легкие, райские миры.
Автобус пришел точно по расписанию, и я с чистой совестью переступила порог издательства «Март» за двенадцать минут до контрольного времени, забросила рюкзак под стол и сбегала во французскую пекарню за шоколадным круассаном. Его подали румяным, свежим-свежим, и я подумала: все-таки как хорошо, когда у тебя в кармане есть пара лишних купюр.
Но грезы скоро развеялись. В тот день Корольков пришел в особенно плохом настроении – и сразу вызвал меня к себе.
– Лера, поди сюда. Отвезешь этот конверт в «Книжный мир». Это где-то на Покровке, Лариса знает.
Косая, чуть ли не высунув язык от усердия, принялась рисовать план на бумажке.
– У «Диеты» садишься на «букашку». Едешь до Курского вокзала, выходишь, и справа будет улица. Идешь по ней сто метров. И вот тут будет магазин. – Косая поставила на листе жирный крестик. – Понятно?
– А адрес?
– Адрес не знаю. Покровка. Сразу найдешь. Внимательно изучив лоцию, я села на троллейбус «Б» и, как и было указано, доехала до Курского вокзала и сошла с троллейбуса на заметенный белой крупой тротуар.
Я никогда не любила вокзалов и всегда старалась избегать вояжей «по направлению к», поэтому место оказалось незнакомое. Я огляделась по сторонам. Никакой улицы справа не было и в помине. Я еще раз заглянула в бумажку. Так и есть, остановка «Курский вокзал». На рисунке улица есть, а в действительности – нет. В замешательстве я теребила уголок конверта.
– Вы не подскажете, как пройти на Покровку?
Прохожий, галантный старик в старомодной фетровой шляпе, переложил из руки в руку трость, склонился вперед и переспросил:
– На Покровку? Деточка, это вам нужно перейти Садовое кольцо, а там садитесь на троллейбус и поезжайте две остановки в обратную сторону. Потом опять переходите дорогу – обратно на эту сторону – и сразу будет Покровка. Или можно пешком по Садовому, здесь минут двадцать, не больше. Или по Лялину переулку, но, если не знаете, деточка, лучше не надо, запутаетесь.
– Спасибо.
Я еще раз посмотрела на листок, исписанный четким, каллиграфическим почерком Косой, и вдруг почувствовала, что мне нечем дышать. Косая нарочно дала неправильный адрес! Эта мелкая подлость была еще добродетелью с ее стороны – всего-то вернуться на две остановки. А между тем они даже не выдали мне проездного!
Я сидела на лавочке, на остановке «Курский вокзал», и плакала. Мимо спешили люди, проносились машины. На меня никто не смотрел. Светило солнце, на тротуарах искрился только что выпавший, еще не затоптанный снег, наверное, последний – чистый, белый, совершенно новогодний снег.
Я встала и побрела в сторону Покровки.
– Ну что, передала конверт? Долго ты… – В словах Косой я уловила усмешку. – Мы тебя к одиннадцати ждали. Теперь надо съездить на Серпуховскую, в фирму «Ляссе». Была там когда-нибудь?
– Приехала? Давай дуй на Серпуховку, – услышав наш разговор, выглянул из кабинета Корольков. – Отдашь им пленки, пускай переделывают. Только быстро! Одна нога туда, другая обратно.
О нет, моя карета слишком засиделась в тыквах. Надо эту лавочку прикрывать. Сейчас или никогда. Проживу и на электросенсах.
– Я не поеду.
– То есть как не поедешь?
– Так: не поеду.
– Не понял!
– У вас появилась вакансия, – говорю я устало. Никто, кроме босса, не слышит меня, редакция живет обыденной жизнью.
– Завтра уже апрель, – говорит Узьминичне Косая и снимает с гвоздика откидной календарь. Ей не терпится, должна же она, менеджер по календарикам, хоть в чем-то себя проявить. Я оборачиваюсь и вижу, как в веере страниц мелькает голубая надпись «Март» и сменяется новой цифирью.
Мы сидим в кондитерской «Бейглз», за столиком, похожим на каплю, Пал Палыч читает мой черновик, и я вижу, как карандаш, вначале лежавший в его руке неподвижно, начинает плясать по листу.
Я хмурю брови и недовольным кивком спрашиваю, что, мол?
– Потом.
Но я тяну лист на себя, вижу подчеркнутый пирожок, и ему приходится объясниться.
– Лерочка, здесь небольшая неточность. Вот смотрите. «Косая жует пирожок из французской пекарни». Если пекарня французская, – то она должна жевать круассан, – понимаете?
– Что вы, – сказала я как можно мягче, чтобы не обидеть его, моего золотого редактора. – Если человек хороший, то он красивый, а если плохой, то смазливый. Это же Косая! Да пусть она его хоть на Монмартре купит – в ее руках любой раскруассан что кулебяка псковская.
– Добрая-добрая, ласковая кобра я! – с довольным (нет, ей-богу!) смешком подводит итоги Пал Палыч. – А что такое «абецедарный»?
– Алфавитный.
– Точно? – засомневался Пал Палыч. – Что-то я такого слова не встречал. Может, лучше сказать «картотечный»?
– Точно, точно. Давайте оставим.
– Славянофилы бы вас не одобрили…
– Но вы-то не славянофил. Вы – одобряете?
– У вас еще третьего плана не хватает – от лица выкинутых игрушек. Такая гофмановская новелла в виде вставки…
Пал Палыч дочитал отданный на растерзание рассказ, взглянул на меня и принялся ковырять вилкой блинчик.
– Могу я поинтересоваться: история, описанная вами, приключилась реально?
– Конечно, я могла бы и не сознаваться, – но вообще-то реально.
– И где теперь эта кукла? Она цела у вас?
– Нет. Я забыла ее в такси.
– Лерочка, вы меня убиваете! Неужели нельзя было как-то найти, позвонить в таксопарк?
– Это был частник. И потом, я подумала, это смешно – давать объявление о пропаже какой-то помоечной куклы…
– Па-адъем! Просыпайтесь. Перерыв.
Я разлепляю глаза, сонно моргаю. Еще только половина восьмого. Как медленно ползет стрелка часов.
Я восседаю на троне. Среди офортных станков, подрамников и гипсовых аполлонов. Роскошный с виду бицеллий сооружен из трех фанерных ящиков от платяного шкафа, окутанных драпировками – античные складки струятся до самого пола, – и, чтобы мягче было сидеть, увенчан бархатным пуфом. Конструкция именуется постановка, сооруженье опасно шатается, кренится от взглядов и сквозняков – страшно даже положить ногу на ногу. На таком троне чувствуешь себя самозванкой, дворовой девкой, ряженной в барское платье; в лучшем случае фрейлиной, прокравшейся ночью в тронную залу, никак не императрицей!
Это продолжается четыре часа: четыре сеанса с пятнадцатиминутными перерывами.
Мастерская находится в генеральской квартире, семнадцатый этаж Дома на Котельниках.
– До одиннадцати лет я жил в Кремле. – В перекуре мы стоим с Максимычем у окна и смотрим на рубиновые звезды. – Ужасно было скучно! Территория ограниченная, кроме нас, всего пять-шесть семей, детей почти нет, на улицах ни души, одни часовые на посту… Вечерами гуляли с отцом вдоль Кремлевской стены – караульный кричит: стой! – Стою, хоть дой! это Кустов со сменой идет, я представляю бравого генерала, сын саратовского дворника, дослужившийся до Кремлевского полка, а потом построили этот дом – и мы переехали сюда: отец всегда хотел жить с видом на Кремль. Панорама из мастерской прекрасная, башни со звездами, крыши, Большой Устьинский мост, небесно-голубая колокольня Троицы в Серебряниках, трамваи вдоль Яузы, далекие арочные окна «Детского мира», ротонда синагоги, замкнутое каре корпусов академии Дзержинского – как декорации на исполинской сцене, единственный недостаток сего вознесенного на высоту птичьего полета райка – изматывающий, неодолимый холод. Когда ветер с Яузы, не спасают ни батареи, ни рефлекторы: в прошлом добротные, вручную вырезанные рамы совершенно рассохлись, и по квартире гуляют ужасные сквозняки. В такие дни хозяева ходят в куртках. У нас тут как в замке, жалуется Тина, сосулек только нет на люстрах! зимой всегда так, особенно когда батареи отключат, это они любят, у нас уже несколько цветков погибло: просыпаешься – монстера без листьев. – Бр-р! повторяет вслед за мамой Маша. Ну и холод сегодня! – А думаешь, легко было принцессам? Принцессам в замках? надо же ее хоть как-то подбодрить, да уж… Кутаясь в синюю болоньевую курточку, Маша провожает меня до лифта.
Дом ее и впрямь похож на замок – высотка у Большого Устьинского моста, бронзовая табличка у входа: «Памятник архитектуры. Архитекторы Чечулин и Ростковский. 1949–1952 гг.», – башни, зубцы, ощерившиеся химеры на стенах, шпиль с гербом, галереи и переходы; с одной стороны Яуза в качестве рва, с другой – Вшивая горка в качестве вала. Только бойниц с подтеками застывшей смолы не хватает. Куда-а?! – едва сделав шаг по направлению к лифту, я уже под прицелом четырех пристальных глаз: воинственные вахтерши преграждают путь, как стражники, смыкающие пред незваным гостем алебарды, к Кустовым? Сейчас проверим. Сейчас позвоним. Но надо отдать должное тренированному церберскому глазу: с одного раза запомнив – не останавливали больше никогда.
Моей принцессе шестнадцать лет, хочет стать актрисой, учится в школе при Театральном училище имени Щепкина, родители художники, преподают в Полиграфе рисунок и живопись, вечерами дают частные уроки. Папа, Максимыч, великанского роста, бородато-благообразный, почти седой, на носу очки, дужка примотана изолентой. Тина тоже высокая, худая, длинноного-длиннорукая, узкое аристократическое лицо, нос с горбинкой – профиль императора Сульпиция Гальбы с древнеримского асса.
У Кустовых две пары борзых и кот Вакса. Борзые порода крупная, взрослому человеку по грудь, но их не видно и не слышно: не ходят – перетекают по комнатам, как рыбы в аквариуме, задумчивые и меланхоличные; максимум, что себе позволяют, – ткнуться узкой мордой в колено или в ладонь – и сразу же отойти. Боба, Бася, Чача, Цара – я так и не научилась вас различать, это они только дома такие смирные! летом на даче трех кошек задрали. – Как же Вакса? – А Вакса хозяйское: трогать нельзя. Маша выгуливает собак в два захода, по парам – со всеми сразу у нас только Максимыч справляется; о да, Максимыч со своими борзыми – как Аполлон с взметнувшейся квадригой: из рук натянутые струны поводков, сметая все на пути, собаки врассыпную бросаются из лифта, рвутся со всех ног на улицу… По дороге домой картина меняется – вальяжно гарцуют, ступают, как балерины, хрупкими лапами, осторожно и мелко.
Обстоятельства, при которых я впервые увидела Принцессу, как, впрочем, и она меня, были, мягко говоря, нетривиальными, и стыдно мне до сих пор. Зажав рукою рот и сдерживаясь из последних сил, я бежала по коридору в сортир. Меня тошнило. Коридор повернул в сторону кухни, и я попала в ее поле зрения. Она сидела за столом, слегка раскачиваясь на табурете, и пила чай. Я успела заметить только то, что она очень красива, – рядом с такими людьми я начинаю стесняться собственного лица. Она испуганно взглянула на меня, не понимая, что происходит. Длинные волосы, очень похожа на маму… больше думать о ней я не могла. Едва я захлопнула дверь туалета, как у меня начался форменный блевантин. Собственно, блевантин – словечко Розочки Тархановой: она любила выпить и часто за то расплачивалась. Розочка – призрак из моего отрочества: могла бы стать властительницей дум, когда бы ни была такая дура. Жила на Арбате. Староконюшенный, тридцать три, типичный доходный дом начала века по соседству с неприступным кварталом дворянского гнезда, подъезд с помпезными лестничными маршами, высокие потолки, пол выложен плиткой, на ней изящным дореформенным шрифтом – имя заводчика, что была за мануфактура, я за давностью лет позабыла, и не выясню, наверное, никогда, ибо идти в тот дом уже не к кому, а если я и решилась бы просто так, посмотреть, ничего бы из этой затеи не вышло: до кодовых замков шанс еще оставался, теперь времена изменились и просто так уже не попадешь, да и незачем, собственно.
Розочкина семья занимала три отдельные квартиры на последнем, в прошлом чердачном, четвертом этаже. Папа ее был поэтом, про маму говорили, что она директор ГУМа, не знаю, так ли все было на самом деле, единственным свидетельством высокого торгового положения родительницы были трехлитровые банки провансаля, батареей выстроившиеся вдоль стен прихожей: сестра Розочки Рита очень любила майонез. Больше таких огромных банок я не видела нигде и никогда. Семейство Тархановых было одержимо идеей, что в одной из их квартир проживали Дункан и Есенин, – реликвии, связанные с именем этой звездной четы, задавали тональность всего интерьера: стены квартир с окнами в потолках украшали афиши, гласящие о выступлениях Айседоры и Ирмы Дункан, темные масляные портреты рязанского гения и прочие доказательства причастности.
Завороженная, я долго разглядывала желтоватый, рассыпающийся от старости пергамент афиш, поблекшую краску и модный в то время шрифт ар нуво. Я тоже хотела быть причастной к блеску истории, хотя бы через Розочку; признаться, я ей откровенно завидовала.
Когда лет через пять в букинисте мне попалась маленькая книжечка о доме в Староконюшенном, 33, я буквально вцепилась в нее и прочитала от корки до корки прямо на месте, не выходя из магазина. В квартире под Розочкой некогда находилось литературное объединение «Кузница», которое, возможно, посещал и великий русский поэт С. Есенин, однако факт этот непроверен и неточен.
Мне кажется, там, в магазине, я улыбалась.
Что же, собственно, произошло между мною и Розочкой? Да можно сказать, ничего – иногда, чтобы недолюбливать человека, видимые причины вовсе не нужны. Однако они были: ко мне сбежал ее мужчина – но, как это часто бывает, они продолжали знаться, и я даже была готова с нею дружить, так мне понравился этот диковинный мир. Она не захотела, к ней было не подступиться ни с какой стороны: ни добиться ее покровительства, ни стать с ней на равных, заинтересовав, к примеру, познаниями в архитектуре пламенеющей готики или умением шить юбки годе – так бывшая графиня, низвергнутая революцией в прачки, ненавидит и хозяек, и товарок; формально она, конечно, со мною общалась – но, думаю, с ее стороны это было не больше чем демократическая забава. Да и как общалась! Просто прелесть как! Стратегия называлась лучшая защита – нападение, за столом подавала бокалы с отбитыми ручками, млея от удовольствия, сладострастно пускала мне прямо в лицо ядовитые брызги со своего наверняка раздваивающегося языка; ее манера держаться так напоминала о классовом неравенстве, что в тот момент я была заодно с отрядами большевиков, заплевывающих подсолнечником Дворцовую площадь и потирающих руки в предвкушении расправы над барами.
…Опершись рукой о холодный кафель стены, я нависаю над унитазом. Извержение Везувия длилось секунды – а картинки из прошлого заполонили память настолько, что разглядывать их теперь можно часами. Какой черт меня понес позировать на следующее утро после юбилейного, двадцать пять лет, дня рождения?! Увы, отношения с французским виноделием не сложились: abusus spirituosus, коньяк и несколько шато – помню лишь Жангийон и Пави – дали гремучую смесь; глубоко вздохнув – и с сожалением посмотрев вниз, – я дернула шнур спуска воды и выползла из уборной. Может, чаю? – голос красавицы с кухни окончательно вернул меня к жизни, ожидая ответа, она продолжала раскачиваться на табурете, в ее глазах все еще жил испуг, с лимоном? Хотите? Должно помочь. Я не отказалась.
Неизменный атрибут квартиры Кустовых – витающий по дому истошный аромат мясного бульона: еда для четырех собак готовится двадцать четыре часа в сутки. Этот запах мне давался труднее всего: когда долго сидишь без движения и, уставившись в одну точку, молчишь, волей-неволей сосредоточиваешься на мимолетном. Флюиды, доносящиеся с кухни, прямо-таки сводили с ума, мне казалось, вот-вот – и я упаду в голодный обморок; бедные собаки! тут человек не может устоять перед соблазном! Но, что удивительно, они вели себя совершенно спокойно – как будто бы мясной бульон их вовсе не касался. Равнодушие животных к тому, что происходит у плиты, меня поражало. Сама того не замечая, я каждый перерыв оказывалась на кухне. Вообще, сюда приходили курить, и ничего странного в этом не было – но я-то понимала, что меня манит. Тина замечает мои голодные глаза; вежливо предлагает: хотите курицы? печенки? еще картошка есть… Конечно хочу. И так каждый раз. Кустовы, наверное, думают, что я недоедаю, и стараются накормить, а у меня не хватает сил отказаться, более того – на еду я набрасываюсь; потом мне страшно неудобно, но почему-то я не могу им сказать, братцы, меня просто морочит запах еды, как Гаргантюэля и Пантагрюа вместе взятых, а так у меня все есть, и деньги, и продукты, и квартира с машиной. Нет только внешних признаков благосостояния, даже мобильный у меня доисторический, четырехсотграммовый «сименс», таким убить можно; все никак новым не обзаведусь – бывает, хлеба некогда купить, не то что вещи! работаю я по ночам: читаю сайты и выискиваю компромат на не угодившего олигархам министра (через год он умрет, а я схожу на могилку и извинюсь), потом до обеда сплю, в четыре отсылаю выборку в офис, а в пять уже надо к Кустовым – я вечно опаздываю, да и магазинов по пути никаких. А в десять уже все закрыто. На прошлой неделе три дня без зубной пасты сидела, весь домашний запас «орбита» съела, еще немножко, и до соды бы добралась, как во время войны. Машину мою тоже никто не видел, – признаться, я ее боюсь, и она стоит в гараже, сдать экзамены в ГИБДД у меня еще хватило духу, а вот ездить – увы; если я им скажу, что в хороший месяц зарабатываю тысячу долларов, все равно не поверят – а что в таком случае я здесь делаю? Они платят сто пятьдесят рублей за вечер, то есть пять долларов, то есть одну пятидесятую моей зарплаты. Зачем это надо, чтобы хорошие люди чувствовали себя неловко, – пусть лучше будут благотворителями.
Я и сама не знаю, что я здесь делаю. Впрочем, нет, это ложь. Знаю прекрасно. Пока они рисуют меня, я сижу и думаю, как мне жить дальше.
У Вали тоже есть машина, я так и запомню его: Валя на белом «ЗИМе». Знакомство наше проза жизни: подбросил до метро. Идти пешком было лень, я стояла на остановке у «Иллюзиона» уже полчаса, троллейбуса не было, дул сильный ветер, в коротком легком пальто я замерзла и стала голосовать.
А навстречу по улице ехал «ЗИМ».
О да, сначала меня пленила машина. Потом рассмотрела водителя: красавец, сумрачный Парис, да еще за рулем такого дирижабля. За пять минут доехали до «Китай-города», но только я там не вышла: знакомство закончилось в однокомнатной квартире бывшего доходного дома в Сивцевом Вражке, на психоделически зеленых простынях. Никогда раньше не поступала вот так, с места в карьер, но тут не устояла. Я снова попала на Арбат, подумала я, высунулась в окно и показала воображаемой Розочке язык – ее дом был совсем близко отсюда, в двух шагах за углом. Сам плебейский, грязный, шумный Арбат не люблю, но степенные переулки его хороши, пожить здесь я бы хотела.
Оказалось, кроме «ЗИМа» у Вали есть и другие диковины. Друг на друга похожие, почему-то все белого цвета, они стояли у него под окнами в ряд, как слоники на комоде, мал мала меньше: «ЗИМ», двадцать первая «Волга», четыреста седьмой «Москвич». Несмотря на свой возраст и не лучшее состояние, они все еще выглядели элегантными; есть все-таки некий шарм у старых машин, как, впрочем, и вообще у старых вещей.
То была прекрасная картина. Сиял на солнце хром. Дворовые дети, позабыв про скейтборды, окружали Валин автопарк и трогали решетки радиаторов. Дети были школьники, они уже прочитали про Маленького Принца, но пока еще не знали, какую мерцающую нить легенды о пилоте знаменитого истребителя «лайт-нинг» тянут за собой продолговатые задние фары, напоминающие киль. «Хвостатый стиль» нравился мне, да, но больше всего восхищало то, что вместо сидений в Валиных машинах настоящие диваны, и нет пристяжных ремней. Я же барыня по натуре.
Через месяц я стала разбираться в типах двадцать первых «Волг», выучила, что такое фаркоп, молдинги и колпаки; дольше всего не давались откидные сиденья в «ЗИМе», как-как? – страпонтены! – но и это словечко я одолела. Прочитала три стопки автомобильных журналов, завела соответствующие знакомства, научилась ездить по двору с коробкой передач на руле – словом, моя жизнь стала гораздо разнообразнее. Но были и минусы. Однажды ночью я проснулась от собственного крика. Валя меня лягнул – неожиданно, с остервенением и отчаянием какого-то последнего, запредельного физического усилия. Ты что?! Валя протер глаза, он был очень смущен. Я… нажал на тормоз. Машина впереди… вдруг стала приближаться… Вот что значит ездить со слабыми тормозами. – Какое счастье, что ты у меня не боксер.
Мы сидим у Вали на кухне, здесь очень уютно, стоит резной уголок, низко над столом свисает бра с кружевной рюшкой, мы смотрим фильм про великана и карлика, пахнет клубничным вареньем, медом и сдобными булочками – гостинцы от мамы, за окном падает снег, я подхожу к высокому двустворчатому окну и долго, долго смотрю на сонное роение снежинок в конусе рыжего, будто ржавого, фонарного света. Ближе к полуночи Валя уезжает бомбить. На «Волге». Это не очень выгодное занятие, потому что старая «Волга» жрет много бензина. «ЗИМ» еще менее выгоден, расход горючего относительно современных машин – три к одному. В худшем случае Валин заработок за ночь составляет триста рублей, в лучшем – тысячи полторы. Затея сперва показалась мне сомнительной: какой дурак сядет ночью в такую развалину? Ты ничего не понимаешь, это лучший автомобиль, но оказалось, любители есть.
Выглядел он соответственно. Как свои машины: красив! – но так запущен! – помню, выпалила Мишутке в ответ на вопрос, хорош ли мой новый друг собой. Одежда Вали: видавшая виды коричневая кожаная куртка, фасон американской морской авиации, красно-синяя клетчатая кепка-шестиклинка; джинсы из секонда, но сидят хорошо; из заднего кармана выглядывает сложенная вчетверо бандана; огромные кожаные перчатки; черные замшевые ботинки с распродажи «К+С». Что интересно, даже при всей своей потертости он жуткий пижон.
Еще у Вали есть Ляля. Кто она такая, долго оставалось за кадром Ляля ночевала на кухне на раскладушке, черная коса ее свешивалась и мела пол. В самом начале знакомства я спросила у Вали: это твоя подруга? – Сестра, – ответил он. Родная? – Ну, почти. – Что значит «почти»? Двоюродная? Сводная? – Четвероюродная, сказал Валя, она пока не может найти квартиру.
О себе она рассказывала многое, но не все. Другим советовала то же: – никогда никому не говори, сколько тебе лет: потом пригодится. Ляля из Питера, из древнего византийского рода Мурузи: семейная история с тайнами, предательством, кровной местью, покровительством российского императора и обретением нового отечества. От этого осталось: членство во вновь открытом Дворянском собрании, портрет прапрапрабабки в Эрмитаже (похожа), семейные легенды а-ля узник замка Иф с подменой трупа в тифозной больнице (1917 год), детские воспоминания: хлебосольный дом, стол на сорок персон, завтраки-обеды по часам и, видно в пику советским устоям, горничные в крахмальных передниках… Когда Мишутка увидел в моей записной книжке фамилию Мурузи, он присвистнул.
Что-то в ней действительно было царственное. По меньшей мере, старорежимное. Чудесные звуки имени – Лидия Мурузи, коса до колен, тяжелая, черная, бархатные платья, кружевные воротнички. Вздохи о реституции с раскладушки: семь доходных домов – Коломна, Мойка, Фонтанка… Один мавританский дом-торт на Литейном чего только стоит – торт, испеченный из теста военного предательства, пропитанный вареньем кровной мести и благоухающий розанами высочайшего императорского покровительства. Если с Невского проспекта по Литейному идти, вот вам верная примета, как Мурузи дом найти: он от вас направо будет, серый, каменный, большой… И еще – ее тяга к странной одежде, вычурной, элегантно-вульгарной, если нечто эдакое на витрине, возьмешь в руки – блестит, повернешь – сияет, – Лялино, и больше ничье (прозрачные туфли – из такого материала еще капельницы делают – с золотыми стельками; в пару к ним – блузки из рыболовных сетей). При этом – старосветский политес, непричесанной к завтраку не выходить, даже если конец света; кольца носить только на безымянном и на среднем пальцах, а на указательном и мизинце – «деточка, это же моветон!» – цитирует слова бабушки, впрочем, бабушку в семье не любили: мама, Елена Антоновна, потом, после бабушкиной смерти – бабушка ей приходилась свекровью – вышвырнула всю ее фамильную бронзу из окна, прямо во двор. Все это Ляля вдохновенно рассказывала за чисткой картошки. Тем не менее, если б не бабушка, Лялю бы Глашей назвали: «Я, – говорит, – повешусь в уборной, в мое время такие имена давали только кухаркам». А Ляля, когда с сомнительными мужчинами знакомится, через раз представляется: «Глаша», – и забывает. А потом пять раз по мобильному ответит «вы не туда попали», прежде чем вспомнит.
Ее рассказами я заслушиваюсь. Образы иной, далекой и прекрасной жизни завораживают – и после преследуют меня.
Я живу не в свое время, это очевидно. Мне надо туда.
Валя заезжает за мной к девяти, я представляю, как выглядит это со стороны, у парадного подъезда высотки останавливается белый «ЗИМ», машина очень большая, две тонны весом, пять с половиной метров длиной, если сесть на заднее сиденье, можно вытянуть ноги, и еще место останется, даже на фоне припаркованных рядом «гелендвагенов» он выглядит небывалой, доисторической, диковинной громадиной – чудо-юдо-рыба-кит, всплывшая из атлантиды лет. Водитель открывает дверцу. С крыльца спускается девушка, идет мимо кружка великих старух, восседающих с ручными болонками на скамейках у главного входа – в манто (спасибо бабушкиному сундуку), палевом боа (прости, плюшевый мишка) и старомодной (на самом деле новой и очень дорогой) нэпманской шляпке, – садится на переднее сиденье, всплеск руки в митенке, хлопок тяжелой дверцы – машина трогается.
Машина трогается. Мимо летят фонари, купола, парапеты мостов, мы едем по набережной; снег; стекла замерзли, почти ничего не видно – печка работает хорошо, но в машине столько щелей, что окна покрываются ледяной коростой уже через пять минут после начала езды. Мы как в серебряной колбе, как в спутнике без иллюминаторов, – но Валю это ничуть не смущает, Валя уверен в себе – недаром друзья называют его суперпилот. Я проделываю в замерзшем стекле глазок, смотрю, как позади остается щербатая диадема моста – фонари горят через раз, – колокольня Троицы в Серебряниках, освещенная громада высотки… Сейчас дадим соточку, говорит Валя, мне страшно, я вспоминаю напутствие Мишутки: – Если когда-нибудь будешь водить старую машину, никогда не гони больше ста. – Почему? – Олень обгаживается. – Что? – Шоферская шутка, скульптурка на капоте у «Волги» в виде оленя, а у «ЗИМа» он на флажке. А если серьезно, у них такая конструкция, что на большой скорости начинают взлетать.
Серебряная колба несется по набережной, снег идет все сильней, пейзаж за окном сливается в сплошную пелену, на каждом повороте нас заносит, я чувствую, как машина метет хвостом, луна-парк, аттракцион «американские горки», американцы, правда, называют их русскими, захватывает дух и хочется визжать, Валя смеется над моими страхами, жмет на газ – и мне кажется, что я еду в рай.
Не больше не меньше: я была так счастлива, что была согласна умереть.
В день нашего знакомства к высотке Валю привели не духи, а очередная встреча ретроводов: в кафе «Котелок», расположенном в левом крыле здания, по четвергам собирались владельцы коллекционных авто. Валя посещал тусовку регулярно, иногда один, иногда брал меня. Сегодня я сидела между Пиратом и Валей, единственная из всех пила коньяк, Валя незаметно тискал меня под столом за коленку, нежно гладил капрон, и я думала, что вот сейчас он залез бы в трусы, но не сможет, потому что на мне не чулки, а колготки, а жаль. Кто бы знал… и я дала себе зарок впредь носить только чулки.
Вале принесли пасту, и он отвлекся временно от моего колена, взял в руки вилку, стал навивать мотки спагетти, они походили на коконы, Валя макал их в лужицу соуса бешамель и с аппетитом ел. Я повернулась к Пирату, спросила: – И сколько у тебя сейчас машин? – Штук десять. – Где хранишь? – На стоянке автоклуба. – А ездишь на чем? – На маршрутке, ответил Пират, очень удобно: сажусь на конечной – и сплю до метро. – Так ты своим ходом? Почему не пьешь? – А я вообще не пью, сказал Пират, я трезвенник. Люблю только томатный сок. На столе стояла корзина с хлебом, Валя протянул руку, поколебался между румяной рижской горбушкой и маковой булочкой… выбрал булочку. Это же спагетти! – воскликнула я. – Страна, которая ест макароны с хлебом, непобедима, – ответил Валя. Я вспомнила, что видела однажды эту фразу в газетном заголовке.
Весь день меня преследовал гадкий запах. Я словно находилась в облаке отвратительного марева, запах плотной стеной стоял в воздухе, я очень страдала и не могла понять, в чем дело. Решила, пахнет краской для волос: я только что их покрасила. Потом постепенно привыкла, к вечеру почти перестала замечать. Ночью, часов в двенадцать или около того, готовила ужин и сильно обожгла паром запястье. Ожог пришелся на лимфоузел, волдырь величиною со сливу вздулся мгновенно и душераздирающе болел. Чертово харчо! – я бросила в мойку половник, едва не побив тарелки и чашки. Позвонила Вале, попросила привезти водки в качестве анестезии. Валя оказался за городом, обещался не раньше чем через час. Я набрала Валин домашний, и Ляля взяла трубку. Ничего страшного, – сказала она, – сейчас мы тебя вылечим. Йод и крахмал разводишь в теплой воде, получается гадость синего цвета, не пугайся, так и должно быть, – это даже в аптеках продается, называется йодинол. Намажь на ватку и приложи. Завтра все пройдет.
Я приготовила гадость по Лялиному рецепту, желеобразное зелье с темно-синими сгустками, и стала сооружать компресс. И тут меня поразило одно обстоятельство. Адская смесь обладала тем самым запахом, который мерещился – именно что мерещился – мне целый день.
Потом приехал Валя, обозвал однорукимбандитом, мы съели по плошке харчо, выпили по сто граммов «Столичной». Знаешь… сказала я, – и поведала историю про адский запах. Очень странно, произнес Валя, скорее всего, тебе показалось. Я в это не верю. Я верю в физику, а в чертовщину нет.
Однако следующей ночью произошла еще одна история с опережением времени. Стрелки часов показывали три, я собирала компромат на министра, и тут зазвонил мобильный. Я сказала «алло» – но в трубке была пустота. Через минуту опять: я – «алло», там пустота. В такое время мог звонить только Валя; я отключила сеть и набрала его домашний: это ты дозвониться не можешь? Валя был удивлен, потому что действительно сидел в тот момент с мобильным в руке, но номера набрать еще не успел.
Мне этим хотят сказать – что?
Соприкосновения у меня были и раньше. Измученная бессонной ночью, неудобными позами у художников днем, я возвращалась в Сивцев Вражек, едва держась на ногах. У подъездной двери обнаружила, что домофон не работает. Позвонила Вале, попросила спуститься и открыть подъезд изнутри. Пока ждала его, стояла на крыльце и слушала, как во дворе лает собака. Я была словно ватная, в состоянии крайней усталости души и тела. Еще я была безмятежной. Я стояла и слушала лай. Магнитный замок, не дождавшись никаких действий со стороны – Валя, собственно, еще не дошел, – внезапно запищал, выдал сигнал «Ореп», и дверь отомкнулась сама собой. Я заглянула в подъезд и в нескольких метрах увидела спешащего навстречу Валю. Остается предположить, что за пределами утомления начинают работать другие законы. Из пустоты сознания рождается… назовем это словом энергия. Телекинетическая, судя по всему. И эти самые разреженность, опустошенности – так же как и перенапряжение – суть условия ее зарождения.
Я сижу у окна и смотрю на простирающийся город. Сверху он кажется игрушечным – городок в табакерке. Стены и башни Кремля, церковь Николы Заяицкого на том берегу Москвы, ближе к Яузе – невысокие желтые здания, бывший Воспитательный корпус для приносных детей и сирот, основанный Екатериной при помощи генерал-поручика Ивана Бецкого (дразнили: «Бецкий – воспитатель детский»), на нем эмблема – пеликан, выкармливающий птенцов… Ныне Военная академия Ракетных войск; правее Солянка, Хитровка, а если сильно скосить глаза вправо, то видно и Полотняный завод.
На набережной всегда в это время трафик. Медленно текут навстречу две ленты-реки: в одну сторону красные огни фар, в другую – белые. Как двухрядные елочные бусы. В мастерскую долетают гудки, вой сирен…
С каждой четвертью часа небо меняет свой цвет: клокочет пожаром, пламенеет маковой луговиной, расцветает сиренью, плещется черноплодным вином. Запад залит густым: не то нефть, не то пепси-кола, подожги – узнаешь; и вот уже тянется, мерцает рубиновым огоньком стройная спичка Беклемишевой башни. Просверк последних лучей, сейчас полыхнет! но нет, сумрак только сгущается, небеса, наливаясь свинцом, тревожно мрачнеют, одеваются в черные шали сорока дочерей Селены, глядят в зеркала наших окон; облака превращаются в пятна Роршаха, жертвенных чернорунных овец, косматые гривы гекатонхейров, и это не может не завораживать.
Поток за окном редеет. На подоконник запрыгивает Вакса, сосредоточенно смотрит на улицу – и вдруг бьет лапой по стеклу: ловит фары, они ему как золотые рыбки в аквариуме. Тина не открывает окна с тех пор, как Вакса попытался прыгнуть с семнадцатого этажа за пустельгой. Еле успели поймать: кот уже навис над бездной, но хвост все еще оставался в квартире.
Соколы-пустельги вьют гнезда на шпиле, на самом верху. Бьют крыс и мышей – и отъедают только головы… Любимое место охоты – сквер вдоль Яузы, на пешеходной тропинке тут и там попадаются тушки… Над окнами Кустовых аркада, туда каждый год прилетает одна и та же пара, и за лето у них выводится двое птенцов. Пустельга мелкий сокол; глаза абсолютно черные, без зрачка – удивительной красоты, и взгляд оттого у них очень глубокий. Когда птица однажды взглянула на меня с карниза у окна, я поняла, почему говорят «смотрит соколом».
Есть и другие обитатели в поднебесье: верхние этажи облюбовали божьи коровки и летучие мыши. На черной лестнице на нас напала бабочка. – Да что вы! – Ага. Чем-то мы ей не понравились, и она – прямо вокруг волос, как они, знаете, любят виться. Мы на другой этаж, она, зараза, за нами: что вы тут делаете?! Я говорю, хороша бабочка, это же летучая мышь. Совершенно спокойно летает по всем коридорам, не путаясь, а коридоры у нас извилистые, кое-где винтовые лесенки есть…
Никогда не видели летучих мышей? Да их здесь полно. Машка даже притащила как-то одну, чем вызвала бурю восторгов у Ваксы. Ну, мы ее выпустили, конечно. Машка нечаянно принесла. Взяла с черной лестницы коробку от телевизора, а та устроилась в ней спать.
В работе натурщика есть нечто медитативное. Благодаря ей у меня развилось исключительное умение совершенно спокойно выстаивать и высиживать любые очереди. Если отвлечься от окна, можно сосчитать листья аканта на лепнине, в деталях изучить гравюры и полотна на стенах. Сюжеты в основном античные: парк, колоннады, статуи… Меня всегда это влекло, сказала Тина, в пять лет я научилась читать только ради того, чтобы прочесть «Легенды и мифы Древней Греции» Куна: в книге были фотографии античной скульптуры, статуи зачаровывали, и хотелось узнать про этих прекрасных людей как можно больше…
Тина удаляется на кухню, в мастерской воцаряется тишина, нарушаемая шорохом карандашей по грубоватой акварельной бумаге. Можно, я надену наушники, ученики молча кивают, я вытаскиваю из сумки плеер, меня спрашивают, что я слушаю. Музыку, которая заставляет следить мыслью за мелодией. А что сейчас? – Карл Филипп Иммануил Бах, в комнату – бархатным шагом – входит Максимыч, ну как? с карандашом и резинкой в руке по очереди обходит студийцев, подправляет эскизы и – ладно, рисуйте! – скрывается в недрах квартиры. Любимое утешение Тины: если сейчас ученики смогут нарисовать мое очень сложное, ускользающее лицо – на экзамене будут чувствовать себя как на французской Ривьере.
В перерыве компания стекается на кухню – за исключением одной мрачной, угрюмой девочки, которой никак не дается мой нос. Опять там Ольга застряла. – Тина встает из-за стола и идет в мастерскую. Из-за стены доносятся драматические стенания. – Ну что это за поворот головы! Она у тебя как «Ужин» Бакста!
– Ничего не могу с ней поделать. У всех получается – а у этой нет! И вообще она какая-то странная. Вечно что-то говорит невпопад… – Потом, когда все разойдутся, Тина будет ворчать на кухне за рюмкой мартеля, подаренного кем-то из учеников.
Студийцы эту девочку тоже не любят. Я слышала не раз, как Лена Задворская, любимица Тины, язвительно шипела ей в спину:
– М-модильяни!
Иногда Ольга спрашивает: ты не устала? о чем ты думаешь? Ей плохо, неуютно в мастерской, но Ольга не пропустит и дня, она ходит, как американ экспресс, ей надо, она должна поступить. Я верю: поступит.
После занятий мы с Максимычем гуляем с собаками. Он – по расписанию, я заодно: жду, пока приедет Валя. Мы стоим в углу огороженной собачьей площадки за домом и, запрокинув головы, смотрим на уходящий в заоблачные выси шпиль главного корпуса. Кустов гоняет борзых лучом фонаря – повизгивая от восторга, они носятся, как за настоящим зайцем.
– Когда мы только въехали сюда, нас называли «высотники» – такое слово между завистью и восхищением… Тогда нас всех собрали и сказали, что дом наш особенный и много чего нельзя. Когда стало можно – я завел четырех собак… Дом-то, как бы вам это сказать, с душком. Я раньше все хотел отсюда уехать – а теперь привык. К высотке, и к месту. Раньше здесь было болото, и стояла усадьба, в которой родился Саврасов; все снесли. Построили пентаграмму. Чечулин гениальный архитектор, изобрел конструкцию в виде звезды: очень устойчивая, флигеля по бокам держат здание как контрфорсы… Это не вам сигналят? До свидания-а!
Весна пролетела стремительно, помню одну лишь картинку: садимся с Валей в старую большую машину и едем куда глаза глядят; я чувствую себя Лолитой при Гумбольдте. «My car pet»… Your car pet. А потом наступил июль, и это было чудесно: приближалась «Автоэкзотика». Валя потихоньку готовил машину к показу, я размышляла, в чем пойду на фестиваль.
Неранним утром по пути с Сивцева Вражка я зашла на Садовом в «Стокманн», купила пять пар чулок, шелковые трусы, красную футболку, белые джинсы и роскошную хлопковую пижаму с замысловатым узором. Поймала машину, приехала с этим хозяйством домой, разложила покупки на диване, сварила рист-ретто, поставила диск Элвиса Пресли, набрала ванну. Сорок минут плескалась в душистом суфле мыльной пены, подпевая королю рок-н-ролла, – а потом глянула на кухне на календарь, и мне чуть плохо не стало: сутки просто выпали из жизни. Министр! Как же я забыла про него! Побежала включать Интернет, кое-как наработала нужное, отправила файл, вытерла воображаемый пот со лба и поехала в мастерскую на сеансы.
Звонок застиг меня врасплох. Мы сидели с Тиной на кухне после занятий, пили чай, на набросках я устала: программа усложнилась, ученики брали последние уроки перед вступительными экзаменами. Валю я сегодня не ждала, но он ехал мимо и решил меня прихватить. Тиночка, пойду переодеваться, – на мне была холщовая роба, ну прямо рубище. Тина кивнула, я взяла свое городское убранство, косметичку и скрылась в ванной.
Валя прилетел на крыльях любви так быстро, что я даже ресницы не успела накрасить, только пристроилась перед зеркалом, а он уже звонит: я внизу. Вышла как есть, а была я в красной футболке, джинсах из универсама и стареньких босоножках, потому как в новых давеча попала под ливень.
– Давай к Мишутке, что ли, твоему поедем. Давно собирались, – предложил Валя; я уселась на передний диван, и мы тронулись.
У метро «Смоленская» Валя решил, что надо купить гостинец. Мы вылезли из машины, зашли в супермаркет – и там, в магазине, я почувствовала, что с правой ногой что-то не то. Посмотрела вниз и увидела: верхняя часть туфли отделилась от подошвы и болтается на ниточке, и не сделаешь ничего. Дальше не пойду. Вот прямо тут постою. Купи красных груш. Мишутка их любит. И банку брусничного джема.
Валя удалился, я стояла у витрины парфюмерной палатки и думала: что же делать. Скотчем примотать, жвачкой приклеить; доковылять рублем-двадцать – всякие озорные идеи посещали меня. Реклама еще была такая глупая, где у тетки каблук сломался, так она и второй оторвала, зарядившись энергией от шоколадного батончика.
Купить хотя бы вьетнамки в супермаркете я, конечно, могла. Но не стала – решила, буду-ка я дальше босиком. В конце концов, весело, а в машине коврик. А там я дойду, или пусть Валя на руках несет, как принцессу, даром, что ли, похудела на пять кило.
Так мы и вышли из «Седьмого континента»: Валя с кульком груш, я с развалившимися босоножками в руках. Хотела сразу выкинуть – Валя не дал: езды еще километров десять, не дай Бог придется из машины выходить, а так хоть как-то можно.
Когда добрались наконец до Мишутки, я была по колено в саже. Окинув меня взглядом, он ничуть не удивился, а на обратную дорогу выдал напрокат махровые, в прошлом белоснежные гостиничные тапки – право, я в них выглядела роскошно, – чем лишил небольшого эротического переживания, ибо в противном случае Валя, который не любит заезжать на длинном неповоротливом «ЗИМе» в мой узкий двор, донес бы все-таки меня до дома на руках… Почему, спрашивается, он не сделал этого по пути к Мишутке? Да потому что нес кулек с грушами, Мичурин бы их побрал.
– Откуда у него «ЗИМ»? – спросил потом брат. – «Москвич», «Волга» – понятно, это не редкость, их везде полно, но лимузин?
– Были деньги, купил за пять тысяч долларов, – ответила я. – Сейчас все это уже гораздо дороже…
Разбудил курьер из книжного. Привез девять книг (заказывала десять, одной не оказалось). В обед пошла в парикмахерскую, хотела привести себя в порядок перед «Экзотикой». Неудачно: Олег Иваныч, румяный кудрявый пенсионер, исполняющий роль секретарши салона, напутал с записью и на мое время пустили кого-то другого. Может, завтра к десяти придете? – Я так рано не встаю. – Тогда сегодня в шесть.
В семь пятнадцать со второго захода я была красавицей. По дороге домой зашла за лаком для волос в галантерею, в подземном переходе купила ксивник для документов, телефонную карту и блок сигарет, а потом заехал Валя на «Волге» и привез пропуска на «Автоэкзотику», сказал: – будешь штурман, забавно; занял денег на замену полетевшего стартера в «ЗИМе», который числился на автошоу экспонатом, выкурили на балконе по сигарете и отправились к нему на Арбат собираться.
Стартер сломался за три дня до фестиваля. Валя поставил машину, как всегда, в карман во дворе, а когда собрался выезжать, обнаружилось, что она не заводится, надо толкать. Мы с Лялей переглянулись. Ну что, подруги, выходим, скомандовал Валя и усмехнулся: – Будем заводиться с толкача.
Эту картину двор запомнил надолго: два нежных создания в юбках, на шпильках дружно толкают пятиметровый лимузин. Надо так надо. Хорошо хоть был небольшой уклон.
И вот Тушинский аэродром, фестиваль «Экзотика», вторые выходные июля. Три дня будут наши – пятница, суббота, воскресение. Куда бы встать? Ребят еще нет никого; стоят какие-то две «Победы», не знаю, кто это. – Валя кружил по летному полю уже с полчаса. – Предлагаю подальше от сцены. – Давай, что ли, здесь… Потом переставлю поближе к народу…
Мы вышли из машины, поглядели по сторонам: раскинулось поле широко, да башни «Алых парусов» вдали, Валя долго ставил палатку, я помогала, потом пили зеленый чай из термоса, звонили своим, выясняли, кто, где и как. С того дня осталась фотография: Вяля сидит на капоте «ЗИМа», почему-то в тюбетейке, как узбек. В бордовой торжественной рамке она красуется на почетном месте над моим рабочим столом.
– Переодеваться будешь?
– Нет, не буду.
На «Экзотику» я заявилась в пижаме. Целую неделю до мероприятия перебирала стопки одежды в шкафу, металась между мини-юбкой и белыми джинсами, но в результате приняла парадоксальное решение. Пижама эта, вернее пижамные штаны, приобретенные в «Стокманне» на распродаже, оказались на мне по случаю того, что я, выражаясь языком технических журналов, назначила на них функцию летних брюк. Шаровары имели витиеватый шамаханский рисунок, вензельную вязь темно-синим по белому, сшиты были из очень тонкого хлопка, и я решила, что для активного отдыха в 35-градусную курортную жару самое оно.
И когда совершенно незнакомый парень обошел меня три раза по часовой стрелке, восклицая: «Чудо как хороша», – я поняла, что поступила правильно. А главное, никто не догадался.
Ляля появилась совершенно неожиданно. Я сидела в палатке и перекладывала вещи в рюкзаке, как вдруг увидела у входа ноги в синих джинсах.
– Кто это там? – спросила я и высунулась наружу.
У входа был Валя, а рядом с ним Ляля. Снизу мне хорошо было видно, что у Вали стоит. Вот интересно, чья заслуга… Пошли проведаем «американцев», я запихала обратно в рюкзак зонт и свитер, посильнее стянула горловину, застегнула застежки, бросила рюкзак в дальний угол палатки, застегнула за собой молнию, и мы направились к дружественному автоклубу.
Американоводы стояли ближе к центру поля, свою площадку они обнесли канатом, по углам на длинных шестах колыхались полосато-звездные флаги. «Шевроле», «кадиллаки», «форды» и «бьюики» выстроились ровным каре, как на мини-параде, но кроме охранника, двух загорающих группиз и посетителей выставки в загоне никого не оказалось – народ куда-то ушел.
Аэродром был переполнен звуками: бесконечные сливающиеся в рев гудки, громкая музыка, несколько концертных площадок в разных местах – на одной соревнуется автозвук, на другой дискотека, на стендах автоклубов зажигают рок-группы, на главной сцене – конкурс на лучшую реставрацию, тут и там промоакции пивоварен: купи две кружки пива, третью получишь бесплатно. На каждом углу – свой угар.
А это что за чудо в перьях? – в который раз, завывая сиреной, по взлетной полосе пронеслась украшенная полусотней прожекторов и целым ирокезом антенн «Ока». Боня, местная знаменитость. День и ночь будет гонять кругами. Уделал машину, как бог черепаху. – Действительно, дикобраз какой-то… Я посмотрела Боне вслед и заметила присобаченное к задней двери колесо от телеги. Его-то как раз и не хватало для полноты картины.
Мы вернулись на центральную аллею, которая была колдобистой грунтовой дорогой, раскланялись с председательницей клуба «альфа-ромео», двинулись на запах дыма и мяса, съели по порции шашлыка, затем устроили фотосессию, я сидела на подножке 101-го «ЗИСа», Валя снимал мое отражение в дверце стоящего рядом «ЗИСа-110», а потом Лялино, а потом мы увидели пожарную машину Ford-T 1919 года, она стояла отдельно, Валя пошел договариваться с хозяевами, пусть девки сфотографируются, они аккуратно, на руках отнесу и сниму. Но девки, вместо того чтобы сесть за руль, полезли под колеса и принялись изображать: они ремонтируют и одна дает другой советы. Когда Валя за руки, за ноги вытащил нас из-под «форда», я была вся в соломе, а Ляля – в машинном масле.
Great impression от выставки: автомобиль-амфибия «Тритон». На суше машина, катер на воде. Построил один скрипач на досуге на даче. Пожалела, что не сделала фотографию. Очень хороши линии, форма… Катались – катал внук скрипача. Смотрела на поле, на заходящее солнце в боковой люк – сзади, как в яхтах и ритуальных автобусах. Сложная гамма чувств переполняла меня: казалось, гляжу на низко висящий огромный огненный диск из катафалка.
Мимо проехала серебристая «татра» с совершенно инопланетным хвостом-плавником… А-а… Это Рэм Меркулов, работал на нашей кафедре в институте, сообщил Валя, восемьдесят седьмая модель тридцать девятого года машинка. Аллилуеву, говорят, в ней катал. Нравится?
Мне все здесь нравится. Трава на поле, я сняла туфли и хожу босиком, почти невыносимая жара, гидрант с ледяной водой на краю аэродрома, мы ходим туда за водой и просто так, обливаться, бесконечные ряды старых машин, палаточные лагеря и стенды реставрационных мастерских, мангалы, шашлык, пиво и водка, парни и их подруги. А вон, смотри, Пират. Здорово, черти! – Пират широко распахивает руки, не видели Сэма? А Бородатого? Ты слышал: Борода женился. Они справляли свадьбу на роликах. У вас ночные пропуска? Вы остаетесь?
Мы остаемся. Ночью Пират дает покататься свой «виллис». Ляля уединилась с Сэмом, Валя где-то пьет, впрочем, я и сама едва на ногах стою. Меня охватывает волнение, я очень хочу порулить на старой машине. Пират напоминает, как ею пользоваться, сажусь за руль, наматываю круги по отведенному для выставки загону: дальше выезжать запрещено и назначен штраф – после того как Валя в прошлом году решил искупаться и поехал на «ЗИМе» в Серебряный Бор прямиком через поле. Все бы ничего, да только он не увидел веревочку, которая была ограждением, и случайно ее зацепил. Чувствует: что-то не то. Оглянулся, а там уже все сортирные будки вповалку. Хоть и пьяная, а ровно каталась, ни один «хорьх», ни один «паккард» не задела. Так вы пишете стихи? – спрашивает Пират, мы уже вышли из машины и гуляем по залитому лунным светом летному полю. – Да, и сейчас прочту вам одно. Декламирую. Хрюша един в трех лицах: // Хрюша, Степашка и Филя… – Подержите, пожалуйста. – Он снимает очки, передает их мне и, как каскадер, с совершенно прямой спиной картинно грохается наземь: мадам, я поражен!
Еще у Пирата есть «Победа» сорок девятого года и «опель-капитан». Он хочет целоваться, но я не хочу. Через день присылает мне письмо, начинающееся четверостишием:
Я однажды отобью
Вас у вашего бойфренда,
Молвив: «Баста, мать твою,
Истекла твоя аренда!»…
Спросила потом у Пирата: что, и ты сочиняешь? Оказалось, у кого-то содрал.
Я не отобьюсь. Пират классный парень, но я хочу только Валю.
В субботу я проснулась рано, меня выгнала из палатки утренняя сырость, солнце уже взошло, но трава была покрыта росой. Я вытащила из несессера зубную пасту, щетку, мыло и пошла через поле к гидранту. Там собралась очередь, с гиканьем парни обливались водой, тут же растирали полотенцем бронзовые торсы… Ледяная вода окончательно взбодрила, я собрала волосы в хвост, закурила ментоловую сигарету. Новый день начался, и он обещал быть очень жарким.
До обеда я валялась на надувном матраце и загорала, Валя спал, в три подъехала Ляля, и мы вместе вытащили его из палатки на свет божий, а следом и второй матрац, на капоте порезали яблоки, помидоры и огурцы, примостившись, там же выпили сангрии, какая сладкая, сказала Ляля, и тогда Валя достал из-под сиденья канистру воды «Шишкин лес» и разлил по стаканам. После трапезы мы разошлись, Валя решил обойти площадки автоателье, поискать работу, а мы с Лялей оказались предоставлены самим себе, раздевайся, сказала я, – у меня нет купальника, – а лифчик? – и лифчика тоже, – остается загорать топлесс, сказала я, и мы разделись. Опустили со лба черные очки и легли, она на спину, я на живот. Так неглиже и заснула, не выспалась ночью.
Под вечер небо заволокло тучами, я вспомнила, что по прогнозу в воскресенье обещали дождь: оставаться на поле было чревато. Поехали домой, – сказал Валя, к этому моменту мы все были изрядно пьяны, поэтому решили покинуть автопарк юрского периода на такси. Валя перегнал «ЗИМ» поближе к палатке Сэма, тот, несмотря на тучи, решил ночевать здесь, будь другом, последи, попросил его Валя, и мы двинулись к воротам аэродрома. Валя взял под руку Лялю, и тогда я, не долго думая, переключила внимание на Пирата, дала себя обнять и приговаривала: ты мне очень нравишься. Я догадалась: у красавца кризис жанра, и поработала Карлом Густавом Юнгом… Как тебе идет капитанская фуражка, медово говорила я, какая у тебя красивая гавайка.
Валя с Лялей шел впереди и часто оглядывался. Валя ревнует, нет, ну ты посмотри, как Валька ревнует, шептал Пират.
– Пьяная женщина своей звезде не хозяйка, – крикнул Валя. Мы подошли к Волоколамке, нужно было расходиться, и он не знал, как я себя поведу. Думал, может, пойду с Пиратом. Еще как хозяйка, злорадно думала я. И, чтобы не было обидно ни Пирату, ни Вале, у шоссе объявила:
– Парни! Я выпила лишнего и хочу, чтобы кто-нибудь отвез меня домой.
Оба были согласны; я выбрала Валю. Ляля села в такси вместе с Пиратом – им по пути. Во втором часу ночи Валя с моей кухни звонил Ляле. Доехала нормально? Да, она малость перебрала. Ты уже спишь? Воды нет? Поверни левый вентиль за унитазом. Завтра на «Экзотику» пойдешь? Не можешь? Ну ладно. Целую, Лялечка. Пока.
Валя кладет трубку, а я засыпаю и вижу кошмар. Пират набрасывается на меня, пытается поцеловать – и тут же расплывается как ртутный, – и это уже не он, а Валя в тюбетейке с оленями.
Что ты думаешь о наших отношениях, от неожиданности я открываю глаза и вижу высокий, только что побеленный потолок. Дома у Вали нет ни одной кровати, единственную раскладушку занимает Ляля – и мы спим прямо на полу: студенческая мансарда из французских кинолент. Мне кажется, что я люблю тебя… – голос как будто не принадлежит мне, я слышу его словно со стороны, я говорю неправду, я хотела бы любить Валю, но вижу, что он-то не сможет меня полюбить; у него нет на меня сил; более того – ему это и не нужно. И уже за одно это я его не люблю. Я… – но Валя не дает мне договорить, приподымается в постели на локте, почти кричит: Это морок! Твоя любовь – это морок! Что он имеет в виду, я знаю, знаю по кинематографу, фильм «Гувернантка», режиссер Сара Голдман: «Вы любите не меня, а свою собственную химеру». Да. Так и есть. Если люблю – то химеру. Красавца за рулем белого «ЗИМа». И не желаю опомниться.
Пока Валя стирает или гладит белье – а возится с хозяйством он очень долго, – мы с Лялей часами разговариваем на кухне. Что-то раньше не замечал у вас такого интереса друг к другу, удивляется Валя, а тут весь вечер протрещали. Конечно, протрещали. Еще бы! Ведь Ляля в подробностях рассказывала мне, как работала госпожой в садомазосалоне. Черные стены, розги, наручники… Кто же такую байку пропустит?
Ляля уже очень долго живет у Вали. Мне кажется, она ему не сестра. Понятно, дальние родственники не обязательно должны быть похожи. Меня смущало не это. У них было разное все, это люди разной породы, из разных каст. Очень странно. Больше всего похоже на правду – она его бывшая, которой сейчас негде жить. Интересно, они до сих пор спят? Это, конечно, не мое дело, но от этого страдает личная жизнь.
Вчера проявила малодушие: уселась в кресле и стала изображать зверей из сказки. Лиса, Лиса, поди вон! – Обуваюсь! – Лиса, Лиса, поди вон! – Одеваюсь! А Ляля удивленно смотрит на меня – мы же почти подруги… Ах, что тут непонятного: две бабы на одной территории. Тем более, она ему, простите, никто – не то квартирантка в статусе подруги, не то подруга в статусе квартирантки. А у Вали даже дверь в туалете-ванной не запирается. В любую минуту Ляля может без стука зайти и сказать:
– Ничего, что я руки помою?
На это старосветский политес почему-то не распространяется.
…Посреди ночи в замке поворачивается ключ, тихо, на цыпочках прокрадывается она на свою раскладушку. В эту секунду я ненавижу ее, потому что у нас с Валей сейчас самый ответственный момент, – и он сорван.
Скоро мы станем как скорпионы в банке.
Некоторые люди завораживают своей красотой; у меня этого нет. Точно так же я не смогла увлечь Валю ни образами, роящимися у меня в голове, ни виражами своих размышлений – он не понимал меня, как большинство людей не понимают теории Эйнштейна, и вскоре я увидела, что мой суперпилот заскучал. Этого следовало ожидать: в нашей совместной жизни не было ничего общего, кроме постели с ядовито-зелеными простынями и долгой бесцельной езды по вечернему городу.
Попытки моего красноречия – а видит Бог, я рассыпалась перед ним, как Шахразада перед Шахияром, – он тут же, с видом страдальческим, обрывал словами «короче! кончаймумить!», впрочем, не могу не отдать должного экстравагантному неологизму – от «Муму». Тургенева знает – и то спасибо. Валя только с виду романтик – на самом деле он прост – даже, может быть, груб. «Что? Какой замок? Какие небожители? Ну какие же они небожители! Обыкновенные люди…» Сказка убита. Ему не интересно то, что интересно мне. Сложность сюжетики и метафорики, к которой я так упорно стремлюсь, Валя воспринимает не иначе как невнятность.
Но как же так! Все, что я рассказываю, я рассказываю исключительно для него – а он заведомо считает мои истории нудными и – получается – если и дослушивал до конца, то только из уважения? Что ж, буду кратка с ним, как эпитафия. Подлежащее – сказуемое. Подлежащее – сказуемое. Да – да. Нет – нет.
– Видишь ли, – сказала я тогда, – я не родилась с этим словоблудием во рту. Я, как ты знаешь, росла в таком захолустном месте, куда даже кино не каждую неделю привозили.
Но, возможно, он прав. Мужчину надо кормить не байками, а вареной картошкой – и мяса побольше. Все, что сверх того, его интересует мало. Если только в конечном итоге опять-таки не сводится к картошке и мясу.
Моя болтовня к мясу не приводила – никак.
Мишутка – насчет простого парня – был прав. Как я могла так обмануться! Но «ЗИМ»!
В дымоходе завывает ветер, очень громко, и мне страшно. Валя не появляется уже четвертый день, куда-то пропал по своим тайным делам… Я страдаю, хотя что страдать, человек одинок в принципе, это данность, только иногда про это не помнишь, и изменить ее нельзя, хотя иногда очень хочется.
Но это невозможно: и над мужчинами, и над женщинами, одиночество – наджанровый признак, оно – от эксклюзивности человека, от того, что в какой-то момент осознаешь себя как единичный экземпляр. И это так и есть, а уникальность почти равна одиночеству, но с поправкой: одиночество скорее дискомфортно, мысль об уникальности – скорее притягательна.
* * *
Это было самое странное объяснение в любви.
Мы отправились с Валей гулять на Арбат длинным маршрутом. Сделали крюк по Пречистенке, свернули на Знаменку, у станции метро «Боровицкая» к нам прицепилась нищая старуха, она продавала толстенную книгу про ретроавтомобили на французском языке. – Сколько? – Сто пятьдесят. – Валя сразу сник, столько у него не было, а просить у меня не хотел. Ну берите за сто! Валя протянул купюру, я взяла у старухи книгу и машинально перелистала страницы. Книга оказалась с картинками: чертежи, фотографии с выставок, счастливые Пьеры и Мишели делают ручкой бонжур из кабриолетов, рядом их жены сияют голливудской улыбкой, гонщики в желто-красных комбинезонах, таблицы автомобильных эмблем…. echantillon gratuit, стоял штампик на задней обложке, бесплатный экземпляр. Поскольку Валя поехал с пустыми руками, мне пришлось запихать книгу к себе в сумочку, а сумочку, чтобы не оборвались ручки, плотно зажать под мышкой. Мы вышли к ресторану «Прага», поглазели на художников и на сувениры, отстояв приличную очередь, я за пять рублей посетила голубую будочку, причем в стене на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника было проделано маленькое сквозное отверстие, и через него на посетителей смотрел внимательный карий глаз. Я мрачно взглянула в сторону дырки. Глаз исчез. Уж не видение ли это было? Потом прошлись до Смоленки, съели по гамбургеру в «Макдоналдсе», выпили кока-колы (все вместе – семьдесят рублей), но совершенно не наелись, и тогда купили в уличной палатке горячую лепешку, плюс десять рублей. Напротив «Макдоналдса» играл джазовый оркестр. Мы подошли поближе, нашли какой-то выступ в стене, подстелили пакет и сели. Я достала лепешку, отломила кусок. Справа от нас выпивали бомжи, слева одетый с иголочки гангстер ругался по телефону с подругой. Темнело. Я отломила еще кусок… я тебя люблю, вдруг говорит Валя, я тебе этого не обещал, но это так.
К осени Кустовы набрали новую группу – и я опять согласилась. Мне нравилось смотреть в окно. На сеансах я взирала на небо и Кремль, в перерывах прилипала к стеклу и видела припаркованные «Победы» и «Волги», если то был четверг. Имелся и еще один плюс: после сеансов из натуры я становилась собеседницей, приобщалась к легендам генеральской квартиры и кремлевских покоев.
Распитие бутылки коньяка или какого другого благородного напитка – в семье Кустовых ритуал особый. Если есть повод, за стол приглашаются все присутствующие – даже собаки приходят. Бутылку оплетают разговоры, круг тем почти неизменный – не больше рондо цифр на часах: бега борзых (излюбленный конек), обитатели Дома на Котельниках, преподавание в институте, МОСХ, знакомые художники, знакомые по собачьей площадке, алкоголь, выставки, гравюры Фаворского, Осьмеркин, Гончарова, Лентулов, Родченко, Бурлюки – и, наконец, родители Максимыча и детство, проведенное в Кремле. Выглядит это примерно так. Был тут недавно у одной соседки. Там! вы представляете, зеленые стены, зеленый диван и черная собака ходит. Настоящий будуар. Я бы там такое нарисовал! – Что же не нарисовали? – Слишком красиво, не могу себе позволить. Или: вчера приходила Лариса с собачьей площадки, у нее Джек умер, ротвеллер, – машинально поглаживая чей-то подсунутый под руку рыжий нос, – старый уже был, бедняга. Ну, сели, помянули кобеля… Мне как раз студенты принесли бутылку… надо же, какие необычные поминки, И-и-и, матушка\ это еще что! Сейчас я вам расскажу необычные поминки! В детстве отец меня куда только не водил. Пришли как-то поздним вечером, часов десять было, в Мавзолей, спустились по лестнице в траурный зал. Помещение в форме куба, со ступенчатым потолком, по периметру черная полоса из редкого камня, красные пилястры, на невысоком подиуме саркофаг, в нем человек, краснорожий, с красными огромными руками. Подкрашивали, что ли… Не так давно ходил с экскурсией, проведать, – светлая, бледная кожа, зеленоватая даже. Тогда за Лениным следил один академик, в его кабинет вела дверка. Подожди здесь, сказал отец и надолго скрылся за ней. И вдруг я с ужасом понял, что сейчас они будут там выпивать! В Мавзолее царил полумрак, и ночь на дворе, я стоял в изножье саркофага… Было страшно. Представьте: я и Ленин. Вот уже целую вечность в склепе, один на один с покойником, и нельзя отойти. Мне десять лет, мальчишка. У входа, как изваяние, караульный, но разговаривать на посту запрещено… А отец все не выходит и не выходит. Еле дождался. Да я и самого товарища Сталина видел! Один раз, на параде. И был, скажу я вам, премного разочарован: какой-то старец, высохший, конопатый, в белом кителе, китель на тощем теле висит… На картинках-то рисовали такого геракла! А главное, он оказался рыжим, не черным, как изображали.
Из Кремля мы ходили в город учиться и возвращались в определенный час. Все строго по расписанию, а вечером вообще нельзя покидать территорию. Что в Кремле делать детям? Гуляли по Соборной площади, катались в Александровском саду на санках, на колокольню лазали, Иван Великий был тогда необитаем, все ценности, мощи попрятаны по подвалам. Только после Великой Отечественной их передали патриарху.
Если ты попадаешься в комендантский час, проблема не в том, что тебе нагоняй, проблема в том, что нагоняй отцу. Однажды я заигрался в городе с одноклассником. Смотрю, а время вышло, скоро смена караула, закроют ворота, а это значит – ЧП, кто-то на ночь глядя ломится в Кремль. Я спохватился: пора бежать! Но мальчик тот схватил меня и держит, не пускает. Смеется, и все тут, никак до него не доходит, что я не шучу. Дал кулаком в лицо и убежал. Успел. Вы понимаете, ударил человека ни за что… Это одно из самых неприятных событий моей жизни…
В нашем подъезде жил молодой дипломат, сын Менжинского, он держал бабочек, огромных, с ладонь, каких-то редких африканских пород, и выпускал их погулять в подъезде. Бабочки летели по лестничному пролету и возвращались… Диковинно было тогда, а сейчас они продаются. На Новый год ученики подарили одну. Корм при ней, красивая, ручная – но очень мало живет. Две недели, а дальше гусениц надо откладывать. Наша бабочка умерла, мы не знали, как их разводить. А вот сын Менжинского знал.
Ученики принесли Кустовым конфеты, коробку французских шоколадных трюфелей «Сэмуа». К коньяку Тина открыла, попробовали – надо же! один в один конфеты из сухой смеси «Малютка», сгущенки, молока и какао, вожделенные лакомые пилюли моего детства. Кто не помнит такие мягкие комочки, густо обсыпанные «Серебряным ярлыком»… Иногда их делали с шариком мороженого внутри – и до праздника хранили в морозильнике. Высший пилотаж советского кондитерского искусства на дому, как я сейчас понимаю. И вот на тебе: каких-нибудь сто рублей – и ты паришь на облаке детства.
Кухня у Кустовых аутентичная, мало что изменилось здесь со дня постройки дома. Стены от пола до потолка облицованы белой кафельной плиткой, даже оконные откосы. Посудные шкафы сороковых годов поободрались, но все еще служат. В ванной фигурные кронштейны из пластика – полвека назад были штукой небывалой, элитной.
– Видишь, на этой стене оттенок плитки немного отличается?
Я пригляделась: разве что на полтона…
– Это заплатка, здесь батарею срезали. Смотри, кладка другая, расстояние между плитками больше. Раньше клали «на пятак» – вставляли пятикопеечную монету ребром, где шов, поэтому у старой кладки зазор такой узкий. Когда меняли стояки, под той батареей открылась ниша. В ней стоял немецкий стакан. И все, и больше ничего. Ни имени, ни записки. Неизвестный пленный солдат оставил в память Истории. Знаешь, в корпусе «А» – он построен раньше всего, – так вот, в нем есть военное ателье, где до сих пор работает старушка, которая пришла туда совсем молодой девчонкой. После войны у нее был роман с пленным немцем из тех, что строили башню; потом, когда немцев вернули на родину, она очень о нем тосковала.
Тина так и не съела ни одной конфетки. Сидела, курила, глядела в окно, пила коньяк маленькими глотками.
А потом случилось ужасное. Тридцатого ноября ночью, прямо из-под окон, угнали «ЗИМ»: Валя лишился своего главного мужского достоинства. Самое поразительное, что машина была в тот момент без руля, – и правильнее было бы сказать: не угнали, а увезли. Соседи видели, как во двор заезжал эвакуатор. Милиция – не видела ничего. В ту ночь у Вали никого не было дома, Ляля ночевала у подруги, сам он уехал бомбить, – а когда под утро приехал, в ряду зияло пустое место. Он позвонил: «ЗИМ» украли! – после чего лег в постель и сутки лежал как больной. На другой день с утра пошел в милицию, ничего не обещаю, сказала следователь, у меня на этот месяц девяносто дел. А знаете, какая у нас зарплата? Сказать вам? Валя расстроился и ушел. Денег на взятку у него не было. Он решил искать сам.
Волшебный мир рушился прямо на глазах. Через два дня сломалась двадцать первая «Волга». Я помню, как это произошло, мы с Валей заехали в гаражи за какой-то запчастью, он вышел из машины, зашел в свой бокс через маленькую дверку в воротах – чтобы открыть их изнутри и разобрать въезд от хлама. Я сидела на водительском месте и, глядя в зеркало заднего вида, красила губы.
Сторожа я увидела издалека. Решительной походкой он направлялся к «Волге» – больше в гаражах никого не было. Сразу было видно, что он хочет прицепиться. Мне тут снег надо чистить, крайне недружелюбно сказал сторож. Я продолжала красить губы. Валю сторож не видел. Слышите, снег надо чистить! Снега в ГСК навалом – сугробы по колено на площади размером с гектар. Переставьте машину! Я не сдвинулась с места. Полагая, что Валя из-за стенки все слышит и сам разберется, я продолжала наводить красоту. Сторож ненавидел меня. Валя все не выходил. Мне снег надо чистить, орал сторож, переставьте машину! наконец-то вышел Валя, не волнуйтесь, сейчас переставим, я подвинулась на пассажирское сиденье, Валя сел за руль, включил передачу, нажал на газ… Машина не двинулась.
Оставался 407-й «Москвич», но зачем он мне, королевичне? Не хочется в эту конурку после «ЗИМа».
Валя печатает на принтере огромные листы с аэрофотосъемкой Москвы – понесет экстрасенсу Монахову искать похищенный «ЗИМ». Ты же в это не веришь, ты материалист. – Иди к черту! Я маюсь от того, что третий день занят компьютер, починяю какие-то безделушки, жарю курицу в маринаде, смотрю фильм. Вим Вандерс, «Алиса в городах». Хороший. Мама бросила девочку в аэропорту, и незнакомый дядя ищет с ней бабушку по всей Германии. Я готова расплакаться: есть все-таки добрые люди на свете! Потом Валя уезжает домой, я просматриваю свои обязательные сайты, выпиваю бутылку ркацители и ложусь спать.
Называю Валю Валечка, его все так зовут – он же маленький мальчик, играет в машинки. Доигрался: одна поломалась, одна потерялась… Иногда он вдруг спрашивает: «Как дальше жить будем?»
Неразрешимый вопрос. Неразрешимый глупый вопрос. Сколько я над ним билась, глядя из генеральской квартиры в толщу вечерних небес, – именно толщу, видимое не иначе как твердь…
С утра все по кругу: сопровождаемый мычаньем звон будильника – спешное составление не доделанной с вечера выборки – Кустовы. В общей сложности семь остановок на метро с двумя пересадками. Боже, как же я ненавижу метро. Уже от одного вида ползающих на утюжксах меня тошнит. А побирушки! а бомжи! ужас; гримаса брезгливости покидает меня только тогда, когда, наконец-то выйдя на свет божий, я вижу величественный абрис Дома на Котельниках. Метро вообще сплошной синоним тошнотворности: позавчера я, например, узнала, что поэт Есенин кушал перед смертью. Я ехала к Кустовым, рядом сидела дама средних лет – и что-то читала. Как-то так получилось, что я заглянула в ее книгу, а заглянув, уже не могла не читать. В желудке покойного обнаружены фисташковые орехи и другие быстроперевариваемые продукты. Водки и вина не было. Заметив, что я подглядываю, женщина стала прикрывать текст рукой. Что это была за книга, узнать так и не удалось. Спрашивать я постеснялась. Единственное, что удалось подсмотреть, – надпись на задней обложке: «Библиотека журнала «Чудеса и приключения»». Господи, слышишь меня, я не хочу на метро. Я хочу на широком сиденье «ЗИМа». Всегда.
Троллейбус подвозит к «Иллюзиону», и через пять минут предо мною простирается царство. По сторонам центрального портала гранитные колонны, на фасаде декор: звезды, орденские ленты… Вхожу в подъезд. Высокие лепные потолки, дубовые двери с золочеными ручками, паркет в просторных холлах, над створками центрального лифта панно, майолика, на темно-васильковом фоне фигуры: военный, весь в орденах; танцующие девушки, женщины со снопами колосьев; прогулка в Парке Горького, футболист, школьница… Поначалу меня удивляло, что при этаком благолепии типичный портрет местного жителя – борода, берет, серая куртка. Таков Максимыч, таковы мужчины, неторопливо – мысли далеко, а руки за спиной – идущие навстречу.
Нажимаю кнопку, поднимаюсь на семнадцатый этаж.
Ой, что это? – Не бойся, это не для тебя… Зацепленный за створку шкафа, висит костюм Снегурочки. Серебряная парча, меховая опушка, снежинки. У Машки скоро елки начинаются, в студии новогодний чес. Без своего наряда тяжело: на прокат не возьмешь, потому как нужен надолго и это накладно, покупать готовый – тоже дорого… Вот мы и сшили сами, осталось только валенки изукрасить. Кантиком обовьем и маслом распишем.
В морозные дни небо похоже на буженину. Низкие перистые облака на нежно-розовом небосводе – словно прослойки сальца в копченом мясе, аппетитные, так и хочется сунуть в рот.
– Да, сходство есть, – соглашается Максимыч, – только мне больше напоминает радужную пленку на ветчине. Такая, знаете, бывает, переливается сизым, серо-зеленым, сиреневым…
Тина восстанавливает мои силы куриным бульоном, тут же, на кухне, из специальных мисок, приподнятых на железке над полом и напоминающих больше кашпо, кормятся звери.
Устала, наверное, вниз головой стоять? – Ничего, уже отошла. – Вот у нас есть Володя… – Тина мечтательно закатывает глаза, – он бывший акробат, любые позы держит. Мы все никак не могли раздобыть профессиональную обнаженную модель, и так ему обрадовались. Нам самим надо, понимаете, мы же сами рисуем, не только ученики. Когда наброски, это большое счастье – остается материал. Володя профи, позирует и сидя, и лежа, и как угодно, если надо, может пять минут на одной ноге простоять, не шелохнувшись. Йог! Недавно совершенно спокойно показал крокодильчика. Что такое? Стойка на руках только не вертикальная, а горизонтальная.
Володя большой донжуан, я все подшучиваю: – У тебя каждый раз новый гульфик и новая пассия. Очень смешно, когда понимаешь, из чего сделаны его гульфики: любая дама сразу опознает женские колготки. Максимыч не сразу просек, а мы все дружно хохотали, когда увидели изобретение. Раньше у него был один, сатиновый, – а теперь много и разные: то черненький, то телесный… Я говорю: ты со всех своих баб чулки, что ли, поснимал…
– Так они же прозрачные!
– Нет, он из плотных делает. Берет побольше ден, и ничего не видно. И ведь гораздо удобнее, надевать быстрее и снимать: материал эластичный. Нам тоже лучше, не так мешает рисовать; если телесного цвета, вообще незаметно.
А до него была Зина, но мы не сработались, слишком много хотела. Я удивляюсь, как это натурщик может слишком много хотеть. Денег, что ли? – Ну да. Вот есть такие, думают: трусы сняла – сейчас ей тысячу рублей дадут. Здесь вам, милочка, работа, а не панель! Я как-то ей сказала так, она трусы надела – и ушла.
В тот вечер я уличила Лялю в половой связи с Валей. Его не было дома – поехал к знакомому гаишнику покупать ТО, – ожидая его, мы с Лялей съели полторта «Наполеон», оставшиеся после прихода гостей, допили мартини и пошли в комнату смотреть телевизор. Я села в кресло, включила передачу по «Культуре». Ляля листала журнал «Вог». Я точно выбрала момент: как только она дошла до раздела про секс и приготовилась его изучать – она была совершенно расслаблена, – я потянула журнал на себя и спросила в упор: – Это правда, что вы с Валей любовники? – Правда, выдала она от неожиданности. – Я так и знала. Мы вместе принимали душ, я видела на шее следы. – Это не я… – растерянно сказала Ляля.
Еще интереснее. Ляля молча листала журнал. – Значит, он тебе не брат? Или… – Не брат, ответила она, он друг моего покойного мужа. Раньше я жила у его родителей. Я не хочу возвращаться в Питер, поэтому я здесь.
* * *
Натуральный свет высотки – светло-песочный, но за полвека дом закоптился, сильно потемнел, и теперь его чистят – почти уже год. Занавесок у нас нет, к чему они на такой высоте, и так света мало ребятам, и вдруг, вы представляете, Максимыч утром просыпается, со всех сторон на нем собаки, – и понимает, что не может встать. Неудобно прогуливаться перед женщинами: люлька, а в ней две бабы с пескоструйкой: ой, муси-пуси, собачки! Такое бывает. Недавно нам меняли лифты, и все ходили через черный ход, а у кого его нет или перекрыт – те в другой подъезд, в центр, через нашу квартиру: Тина, пусти! А потом открыли плоскую кровлю, под арками: на центральном лифте поднялся до верха, перешел в свой подъезд, а там снова вниз – спускаться ведь легче, чем подыматься.
Башенки на плоской кровле обитаемые, в каждой по одной квартире на этаже. Окна там низкие, от колена, было лето, я говорю ученицам: хотите посмотреть, пока открыто? – Хотим. Кто-то сразу за фотоаппаратом… На восемнадцатом этаже – а в башенке он первый – мужчина, очень милый итальянец, снял квартиру, он здесь уже лет пять живет с семьей. И вот мы шли, а у него окно открыто. Он знает, вход на кровлю всегда заперт, и чувствует себя совершенно свободно. Выскочил в чем мама родила из ванной, да прямо на нас. Целый год потом, когда встречались в лифте, хмыкали – такой анекдот!
Слово за слово – и пролетели сеансы, в девять я вышла из замка, в который раз подивилась на гирлянды из помидоров и тыкв у центрального входа, задрала голову вверх, взглянула на башенки… Валя сегодня был занят – я направилась в сторону Таганки, к метро. Во дворе за мною увязался пес-барбос, дворники здесь бездомных собак не гоняют, нет, у них нежная дружба: когда открывают мусоропровод, собак пускают вперед – передавить крыс. Иначе туда просто не зайти. Проводил до Николы Мир Ликийских – и потрусил назад, в свои приделы.
Мы поссорились с Валей точно к Восьмому марта.
У Ляли был друг, а может быть, boyfriend, звали его Потап, он тоже был приезжим, только не из Питера, а еще дальше – из Архангельска. С ним водил дружбу и Валя, и конечно же неспроста, ибо было у них много общего: как и Валя, Потап не имел работы, но хорошо разбирался в автомобилях. Чем он занимался, где и на что жил – этого никто не знал. Сей Потап часто захаживал к Вале, непременно имея с собой угощение: банку икры, упаковку салями, авокадо, кусочек сыра дор-блю… Все его гостинцы объединяли два признака: во-первых, они были маленькие – настолько, чтобы помещаться в карман, а во-вторых, дорогие.
Я заподозрила неладное – и вскоре стала свидетелем странной сцены. Валя решил приготовить на ужин салат оливье. Мы с Лялей дружно чистили картошку, сам он крошил соленые огурцы, когда в дверь позвонили; Валя вытер руки о джинсы и пошел открывать, это был Потап, в одной руке он держал свой неизменный полиэтиленовый пакет с изображением Бритни Спирс, а в другой баночку каперсов. Слушай, будь другом, попросил его Валя, сходи в овощной на углу, пока не разделся, купи полкило лука. Потап поставил в прихожей пакет, передал Вале каперсы, взялся было за дверную ручку… Знаешь, только у меня денег нет… Оштрафовали в электричке. Валя дал ему десятку, и По-тап ушел. Мы с Лялей переглянулись. Валя ничего не понял и вернулся к огурцам… Районная новость, сказала я голосом Левитана, супермаркет «Атланта» находится на грани банкротства. Процент недостач за текущий сезон в десять раз перекрыл прошлогодние показатели. – Что-что? – не понял Валя, – да нет, ничего, это я так…
А потом вдруг Потап исчез. Ляля забеспокоилась первой: вот уже несколько дней от него ни слуху ни духу. Мы сели держать совет. Нет, где он живет, никто не знает. Как с ним связаться – тоже. А вечером раздался звонок. Валя кивнул, и я сняла трубку. Приемник-распределитель? Курьяновская пойма? За что? – Не могу разговаривать. Он просил вам передать, расслышала я женский голос на том конце провода: догадки подтвердились.
Мы ответственны за тех, кого мы экзюпери. Ляля и Валя сгребли все, что нашли в холодильнике, и через пятнадцать минут стояли на автобусной остановке. Я с ними не поехала: отчего-то стало противно. Сославшись на то, что много работы, я отправилась ночевать к себе.
В распределитель их не пустили, дежурный поговорил через дверь, не сказал ничего, что проливало бы свет на эту историю, – передачу, однако, принял. Об этом я узнала от Вали по телефону, когда далеко заполночь они с Лялей вернулись домой. Оба нервничали, выдвигали гипотезы и не знали, что делать. Может, у него паспорта с собой не было, предполагала Ляля, – и его забрали для выяснения личности. До нас дозвониться не смог, а больше в Москве у него никого нет. – А может, с милицией подрался? – выдвигал контрверсию Валя. – Они ему что-то сказали – а он такой гордый! Вечно лезет на рожон. Да ничего с ним не будет, – сказала я Вале по телефону, – сейчас уже на допросах не бьют. Через месяц отпустят – получит два года условно… Потом только за границу не будут пускать – это да. – Как ты можешь так говорить! Еще ничего не известно! – Ты что, не видел, что происходит? Каперсы, осетрина, икра…
Послышались гудки. Валя швырнул трубку. Я опешила. Зачем-то набрала еще раз. Валя долго не подходил, потом все-таки взял телефон и, когда услышал мой голос, бросил трубку опять. Я позвонила Ляле на мобильный, что случилось, почему Валя не хочет разговаривать со мной? – А у нас умный телефон. Он сам отключается, когда по нему говорят гадости, сказала Ляля.
Боже, они сплотились против меня. Кворум.
Я испытала нечто похожее на тошноту. Я сняла со стены фотографию Вали и убрала ее в нижний ящик стола.
Прошла неделя. Потап появился в дверях Валиной квартиры внезапно: небритый, грязный и в наилучшем расположении духа. Что случилось?! – Я немножко нарушил закон. Можно, я у вас вымоюсь? За батон хлеба и триста грамм чеддера он даже условно не получил – отделался издевками судьи («не умеешь – не воруй!»), штрафом и легким испугом. Это я не доглядела, сокрушалась Ляля, надо было его хотя бы почаще кормить. Ему есть было нечего! Он же только еду воровал… – Ну, это еще не известно. – Он сам мне рассказывал…
Ничего себе, подумала я. Она все знала! «У нас умный телефон»…
Оказывается, она все знала!
Это было слишком. Я вдруг почувствовала странное. Я почувствовала, что потерять Лялю – как исход всей этой истории – мне гораздо досаднее, чем потерять Валю. Когда-то Розочка, теперь вот Ляля. И мы со вздохом, в темных лапах сожжем, тоскуя, корабли… Что делать, чтобы жить налегке, приходится ломать чужие пьедесталы. И все же: а может, они, пусть даже сиюминутные, люди-гости – для меня честь? Сомнительная – а честь? О Ляля, сиятельная Ляля! Кто расскажет теперь о старых ступенях парадного, о фамильных подсвечниках и столе на сорок персон? Я жадно ловлю слова о жизни до-нынешней, запредельной. Все, что старше меня хотя бы на жизнь, – мучительно любопытно, даже не так: болезненно любопытно. Лом времени, великая ржавчина лет – все то, дотянуться до чего я уже не могу – или еще могу: до афиш на стене Розочкиной комнаты, до флажка на блестящем капоте «ЗИМа», до края туники кариатиды в парадном дома Мурузи, там должна быть та улица с деревьями в два ряда, подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда; и прочая ерунда – все это манит, морочит, золотая россыпь времен, таинственно коловращаясь, оборачивается новыми гранями, и противостоять их сверканию, блеску нет сил! Сорока – до осколков калейдоскопа минувшего. Загоревшись, до пепла сгорают глаза.
А у них это было! И они еще держатся за витой чугун перил!
К Кустовым я пришла расстроенная – из-за Ляли и Вали. Здоров ли, князь, что приуныл ты, гость мой, Маша мурлычет арию из Бородина, у вас какие-то неприятности? Что-то случилось? Меня обидел один человек. Он мне… нахамил. Представляешь, Маша, – я с ним разговаривала, ночью, а он бросил трубку. Первый раз в моей жизни кто-то бросает трубку…
– Не расстраивайтесь… Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Вам нравится Пушкин? Что-то сегодня все со мной откровенничают. В школе целых два стихотворения посвятили…
Еще бы не посвящать ей стихов. Очень хороша собой, русской красотой красива. Тургеневская, нет – Борисова-Мусатова девушка. Те же прически, локоны, призрачность, хрупкость – гостья летних усадеб, чаровница, пленительница… Где твой зеленеющий вертоград, где дворец с собственным садом, с французским парком, с вольерами, поляной муз и мраморными статуями вдоль дорожек? С прудами и водными лабиринтами, пещерами, гротами, ажуром легких мостов и клумбами роз? За твоей спиной вижу холод мая, цветение садов, гуденье пчел; лодка, скрип весла, на веслах мальчик в матроске, на корме девушка в белом, смеется, смех летит над водой…
А если не дворец и не собственный садик, то: усадьба, усадебный дом, флигель, белеющий сквозь гущу листвы, уходящие в глубь дубового парка аллеи, крутой спуск к реке, ротонда беседки, забытая книга на круглой скамейке, за домом – конюшни, псарни, за ними сад, в саду – затянутый ряскою пруд, с кувшинками, водомерками, стрекозами над водой. С соловьями в зарослях ив, с отраженьем Аленушки в темной глади пруда, почти недвижимой, лишь чуть волнуемой ветром. О дремотный пруд! Брюсов неточно перевел, у Басе было: фуруи, старый – он перевел: дремотный. И это брюсовское, перед дремой, «О!» – и гул, и вздох, и ох! – и ах! – то была дань поэта сонной воде. Только не Аленушка там, отраженная, вечная, а сама Маша. Дочка художников. Мусатовская красавица у своего водоема. Как же не посвящать ей стихов?!
– Сегодня опять приходила француженка. Та самая, которая пишет книгу о нашем доме. Зовут Анн Нива. Как речка, только через «и». Мы показали ей ваши портреты. А она: какое ускользающее лицо! Совершенно невозможно запомнить.
– Я ей тогда сказал, что это типично русское лицо, – вмешивается Максимыч. – Именно такими мы все и должны быть.
Ученики, услышав это, смеются. А то: до восстания китайских боксеров прадед торговал в Харбине и там женился на прабабке китаянке. Этим сказано все. Я вполне бы могла пройти кастинг на главную роль в кинофильме «Прощай, Китай».
– В жизни не встречала более навязчивого человека, – возмущается Тина. – Вранье все это про французскую галантность. Прицепилась к нам, как репей, со своим диктофоном. Ничего не понимает, все по пять раз переспрашивает. Четыре года в России живет – и никак русский не выучит. Уже одну книгу здесь написала, про Чечню: ездила туда в командировку. Она нам давала читать. Знаете, какое у нее было самое неприятное впечатление за эту поездку? Как рядом в машине сидела чеченка и у нее чудовищно воняло изо рта. Изо рта – дурно пахло. Самое отвратительное, что она видела в Чечне. Вы можете себе представить? Я – нет.
Ну так к чему я это говорю. Мы заболели гриппом. Все трое. Температура – тридцать восемь, ползаем, как вареные мухи. Звонит француженка – можно, зайду к вам? Я говорю: нет. Грипп, температура. Заразно, опять-таки. И вы знаете, что она сделала? Она отсчитала семь дней и пришла. Без предупреждения. Я, говорит, знаю, что грипп длится ровно неделю.
Сначала подумали, в дверь звонит черный маклер. Был тут один, все выменивал, купит пониже, где окна во двор, сделает евроремонт – и приходит меняться на верхние этажи с видом на Кремль. Видали мы эти ремонты. Паркет посдирают, на пол ламинат, стенки все порушат между комнатами или арки прорежут, некоторые даже лепнину сбивают… Мы его сразу послали. Джакузи, джакузи… Что я, в ванной париться собралась? Нам свет нужен, мы же пишем.
Перевоплощаться я люблю: раз в месяц приходится совершать это по работе. Мне нравится наблюдать себя как бы со стороны – нет слов, такая деловая колбаса, очень смешно, ведь я понимаю – театр! Для достоверности надеты очки с нулевыми стеклами; напялен парик, строгое консервативное каре преображает до неузнаваемости; напущен серьезный вид. Гордая фифа на каблуках идет в главный офис компании за зарплатой.
А сейчас уже десять минут я кручусь перед зеркалом: разглаживаю оборки и рюшечки. Максимыч суетится вокруг с фотоаппаратом, запечатлевает для истории натуру. Еще бы: сегодня я позирую в средневековом платье. Тина с Машей еле натянули его на меня. Платье принцессино, шилось на заказ для спектакля: голубое, кружевной корсет на шнуровке, сзади трен, на рукавах буфы – все как положено. Машке так и не довелось в нем сыграть. – Почему? – Поступила в театральную школу при училище Щепкина. А там запретили участвовать в любительских спектаклях. Пришлось извиниться и уйти.
Учится Маша прилежно. Записана в «Иностранку», читает на двух языках, пишет доклады – готовится к экзаменам Катя, а чем символисты отличаются от акмеистов? Я думаю, как бы ей лучше объяснить. Символисты запутывали, а акмеисты распутывали. Что распутывали? – Смысл…
Как мне распутать смысл того, что происходит вокруг?
– Маша, что вы там делаете? Литературу? Потом проверите, идите ужинать! – зовет с кухни Тина. Мы отправляемся мыть руки; со дна ванны вскакивает что-то большое и лохматое. Не пугайтесь, это Боба, он все время здесь спит. – Ну и как вам Машкино сочинение, интересуется за столом Максимыч. – Хорошее сочинение. – Вы, пожалуйста, следите, что она там пишет. А то у нее плохая наследственность. Мы в детстве такие были неучи! Жутко неграмотные. Из школы одни двойки приносили. Помню, сестра в диктанте вместо «из подводной лодки» – «из-под водной лодки» написала. Ленились, уроки не делали… Вы не представляете, что такое генеральские дети.
Нам тогда наняли репетиторшу по русскому языку, она дружила с матерью и по выходным ходила с нами гулять. А пока гуляли, рассказывала о домах: мы шли – и она рассказывала. И я впервые увидел архитектуру. И так постепенно увлекся, стал разбираться в стилях… А сейчас с ужасом думаю: не стань я художником – кем мог бы я стать?
…Яркий солнечный день с сильным ветром, какие бывают в апреле, недавно прошел дождь – и день сияет, сегодня у него был банный день, я бегу к метро, тороплюсь, люди тоже куда-то бегут, лавируя между луж с крошкой колотого льда по краям, их переплетающиеся траектории напоминают спешку муравьев на садовой дорожке. Где-то невдалеке строят дом, слышно, как забивают сваи. Ветер доносит запах бензина – я вспоминаю Валю.
…Вот мы едем на танцы, на дискотеку в клуб «Тэксман», Валя будет учить меня танцевать буги-вуги. У меня получается плохо, потому что начинать надо с другой ноги, а стоять – согнувшись, в позе обезьяны. Но бальная выучка распрямляет мне спину в струну, я словно кол проглотила: обезьяна не выходит никак.
– Ну вспомни, как негры по телевизору танцуют! В процесс обучения встревает девочка в пиратской шляпе, в кожаной жилетке с бахромой: давай, может, я объясню?
– Мы, в отличие от бальников, колени не выпрямляем.
– Хорошо, я попробую.
Но мое тело не слушается, оно протестует против расхлябанных па. Да ну ее, эту обезьяну!
Валя, не скрывая своего недовольства, приглашает другую партнершу. Я отхожу в сторону с бокалом кампари и наблюдаю, как они танцуют буги. See you later, alligator! – дразнит из динамиков голос Билла Хейли.
See you.
…Вот, уступив моим просьбам, Валя ставит кассету. VHS, домашняя порносъемка, записано полтора года назад. Валя и его бывшая подруга Марина занимаются сексом.
Фигурки в визоре выглядят очень счастливыми, о чем-то говорят, смеются, потом самозабвенно совокупляются. Где-то за кадром работает радио, в эфир долетают позывные «Эха Москвы». Неожиданно начинаю рыдать. Эй, да ты чего! А я сама не знаю. Подушка вся в черных разводах туши.
…Вот Валя хулиганит, в супермаркете его озарило насыпать мне льда в штаны – рыбный отдел украшал ледник с форелями и осетрами. Валя подкрался тихонечко со спины, оттянул джинсы за хлястик – и напихал пригоршню. Хорошо, была без трусов, вытрясла через штанину.
…Вот я у него на кухне, на часах полчетвертого утра, я стою у окна и долго смотрю на фонари и арочные окна соседнего особняка, на черные прутья ограды и белые спины мастодонтов, – наконец, чмокая по скользкому полу задниками огромных Валиных тапок, возвращаюсь в полумрак единственной комнаты.
Мне до сих пор снятся ночами эти слова. Молдинги… Страпонтены…
Морок, морок все это!
Я решила больше не звонить Вале. Никогда не звонить Вале. После случая с Потапом он для меня прекратился. Видимо, и он так решил. За месяц ни одного звонка, ни одного привета.
История наша клонилась к закату.
Бах! – вместо того чтобы включиться, лампочка полыхнула – я только и увидела, как в темноте по всему полу рассыпались искры, много искр, – и тут же погасли. Секунду в воздухе висела струйка дыма, для полноты картины осталось только убедить себя, что пахло серой. Я посмотрела наверх. Патрон был пуст. Пошла искать веник и, пока искала его, поняла: я же видела, что на полу ничего нет. То есть как – нет? А так. Наверное, просто очень мелкие осколки, сказала я себе. И тщательно вымела пол.
И вот я стою в туалете и внимательно рассматриваю содержимое совка. Щепотка пыли и несколько прозрачных не то крупинок, не то осколков. Вот она, лампочка, думаю я, но все же беру один кристаллик и пытаюсь размочить в воде. Так и есть, сахар.
В таком случае, сгорела. Раскалилась до такой степени, что взяла и сгорела. А вот и нет. Лампочка была холодная. Она просто исчезла. Может, еще найдется?
Что этому предшествовало. Я разбирала бумаги в столе и обнаружила фотографию Вали: лето, «Автоэкзотика», он сидит на капоте своего «ЗИМа», улыбается нагло и сладко. Надо вернуть, подумала я, а потом передумала: нет, лучше выкину. Нет, лучше сожгу!
И вот я иду на кухню за зажигалкой, тянусь к выключателю… Ба-бах!..
Что было после. Устроив освещение от ночника, я нашла зажигалку, взяла Валину фотографию и спалила ее в ванной комнате в раковине. Она полыхнула и осыпалась пеплом… Я посмотрела на прах. А если я вдруг узнаю, что он в тот момент умер? Что ж, значит, это его судьба.
Лампочку я так и не нашла. Вероятно, по закону сохранения энергии она материализовалась где-нибудь в другом месте. Поищи у Валентина в отверстии – шепнул на ухо бес.
Я долго сидела перед телефоном, снимала и вновь возвращала на место трубку, пока наконец не решилась. Валя ответил как ни в чем не бывало, словно расстались вчера, и это было так неестественно, что стало понятно: на самом деле он тоже скучает, и сильно. Обещал перезвонить вечером и приехать; все это время я не могла ничем заниматься, просто лежала ничком на диване и ждала его. Но он так и не появился…
Валя мучает меня по всем канонам жанра.
Звонок (мой, ему) – не берет трубку.
Еще и еще.
Мобильный.
Пейджер.
Нет ответа.
Через час, через два – нет ответа.
Ночью звонил из автомата и целовал трубку.
…Я шла мимо Дома на Котельниках, был очень теплый, словно весенний вечер, – и вдруг почувствовала, что живу в непрерывном потоке счастья. Сегодня растаял последний снег и вернулся Валя, – я уж было решила, что мы расстались совсем. Когда я сказала себе: все, не придет, – он приехал и торжественно водрузил свою зубную щетку в стакан для туалетных принадлежностей.
Ночью Валя обнимал меня так, будто завтра ему на войну; странно: обычно во сне человеческое тело расслаблено – он же душил меня в объятьях и не ослабил их ни на секунду.
«Деточка, жизнь – это джунгли. Когда ты убегаешь, тебя догоняют – и наоборот». Афоризм Лялиной бабушки, княгини Мурузи. Впрочем, сама Ляля о реанимированных чувствах: это все равно, что докуривать бычки. Я с ней не соглашусь. Нет одной и той же реки – соглашусь с Гераклитом.
Но воды, новые воды оказались еще мутнее, чем прежде, прожитые вместе три дня показали, что мы решительно не можем друг друга понять, все слова утекли, мухи превратились в слонов, отчаянье мое росло, как числа в ряду Фибоначчи, – все наше недовольство друг другом, вся моя досада на Валю и его на меня разбухла свинцовой тучей и закрыла собою горизонт, но обидней всего было то, что подспудной причиной Валиного возвращения были деньги, у него просто кончились деньги, и на третий день он, помявшись, одолжил у меня двадцать долларов на сигареты и карточку для мобильного телефона. Меня это вконец разозлило: я и так постоянно заправляла его за свой счет. Что он вообще здесь делает, подлежащее-сказуемое? Простой парень без белого «ЗИМа»?
Надо эту лавочку прикрывать.
И я ее прикрыла. Последнее sorry я сказала сама, по телефону – с глазу на глаз у меня вряд ли хватило бы мужества.
Валя сидел у себя дома в ванне, пил джин-тоник и с тоски обзванивал знакомых; пока очередь в его записной книжке продвигалась к странице, где была я, ко мне пришел в гости Мишутка с коробкой клубничного зефира и бабаевской шоколадкой, и мы собирались пить чай. Нет, нет и нет. Никогда. Ни за что. Не хочу, твердо, пожалуй, даже слишком твердо сказала я Вале. Я была кратка, как надпись на камне. – Я сейчас телефон утоплю-у… Я слышу плеск воды на том конце провода, потом гудки. Может, все-таки чайник поставим, игнорируя мое смятенное состояние, самым будничным тоном предлагает Мишутка. И, пока я набираю воды, поясняет: – Ты ничего не поняла. Он тебя пугал. Вода, телефон, провод… – И, видя мои расширяющиеся зрачки: – Да ничего с ним не случится. Подумаешь, тридцать вольт постоянного тока… Ты что, физику в школе не учила?
От долгого глядения в одну точку начинает кружиться голова. Иногда сидеть просто невыносимо, но я стараюсь не обращать на это внимания, я стараюсь быть невесомой, я хочу раствориться в дрожании света, мерцании огней и блеске близкой воды. Как я вообще попала на этот окутанный драпировками трон, вознесенный на высоту птиц и рубинов, кренящийся над Москвой и готовый рассыпаться от малейшего неосторожного движения? Лет восемь назад, в нищей студенческой жизни, я позировала за деньги. Потом перестала, с первой приличной получкой. И тогда Кустовы позвонили и попросили: нужна модель, выручайте. Несколько сеансов. И я сказала: хорошо. Зачем-то сказала.
Меня всегда манил Дом на Котельниках, каменный исполин, омываемый холодными мутными водами Яузы и Москвы, вероятно, из-за кинотеатра «Иллюзион»: там показывали Бунюэля, Феллини и Курасаву. И вот он меня заманил.
Я приду сюда еще и еще, я буду ходить вплоть до лета, по средам и пятницам, четыре часа с пятнадцатиминутными перерывами, до головокружения смотреть на фары проезжающих машин, падать в голодные обмороки от запаха мясного бульона, чувствовать мокрый собачий нос под онемевшей коленкой и возносить хвалу богам за этот бесценный подарок – позволение молча, часами смотреть, как солнце садится за горизонт.
1
Св. Тереза Малая (св. Тереза из Лизье, 1873–1897) – католическая святая, кармелитская монахиня, автор книги «История одной души». – Примеч. ред.
2
Суть предания в следующем. Давным-давно однабедная крестьянка слишком долго ждала мужа со стройки Великой китайской стены, и мясо, которое она ему приготовила, испортилось.
Но поскольку никакой другой еды не было, вернувшись, мужчина получил именно его, съел и вынес вердикт: «Ничего вкуснее не пробовал!» Блюдо хуэйгоджоу, или мясо, дважды побывавшее в котле, тут же включили в рацион и продолжают готовить по сей день. Это произошло во времена династии Цинь, в 214 году до нашей эры.
3
Похоже, Лера издевается над менеджером издательства. Цикл рассказов-эссе Валерии Нарбиковой «Девочка показывает» действительно был опубликован в журнале «Знамя» в номере третьем за 1998 год. Произведение начиналось со строчки: «Они все время ломались, эти часы». Ср. с началом повести «А под ним я голая».
4
Бал по случаю смерти. Непонятно, что заставило автора употребить столь мрачный образ при описании в общем-то приятного времяпрепровождения.
5
Einsturzende Neubauten, («Разрушающиеся новостройки»). Лера не выдумывает, есть такая группа. Немецкая. Родоначальники индастриала.
6
Такого Пушкин сказать не мог. Лера так и не поняла, ошибся Слава или специально тогда наврал.