Книга: Сирены Титана
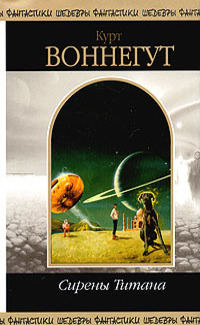
Сирены Титана
Кеннету Литтауэру, человеку смелому и благородному
Нет в этой книге правды, но «эта правда — фо’ма, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым, счастливым».
1. День, когда настал Конец Света
Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном.
— Иона-Джон — будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой, и не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило[1] — в определенные места, в определенное время, кто или что — не знаю. Возникал повод, предоставлялись средства передвижения — и самые обычные и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона.
Послушайте.
Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад…
Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием День, когда настал конец света.
Книга была задумана документальная.
Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии.
Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином.
Теперь я боконист.
Я бы и тогда стал боконистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконона. Но о боконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море — Республику Сан-Лоренцо.
Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу карасс — и в мой личный карасс меня привел мой так называемый канкан, — и этим канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать День, когда настал конец света.
2. Хорошо, хорошо, это очень хорошо
«Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин, — пишет Боконон, — этот человек, скорее всего, член вашего карасса».
И в другом месте, в Книгах Боконона, сказано: «Человек создал шахматную доску, бог создал карасс», Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.
Он лишен определенной формы, как амеба.
Пятьдесят третье калипсо, написанное для нас Бокононом, поется так:
И пьянчужки в парке,
Лорды и кухарки,
Джефферсоновский шофер
И китайский зубодер,
Дети, женщины, мужчины —
Винтики одной машины.
Все живем мы на Земле,
Варимся в одном котле.
Хорошо, хорошо,
Это очень хорошо.
Боконон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел божий. Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно.
В автобиографической части Книг Боконона он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять:
«Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и бога, и пути господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее.
И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала:
— Извините, я в чертежах не разбираюсь.
— Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут богу, — сказал я, — и если бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь — он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы поймете.
Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит.
Она была глупа, и я глупец, и всякий, кто думает, что ему понятны дела рук господних, тоже глуп». (Так пишет Боконон.)
Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего карасса и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все, скопом, натворили.
Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боконизма. Однако я, как боконист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в Книгах Боконона читается так:
«Все истины, которые я хочу вам изложить, — гнусная ложь».
Я же, как боконист, предупреждаю:
Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку.
Да будет так.
А теперь — о моем карассе.
В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хониккера, одного из так называемых «отцов» атомной бомбы. Сам доктор Хониккер, безусловно, был членом моего карасса, хотя он умер, прежде чем мои синуусики, то есть вьюнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей.
Первый из его наследников, кого коснулись усики моих синуусиков, был Ньютон Хониккер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта-ипсилон», что Ньютон Хониккер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хониккера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл.
И я написал Ньюту следующее письмо:
«Дорогой мистер Хониккер. (Может быть, следует написать: „Дорогой мой собрат Хониккер“?)
Я, член корпорации Корнелла „Дельта-ипсилон“, сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму.
Так как всеми признано, что ваш покойный отец один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба.
К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть, мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой.
Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания „младенца“, если разрешите так вас назвать, органически войдут в книгу.
О стиле и форме не беспокойтесь. Предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний.
Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение.
С братским приветом…»
Вот что ответил Ньют:
«Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросил бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо обратиться к моим брату и сестре — они много старше меня. Мою сестру зовут миссис Гаррисон С. Коннерс, 4918 Норт Меридиен-стрит, Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно Возможно, что его и нет в живых.
Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других.
Помню, как я играл на ковре в гостиной, около кабинета отца. На нем была пижама и купальный халат. Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома когда хотел.
Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Код. Там, на мысе Код, он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверно, и это известно.
Во всяком случае, в тот день, когда бросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая: „Бип-бип — тррр-трррр…“ Наверно, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел: „Тррр“, а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой.
Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи — один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в 2000. Там описывалось, как психопаты ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом, за десять секунд до взрыва, появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернесс, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать.
Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат, Фрэнк, пристроил ее у себя в комнате в „стенном сейфе“, как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, просто гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился.
Я уверен, что отец так и не прочитал эту книжку. Помоему, он и вообще за всю свою жизнь, с самого детства, не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением.
Из всей той рукописи ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка.
Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот она вся целиком:
„Леди и джентльмены! Я стою тут, перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас“.
Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется „колыбель для кошки“. Не знаю, где отец научился играть с веревочкой Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был портным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки.
До того как отец сплел „кошкину колыбель“, я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анджела, была заметка из журнала „Тайм“. Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил — „Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры“.
Должно быть, он сам удивился, когда нечаянно сплел из веревочки „кошкину колыбель“, а может быть, это напомнило ему детство. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал, он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал.
А тут он опустился на колени около меня, на ковер, и оскалил зубы, и завертел у меня перед глазами переплет из веревочки „Видал? Видал? Видал? — спросил он — Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котеночек? Мяу! Мяу!“
Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне. Уши и ноздри заросли волосом. От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в жизни не видал Мне и теперь он часто снится.
И вдруг он запел: „Спи, котеночек, усни, угомон тебя возьми. Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет.“
Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому.
Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит.»
Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал:
«Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я — личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили… Я был медиком — первокурсником Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы препаршивый.
Кончу это письмо и, наверно, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в „Три-Дельта“.
Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анджела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться „кошкиной колыбелью“, не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить.
Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала „Сатердей ивнинг пост“. Мать приготовила прекрасный завтрак… А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай.
Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка.
Фрэнку было тогда двенадцать лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку лимонада с вином. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться.
Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых: жука-носорога с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда трясешь банку Фрэнк как раз этим и занимался — он все тряс и тряс эту банку.
Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: „Вот ты где!“ Потом спросила Фрэнка, что Он тут делает, и он ответил: „Экспериментирую“. Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает Он всегда отвечал: „Экспериментирую“.
Анджеле тогда было двадцать два года. С шестнадцати лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нас трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анджела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анджела до тех пор крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? „Интересно, про черепах“. Анджела его спросила: „А что тебе интересно про черепах?“ И он сказал: „Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?“
Между прочим, Анджела — никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов несколько сотрудников из группы „Манхэттенский проект“ явились к нам домой посоветоваться с Анджелой, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепах. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к атомной бомбе.
Когда Анджела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. „Как ты смеешь так говорить про отца? — сказала она. — Он — великий человек, таких еще на свете не было! Он сегодня войну выиграл! Понял или нет? Он выиграл войну!“ И она опять шлепнула меня.
Я не сержусь на Анджелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете.
Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца.
„Да он не придет!“ — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анджела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности.
Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытания бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной-единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: „Теперь наука познала грех“. И знаете, что сказал отец? Он сказал: „Что такое грех?“
Всего лучшего Ньютон Хониккер».
Ньютон сделал к письму три приписки:
«Р.S. Не могу подписаться „с братским приветом“, потому что мне нельзя называться вашим собратом — у меня не то положение: меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишили.
Р.Р.S. Вы называете наше семейство „прославленным“, и мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего четыре фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что „прославленное“— не совсем то слово, какое вы ищете. Пожалуй, „нашумевшее“ ближе к правде.
Р.Р.Р.S. На другой день: перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство».
Ньют не написал, кто его нареченная. Но недели через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зика — просто Зика. Фамилии у нее, как видно, не было.
Зика была лилипуткой, балериной иностранного ансамбля. Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Корнеллский университет. А потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях — «Краса Америки».
В газетах эта история появилась, когда крошка Зика исчезла вместе с крошкой Ньютом.
Но через неделю после этого крошка Зика объявилась в своем посольстве. Она сказала, что все американцы — материалисты. Она заявила, что хочет домой.
Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью: «Это дела личные… — сказал он. — Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зики…»
Один предприимчивый американский репортер, расспрашивая о Зике кое-кого из балетных, узнал неприятный факт: Зике было вовсе не двадцать три года, как она говорила.
Ей было сорок два — и Ньюту она годилась в матери.
9. Вице-президент, заведующий вулканами
Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла.
Примерно через год, за два дня до рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хониккер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела.
Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного.
Живых Хониккеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпрысков.
Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом Всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего карасса, но он меня сразу невзлюбил.
«Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Боконон, но это предупреждение забывается слишком легко.
— Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хониккер? — сказал я доктору Бриду по телефону.
— Только на бумаге, — сказал он.
— Не понимаю, — сказал я.
— Если бы я действительно был заведующим при Феликсе, — сказал он, — то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять им не мог.
Доктор Брид обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен.
Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле «Эль Прадо» — средоточии всей ночной жизни в Илиуме. В баре отеля «Мыс Код» собирались все проститутки.
Случилось так («должно было так случиться», — сказал бы Боконон), что гулящая девица и бармен, обслуживающий меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклииом Хониккером — мучителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хониккеров.
Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт-Саида. Я сказал, что мне это не интересно, и у нее хватило остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличивали наше равнодушие, хотя и не слишком.
Но до того, как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор — мы поговорили о Фрэнке Хониккере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзе Бриде, поговорили о Всеобщей сталелитейной компании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о коммерческих делах. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о людях набожных, но извращенных. Мы поговорили об очень многом.
И мы напились.
Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классных значков.
Каждый класс, объяснил он, должен был выбрать свои цвета для значка и с гордостью носить эти цвета до окончания.
— Какие же цвета вы выбрали? — спросил я.
— Оранжевый и черный.
— Красивые цвета.
— По-моему, тоже.
— А Фрэнклин Хониккер тоже участвовал в этой комиссии?
— Ни в чем он не участвовал, — с презрением сказала Сандра. — Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в игры, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девчонками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент Икс-9.
— Икс-9?
— Ну, сами понимаете — он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя.
— А может быть, у него и вправду была очень сложная тайная жизнь?
— Не-ет…
— Не-ет! — насмешливо протянул бармен. — Обыкновенный мальчишка, из тех, что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимаются черт-те чем…
— Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью.
— Вы о ком? — спросил я.
— О докторе Хониккере — об их отце.
— Что же он сказал?
— Он не пришел.
— Значит, вы так и остались без приветственной речи?
— Нет, речь была. Прибежал доктор Брид, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту, и чего-то нам наговорил.
— Что же он сказал?
— Говорил: надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру, — сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно. — Он говорил: беда в том, что весь мир… — тут она остановилась, подумала, — беда в том, что весь мир, — запинаясь продолжала она, — что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было бы тех бедствий, какие есть сейчас.
— Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни, — вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился: — Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?
— Не помню, — пробормотал я.
— А я читала, — сказала Сандра, — позавчера, что ли.
— Ну, и в чем же тайна жизни? — спросил я.
— Забыла, — сказала Сандра.
— Протеин, — заявил бармен, чего-то они там нашли в этом самом протеине.
— Ага, — сказала Сандра, — верно.
В это время в баре «Мыс Код», при отеле «Эль Прадо», к нам присоединился бармен постарше Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину.
— Тогда бар назывался не «Мыс Код», — сказал он, — нe было этих сетей и ракушек, всей этой холеры. Назывался он «Вигвам Навахо». На всех стенах индейские одеяла понавешены, коровьи черепа. А на столиках — тамтамы, махонькие такие — хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени навахо. Говорит племя навахо в вигвамах не живет. «Вот холера, — говорю, — как нехорошо вышло». А еще раньше этот бар назывался «Помпея», всюду обломков полно, мраморных всяких. Да только, как его ни зови, элетропроводку, xoлepy, так и не сменили. И народ, холера, такой же остался, и город, холера, все тот же. А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру, бомбу эту, зашел сюда один шкет, стал клянчить — дай ему выпить. Хотел чтоб я ему намешал коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. «Пей, — говорю, — сукин ты сын, чтоб нe жаловался, будто я для тебя ничего не сделал». А потом пришел второй, говорит ухожу из лаборатории, и еще говорит: над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политиканам разводить эту холеру войну. Фамилия ему была Брид. Спрашиваю: не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории? А как же, говорит. Я, говорит, сын этого самого босса, холера его задави.
О господи, до чего безобразный город этот Илиум!
«О господи! — говорит Боконон. — До чего безобразный город, любой город на свете!»
Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в «линкольне» с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мутило, я еще не совсем проспался после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы давно заброшенной узкоколейки то и дело цеплялись за колеса машины.
Доктор Брид, розовощекий старик, был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел у Сандры.
Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти.
Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю.
Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был уверен, что доктор Брид был влюблен в жену Феликса Хониккера. Она сказала, что многие считали, будто Брид был отцом всех троих детей Хониккера.
— Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? — спросил меня доктор Брид.
— Нет, я тут впервые.
— Город тихий, семейный.
— Как?
— Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом.
— По-видимому, обстановка тут здоровая.
— Конечно. У нас и юношеской преступности очень мало.
— Прекрасно.
— У города Илиума интереснейшая история.
— Вот как? Интересно.
— Он был, так сказать, трамплином.
— Как?
— Для эмигрантов, уходящих на запад.
— А-а-а…
— Тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая эстакада. Кстати, там и преступников со всего штата вешали публично.
— Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас.
— Тут повесили одного малого в 1782 году, он убил двадцать шесть человек. Я часто думал — надо бы кому-нибудь написать про него книжку. Его звали Джордж Майнор Мокли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай.
— О чем же он пел?
— Можете найти текст в Историческом обществе, если вам действительно интересно.
— Нет, я вообще спросил: о чем там говорилось?
— Что он ни в чем не раскаивается.
— Да, есть такие люди.
— Только подумать, — сказал доктор Брид, — что у него на совести было целых двадцать шесть человек!
— Уму непостижимо! — сказал я.
14. Когда в автомобилях висели хрустальные вазочки
Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще тряхнуло. Блестящий «линкольн» доктора Брида опять зацепился за рельс.
Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во Всеобщую сталелитейную компанию, и он сказал: тридцать тысяч.
Полицейские в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора.
А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобилей. Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно, смена.
Доктор Брид рассказал мне, что, когда доктор Хониккер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке илиумских машин.
— Полиция стала искать, что задерживает движение, — сказал доктор Брид, — и в самой гуще обнаружила машину Феликса, мотор жужжал, в пепельнице догорала сигара, в вазочках стояли свежие цветы.
— В каких вазочках?
— У него был небольшой «мормон», величиной с коляску, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки, куда жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин.
— Как шхуна «Мари-Селеста», — подсказал я.
— Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить машину себе, она ему больше не нужна.
— И они ее забрали?
— Нет. Они позвонили его жене, она пришла и увела машину.
— Кстати, как ее звали?
— Эмили. — Доктор Брид провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете: — Эмили.
— Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге?
— Нет, если только вы не станете писать, чем это кончилось.
— Чем кончилось?
— Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в катастрофу. Ей повредило тазовые кости… — Движение остановилось, доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль. — Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют.
Научно-исследовательская лаборатория Всеобщей сталелитейной компании находилась далеко от главного входа на илиумские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой «линкольн».
Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях.
— Семьсот человек, — сказал он, — но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я.
Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные оладьи, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Пефко. Мисс Пефко была недурненькая здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная.
Проникаясь, как и полагается на рождество, чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Пефко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват: «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению, — сказал он, — тот, что делает такие чудеса с пленкой».
— Что нового в химии поверхностного натяжения? — спросил я у мисс Пефко.
— А черт его знает! — сказала она. — Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует. — И она тут же извинилась, что сказала «черт».
— По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется, — сказал доктор Брид.
— Я? Вот уж нет! — Мисс Пефко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных побрякушек, не находилось.
— Ну-с, — благожелательно пробасил доктор Брид. — Как вам у нас нравится, ведь вы тут уже давно? Почти год, да?
— Все вы, ученые, чересчур много думаете! — выпалила мисс Пефко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. — Да, все вы думаете слишком много!
Толстая унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Пефко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она тоже ненавидела людей, которым слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего рода человеческого.
По выражению лица толстой женщины я понял, — что она тут же, на месте, сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет что-то выдумывать.
— Вы должны понять, — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по—одному, а другие люди — по-другому.
— Ох-хх… — равнодушно вздохнула мисс Пефко. — Пишу под диктовку доктора Хорвата — и как будто все по-иностранному. Наверно, я ничего не поняла бы, даже если б кончила университет. А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, как атомная бомба.
— Бывало, приду домой из школы, — продолжала мисс Пефко, — мама спрашивает, что случилось за день, я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу. — Тут мисс Пефко покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю…
— Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брид, — попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. — Он обернулся ко мне: — Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
— Выходит, я глупей восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Пефко. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.
Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестнадцатиэтажном здании. Само здание было выстроено из красного кирпича. У входа мы миновали двух стражей, вооруженных до зубов.
Мисс Пефко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый на ее левой груди.
Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок «совершенно секретно» на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его августейшим покровительством и наблюдением.
Я улыбнулся одному из стражей. Он не ответил. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, совершенно ничего смешного.
Доктор Брид, мисс Пефко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории к лифтам.
— Попросите доктора Хорвата как-нибудь объяснить вам хоть основы, — сказал доктор Брид мисс Пефко. — Вот увидите, он хорошо и ясно на все вам ответит.
— Ему придется начинать с первого класса, а может быть, и с детского сада, — сказала мисс Пефко. — Я столько пропустила.
— Все мы много пропустили, — сказал доктор Брид. — Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.
Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, уставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки.
— Волшебство, — сказала мисс Пефко.
— Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово, — сказал доктор Брид. — Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза волшебству.
— Прямая что?
— Прямая противоположность.
— Только не для меня.
Доктор Брид слегка надулся.
— Что ж, — сказал он, — во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.
Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной, на своем бюро, подвешивая к люстре елочный бумажный фонарик гармошкой.
— Послушайте, Ноэми, — воскликнул доктор Брид, — у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать с бюро.
Мисс Ноэми Фауст была сухонькая веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь.
Она засмеялась:
— Я небьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня.
— И у них промашки бывали.
С фонарика свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст подергала одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью.
— Держите, — сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду. — Тяните до конца и прикнопьте ее к доске объявлений.
Доктор Брид послушно все выполнил и отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте.
— «Мир на Земле!» — радостно прочел он вслух. Мисс Фауст спустилась с бюро с другой лентой и развернула ее:
— «И в человецех благоволение!»
— Черт возьми! — засмеялся доктор Брид. — Они и рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный.
— И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро! — сказала мисс Фауст. — Вы мной гордитесь?
Доктор Брид постучал себя по лбу, огорченный своей забывчивостью:
— Ну слава богу! Совершенно вылетело из головы!
— Никак нельзя забывать, — сказала мисс Фауст. Это стало традицией: доктор Брид каждое рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада. — И она объяснила мне, что «девичьим бюро» у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории.
— Девушки работают на расшифровке диктофонных записей.
Весь год, объяснила она, девушки из машинного бюро слушают безликие голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курьерши. Только раз в году девушки покидают свой железобетонный монастырь и веселятся, а доктор Брид раздает им плитки шоколада.
— Они тоже служат науке, — подтвердил доктор Брид, — хотя, наверно, ни слова из записей не понимают. Благослови их бог всех, всех…
Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью. Но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу я также обнаружил, что мои мозговые центры, ведающие контактами с внешней средой, затуманены алкоголем еще с той ночи, проведенной в баре. Какой бы вопрос я ни задавал, всегда выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками, соучастниками в подлейшем убийстве.
Сначала доктор Брид удивлялся, потом очень обиделся. Он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул:
— По-моему, вы не очень-то жалуете ученых.
— Я бы не сказал этого, сэр.
— Вы так ставите вопросы, словно хотите вынудить у меня признание, что все ученые — бессердечные, бессовестные, узколобые тупицы, равнодушные ко всему остальному человечеству, а может быть, и вообще какие-то нелюди.
— Пожалуй, это слишком резко.
— По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки. Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хониккера, что для молодого писателя в наше время, в наш век, задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего, и вы сюда явились с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами. Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли?
— Ну, хотя бы от сына доктора Хониккера.
— От которого из сыновей?
— От Ньютона, — сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньюта, и я показал это письмо доктору Бриду — Кстати, он и вправду такой маленький?
— Не выше подставки для зонтов, — сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь.
— А двое других детей нормальные?
— Конечно! К сожалению, должен вас разочаровать, но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди.
Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хониккера:
— Цель моего приезда — как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хониккере. Письмо Ньютона — только начало поисков, я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите.
— Мне надоели люди, не понимающие, что такое yчeный, что именно делает ученый.
— Постараюсь изжить это непонимание.
— Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования.
— Буду очень благодарен, если вы мне это объясните.
— Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет, или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивые краски для зданий — нет, упаси бог! Все у нас говорят о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается. Мы одна из немногих компаний, которая действительно приглашает людей для чисто исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников — лаборантов в белых халатах, которые работают по всяким поваренным книжкам и выдумывают новый образец «дворника» для новейшей модели «олдсмобиля».
— А у вас?
— А у нас, и еще в очень немногих местах, людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели.
— Это большая щедрость со стороны вашей компании.
— Никакой щедрости тут нет. Новые знания — самое ценное на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся.
Будь я уже тогда последователем Боконона, я бы от этих слов просто взвыл.
— Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? — спросил я доктора Брида — Никто даже не предлагает им работать над чем-то?
— Конечно, предложения поступают все время, но не в природе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно.
— А кто-нибудь когда-нибудь предлагал доктору Хониккеру какие-то свои проекты?
— Конечно. Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником который одним мановением палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие проекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих проектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они не срабатывают. Предполагается, что ученые калибра доктора Хониккера могут восполнить этот пробел. Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью.
— С грязью?!
— Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, — сказал доктор Брид. — Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от грязи.
— Как же это он себе представлял?
— Чтобы грязи не было. Конец всякой грязи.
— Очевидно, — сказав я, пробуя теоретизировать. — это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химикалий или тяжелых машин…
— Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку. Им хотелось носить что-нибудь легонькое.
— Что же на это сказал доктор Хониккер?
— Как всегда, полушутя, а Феликс все говорил полушутя, он сказал, что можно было бы найти крохотное зернышко — даже микроскопическую кроху, — от которой бесконечные болота, трясины, лужи, хляби и зыби затвердевали бы, как этот стол.
Доктор Брид стукнул своим веснушчатым старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол у него был полуовальный, стальной, цвета морской волны:
— Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, (потребное для этого, могло бы уместиться у одного моряка под ногтем мизинца.
— Но это невозможно.
— Это вы так думаете. И я бы так сказал, и любой другой тоже. А для Феликса, с его полушутливым подходом ко всему, это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда — и я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге, — он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые.
— Сейчас я чувствую себя Франсиной Пефко, — сказал я, — или сразу всеми барышнями из девичьего бюро. Даже доктор Хониккер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то умещающееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол, вещество.
— Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять.
— И все-таки…
— Он мне все сумел объяснить, — сказал доктор Брид. — И я уверен, что смогу объяснить и вам. В чем задача? В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот, так?
— Так.
— Отлично, — сказал доктор Брид, — слушайте же внимательно. Начнем.
— Различные жидкости, — начал доктор Брид, — кристаллизуются, то есть замораживаются, различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке. Старый доктор, жестикулируя веснушчатыми кулаками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины.
— Вот так и с атомами в кристаллах, и два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами.
Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы оксалата этиленовой кислоты.
— Эти кристаллы, — сказал он, — применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали, по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились.
Как это вышло, осталось тайной. Теоретически «злодеем» была частица, которую доктор Брид назвал зародыш. Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание агомов в кристалле. Этот зародыш, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в спайки, то есть новому способу кристаллизации, замораживания.
— Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике, — сказал доктор Брид. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть зародыш того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так до бесконечного количества ядер или апельсинов.
— Теперь представьте себе, — с явным удовольствием продолжал доктор Брид, — что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и который кладут в коктейли — мы можем назвать его «лед-один», — представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в лед-один, потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в лед-два, лед-три, лед-четыре… И предположим, — тут его старческий кулак снова стукнул по столу, — что существует такая форма — назовем ее лед-девять — кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов.
— Ну, хорошо, это я еще понимаю, — сказал я.
И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, внушительный шепот. В приемной собралось девичье бюро.
Девушки собирались петь.
И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками: они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно.
Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровищенежность и теплота девичьих голосов.
Девушки пели: «О светлый город Вифлеем». Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели: «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».
Когда доктор Брид с помощью мисс Фауст раздал девушкам шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет.
Там он продолжал рассказ.
— Где мы остановились? А-а, да! — И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. — Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте, — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жиже, полной миазмов.
Он поднял палец и подмигнул мне:
— Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней-зародыш льда-девять, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепления, соединения, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу?…
— Она замерзнет? — угадал я.
— А вся трясина вокруг лужи?
— Тоже замерзнет.
— А другие лужи в этом болоте?
— Тоже замерзнут.
— А вода и ручьи в замерзшем болоте?
— Вот именно — замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясины и пойдет в наступление!
— А есть такое вещество? — спросил я.
— Да нет же, нет, нет, нет. — Доктор Брид опять потерял всякое терпение. — Я рассказал вам все это только потому, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который пристал к нему насчет болот.
Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По неписаному закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прерывать ход его мыслей. Но этот генерал ворвался, пододвинул себе стул и стал говорить про болота. И я вам только передал, что Феликс тут же, с ходу, ответил ему.
— Так, значит… значит, этого вещества на самом деле нет?
— Я же вам только что сказал — нет и нет! — вспылил доктор Брид. — Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов! Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей.
— А я все думаю про то болото…
— А вы бросьте думать об этом! Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо.
— Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в лед-девять, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями?
— Они замерзнут. Но никакого льда-девять нет!
— А океаны, в которые впадают замерзшие реки?
— Ну и они, конечно, замерзнут! — рявкнул он. — Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про лед-девять? Опять повторяю — его не существует.
— А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи…
— Замерзнут, черт побери! — крикнул он. — Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из желтой прессы, — сказал он, величественно подымаясь со стула, — я бы не потратил на вас ни минуты.
— А дождь?
— Коснулся бы земли и превратился в твердые катышки, в лед-девять, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе! Прощайте!
Но по крайней мере в одном доктор Брид ошибался: лед-девять существовал.
И лед-девять существовал на нашей Земле.
Лед-девять был последнее, что подарил людям Феликс Хониккер, перед тем как ему было воздано по заслугам.
Ни один человек не знал, что он делает. Никаких следов он не оставил.
Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хониккеру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю порцию пирожков.
Он сделал сосульку льда-дeвять! Голубовато-белого цвета. С температурой таяния сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту.
Феликс Хониккер положил сосульку в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман. И уехал к себе на дачу, на мыс Код, с тремя детьми, собираясь встретить там рождество.
Анджеле было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, крошке Ньюту — восемнадцать лет.
Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про лед-девять.
Его дети разделили кусочек льда-девять между собой.
Тут мне придется объяснить, что Боконон называет вампитером.
Вампитер есть ось всякого карасса. Нет карасса без вампитера, учит вас Боконон, так же как нет колеса без оси.
Вампитером может служить чтo угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим вампитером, члены одного карасса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена карасса вокруг их общего вампитера — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит нас петь Боконон:
Кружимся, кружимся — и все на месте:
Ноги из олова, крылья из жести.
Но вампитеры уходят, и вампитеры приходят, учит нас Боконон.
В каждую данную минуту у каждого карасса фактически есть два вампитера: один приобретает все большее значение, другой постепенно его теряет.
И я почти уверен, что, пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, вампитером моего карасса, набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый лед-девять.
В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хониккеры уже владели зародышами льда-девять, зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы.
И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков льда-девять была основной заботой моего карасса.
25. Самое главное в жизни доктора Хониккера
Вот все, что я могу пока сказать о вампитере моего карасса.
После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хониккера.
По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хониккера.
Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно:
— Не думаю, что его можно было легко узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, — сказала эта милая старушка. — И в жизни доктора Хониккера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое главное.
— А что же было самое главное? — спросил я.
— Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хониккера была истина.
— Но вы как будто не согласны с ним?
— Не знаю — согласна или не согласна. Но мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека.
Мисс Фауст вполне созрела, чтобы понять учение Боконона.
— Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хониккером? — спросил я мисс Фауст.
— Ну конечно! Я часто с ним говорила.
— А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?
— Да, однажды он сказал: он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю: «Бог есть любовь».
— А он что?
— Он сказал: «Что такое бог? Что такое любовь?»
— Гм…
— Но знаете, ведь бог действительно и есть любовь, — сказала мисс Фауст, — что бы там ни говорил доктор Хониккер.
Комната, служившая лабораторией доктору Хониккеру помещалась на шестом самом верхнем, этаже здания.
Поперек двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем:
В ЭТОЙ КОМНАТЕ ДОКТОР ФЕЛИКС ХОНИККЕР, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ, ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖИЗНИ. ТАМ, ГДЕ БЫЛ ОН, ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОКА ЕЩЕ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались.
Я согласился.
— Тут все как при нем, — сказала она, — только на одном из столов валялись резиновые ленты.
— Резиновые ленты?
— Не спрашивайте зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно.
Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом. Игрушечный гироскоп, закрученный веревкой и готовый завертеться. И волчок. И трубка для пускания мыльных пузырей. И аквариум с каменным гротом и двумя черепахами.
— Он любил дешевые игрушечные лавки, — сказала мисс Фауст.
— Оно и видно.
— Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара.
— Грош сбережешь — заработаешь грош.
Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками.
На бюро доктора Хониккера лежала груда нераспечатанной корреспонденции.
— По-моему, он никогда не отвечал на письма, — проговорила мисс Фауст. — Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда.
На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне обратной стороной, и я старался угадать, чей это портрет.
— Жена?
— Нет.
— Кто-нибудь из детей?
— Нет.
— Он сам?
— Нет.
Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хониккер. Но ее там не было.
— Это одно из его увлечений, — сказала мисс Фауст.
— Что именно?
— Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необычно.
— Понимаю.
— Человек он был необычный.
— Согласен.
— Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он, все поймут, что он понимал. От среднего современного человека он отличался, как отличается житель Марса.
— А может быть, он и вправду был марсианин, — предположил я.
— Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.
Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала, что лишь бы не пришел пятый номер.
Не успел я ее спросить почему, как прибыл именно пятый номер.
Лифтером на нем служил престарелый, маленький негр по имени Лаймен Эндлесс Ноулз. Ноулз был сумасшедший — это сразу бросалось в глаза, потому что, стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал: «Да-с! Да-с!»
— Здорово, братья антропоиды, лилейный носик и нос рулем! — приветствовал он мисс Фауст и меня. — Да-с! Да-с!
— Первый этаж, пожалуйста! — холодно бросила мисс Фауст.
Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.
— Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал. Я ему и говорю: кто же я тогда? Майонез? Да-с! Да-с! И пока он думал, что ответить, я его как стукну еще одним вопросом, а он как подскочит, башка у него как начнет работать! Да-с! Да-с!
— Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулз? — попросила мисс Фауст.
— Я его спрашиваю, — продолжал Ноулз, — тут у нас исследовательская лаборатория? Ис-следовать — значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли, вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целый домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тут чего потерял? Да-с! Да-с!
— Очень интересно! — вздохнула мисс Фауст. — А теперь можно нам спуститься?
— А мы только спускаться и можем! — крикнул мистер Ноулз. — Тут верх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу — нет, даже для вас — не могу! Да-с! Да-с!
— Так давайте спустимся вниз! — сказала мисс Фауст.
— Погодите, сейчас. Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хониккера?
— Да, — сказал я. — Вы его знали?
— Ближе меня, — сказал он. — И знаете, что я сказал, когда он умер?
— Нет.
— Я сказал: «Доктор Хониккер не умер»
— Ну?
— Он перешел в другое измерение. Да-с! Да-с!
Ноулз нажал кнопку, и мы поехали вниз.
— А детей Хониккера вы знали?
— Ребята — бешеные щенята! — сказал он. — Да-с! Да-с!
Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидал, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси.
Сыпала снежная крупа, серая, въедливая. Я подумал, что могилка старика, засыпанная снежной крупой, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги День, когда наступил конец света.
Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хониккеров.
— Сразу увидите, — сказал он, — на них самый высокий памятник на всем кладбище.
Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса, двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь покрыт изморозью.
— О, черт! — сказал я, выходя с фотокамерой из машины. — Ничего не скажешь — подходящий памятник отцу атомной бомбы. — Меня разбирал смех.
Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести изморозь, чтобы видно было имя покойного.
Он так и сделал.
И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, богом клянусь, стояло одно слово:
МАМА
— Мама? — не веря глазам, спросил водитель. Я еще больше соскреб изморозь, и открылся стишок:
Молю тебя, родная мать,
Нас беречь и охранять
А под этим стишком стоял другой:
Не умерла — уснула ты,
Нам улыбнешься с высоты,
И нам не плакать, а смеяться,
Тебе в ответ лишь улыбаться.
А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой руки. Под отпечатком стояли слова:
Крошка Ньют
— Ну, ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину могилку? — Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там.
Могилу отца мы нашли рядом. Там, как я потом узнал, по его завещанию был поставлен мраморный куб сорок на сорок сантиметров.
ОТЕЦ
— Гласила надпись.
Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился — в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку.
Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие, впрочем, особого значения это не имело.
Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк, на этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей, через дорогу от кладбища.
Тогда я еще не был боконистом и потому с неохотой дал согласие.
Конечно, будучи боконистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно по чьей угодно просьбе. «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных богом», — учит нас Боконон.
Похоронное бюро называлось «Авраам Брид и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников — еще безымянных, до поры до времени, надгробий.
В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро: над мраморным ангелом висел венок из омелы. Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.
— Сколько он стоит? — спросил я продавца.
— Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка, Авраам Брид, высек эту статую.
— Значит, ваше бюро тут давно?
— Очень давно.
— А вы тоже из семьи Бридов?
— Четвертое поколение в этом деле.
— Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лабораторий?
— Я его брат. — Он представился: — Марвин Брид.
— Как тесен мир, — заметил я.
— Особенно тут, на клдабище. — Марвин Брид был человек откормленный, вульгарный, хитроватый и сентиментальный.
— Я только что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду. — Я — писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хониккера.
— Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата, про Хониккера.
— Это вы ему продали памятник для его жены?
— Не ему — детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хониккеровских ребят — девочка высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старших были с собой стишки, они хотели их высечь на камне. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году.
— Наверно, памятник стоил огромных денег?
— Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги — дача на мысе Код и этот памятник.
— На динамитные деньги? — удивился я, подумав о взрывчатой злобе динамита и совершенном покое памятника и летней дачи.
— Что?
— Нобель ведь изобрел динамит.
— Да всякое бывает…
Будь я тогда боконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: «Дела, дела, дела…»
Дела, дела, дела, шепчем мы, боконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни.
Но, будучи еще христианином, я мог только сказать:
«Да, смешная штука жизнь».
— А иногда и вовсе не смешная, — сказал Марвин Брид.
Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хониккер, жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском.
— Знал ли я ее? — Голос у него стал мрачным. — Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза, — он учился в Технологическом институте, — и я оплошал: познакомил его со своей любимой девушкой. — Марвин Брид щелкнул пальцами: — Он ее и отбил, вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку — а она была дорогая, семьдесят пять долларов, — прямо об медную шишку на кровати, пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку — в такой посылают розы дюжинами, — положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посыльным.
— Она была хорошенькая?
— Хорошенькая? — повторил он. — Слушайте, мистер, когда я увижу на том свете первого ангела, если только богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела. Он сплюнул на пол. А она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого! Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата вот так! — Марвин Брид снова щелкнул пальцами — Наверно, это предательство и неблагодарность и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хониккер, сукиным сыном. Знаю, все знаю, считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое, знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Христос чуть ли не сын божий.
Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не стал, но я попросил его договорить.
— Как же так? — сказал он, — Как же так? Он отошел к окну, выходившему на кладбищенские ворота. — Как же так? — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хониккеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке.
Но как же так, — сказал он, — как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевельнул, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения. — Он весь передернулся. — Иногда я думаю, уж не родился ли он мертвецом? Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.
Именно в этой мастерской надгробий я испытал свой первый вин-дит. Вин-дит — слово боконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боконизму, к пониманию того, что господь бог все про тебя знает и что у него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя.
Мой вин-дит имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах.
Высказавши свое мнение о Феликсе Хониккере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота.
— Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым — добавил он вдруг, — но черт меня раздери, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел. Музыка, — сказал он, помолчав.
— Простите?
— Вот почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных миров — Он покачал головой. — Чушь!
Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хониккера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке.
— Да, Фрэнк — сказал он.
— А что?
— В последней раз я его, чудака несчастного, видал когда он бедняга, выходил из кладбищенских ворот похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показалась. Новый такой «понтиак» с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал.
— Я слышал — его полиция ищет.
— Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать — модели всякие. И на одной работе только и держался — у Джека, в лавке «Уголок любителя», он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской моделей в Сарасате. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала «кадиллаки», грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдетиконом трубы на игрушечный крейсер «Миссури».
— А вы не знаете, где теперь Ньют?
— Как будто у сестры, в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой лилипуткой и его выгнали с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девчонке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет, она на нем играла в школьном оркестре «Сто бродячих музыкантов».
Когда она ушла из школы, — продолжал Брид, — ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей и пойти было некуда. И знаете, что она делала?
— Нет.
— Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по моему мнению, самое большое чудо нашего века — это то, что такая особа нашла себе мужа.
— Сколько хотите за этого ангела? — спросил водитель такси.
— Я же вам сказал — не продается.
— Наверно, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет? — сказал я.
— У меня племянник есть, он все умеет, — сказал Брид, — сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит: хочу работать резчиком по камню.
— Он у вас работает?
— Нет, он скульптор в Риме.
— Если бы вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы бы продали этот памятник?
— Возможно. Но цена-то ему немалая.
— А где тут надо высечь имя? — спросил водитель.
— Да тут имя уже есть, на подножии, — сказал Брид. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи.
— Значит, заказ так и не востребовали? — спросил я.
— За него даже и не заплатили. Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме, умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущества, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела.
— Но так и не вернулся? — спросил я.
— Нет. — Марвин Брид отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия. — И фамилия какая-то чудная, — сказал он, — наверно, потомки этого иммигранта, если они у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверно, они давно стали Джонсами, Блейками или Томсонами.
— Ошибаетесь, — пробормотал я.
Мне показалось, что комната опрокинулась и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времен. И мне привиделось, в духе учения Боконона, единство всех странников мира: мужчин, женщин, детей, — единство во времени, в каждой его секунде.
— Ошибаетесь, — сказал я, когда исчезло видение.
— А вы знаете людей с такой фамилией?
— Да.
Эта фамилия была и моей фамилией.
По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок любителя», где раньше работал Фрэнклин Хониккер. Я велел водителю остановиться и подождать меня.
Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял.
— Какой он был, Фрэнклин Хониккер? — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. — На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик. — Он снова закашлялся. — Поглядите, и сами поймете.
И он повел меня в подвел при лавке, где он жил. Там стояли двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель.
— От меня жена ушла вот уже с неделю. — Он закашлялся. — Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни.
И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил, дальний конец подвала.
Мы подошли туда и увидали, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как многие города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света.
Все детали были так изумительно пропорциональны, так тонко выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей, все эти холмы, озера, реки, леса, города, все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края.
И повсюду тонким узором вилась лапша железнодорожных путей.
— Взгляните на двери домиков, — с благоговением сказал Джек.
— Чисто сделано. Точно.
— У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучаться.
— Черт!
— Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хониккер. Это он выстроил. — Джек задохнулся от кашля.
— Все сам?
— Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка — гений.
— Да, ничего не скажешь.
— Братишка у него был карлик, слыхали?
— Слыхал. Он снизу кое-что припаивал.
— Да, все как настоящее.
— Не так это легко, да и не за ночь все выстроили.
— Рим тоже не один день строился.
— У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?
— Да, мне так говорили.
— Тут был его настоящий дом. Он тут провел тыщу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас.
— Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу, столько тут всякого, если посмотреть поближе.
— Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сорвет какой-нибудь холмик — ну совсем как настоящий, для нас с вами. И правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в десять красивей, чем было.
— Такой талант не всякому дается.
— Правильно! — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся — он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз. — Слушайте, — сказал он, — ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на Американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие, покрупнее, вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку.
— По-моему, вы тоже здорово поддерживали его.
— Добро бы так, хотелось бы, чтоб так оно и было, — вздохнул Джек — Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог, но он почти все покупал сам на свои заработки, он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил.
— Побольше бы таких в нашей стране.
Джек пожал плечами:
— Что ж поделаешь… Наверно, бандиты там, во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится.
— Да, я тоже так думаю.
Джек вдруг не выдержал и заплакал.
— Наверно, они и представления не имели, сукины дети, — всхлипнул он, — кого они убивают.
Во время своей поездки в Илиум и за Илиум — она заняла примерно две недели, включая рождество, — я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Кребс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно.
Кребс был бородатый малый, белобрысый иисусик с глазами спаниеля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель Национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь.
Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Кребс выехал, но перед уходом он нагнал счет на триста долларов за междугородные переговоры, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку, загубил мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки.
На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок:
Кухня что надо,
Но душа нe рада
Без
Му-со-ро-про-вода.
И еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило:
«Нет и нет, нет, нет, говорит цыпа-дрипа!»
А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло: «Мяу!»
Кребса я с тех пор не встречал И все же я чувствую, что и oн входит в мой карасс. А если так, то он служил ранг-рангом. А ранг-ранг, по учению Боконона, — это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной ранг-ранговой жизни доводит этот образ мыслей до абсурда.
Быть может, я уже отчасти был склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете — бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал, у меня нигилист Кребс, особенно то, что он сделал с моей чудной кошкой, всякий нигилизм мне опротивел.
Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И миссия Кребса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Кребс, молодец.
37. Наш современник — генерал-майор
И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей. Великий Вседержитель и Вельзевул жуков в банке, — словом, узнал, где найти Фрэнклина Хониккера.
Он был жив!
Узнал я это из специального приложения к «Нью-Йорк санди таймс». Это была платная реклама некой банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающе-прекрасной девушки на свете.
За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы трех новых зданий.
«Республика Сан-Лоренцо процветает! — говорилось в тексте на обложке. — Здоровый, счастливый, прогрессивный, свободолюбивый красавец народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов».
Но читать весь проспект я не торопился. С меня было достаточно девушки на обложке — более чем достаточно, потому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светилась пониманием и мудростью.
Кожа у нее была шоколадная. Волосы — золотой лен.
Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо.
Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной мадонны-полукровки.
Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля «Папы» Монзано, — гориллы лет под восемьдесят.
Рядом с портретом «Папы» красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями. Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку. И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом.
Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хониккер, министр науки и прогресса республики Сан-Лоренцо.
Ему было двадцать шесть лет.
Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркскому «Санди таймс», остров Сан-Лоренцо имел пятьдесят миль в длину и двадцать — в ширину Население составляло четыреста пятьдесят тысяч душ, «беззаветно преданных идеалам Свободного мира».
Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккэйб — одиннадцать тысяч футов над уровнем моря Столица острова — город Боливар — являлась «…сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия».
«А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул»
Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хониккер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный «Папой» Монзано.
«Папа» писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим «генеральный план Сан-Лоренцо», включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги — словом, все строительство. И хотя очерк был краток и явно подредактирован, «Папа» пять раз назвал Фрэнка сыном — «кровью от крови» — доктора Феликса Хониккера.
Эта фраза отдавала каким-то людоедством. Видно, «Папа» хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна.
Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хониккер.
В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей семидесятифутовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.
«Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним — моя бессмысленная жизнь, — говорилось в очерке. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые баракуды вспенивали волны.
Я поднял взор к творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вершина над облаками. Может быть, это была фата-моргана, жестокий обман, мираж?»
Я тут же посмотрел в словаре «Фата-Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе, между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, фата-моргана — глупый вымысел поэтов.
А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата-Моргана, а вершина горы Маккэйб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам всевышний направил его туда.
Фрэнк ступил на берег твердой пятой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок льда-девять.
Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил «Папа» Монзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хониккера.
«Я подтвердил, что я — его сын, — говорилось в очерке. — И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты».
40. Обитель Надежды и Милосердия
Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Боконон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не «Папы» Монзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касле, американском сахарозаводчике — миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы.
Госпиталь Касла назывался «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев, на северном склоне горы Маккэйб.
Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет.
Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь.
Предыдущие, корыстные, годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья.
Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына.
Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона», в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк санди таймс». «Каса Мона», новый отель, и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегам Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь.
Я представлял себе любовь с Моной Эймонс Монзано, и этот мираж, эта Фата-Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.
На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так — должно было так случиться, — что моими соседями оказапись Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена, Клэр. Оба они были седые, хрупкие и кроткие.
Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказывал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южно-Африкаской Республике, Ливии и Пакистане.
Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет дюпрасс, что значит карасс из двух человек.
«Настоящий дюпрасс, — учит нас Боконон, — никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза».
Поэтому я, исключая Минтонов из моего личного карасса, из карасса Франка, карасса Ньюта, карасса Анджелы, из карасса Лаймона Эндлесса Ноулза, из карасса Шермана Кребса. Карасс Минтонов был аккуратный карассик, созданный для двоих.
— Должно быть, вы очень довольны? — сказал я Минтону.
— Чем же это я должен быть доволен?
— Довольны, что достигли ранга посла.
По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизошли ко мне.
— Да, — вздохнул Минтон, — я очень доволен. — Он бледно улыбнулся. — Я глубоко польщен.
И на каждую тему, которую я затрагивал, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко.
Например:
— Вы, наверное, говорите на многих языках, — сказал я.
— О да, на шести и семи мы оба, — сказал Минтон.
— Вам, наверно, это очень приятно?
— Что именно?
— Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей.
— Очень приятно, — сказал Минтон равнодушно.
— Очень приятно, — подтвердила его жена.
И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними, на ручке кресла.
— Скажите, пожалуйста, — спросил я немного погодя, — вот вы так много путешествовали, как по-вашему: люди, по существу, везде примерно одинаковы или нет?
— Гм! — сказал Минтон.
— Считаете ли вы, что люди, по существу, везде одинаковы?
Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил:
— По существу, да, везде одинаковы.
— Угу, — сказал я.
Кстати, Боконон говорит, что люди одного дюпрасса всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду.
42. Велосипеды для Афганистана
В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзел.
Это были грузные люди, лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие, гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго и что он ничего, кроме черной неблагодарности, от своих служащих не видал Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо.
— А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо? — спросил я.
— До сих пор в глаза не видал, но все, что я о нем слышал, мне нравится, — сказал Лоу Кросби. — У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, каких еще свет не видал.
— Как?
— Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу.
— И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше?
— Не считаю, а знаю, будь я проклят. Народ там такой нищий, такой пуганый и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел.
Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.
— Господи боже, — сказала она, — да вы из хужеров[2]?
Я подтвердил, что да.
— Я тоже из хужеров, — завопила она — Нельзя стыдиться, что ты хужер!
— А я и не стыжусь, — сказал я, — и не знаю, кто этого может стыдиться.
— Хужеры-молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют.
— Отрадно слышать.
— Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?
— Нет.
— Он тоже хужер. А военный, ну, как его там, в Токио…
— Атташе, — подсказал ее муж.
— И он — хужер, — сказала Хэзел. — И новый посол в Югославии…
— Тоже хужер?
— И не только он, но и голливудский сотрудник «Лайфа». И тот самый, в Чили…
— И он хужер?
— Куда ни глянь — всюду хужеры в почете, — сказала она.
— Автор «Бен-Гура» тоже был из хужеров.
— И Джеймс Уиткомб Райли.
— И вы тоже из Индианы? — спросил я ее мужа.
— Не-ее… Я из Штата Прерий. «Земля Линкольна»[3], как говорится.
— Если уж на то пошло, — важно заявила Хэзел, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер.
— Правильно, — сказал я.
— Не знаю, что в них есть, в хужерах, — сказала Хэзел, — но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы.
— Тоже правда, — сказал я.
Она крепко вцепилась в мою руку:
— Нам, хужерам, надо держаться друг дружки.
— Верно.
— Ты зови меня «мамуля».
— Что-оо?
— Я, как встречу молодого хужера, сразу прошу его: «Зови меня мамуля».
— Угу…
— Ну, скажи же! — настаивала она.
— Мамуля…
Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хэзел мамулей, механизм остановился, и теперь Хэзел снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером.
То, что Хэзел как одержимая искала хужеров по всему свету, — классический пример ложного карасса, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал гранфаллон. Другие примеры гранфаллона — всякие партии, к примеру Дочери американской Революции, Всеобщая электрическая компания и Международный орден холостяков — и любая нация в любом месте в любое время.
И Боконон приглашает нас спеть вместе с ним так:
Что такое гранфаллон? Хочешь ты узнать,
Надо с шарика тогда пленку ободрать!
Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство — зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были свойственны грубоватые, мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывал насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво.
Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора — это когда он касался вопроса, для чего, в сущности, люди живут на земле.
Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды.
— Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали, — сказал я.
— А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и сразу узнаю, так это или не так. Если «Папа» Монзано у себя на острове даст честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть. И так оно и будет.
— А мне особенно нравится, — сказала Хэзел, — что все они говорят по-английски и все они христиане. Это настолько упрощает все.
— Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби.
— Нет.
— У них там вообще нет преступников. «Папа» Монзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернутся через неделю — и бумажник будет лежать на месте нетронутый.
— Ого!
— А знаете, как называют за кражу?
— Нет.
— Крюком, — сказал он. — Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все — крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену, за насилие, за непристойное подглядывание. Нарушишь закон — любой ихний закон, — и тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете.
— А что это за крюк?
— Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк вроде рыболовного и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости преступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой, — и все! Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дери!
— Боже правый!
— Я же не говорю, что это хорошо, — сказал Кросби, — но нельзя сказать, что это — плохо. Я и то иногда подумываю: а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур… Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку преступников из тех, что крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее: «Мамочка, вот твой сынок!» Разика два проделать это, и замки на машинах отойдут в область предания, как подножки и откидные скамеечки.
— Мы эту штуку видали в музее восковых фигур в Лондоне, — сказала Хэзел.
— Какую штуку? — спросил я.
— Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило.
— Гарри Трумен там совсем не похож на Гарри Трумэна, — сказал Кросби.
— Простите, что вы сказали?
— В кабинете восковых фигур, — сказал Кросби, — фигура Трумэна совсем на него не похож.
— А другие почти все похожи, — сказала Хэзел.
— А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее.
— По-моему, нет, просто какой-то человек.
— Просто демонстратор? — спросил я.
— Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом, отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление — детям смотреть воспрещалось.
— И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели.
— Что им объявление, ребятам, — сказала Хэзел. — Им начхать.
— А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я.
— Как? — сказала Хэзел. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше.
— А что там было дальше?
— Железное кресло, где живьем зажарили человека, — сказал Кросби. — Его за то зажарили, что он убил сына.
— Но после того, как его зажарили, — беззаботно сказала Хэзел, — выяснилось, что сына убил вовсе не он.
Когда я вернулся на свое место, к дюпрассу Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.
Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а может быть, и кое-кто похуже, восстановили его на службе.
— Очень приятный бар там, в хвосте, — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним.
— Гм? — Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними.
— Славный там бар.
— Прекрасно. Очень рад.
Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил:
— А кто он, в сущности, такой?
— Вы про кого?
— Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услыхали ваш разговор. Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам.
— Он фабрикант велосипедов, Лоу Кросби, — сказал я и почувствовал, что краснею.
— Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем.
— Его выгнали из-за меня, — сказала его жена. — Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк таймс» из Пакистана.
— О чем же вы писали?
— О многом, — сказала она, — потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть неамериканцем, да еще быть неамериканцем и гордиться этим.
— Понятно.
— Но там была одна фраза, которую они непрестанно повторяли во время проверки моей лояльности, — вздохнул Минтон. — «Американцы, — процитировал он из письма жены в „Нью-Йорк таймс“, — без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять. Должно быть, корни этого явления надо искать далеко в прошлом».
45. За что ненавидят американцев
Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через двенадцать часов после появления письма в газете.
— Но что же такого страшного было в письме? — спросил я.
— Высшая форма измены, — сказал Минтон, — это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви.
— Кажется, американцев во многих местах и вправду не любят.
— Во многих местах разных людей не любят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как всяких людей, тоже могут ненавидеть и глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидали, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят.
— Что ж, я рад, что все кончилось хорошо.
— Хм-м? — хмыкнул Минтон.
— Ведь все в конце концов обошлось, — сказал я, — и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами.
Минтон с женой обменялись обычным своим дюпрассовским взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал:
— Да. Пойдем по радуге — найдем горшок с золотом.
46. Как Боконон учит обращаться с Кесарем
Я заговорил с Минтонами о правовом положении Фрэнклина Хониккера: в конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве «Папы» Монзано, но и скрывался от правительства США.
— Все зачеркнуто, — сказал Минтон. — Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке.
— Он отказался от американского гражданства?
— Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Френк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди Сэма.
— А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся?
Минтон взвесил в руке толстую рукопись, которую они читали с женой.
— Пока не знаю. По этой книге как будто нет.
— Что это за книга?
— Это единственный научный труд, написанный о Сан-Лоренцо.
— Почти научный, — сказала Клэр.
— Почти научный, — повторил Минтон. — Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. — Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел.
Я открыл книгу на титульном листе и увидал, что называется она САН-ЛОРЕНЦО. География. История. Народонаселение. Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся.
Я раскрыл книгу наугад. И она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, — о святом Бокононе.
На открывшейся странице была цитата из Книг Боконона. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов: «Воздай Кесарю кесарево».
По Боконону, эти слова читались так:
«Не обращай внимания на Кесаря. Кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит вокруг».
Я так увлекся книгой Джулиана Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут.
Немного погодя я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка — женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут — оттуда и макушки видно не было.
Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или спокойные минуты, а я был всерьез взволнован теорией Боконона, которую он называл динамическое напряжение; интересно, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом.
Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, высокомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Боконона, и я подумал, что знаю то, чего Боконон не знает: термин этот был давно опошлен Чарлзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру?».
Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Боконон точно знал, кто такой Чарлз Атлас. Боконон, оказывается, сам был приверженцем школы развития мускулатуры.
Чарлз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой.
Боконон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим.
И в книге Касла я прочел впервые стих, или калипсо, Боконона. Он звучал так:
«Папа» Монзано, он полон скверны,
Но без «Папиной» скверны я пропал бы, наверно,
Потому что теперь по сравнению с ним
Гадкий старый Боконон считается святым.
48. Совсем как Святой Августин
Как я узнал из книги Касла, Боконон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго.
При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон.
Он был младшим из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Боконона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало Черной Бороде — Эдварду Тичу.
Семья Боконона вложила сокровище Черной Бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу.
Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так:
Когда я молод был,
Я был совсем шальной,
Я пил и девушек любил,
Как Августин святой.
Но Августин лишь к старости
Причислен был к святым,
Так, значит, к старости могу
И я сравниться с ним.
И если мне в святые
Придется угодить,
Уж ты, мамаша, в обморок
Гляди не упади!
49. Рыбка, выброшенная злым прибоем
К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бойда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шхуне под названием «Туфелька» из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование.
Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук.
Его занятия были прерваны первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза награжден. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы.
И снова в одиночестве он поплыл в Тобаго на своей «Туфельке».
В восьмидесяти милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил английский эсминец «Ворон».
Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена.
«Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги. Наконец его прибило к Островам Зеленого Мыса.
Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в западное полушарие.
Наконец он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение возле Ньюпорта на Род-Айленде.
К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то, по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте — ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов.
За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Дж. П. Морган, генерал Дж. Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиель Гардинг и Гарри Гудини[4]. За это время окончилась первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившая двадцать, среди них и самого Джонсона.
Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд Четвертый, решил совершить путешествие на своей яхте «Шехеразада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился.
Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания.
Но «Шехерезада» налетела на рифы в тумане у входа в бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан: они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на казенный счет отправили домой, в Тобаго.
Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька-2».
И он плавал на ней — без цели, все ища бури, которая вынесла бы его туда, куда его безошибочно вела судьба.
В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой.
Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты, по имени Эрл Маккэйб. Маккэйб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами.
И они пустились в плавание к Майами.
Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккэйб в чем мать родила еле доплыли до берега. Сам Боконон описывает это приключение так:
Как рыбку, выбросил меня
На берег злой прибой,
Но вскоре я очнулся
И стал самим собой.
Он был восхищен этим тайным знамением — тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу — пусть будет, что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой волной.
И для него наступило второе рождение:
Будьте как дети,
Нам Библия твердит.
И я душой ребенок,
Хотя и стар на вид.
А прозвище Боконон он получил очень просто. Так произносили его имя — Джонсон — на островном диалекте английского языка.
Что же касается этого диалекта…
Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал — легко понять, но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически.
Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан-лоренцскую версию детской песенки: «Шалтай-Болтай».
По-настоящему это бессмертное произведение звучит так:
Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне,
И вся королевская конница,
И вся королевская рать
Не может Шалтая, не может Болтая собрать.
На сан-лоренцском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так:
Саратая-Боротая сидера на сатене,
Саратая-Боротая сварирася во сене,
И кося короревская конниса,
И вся короревская рати
Не могозет Саратая, не могозет Боротая соборати.
Вскоре после того, как Джонсон стал Бокононом, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова.
«Есть легенда, — пишет Филипп Касл, — что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света».
Чтение биографии Боконона прервала жена Лоу Кросби, Хэзел. Она остановилась в проходе около меня.
— Вы не поверите, — сказала она, — но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров.
— Вот это да!
— Они нe природные хужеры, но теперь они там живут. Они живут в Индианаполисе.
— Интересно!
— Хотите с ними познакомиться?
— А по-вашему, это необходимо?
Вопрос ее удивил.
— Но они же из хужеров, как и вы!
— А как их фамилии?
— Фамилия женщины — Коннерс, а его фамилия Хониккер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик. — Она подмигнула мне: — Хитрая бестия этот малыш.
— А он уже зовет вас мамулей?
— Я чуть было не попросила его звать меня так.
А потом раздумала — не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик.
— Глупости!
И я пошел в хвост самолета — знакомиться с Анжелой Хониккер Коннерс и с Ньютоном Хониккером, членами моего карасса.
Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше.
Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался Гулливером среди бробдингнегов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен.
В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантной непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него.
И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда-девять, как и у его некрасивой сестры, а под ними — вода, божье творение — все Карибское море.
Хэзел с удовольствием перезнакомила всех хужеров и, удовлетворенная, оставила нас в покое.
— Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуля.
— О’кэй, мамуля!
— О’кэй, мамуля! — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание.
Анджела упорно обращалась с Ньютоном как с младенцем, и он ей это милостиво прощал; я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.
И Ньют и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним, на пустовавшее третье кресло.
Анджела извинилась, что не ответила мне.
— Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же, день был как день — самый обыкновенный.
— А ваш брат написал мне отличное письмо.
Анджела удивилась:
— Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить? — Она обернулась к нему: — Душенька, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой.
— Нет, помню, — мягко возразил он.
— Жаль, что я не видела этого письма. — Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост.
— Душечка, ты должен был показать мне письмо, — упрекнула она брата.
— Прости, — сказал Ньют, — я как-то не подумал.
— Должна вам откровенно признаться, — сказала мне Анджела, — что доктор Брид не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца.
По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна.
Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и о чем не надо писать.
— Но если вы когда-нибудь все же напишете эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда.
Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо.
— Фрэнк собирается жениться, — сказала Анджела. — Мы едем праздновать его обручение.
— Вот как? А кто же эта счастливая особа?
— Сейчас покажу, — сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из пластиката. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анджела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Код, доктора Феликса Хониккера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анджелы, и наконец Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке.
И тут она показала мне фото девушки, на которой собирался жениться Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах.
На фотографии красовалась Мона Эймонс Монзано — женщина, которую я любил.
Развернув свою пластикатную гармошку, Анджела не собиралась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой.
— Тут все, кого я люблю, — заявила она.
Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого она поймала под плексиглас, поймала, как окаменелых жучков в янтарь, все они были по большей части из нашего карасса. Ни единого гранфаллонца среди них не было.
Многие фотографии изображали доктора Феликса Хониккера, отца атомной бомбы, отца троих детей, отца льда-девять. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста.
Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где он был весь закутан — в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке.
Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Анджела, была сделана в Хайяннисе за три часа до смерти старика.
Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на рождественского деда старике знаменитого ученого.
— Ваш отец умер в больнице?
— Нет! Что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом плетеном кресле, на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять по снегу у берега…
— Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют, — казалось, что идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах никого не было…
— Один наш коттедж отапливался, — сказала Анджела.
— На мили вокруг — ни души, — задумчиво вспоминал Ньют, — и нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака, ретривер. Мы швыряли палки в океан, а она их приносила.
— А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всегда устраивали елку.
— Ваш отец любил, когда зажигали елку?
— Он никогда нам не говорил.
— По-моему, любил, — сказала Анджела. — Просто он редко выражал свои чувства. Бывают такие люди.
— Бывают и другие, — сказал Ньют, пожав плечами.
— Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле, — сказала Анджела. Она покачала головой: — Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит. У него было бы другое лицо, если б он испытывал хоть малейшую боль.
Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же, в сочельник, она, Фрэнк и крошка Ньют разделили между собой отцовский лед-девять.
Анджела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца.
— Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить, — сказала Анджела. Она показала мне девочку — школьницу, шести футов ростом, в форме оркестрантки средней школы города Илиума, с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под мужскую шапочку. Лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой.
А потом Анджела — женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, — показала мне фото своего мужа.
— Так вот он какой, Гаррисон С. Коннерс. — Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивый мужчина и явно сознавал это. Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал донжуана.
— Что… Чем он занимается? — спросил я.
— Он президент «Фабри-Тека».
— Электроника?
— Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная государственная служба.
— Вооружение?
— Ну, во всяком случае, военные дела.
— Как вы с ним познакомились?
— Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал «Фабри-Тек».
— Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа?
— Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания, до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиум. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась…
Дальше Анджела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца:
— Мы были одни, я и маленький Ньют, в этом огромном старом доме. Фрэнк исчез, и привидения шумели и гремели в десять раз громче, чем мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело, заставлять его есть, платить по его счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни живой души, кроме Ньюта.
И вдруг, — продолжала она, — раздался стук в дверь, и появился Гаррисон Коннерс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах отца и вообще о старых временах…
Анджела с трудом сдерживала слезы.
— Через две недели мы поженились.
54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры
Я вернулся на свое мест, чувствуя себя довольно погано оттого, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзано, и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла.
В именном указателе я посмотрел Монзано, Мона Эймонс, но там было сказано: см. Эймонс Мона — и увидал, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого «Папы» Монзано.
За Эймонс Моной шел Эймонс Нестор. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, финн по национальности, архитектор.
Нестора Эймонса во время второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом — немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами. Он был взят в плен четниками — сербскими партизанами — монархистами, а потом захвачен партизанами, напавшими на четников.
Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию.
Итальянцы заставляли его строить укрепления в Сицилии. Он украл рыбачью лодку и добрался до нейтральной Португалии.
Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл.
Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Эймонс согласился. Он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет совершенство — свою дочь — и умер.
55. Не делай указателя к собственной книге
Что касается жизни Эймонс Моны, то указатель создавал путаную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния.
«Эймонс Мона, — сообщал указатель, — удочерена Монзано для поднятия его престижа, 194—199; 216; детство при госпитале „Обитель Надежды и Милосердия“, 63—81; детский роман с Ф. Каслом, 721; смерть отца, 89; смерть матери, 92; смущена доставшейся ей ролью национального символа любви, 80, 95, 166, 209, 247, 400—406, 566, 678; обручена с Филиппом Каслом, 193; врожденная наивность, 67—71, 80, 95, 166, 209, 274, 400—406, 566, 678; жизнь с Бокононом, 92—98, 196—197; стихи о…, 2, 26, 114, 119. 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974; ее стихи, 89, 92, 193; убегает от Монзано, 197; возвращается к Монзаяо, 199; пытается изуродовать себя, чтобы не быть символом любви и красоты для островитян, 80, 95, 116, 209, 247, 400—406, 566, 678; учится у Боконона, 63—80; пишет письмо в Объединенные Нации, 200; виртуозка на ксилофоне, 71».
Я показал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе — увлекательная биография, — биография девушки, против воли ставшей богиней любви. И неожиданно, как эта случается в жизни, я получил разъяснение специалистки: оказалось, что Клер Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность.
Она рассказала, что помогла мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много.
Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть любители берутся за составление указателей. Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла.
— Лестно для автора, оскорбительно для читателя, — сказала она — Говоря точнее, — добавила она со снисходительной любезностью специалистки, — сплошное самоутверждение, без оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге.
— Неловко?
— Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором, — поучительно сказала она. — Просто бесстыдная откровенность, конечно для опытного глаза.
— Она может определить характер по указателю! — сказал ее муж.
— Да ну? — сказал я. — Что же вы скажете о Филиппе Касле?
Она слегка улыбнулась:
— Неудобно рассказывать малознакомому человеку.
— О, простите!
— Он явно влюблен в эту Мону Эймонс Монзано.
— По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренцо.
— К отцу он испытывает смешанные чувства, — сказала она.
— Но это можно сказать о каждом человеке на земле, — слегка поддразнил ее я.
— Он чувствует себя в жизни очень неуверенно.
— А кто из смертных чувствует себя уверенно? — спросил я. Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно в духе Боконона.
— И он никогда на ней не женится.
— Почему же?
— Я все сказала, что можно, — ответила она.
— Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны, — сказал я.
— Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам. — заключила она.
Боконон учит нас, что дюпрасс помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. И еще, говорит нам Боконон, дюпрасс рождает в людях некоторую самонадеянность. Минтоны и тут не были исключением.
Немного погодя Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которые его жена умеет выудить из каждого указателя.
— Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он.
— Нет, сэр, понятия не имею.
— Потому что он — гомосексуалист! — прошептал Минтон. — Она и это может узнать по указателю.
56. Самоокупающееся беличье колесо
Когда Лайонел Бойд Джонсон и капрал Эрл Маккэйб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренцо не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни назвать не умели. Напротив, Джонсон и Маккэйб владели бесценными сокровищами — грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире.
Как говорится в одном из калипсо:
Ох, какой несчастный
Тут живет народ!
Пива он не знает,
Песен не поет,
И куда ни сунься,
И куда ни кинь,
Все принадлежит католической церкви
Или компании «Касл и сын».
По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания «Касл и сын» действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.
«Сахарная компания „Касл и Сын“ на Сан-Лоренцо никогда не получала ни гроша прибыли, — пишет молодой Касл. — Но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих».
На острове царила анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания «Касл и Сын» решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантаций сахарной компании белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из знатных туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытать своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье колесо, утоляла кучка сладкоречивых попов.
«Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека», — писал Касл.
Никакого чуда в том, что капрал Маккэйб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренцо, и никто им не мешал. Причина была проще простого: творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным.
Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом.
В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом Пятым и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечения и острастки и плыли дальше.
«В 1682 году, когда Франция заявила притязания на Сан-Лоренцо, — писал Касл, — испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязания на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязания на Сан-Лоренцо в 1704, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязания на Сан-Лоренцо в 1706-м, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренцо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали.
Императором стал Тум-Бумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тум-Бумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренцо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.
Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не смог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за недостаточное усердие».
Сахарная компания «Касл и сын» появилась на Сан-Лоренцо в 1916 году, во время сахарного бума, вызванного первой мировой войной. Никакого правительства там вообще не было. Компания решила, что даже глинистые и песчаные пустоши Сан-Лоренцо при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал.
Когда Маккэйб и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло снялась с места, словно проснувшись после скверного сна.
«У новых завоевателей Сан-Лоренцо было по крайней мере одно совершенно новое качество, — писал молодой Касл. — Маккэйб и Джонсон мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию.
С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.
А Джонсон придумал новую религию. Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:
Хотелось мне во все
Какой то смысл вложить,
Чтоб нам нe ведать страха
И тихо-мирно жить,
И я придумал ложь —
Лучше не найдешь! —
Что этот грустный край —
Сущий рай!
Во время чтения кто-то потянул меня за рукав. Маленький Ньют Хониккер стоял в проходе рядом с моим креслом.
— Не хотите ли пройти в бар, — сказал он, — поднимем бокалы, а?
И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу, — лилипутку, маленькую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.
— Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был.
Он описал мне эту идиллию: часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.
И Зика танцевала для него.
— Только представьте себе, женщина танцует только для меня.
— Вижу, вы ни о чем не жалеете.
— Она разбила мне сердце. Это не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. — И он галантно провозгласил тост: — За наших жен и любовниц! — воскликнул он. — Пусть они никогда не встречаются!
Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах:
— Знаете, что такое писсант?
— Слыхал этот термин, — сказал я, — но очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.
Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.
— Я говорю не про такого малыша, как вот он. — И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. — Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами. Видал я и маленьких людей-конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я неладен, — и вы назвали бы их настоящими мужчинами.
— Благодарствую, — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.
— Вы говорили про писсантов, — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.
— Правильно, черт побери! — Кросби расправил плечи.
— И вы нам не объяснили, что такое писсант, — сказал я.
— Писсант — это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Чтобы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравиться не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.
— Не очень привлекательный образ, — сказал я.
— Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта, — сказал Кросби мрачно.
— И вышла за него?
— Я его раздавил, как клопа. — Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта. — Лопни мои глаза? — сказал он. — Да ведь мы все тоже учились в колледжах! — Он уставился на малыша Ньюта: — Ходил в колледж?
— Да, в Корнелл, — сказал Ньют.
— В Корнелл? — радостно заорал Кросби. — Господи, я тоже учился в Корнелле!
— И он тоже. — Ньют кивнул в мою сторону.
— Три корнельца на одном самолете! — крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один гранфаллонский фестиваль.
Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.
— Вожусь с красками.
— Дома красишь?
— Нет, пишу картины.
— Фу, черт!
— Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! — предупредила стюардесса. — Приближаемся к аэропорту «Монзано», город Боливар, Сан-Лоренцо.
— А-а, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. — Погодите минутку, я вдруг вспомнил, что где-то слыхал вашу фамилию.
— Мой отец был отцом атомной бомбы. — Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.
— Правда?
— Правда.
— Нет, мне кажется, что-то было другое, — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. — Что-то про танцовщицу.
— Пожалуй, надо пойти на место, — сказал Ньют, слегка насторожившись.
— Что-то про танцовщицу. — Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух: — Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.
— Пожалуйста, джентльмены, — сказала стюардесса, — пора занять места и пристегнуть ремни.
Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами.
— Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хониккер? — И во избежание всяких недоразумений от повторил свою фамилию по буквам.
— А может, я и ошибся, — сказал Кросби.
С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающей нелепо торчали из моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу.
На южной оконечности находился портовый город Боливар.
Это был единственый город.
Это была столица.
Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта «Монзано» спускались к берегу.
К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.
Боливар раньше назывался по-разному: Каз-ма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория — словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки.
Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каше помоев, отбросов и слизи.
Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.
Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.
И никому не могло удасться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.
И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.
«В тот период, когда Джон и Маккэйб, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренцо, было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях, — писал Филипп Касл. — В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла около шести с лишним долларов».
В помещении таможни аэропорта «Монзано» нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям «Папы» Монзано, каждый капрал равнялся пятидесяти американским центам.
Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены:
Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо, гласило одно из объявлений, умрет на крюке!
На другом плакате был изображен сам Боконон — тощий старичок негр, с сигарой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом.
Под фотографией стояла подпись: десять тысяч капралов награды доставившему его живым или мертвым.
Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Боконону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за Бокононом отпечатки его пальцев и образец его почерка.
Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Боконон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности.
Он заявлял, что его призвание — «быть живым».
Он заявлял, что его основная профессия — «быть мертвым».
Наш народ — христиане! Всякая игра пятками будет наказана крюком! — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что боконисты выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос: каким образом Боконон, лучший друг капрала Маккэйба, оказался вне закона?
62. Почему Хэзел не испугалась
В Сан-Лоренцо нас сошло семь человек: Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей.
Оттуда мы увидели до странности притихшую толпу.
Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа, цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные.
И ни одной пары ясных глаз.
У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовских часов.
Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание — и все.
Перед толпой стоял военный оркестр. Он не играл.
Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе.
Мне показалось что вдали слышится барабанная дробь. Но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо.
— Как я рада, что мы в христианской стране, — прошептала мужу Хэзел Кросби, — не то я бы немножко испугалась.
За нашими спинами стоял ксилофон.
На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрусталя.
Буквы составляли слово: «МОНА».
С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами — военная помощь США республике Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен боа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали трезубые вилы.
Перед каждым самолетом стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал.
Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины «Папы» Монзано — блестящего черного «кадиллака». Машина остановилась перед нами, подымая пыль.
Из машины вышли «Папа» Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хониккер.
«Папа» повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо. Мотив был взят у популярной песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бойд Джонсон, то есть Боконон. Вот эти слова:
Расскажите вы мне
О счастливой стране,
Где мужчины храбрее акул,
А женщины все
Сияют в красе
И с дороги никто не свернул!
Сан, Сан-Лоренцо.
Приветствует добрых гостей!
Но земля задрожит,
Когда враг побежит
От набожных вольных людей!
И снова толпа застыла в мертвом молчании «Папа» с Моной и с Франком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда «Папа» ткнул пальцем в барабанщика.
На «Папе» поверх рубашки висела кобура. В ней был сверкающий кольт 45-го калибра. «Папа» был старый-престарый человек, как и многие члены моего карасса. Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими, шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но жир явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали.
Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хониккер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий, узкоплечий, походил на ребенка, которому не дали вовремя лечь спать. На груди у него сверкала медаль.
Я с трудом мог сосредоточить внимание на «Папе» и Франке — не потому, что их заслоняли, а потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга.
Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит творец ее душу, нежную, как топленые сливки, был мир и радость во веки веков.
Эта девочка — а ей было всего лет восемнадцать — сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В Книгах Боконона упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Боконона о ней: «Мона проста, как все сущее».
Платье на ней было белое — греческая туника.
На маленьких смуглых ногах — легкие сандалии.
Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос…
Бедра как лира…
О господи…
Мир и радость во веки веков.
Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, «Папа» удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества.
На край трибуны выкатили ксилофон. И Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня». Сплошное тремоло звучало, замирало и снова начинало звенеть.
Красота опьяняла толпу.
Но пора было «Папе» приветствовать нас.
65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо
«Папа» был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккэйба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.
Все наши выступления с трибуны передавались в толпу лаем огромных, словно на Страшном суде, рупоров.
Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клекотом возвращались обратно.
— Привет вам, — сказал «Папа». — Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. К Америке неправильно относятся во многих странах, но только не у нас, господин посол. — И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла.
— Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент, — сказал Кросби. — Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно…
— Да?
— Я не посол, — сказал Кросби. — Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант. — Ему было неприятно назвать настоящего посла: — Вот тот человек и есть важная шишка.
— Aгa! — «Папа» улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла.
Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль.
Фрэнк Хониккер неловко и неумело попытался поддержать его:
— Что с вами?
— Простите, — пробормотал наконец «Папа», пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и весь выпрямился: — Прошу прощения. — Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Минтону Хорлику: — Вы тут среди друзей.
— Я в этом уверен, — мягко сказал Минтон.
— Среди христиан, — сказал «Папа».
— Очень рад.
— Среди антикоммунистов, — сказал «Папа».
— Очень рад.
— Здесь коммунистов нет, — сказал «Папа». — Они слишком боятся крюка.
— Так я и думал, — сказал Минтон.
— Вы прибыли сюда в очень удачное время, — сказал «Папа». — Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник — День ста мучеников за демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хониккера с Моной Эймонс Монзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо.
— Желаю вам большого счастья, мисс Монзано, — горячо сказал Минтон. — И поздравляю вас, генерал Хониккер.
Молодая пара поблагодарила его поклоном.
И тут Минтон заговорил о так называемых ста мучениках за демократию и сказал вопиющую ложь:
— Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во второй мировой войне. Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок — дар американского народа народу Сан-Лоренцо.
— Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов и щедрый американский народ за внимание, — сказал «Папа». — Вы окажете нам большую честь, если сами опустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения.
— Великая честь для меня, — сказал Минтон. «Папа» пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню.
— Какие у них будут дети! — сказал «Папа», направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. — Какая кровь! Какая красота!
Тут его снова схватила боль.
Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучений.
Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.
В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе.
Он попытался что-то жестами показать толпе — и не смог. Он попытался что-то сказать им — и не смог.
Наконец он выдавил из себя слова.
— Ступайте домой! — крикнул он, задыхаясь. — Ступайте домой!
Толпа разлетелась, как сухие листья.
«Папа» обернулся к нам, нелепо корчась от боли…
И тут же упал.
Но он не умер.
Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по нему изредка не пробегала судорожная дрожь.
Фрэнк громко крикнул, что «Папа» не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии.
— «Папа», не умирайте! Не надо!
Фрэнк расстегнул воротник его куртки, стал растирать ему руки.
— Дайте ему воздуха! Воздуха «Папе»! — кричал он.
Летчики с истребителей побежали помочь нам. У одного из них хватило сообразительности побежать за «скорой помощью» аэропорта.
Я взглянул на Мону, увидел, что она, по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, ее это, вероятно, не встревожит.
Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял потным блаженством, и я объяснил это ее близостью.
«Папа» постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка:
— Вы… — начал он.
Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова.
Губы у него зашевелились, но мы ничего не услыхали, кроме какого-то клокотания.
У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей, — теперь, задним числом, видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему «Папе», чтобы усилить звук его голоса.
И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завыванья. Потом прорезались слова.
— Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хониккер, вы — будущий президент Сан-Лоренцо. Наука… У вас в руках наука. Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил «Папа», — лед… — Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание.
Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось.
Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали Почетную медаль конгресса за храбрость.
Я опустил глаза и увидал то, чего не надо было видеть.
Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой. И этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь башмак ногу летчика.
На этот раз «Папа» остался жив.
Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо.
Минтонов забрал в посольство американский лимузин.
Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо.
Чету Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренцском такси, похожем на катафалк «крейслере» с откидными сиденьями, образца 1939 года. На машине было написано: «Транспортное агентство Касл и Ко». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью.
И чета Кросби, и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Боконон. Их шокировала мысль, Что кто-то осмелился пойти против «Папы» Монзано.
А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие «сто мучеников за демократию».
Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренцского диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так: «Что за чертовщина и кто такой этот писсант Боконон?»
— Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес он это так: «Осень прохой черовека».
— Коммунист? — спросил Кросби, выслушав мой перевод.
— Да, да!
— А у него есть последователи?
— Как, сэр?
— Кто-нибудь считает, что он прав?
— О нет, сэр, — почтительно сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет.
— Почему же его не поймали? — спросил Кросби.
— Его трудно найти, — сказал шофер. — Очень хитрый.
— Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы.
— Никто не прячет, никто не кормит. Все умные, никто не смеет.
— Вы уверены?
— Да, уверен! — сказал шофер. — Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит — сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?
Последнее слово он произносил так: «Курюка».
Я спросил шофера, кто такие «сто мучеников за демократию». Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался — бульвар имени Ста мучеников за демократию.
Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор.
В Сан-Лоренцо было призвано сто человек — сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направлявшийся в США: там их должны были вооружить и обучить.
Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани.
— Эси рюди, сэр, — сказал шофер на своем диалекте, — и быри сито мусеники за зимокарасию.
— Эти люди, сэр, — означало по-английски, — и были «Сто мучеников за демократию».
Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение: мы были первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в «Каса Мона».
Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать.
— Распишитесь вы сперва, — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла.
Мозаика изображала Мону Эймонс Монзано. Портрет достигал в вышину футов двадцать. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк.
Он был белый человек.
Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шейкой Моны.
Кросби пошел фотографировать его; вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писсанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока:
«Ему ни черта сказать невозможно, сразу все выворачивает наизнанку».
Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал:
— Я вам завидую.
— Так я и знал, — вздохнул он, — знал, что, стоит мне только выждать, непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил — надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник.
— Вы — американец?
— Имею счастье. — Он продолжал работать, а взглянуть на меня, посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно: — А вы тоже хотите меня сфотографировать?
— Вы не возражаете?
— Я думаю — значит, существую, значит, могу быть сфотографирован.
— К несчастью, у меня нет с собой аппарата.
— Так пойдите за ним, черт подери. Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?
— Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду.
— Забудете, когда помрете, и я тоже забуду. Когда умру, я все забуду, чего и вам желаю.
— Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?
— Я работаю еще как.
— Что?
— Я работаю еще как. — Он постучал себя по виску. — Все тут, в моей достойной зависти башке.
— Вы ее знаете?
— Имею счастье.
— Фрэнк Хониккер счастливец.
— Френк Хониккер кусок дерьма.
— А вы человек откровенный.
— И к тому же богатый.
— Рад за вас.
— Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье.
— Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок.
— Какой?
— Хотел писать.
— Я тоже как-то написал книгу.
— Как она называлась?
— «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение»
— Значит, вы — Филипп Касл, сын Джулиана Касла, — сказал я художнику.
— Имею счастье.
— Я приехал повидать вашего отца.
— Вы продаете аспирин?
— Нет.
— Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть какое-нибудь чудодейственное зелье? Папаша любит делать чудеса.
— Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.
— А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?
— Сдаюсь. Признаю себя виновным.
— Отцу нужна какая-нибудь книга — читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверно, ничего такого не написали.
— Пока нет.
— Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет.
— Может, мне удалось бы переписать двадцать третий псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я.
— Боконон уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял, что ни слова изменить нельзя.
— Вы и его знаете?
— Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. — Он с нежностью кивнул на свою мозаику: — Мона тоже его ученица.
— А он был хороший учитель?
— Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, — сказал Касл, — вы ведь об этом спрашиваете?
71. Имею счастье быть американцем
Тут подошел Лоу Кросби — еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта.
— Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем?
— Я считаю себя боконистом.
— Но это же против законов этой страны?
— Я случайно имею счастье был американцем. Я называю себя боконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал.
— А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься.
— Это по вас видно.
Кросби побагровел:
— Иди ты в задницу, Джек!
— Сам иди туда, Джаспер, — мягко сказал Касл, — и все ваши праздники вместе с рождеством и Днем благодарения туда же.
Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал:
— Я желаю заявить на этого человека, на этого писсанта, на этого так называемого художника. У вас тут страна хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке, у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писсанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел.
Клерк позеленел:
— Сэр…
— Что скажете? — сказал Кросби, горя негодованием.
— Сэр, это же владелец отеля.
Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля «Каса Мона». Кросби обозвал его «писсантный Хилтон»[5] и потребовал приюта в американском посольстве.
И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат.
Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени Ста мучеников за демократию, на аэропорт Монзано и боливарскую гавань.
«Каса Мона» архитектурой походила на книжный шкаф — глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из сине-зеленого стекла. Город, с его нищетой и убожеством, не был виден: он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами «Каса Мона».
Моя комната была снабжена вентилятором. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я стал чихать.
На столике у кровати стояли свежие цветы, но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый новехонький поролоновый матрас. А в шкафу — ни одной вешалки, в уборной — ни клочка туалетной бумаги.
И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой и смутно доносились какие-то живые звуки.
Я подошел к этой двери и увидал большие апартаменты. Пол был закрыт мешковиной. Комнату красили, но, когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами.
Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг к другу.
И они прижимались друг к другу голыми пятками. Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником.
Я откашлялся…
Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки — и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют.
— Простите, — сказал я растерянно.
— Не говорите никому, — жалобно попросил один. — Прошу вас, никому не говорите.
— Про что?
— Про то, что видели.
— Я ничего не видел.
— Если скажете, — проговорил он, прижавшись щекой к полу, и умоляюще посмотрел на меня, — если скажете, мы умрем на ку-рю—ке…
— Послушайте, ребята, — сказал я, — то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но повторяю: я ничего не видел такого, о чем стоит рассказать. Прошу вас, встаньте! Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что я видел.
А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое боко-мару, или обмен познанием.
Мы, боконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками — конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, — люди непременно почувствуют взаимную любовь. Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо:
Пожмем друг другу пятки
И будем всех любить,
Любить как нашу Землю,
Где надо дружно жить.
Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писсант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате.
— Большое вам спасибо, — сказал я.
— Не за что.
— Вот это действительно гостеприимный отель, — сказал я. — Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей?
— А где еще найдешь отель с одним постояльцем?
— У вас их было трое.
— Незабвенное время…
— Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы?
Он недоуменно нахмурился:
— Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?
— Я знал некоторых людей в Школе обслуживания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому.
Он сокрушенно покачал головой.
— Знаю. Знаю. — Он вдруг хлопнул себя по бокам. — Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества. — Он покачал головой. — Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу — выбора не было.
— Кажется, вы выросли при отцовском госпитале?
— Верно. Мы с Моной оба выросли там.
— И вас никак не соблазняла мысль строить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?
Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа.
— Он чудак, мой отец, — сказал он. — Наверно, он вам понравится.
— Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много.
— Давно, когда мне было лет пятнадцать, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка «Папы» Монзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу.
Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил:
— А потом?
— Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?
— Меня миновало такое несчастье.
— Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута.
— Охотно верю.
— После смерти труп чернеет — правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша Обитель Надежды и Милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов: почти никого спасти не удалось.
Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком.
— Фу, черт! — сказал Касл. — Я и не знал, что телефоны уже включены.
Я поднял трубку:
— Алло?
Звонил генерал-майор Фрэнклин Хониккер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти:
— Слушайте! Немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно!
— Вы можете мне объяснить, в чем дело?
— Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне. Прошу вас!
— Хорошо.
— Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было… — И он повесил трубку.
— Что случилось? — спросил Филипп Касл.
— Понятия не имею. Фрэнк Хониккер хочет немедленно видеть меня.
— Не торопитесь. Отдохните. Он же идиот.
— Говорит, очень важное дело.
— Откуда он знает — что важно, что неважно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он.
— Ладно, рассказывайте дальше.
— На чем я остановился?
— На бубонной чуме. Бульдозер заело — столько было трупов.
— А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой — одни трупы.
И вдруг отец засмеялся, — продолжал Касл. — И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне?
— Нет.
— Сынок, — сказал мне мой отец, — когда-нибудь все это будет твоим.
Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо.
Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккэйб. Стало прохладнее. Поднялся туман.
Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.
Эймонс сам спроектировал этот дом.
Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, плывший над водой. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы переплета были закрыты по-разному то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины.
Казалось, что дом был выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя.
Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза.
Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня — сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке — полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать.
Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину. Анджела, сказал он, ушла поглядеть Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.
Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле.
Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины.
Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапины оплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешены здесь на просушку в безлунной ночи?
Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку.
Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада.
Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Палила пушка на боливарской набережной, объяснил мне дворецкий Фрэнка. Она стреляла ежедневно в пять часов.
Маленький Ньют заворочался.
Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.
— Привет, — сказал он сонным голосом.
— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.
— А вы видите, что на ней?
— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.
— Это же кошкина колыбель.
— Ага, — сказал я, — здорово. Царапины — это веревочка. Правильно?
— Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна.
— Да что вы!
— Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.
— Угу.
Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».
— Не удивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят…
— Ну и что?
— И никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!
75. Передайте привет доктору Швейцеру
А тут пришла Анджела Хониккер Коннерс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя Обители Надежды и Милосердия в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват. Он был очень худ. Он, как я полагаю, был святой.
Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной. Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот.
— Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера? — сказал я ему.
— На расстоянии. — Он осклабился, как убийца. — Никогда не встречал этого господина.
— Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем.
— То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?
— Нет.
— Собираетесь встретиться?
— Возможно, когда-нибудь и встречусь.
— Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой. — И он стал раскуривать длинную сигару.
Когда сигара хорошо раскурилась, он повел в мою сторону ее раскаленным кончиком.
— Можете ему сказать, что он не мой герой, — повторил он, — но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем.
— Думаю, что его это обрадует.
— А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело — мое и Христово.
76. Джулиан Касл соглашается с Ньютом, что все на свете — бессмыслица
Джулиан Касл и Анджела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину.
— Что вы скажете? — спросил я.
— Да тут все черно. Это что же такое — ад?
— Это то, что вы видите, — сказал Ньют.
— Значит, ад, — рявкнул Касл.
— А мне только что объяснили, что это «колыбель для кошки», — сказал я.
— Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл.
— Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет.
— Вы самоучка, а? — спросил Джулиан Касл у Ньюта.
— А разве мы все не самоучки? — спросил Ньют.
— Прекрасный ответ, — с уважением сказал Касл. Я взялся объяснить скрытый смысл «колыбели для кошки», так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку.
Касл серьезно наклонил голову:
— Значит, это картина о бессмысленности всего на свете? Совершенно согласен.
— Вы и вправду согласны? — спросил я. — Но вы только что говорили про Христа.
— Про кого?
— Про Иисуса Христа.
— А-а! — сказал Касл. — Про него! — Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное.
— Понятно. — Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова.
— Можете меня цитировать, — сказал он. — Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает. — Он наклонился и пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта: — Правильно?
Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает:
— Правильно.
И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке:
— Мусор, мусор, как и все на свете.
И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад.
Маленький Ньют промолчал.
Первой заговорила Анджела:
— У тебя все лицо в краске, детка. Поди умойся.
— Скажите, мне, доктор, — спросил я Джулиана Касла, — как здоровье «Папы» Монзано?
— А я почем знаю?
— Но я думал, что вы его лечите.
— Мы с ним не разговариваем, — усмехнулся Касл. — Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я — американский гражданин.
— Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа…
— «Папе» не нравится, как мы обращаемся с пациентами, — сказал Касл, — особенно, как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В Обители Надежды и Милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает, перед смертью по боконистскому ритуалу.
— А какой это ритуал?
— Очень простой. Умирающий начинает с повторения того, что говорится. Попробуйте повторить за мной.
— Но я еще не так близок к смерти.
Он жутко подмигнул мне:
— Правильно делаете, что осторожничаете. Умирающий, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверно, мы вас до этого не допустили бы — ведь пятками мы соприкасаться не станем.
— Пятками?
Он объяснил мне теорию Боконона насчет касания пятками.
— Теперь я понимаю, что я видел в отеле. — И я рассказал ему про двух маляров.
— А знаете, это действует, — сказал он. — Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему на свете.
— Гм-мм…
— Боко-мару.
— Простите?
— Так называют эту ножную церемонию, — сказал Касл. — Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действуют.
— Наверно, нет.
— Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и боко-мару.
— Я так понимаю, — сказал я, — что на острове еще множество боконистов, несмотря на закон, несмотря на «ку-рю-ку».
Он рассмеялся:
— Еще не разобрались?
— В чем это?
— Все до одного на Сан-Лоренцо истинные боконисты, несмотря на «ку-рю-ку».
— Когда Боконон и Маккэйб много лет назад завладели этой жалкой страной, — продолжал Джулиан Касл, — они выгнали всех попов. И Боконон, шутник и циник, изобрел новую религию.
— Слыхал, — сказал я.
— Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше.
— Как же случилось, что он оказался вне закона?
— Это он сам придумал. Он попросил Маккэйба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок. И Касл прочел стишок, которого нет в Книгах Боконона:
С правительством простился я,
Сказав им откровенно,
Что вера — разновидность
Государственной измены.
— Боконон и крюк придумал как самое подходящее наказание за боконизм, — сказал Касл. — Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо. — Касл жутко скривился и подмигнул: — Тоже для острастки.
— И многие погибли на крюке?
— Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккэйб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боконистовы, то есть всего народа.
А Боконон уютно скрывался в джунглях, — продолжал Касл, — там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносили его последователи.
Маккэйб собирал безработных, а безработными были почти все, и организовывал огромные облавы на Боконона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Боконон окружен стальным кольцом и кольцо это безжалостно смыкается.
Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккэйбу, что Боконону удалось невозможное.
Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес!
79. Почему Маккэйб огрубел душой
— Маккэйбу и Боконону не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой.
Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом: каждый играл свою роль в спектакле — и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать.
— Значит, жизнь стала произведением искусства! — восхитился я.
— Да. Но тут возникла одна помеха.
— Какая?
— Вся драма ожесточила души обоих главных актеров — Маккэйба и Боконона. В молодости они очень походили друг на друга, оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами.
Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Бокононовой души и ангельская половина души Маккэйба ссохлись и отпали. И оба, Маккэйб и Боконон, заплатили жестокой мукой за счастье народа: Маккэйб познал муки тирана, Боконон — мучения святого. Оба, по существу, спятили с ума.
Касл согнул указательный палец левой руки крючком:
— Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на «ку-рю-ку».
— Но Боконона так и не поймали? — спросил я.
— Нет, у Маккэйба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать и сам он превратится в бессмыслицу. «Папа» Монзано тоже это понимает.
— Неужто люди до сих пор умирают на крюке?
— Это неизбежный исход.
— Нет, я спрашиваю, неужели «Папа» и в самом деле казнит людей таким способом?
— Он казнит кого-нибудь раз в два года — так сказать, чтобы каша не остывала. — Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо: — Дела, дела, дела…
— Как?
— Так мы, боконисты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное.
— Как, и вы? — Я был потрясен. — Вы тоже боконист?
Он спокойно поднял на меня глаза.
— И вы тоже. Скоро вы это поймете.
Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. О Фрэнке не было ни слуху ни духу.
И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем.
После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца:
— Он отдал им так много, а они дали ему так мало.
Я стал добиваться — в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр.
— Всеобщая сталелитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, — сказала Анджела, — и такую же сумму платили за любой патент. — Она грустно покачала головой: — Сорок пять долларов, а только подумать, какие это были патенты!
— Угу, — сказал я. — Но я полагаю, он и жалованье получал.
— Самое большее, что он зарабатывал — это двадцать восемь тысяч долларов в год.
— Я бы сказал, не так уж плохо.
Она вся вспыхнула:
— А вы знаете, сколько получают кинозвезды?
— Иногда порядочно.
— А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец?
— Это, конечно, большая несправедливость.
— Мне осточертела несправедливость.
Голос у нее стал таким истерически-крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла: как он думает, что сталось с картиной Ньюта, брошенной в водопад?
— Там, внизу, есть маленькая деревушка, — сказал мне Касл, — не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился «Папа» Монзано. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада.
— Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке? — спросил я.
— Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили, — сказал Касл. — В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. Четыре квадратных фута проклеенного холста, четыре обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-пренищего человека.
— Просто визжать хочется, — сказала Анджела, — как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу — а сколько он им давал!
Видно было, что сейчас она заплачет.
— Не плачь, — ласково попросил Ньют.
— Трудно удержаться, — сказала она.
— Пойди поиграй на кларнете, — настаивал Ньют. — Это тебе всегда помогает.
Мне показалось, что такой совет довольно смешон. Но по реакции Анджелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу.
— В таком настроении, — сказала она мне и Каслу, — только это иногда и помогает.
Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана.
— Она правда замечательно играет, — пообещал нам Ньют.
— Очень хочется вас послушать, — сказал Касл.
— Хорошо, — сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь. — Хорошо, я вам сыграю.
Когда она вышла, Ньют извинился за нее:
— Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть.
— Она, должно быть, болела? — спросил я.
— Муж у нее скотина, — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннерса, президента компании «Фабри-Тек». — Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой.
— А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, — сказал я.
Маленький Ньют расставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы:
— Кошку видали? Колыбельку видали?
81. Белая невеста для сына проводника спальных вагонов
Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хониккер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит.
Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал той глубины, той силы, той почти невыносимой красоты этой патологии.
Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента.
Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид: когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку.
Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки.
Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, и играл Мид Люкс Льюис.
Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 г., — читал я. — Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. „Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо“. Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно, — тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, — читал я дальше, — то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под названием „Тук-тук-тук вагончики“».
Я поднял голову. Первый помер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз „Дракон“».
Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло — и тут вступила Анджела Хониккер.
Глаза у нее закрылись.
Я был потрясен.
Она играла блестяще.
Она импровизировала под музыку сына проводника; она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссандо, вели из рая в ад через все, что лежит между ними.
Так играть могла только шизофреничка или одержимая.
Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древневавилонски.
Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками:
— Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?
— А вы и не старайтесь, — сказал Касл. — Просто сделайте вид, что вы все понимаете.
— Это очень хороший совет. — Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок:
Тигру надо жрать,
Порхать-пичужкам всем,
А человеку-спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»
Но тиграм время спать,
Птенцам-лететь обратно,
А человеку — утверждать,
Что все ему понятно.
— Это откуда же? — спросил я.
— Откуда же, как не из Книг Боконона.
— Очень хотелось бы достать экземпляр.
— Их нигде не достать, — сказал Касл. — Книги не печатались. Их переписывают от руки. И конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Боконон каждый день добавляет еще что-то.
Маленький Ньют фыркнул:
— Религия!
— Простите? — сказал Касл.
— Кошку видали? Колыбельку видали?
Генерал-майор Фрэнклин Хониккер к ужину не явился.
Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я, и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели «Папы» и что «Папа» умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко.
— Слушайте, — сказал я, — а почему бы мне не вернуться в отель, а потом, когда все кончится, мы с вами могли бы встретиться.
— Нет, нет, нет. Не уходите никуда. Надо, чтобы вы были там, где я сразу смогу вас поймать. — Видно было, что он ужасно боится выпустить меня из рук. И оттого, что мне было непонятно, почему он так интересуется мной, мне тоже стало жутковато.
— А вы не можете объяснить, зачем вам надо меня видеть? — спросил я.
— Только не по телефону.
— Это насчет вашего отца?
— Насчет вас.
— Насчет того, что я сделал?
— Насчет того, что вам надо сделать.
Я услышал, как где-то там, у Фрэнка, закудахтала курица. Услышал, как там открылись двери и откуда-то донеслась музыка — заиграли на ксилофоне. Опять играли «На склоне дня». Потом двери закрылись, и музыки я больше не слыхал.
— Я был бы очень благодарен, если бы вы мне хоть намекнули, чего вы от меня ждете, надо же мне как-то подготовиться, — сказал я.
— За-ма-ки-бо.
— Что такое?
— Это боконистское слово.
— Никаких боконистских слов я не знаю.
— Джулиан Касл там?
— Да.
— Спросите его, — сказал Фрэнк. — Мне надо идти. — И он повесил трубку.
Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит за-ма-ки-бо.
— Хотите простой ответ или подробное разъяснение?
— Давайте начнем с простого.
— Судьба, — сказал он. — Неумолимый рок.
83. Доктор Шлихтер Фон Кенигсвальд приближается к точке равновесия
— Рак, — сказал Джулиан Касл, когда я ему сообщил, что «Папа» умирает в мучениях.
— Рак чего?
— Чуть ли не всего. Вы сказали, что он упал в обморок на трибуне?
— Ну конечно, — сказала Анджела.
— Это от наркотиков, — заявил Касл. — Он сейчас дошел до той точки, когда наркотики и боли примерно уравновешиваются. Увеличить долю наркотиков — значит убить его.
— Наверно, я когда-нибудь покончу с собой, — пробормотал Ньют. Он сидел на чем-то вроде высокого складного кресла, которое он брал с собой в гости. Кресло было сделано из алюминиевых трубок и парусины. — Лучше, чем подкладывать словарь, атлас и телефонный справочник, — сказал Ньют, расставляя кресло.
— А капрал Маккэйб так и сделал, — сказал Касл. — Назначил своего дворецкого себе в преемники и застрелился.
— Тоже рак? — спросил я.
— Не уверен. Скорее всего, нет. По-моему, он просто извелся от бесчисленных злодеяний. Впрочем, все это было до меня.
— До чего веселый разговор! — сказала Анджела.
— Думаю, все согласятся, что время сейчас веселое, — сказал Касл.
— Знаете что, — сказал я ему, — по-моему, у вас есть больше оснований веселиться, чем у кого бы то ни было, вы столько добра делаете.
— Знаете, а у меня когда-то была своя яхта.
— При чем тут это?
— У владельца яхты тоже больше оснований веселиться, чем у многих других.
— Кто же лечит «Папу», если не вы? — спросил я.
— Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.
— Немец?
— Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях. Шесть лет он был лагерным врачом в Освенциме.
— Искупает, что ли, свою вину в Обители Надежды и Милосердия?
— Да, — сказал Касл. — И делает большие успехи, спасает жизнь направо и налево.
— Молодец.
— Да, — сказал Касл. — Если он будет продолжать такими темпами, то число спасенных им людей сравняется с числом убитых им же примерно к три тысячи десятому году.
Так в мой карасе вошел еще один человек, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.
Прошло три часа после ужина, а Фрэнк все еще не вернулся. Джулиан Касл попрощался с нами и ушел в Обитель Надежды и Милосердия.
Анджела, Ньют и я сидели на висячей террасе. Мягко светились внизу огни Боливара. Над административным зданием аэропорта «Монзано» высился огромный сияющий крест. Его медленно вращал какой-то механизм, распространяя электрифицированную благодать на все четыре стороны света.
На северной стороне острова находилось еще несколько ярко освещенных мест. Но горы заслоняли все, и только отсвет озарял небо. Я попросил Стэнли, дворецкого Фрэнка, объяснить мне, откуда идет это зарево.
Он назвал источник света, водя пальцем против часовой стрелки:
— Обитель Надежды и Милосердия в джунглях, дворец «Папы» и форт Иисус.
— Форт Иисус?
— Учебный лагерь для наших солдат.
— И его назвали в честь Иисуса Христа?
— Конечно. А что тут такого?
Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам.
Это подъезжал патруль.
Патруль состоял из пяти американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий.
Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин. Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вышел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит.
— Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо, — сказал офицер на местном диалекте.
— А его тут нет, — сообщил я ему.
— Ничего не знаю, — сказал он. — Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно.
Я сообщил об этом Анджеле и Ньюту.
— Как по-вашему, ему действительно грозит опасность? — спросила меня Анджела.
— Я здесь человек посторонний, — сказал я. В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет.
Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою за-ма-ки-бо.
От того у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни.
Мне снова вспомнился мраморный ангел в Илиуме.
И я стал прислушиваться к солдатам в саду, их стуку, звяканью и бормотанью.
Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анджелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец. Но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе.
— Отец никогда о нем не вспоминал, — сказала Анджела.
— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют.
Как они мне рассказали, у старика еще была сестра. Ее звали Селия. Она выводила огромных шнауцеров на Шелтер-Айленде, в штате Нью-Йорк.
— До сих пор посылает нам открытки к рождеству, — сказала Анджела.
— С изображением огромного шнауцера, — сказал маленький Ньют.
— Правда, странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье? — заметила Анджела.
— Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра Книг Боконона.
Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Потом проворчал, что Книги Боконона — гадость. Потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконона, надо повесить на крюке. А потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка.
Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню, на свою каменную лежанку с поролоновым матрасом.
Оглавления в книге не было, так что искать значение слова за-ма-ки-бо было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел.
Кое-что я все же узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с бокононовской космогонией, где Борасизи—Солнце обнимал Пабу—Луну в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца.
Но бедная Пабу рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и Борасизи с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии.
А вскоре несчастную Пабу тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке — Земле. Земля была любимицей Луны-Пабу, — потому что на Земле жили люди, они смотрели на Пабу, любовались ею, жалели ее.
Что же думал сам Боконон о своей космогонии?
— Фо’ма! Ложь, — писал он. — Сплошная фо’ма!
Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверно, поспал — иначе как мог бы меня разбудить грохот и потоки света?
Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся с веранды в дом с безмозглым рвением пожарного — добровольца.
И тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постелей.
Мы с ходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный лязг и постепенно различая звук радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса; все это вернул к жизни включенный электрический ток.
Мы все трое уже настолько проснулись, что могли понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио.
Мы все трое рассмеялись.
И тут мы наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми лучшими знатоками человеческих слабостей с самым большим чувством юмора.
Ньют опередил нас всех: он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и наручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил.
Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анджелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые, серые с красным термосики, чашки на три кофе.
Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках.
Но им не пришлось давать объяснения, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидел Фрэнка Хониккера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик.
От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил. Фрэнк пытался его наладить.
Рядом с ним стояла божественная Мона. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда.
— Слушайте, ну и новость я вам скажу! — закричал мне Фрэнк и пошел в дом, а мы — за ним.
Анджела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы.
А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хониккера, часть вампитера для моего карасса — кусочки льда-девять.
Фрэнк отвел меня в сторону:
— Вы совсем проснулись?
— Как будто и не спал.
— Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить.
— Я вас слушаю.
— Давайте отойдем. — Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. — Мы позовем тебя, когда понадобится.
Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней.
Фрэнк Хониккер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путано, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то, в армии, я слышал выражение: разговаривает, будто у него кишка бумажная. Вот так и разговаривал генерал-майор Хониккер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрытничал, разыгрывая тайнго агента Икс-9.
Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы, вроде «вы же свой в доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной».
И он отвел меня в свою, как он сказал, «берлогу», чтобы там «назвать кошку кошкой», а потом «пуститься по воле волн».
И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три светлых голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках.
Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору.
Но самым потрясающим в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесным цветом — глина, земля, уголь — первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не саблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них.
На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Монзано в раннем детстве.
— Значит, тут… тут и работал отец Моны? — спросил я.
— Да, конечно. Он тот самый финн, который построил Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.
— Знаю.
— Но я привел вас сюда не для разговора о нем.
— Вы хотите поговорить о вашем отце?
— Нет, о вас. — Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб.
— Ну, выкладывайте все сразу.
— Да, вола вертеть нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы — свой в доску.
— Спасибо.
— По-моему, мы с вами поладим.
— Не сомневаюсь.
— У нас у обоих есть за что зацепиться.
Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого.
— Мы нужны друг другу. — И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи.
Я промолчал, хотя сделал дружественную мину.
— Вы меня поняли? — спросил Фрэнк.
— Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?
— Правильно! — Фрэнк захлопал в ладоши. — Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я техник, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.
— Почем вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились.
— По вашей одежде, по разговору. — Он снова положил мне руку на плечо. — Вы — свой в доску.
— Вы уже это говорили.
Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит.
— Как я понимаю, вы… вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо?
Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге:
— Правильно. Что вы скажете о ста тысячах долларов в год?
— Черт подери! — воскликнул я. — А что мне придется делать?
— Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце.
— Что же это за должность?
— Президент республики Сан-Лоренцо.
88. Почему Фрэнк не может быть президентом
— Мне? Стать президентом?
— А кому же еще?
— Чушь!
— Не отказывайтесь, сначала хорошенько подумайте! — Фрэнк смотрел на меня с тревогой.
— Нет! Нет!
— Вы же не успели подумать!
— Я успел понять, что это бред.
Фрэнк снова сцепил пальцы:
— Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал.
— Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите?
— Запульнут?
— Ну пристрелят. Убьют.
Фрэнк был огорошен:
— А кому понадобится вас убивать?
— Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо.
Фрэнк покачал головой.
— Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать президентом, — утешил он меня. — Это против их религии.
— И против вашей тоже? Я думал, что вы станете тут президентом.
— Я… — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный.
— Что вы? — спросил я.
Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру.
— Зрелость, как я понимаю, — начал он, — это способность осознавать предел своих возможностей.
Он был близок к бокононовскому определению зрелости. «Зрелость, — учит нас Боконон, — это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете».
— Я свою ограниченность понимаю, — сказал Фрэнк. — Мой отец страдал от того же.
— Вот как?
— Замыслов, и очень хороших, у меня много, как было и у отца, — доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк, — но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею.
— Ну как, возьмете это место? — взволнованно спросил Фрэнк.
— Нет, — сказал я.
— А не знаете, кто бы за это взялся?
Фрэнк был классическим примером того, что Боконон зовет пуфф… А пуфф в бокононовском смысле означает судьбу тысячи людей, доверенную дурре. А дурра — значит ребенок, заблудившийся во мгле.
Я расхохотался.
— Вам смешно?
— Не обращайте внимания, если я вдруг начинаю смеяться, — попросил я. — Это у меня такой бзик.
— Вы надо мной смеетесь?
Я потряс головой:
— Нет!
— Честное слово?
— Честное слово.
— Надо мной вечно все смеялись.
— Наверно, вам просто казалось.
— Нет, мне вслед кричали всякие слова, а уж это мне не могло казаться.
— Иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла, — сказал я ему. Впрочем, поручиться за это я не мог бы.
— А знаете, что они мне кричали вслед?
— Нет.
— Они кричали: «Эй, Икс-девять, ты куда идешь?»
— Ну, тут ничего плохого нет.
— Они меня так дразнили. — Фрэнк помрачнел при этом воспоминании: — «Тайный агент Икс-девять».
Я не сказал ему, что уже слышал об этом.
— «Ты куда идешь, Икс-девять»? — снова повторил Фрэнк.
Я представил себе этих задир, представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба. Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места в сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании…
А тут, передо мной, честью клянусь, стоял тайный агент Икс-9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем… Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.
— Они бы здорово удивились, скажи я им, куда я иду.
— Вы хотите сказать, что у вас было предчувствие, до чего вы дойдете? — Мой вопрос был бокононовским вопросом.
— Нет, я просто шел в «Уголок любителя» к Джеку, — сказал он, отведя мой вопрос.
— И только-то?
— Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились — особенно девчонки, — если бы знали, что там на самом деле происходит. Девчонки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.
— А что же там на самом деле происходило?
— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.
Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания:
— Слушайте. Будьте президентом Сан-Лоренцо. Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну пожалуйста.
И ночной час, и пещера, и водопад, и мраморный ангел в Илиуме…
И 250 тысяч сигарет, и три тысячи литров спиртного, и две жены, и ни одной жены…
И нигде не ждет меня любовь.
И унылая жизнь чернильной крысы…
И Пабу—Луна, и Борасизи—Солнце, и их дети.
Все как будто сговорились создать единый космический рок — вин-дит, один мощный толчок к боконизму, к вере в то, что творец ведет мою жизнь и что он нашел для меня дело.
И я внутренне саронгировал, то есть поддался кажущимся требованиям моего вин-дита.
И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо.
Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений.
— Но, наверно, тут есть какая-то загвоздка, — настаивал я.
— Нет.
— А выборы будут?
— Никаких выборов никогда не было. Мы просто объявим, кто стал президентом.
— И никто возражать не станет?
— Никто ни на что не возражает. Им безразлично. Им все равно.
— Но должна же быть какая-то загвоздка.
— Да, что-то в этом роде есть, — сознался Фрэнк.
— Так я и знал! — Я уже открещивался от своего вин-дита. — Что именно? В чем загвоздка?
— Да нет, в сущности, никакой загвоздки нет, если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово…
— Что было бы «очень здорово»?
— Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.
— И она пошла бы за меня?!
— Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.
— Но почему она непременно скажет «да»?
— Потому что в Книгах Боконона предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо, — сказал Фрэнк.
Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем.
Сначала нам трудно было разговаривать. Я оробел. Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона. «Перси ее как плоды граната», или как это там сказано, но на самом деле просто юная женская грудь.
Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ноготков и тоненьких золотых сандалий.
— Как… как вы себя чувствуете? — спросил я. Сердце мое бешено колотилось. В ушах стучала кровь.
— Ошибку сделать невозможно, — уверила она меня. Я не знал, что боконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека. И я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.
— О господи, вы и не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал. Перед вами — чемпион мира по ошибкам, — лопотал я. — А вы знаете, что Фрэнк сейчас сказал мне?
— Про меня?
— Про все, но особенно про вас.
— Он сказал, что я буду вашей, если вы заботите?
— Да.
— Это правда.
— Я… Я… Я…
— Что?
— Не знаю, что сказать…
— Боко-мару поможет, — предложила она.
— Как?
— Снимайте башмаки! — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.
Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой.
И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии.
Я попытался развязать шнурки на ботинках. Хуже меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затянул еще крепче.
Я сломал ноготь об узел и в конце концов стянул башмак не развязывая.
Потом я сорвал с себя носки.
Мона уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза.
И я должен был совершить впервые… впервые, в первый раз… господи боже мой…
Боко-мару.
92. Поэт воспевает свое первое боко-мару
Это сочинил не Боконон.
Это сочинил я.
Светлый призрак,
Невидимый дух — чего?
Это я,
Душа моя.
Дух, томимый любовью…
Давно
Одинокий…
Так давно…
Встретишь ли душу другую,
Родную?
Долго вел я тебя,
Душа моя,
Ложным путем
К встрече
Двух душ.
И вот душа
Ушла в пятки.
Теперь
Все в порядке.
Светлую душу другую
Нежно люблю,
Целую…
М-мм-ммм-ммммм-ммм.
93. Как я чуть не потерял мою Мону
— Теперь тебе легче говорить со мной? — спросила Мона.
— Будто мы с тобой тысячу лет знакомы, — сознался я. Мне хотелось плакать. — Люблю тебя, Мона!
— И я люблю тебя. — Она сказала эти слова совсем просто.
— Ну и дурак этот Фрэнк.
— Почему?
— Отказался от тебя.
— Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что «Папа» так захотел. Он любит другую.
— Кого?
— Одну женщину в Илиуме.
Этой счастливицей, наверно, была жена Джека, владельца «Уголка любителя».
— Он сам тебе сказал?
— Сказал сегодня, когда вернул мне слово, и сказал, чтобы я вышла за тебя.
— Мона…
— Да?
— У тебя… у тебя есть еще кто-нибудь?
Мона очень удивилась.
— Да. Много, — сказала она наконец.
— Ты любишь многих?
— Я всех люблю.
— Как… Так же, как меня?
— Да. — Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.
Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.
— И ты, наверно… ты выполняешь… ты делаешь то, что мы сейчас делали… с теми… с другими?
— Боко-мару?
— Боко-мару.
— Конечно.
— С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, — заявил я.
Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.
— Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.
— Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.
Она испуганно уставилась на меня:
— Ты — син-ват.
— Что ты сказала?
— Ты — син-ват! — крикнула она. — Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо!
— Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно.
Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял кад ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу.
Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было.
И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать.
Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать вертикальному боко-мару с летчиком в день моего приезда на трибуне.
— Больше ты с ним встречаться не должна, — сказал я ей. — Как его зовут?
— Я даже не знаю, — прошептала она. Она опустила глаза.
— А с молодым Филиппом Каслом?
— Ты про боко-мару?
— И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?
— Да.
— Боконон учил вас обоих?
— Да. — При этом воспоминании она снова просветлела.
— И в те дни вы боко-марничали вовсю?
— О да! — счастливым голосом сказала она.
— Больше ты с ним тоже не должна видеться. Тебе ясно?
— Нет.
— Нет?
— Я не выйду замуж за син-вата. — Она встала. — Прощай!
— Как это «прощай»? — Я был потрясен.
— Боконон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?
— У… У меня нет религии.
— А у меня есть!
Тут моя власть кончилась.
— Вижу, что есть, — сказал я.
— Прощай, человек без религии. — Она пошла к каменной лестнице.
— Мона!
Она остановилась:
— Что?
— Могу я принять твою веру, если захочу?
— Конечно.
— Я очень хочу.
— Прекрасно. Я тебя люблю.
— А я люблю тебя, — вздохнул я.
Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире.
Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо.
«Папа» еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение «Папы». И когда взошло солнце—Борасизи, мы с Фрэнком поехали во дворец «Папы» на джипе, реквизированном у войска, охранявшего будущего президента.
Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном.
И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря.
В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова — горы Маккэйб.
Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины.
По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб.
Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккэйб.
— А с виду туда не так уж трудно добраться, — добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты. Да и сам каменный бугор, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами.
— Священная она, эта гора, что ли? — спросил я.
— Может, когда-нибудь и считалась священной. Но после Боконона — нет.
— Почему же никто на нее не восходил?
— Никому не хотелось.
— Может, я туда полезу.
— Валяйте. Никто вас не держит.
Мы ехали молча.
— Но что вообще священно для боконистов? — помолчав, спросил я.
— Во всяком случае, насколько я знаю, даже не бог.
— Значит, ничего?
— Только одно.
Я попробовал угадать:
— Океан? Солнце?
— Человек, — сказал Фрэнк. — Вот и все. Просто человек.
Наконец мы подъехали к замку.
Он был приземистый, черный, страшный.
Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы.
Парапет северной стороны нависал над краем чудовищной пропасти в шестьсот футов глубиной, падавшей прямо в тепловатое море.
При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад: как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни?
И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос: слепой страх двигал этими гигантскими камнями.
Замок был выстроен по желанию Тум-бумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тум-бумва строил его по картинке из детской книжки.
Мрачноватая, наверно, была книжица.
Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной.
С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись.
«Этот крюк, — гласила надпись, — предназначен для Боконона лично».
Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль: если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву!
И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем и что мой народ будет процветать.
Фата-моргана.
Мираж!
96. Колокольчик, книга и курица в картоне
Мы с Франком не сразу попали к «Папе». Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать.
И мы с Фрэнком остались ждать в приемной «Папиных» покоев, большой комнате без окон. В ней было тридцать квадратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор.
Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было.
Однако в стену были вделаны железные кольца, на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов в шесть друг от друга.
Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток.
Фрэнк сказал: да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок.
В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать «Папе» духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника.
Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смирно, сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством.
Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана[6], в честь органной трубы, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стесенения, ему неизвестен.
Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица и нож, насколько я знаю христианство, для меня в новинку.
— Колокольчик еще можно понять, — добавил я. Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан «Университетом западного полушария по изучению Библии» в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале «Попьюлер меканикс», рассказал он мне. Он еще добавил, что девиз университета стал и его девизом и что этим объясняется и курнца и нож. А девиз звучал так: «Претвори религию в жизнь!»
Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм и протестантизм были запрещены вместе с боконизмом.
— И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое.
— Есери хоцу бити киристиани, — сказал он на ихнем диалекте, — пириходица пиридумари читото ново.
Тут из покоев «Папы» к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый.
— Можете зайти к «Папе», — сказал он.
— Мы постараемся его не утомлять, — обещал Фрэнк.
— Если бы вы могли его прикончить, — сказал фон Кеннсгвальд, — он, по-моему, был бы вам благодарен.
«Папа» Монзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки: руль, уключины, канаты — словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконона «Туфелька» на этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Боконон с капралом Маккэйбом.
Стены спальни были белые. Но «Папа» пылал таким мучительным жаром, что, казалось, от его страданий стены накалились докрасна.
Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру.
На шее у «Папы» висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок льда-девять.
«Папа» еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось.
Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки.
Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания «Папы».
— «Папа», — прошептал Фрэнк.
— Прощай! — прохрипел «Папа», выкатив незрячие глаза.
— Я привел друга.
— Прощай!
— Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.
— Лед! — простонал «Папа».
— Все просит льда, — сказал фон Кеннгсвальд, — а принесут лед, он отказывается.
«Папа» завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею.
— Все равно, — начал он, — кто будет президентом…
Он не договорил.
Я договорил за него:
— …Сан-Лоренцо.
— Сан-Лоренцо, — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку: — Желаю удачи! — прокаркал он.
— Благодарю вас, сэр!
— Не стоит! Боконон! Поймайте Боконона!
Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что, на радость людям, Боконона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать.
— Хорошо, — сказал я.
— Скажите ему…
Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно «Папа» хочет передать Боконону.
— Скажите: жалко, что я его не убил, — сказал «Папа». — Вы убейте его.
— Слушаюсь, сэр.
«Папа» настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно:
— Я вам серьезно говорю.
На это я ничего не ответил. Никого убивать мне не хотелось.
— Он учит людей лжи, лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде.
— Слушаюсь, сэр.
— Вы с Хониккером обучите их наукам.
— Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я.
— Наука — это колдовство, которое действует.
Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал:
— Последнее напутствие!
Фон Кенисгвальд позвал доктора Вокс Гуману. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал.
«Папа» открыл один глаз.
— Не ты! — оскалился он на доктора. — Убирайся!
— Сэр? — переспросил доктор Гумана.
— Я исповедую боконистскую веру! — просипел «Папа». — Убирайся, вонючий церковник.
Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по бокононовскому ритуалу.
Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над «Папой». Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно — слишком близко был крюк и каменный мешок.
Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл.
— А вы тоже боконист? — спросил я.
— Я согласен с одной мыслью Боконона. Я согласен, что все религии, включая и боконизм — сплошная ложь.
— Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнить такой ритуал?
— Я — прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет.
И он залез в золотую шлюпку к «Папе». Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку.
Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись «Папины» голые ступни. Доктор приложил свои ступни к «Папиным», приняв позу боко-мару.
— Пок состал клину, — проворковал доктор фон Кенигсвальд.
— Боса сосидара гирину, — повторил «Папа» Монзано.
На самом деле они оба сказали, каждый по-своему: «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.
— Богу стало скучно, — сказал фон Кенигсвальд.
— Богу стало скучно.
— И бог сказал комку глины: «Сядь!»
— И бог сказал комку глины: «Сядь!»
— Взгляни, что я сотворил, — сказал бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.
— Взгляни, что я сотворил, — сказал бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.
— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.
— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.
— Счастливец я, счастливый комок.
— Счастливец я, счастливый комок. — По лицу «Папы» текли слезы.
— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог!
— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог!
— Чудная работа, бог!
— Чудная работа, бог, — повторил «Папа» от всего сердца.
— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!
— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!
— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.
— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.
— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.
— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.
— Мне дано так много, а остальной глине так мало.
— Мне дано так много, а остальной глине так мало.
— Плакотарю тепя са шесть! — воскликнул доктор фон Кенигсвальд.
— Благодару тебя за сести! — просипел «Папа» Монзано.
На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь!»
— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.
— Сколько воспоминаний у этого комка!
— Сколько воспоминаний у этого комка!
— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!
— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!
— Я любил все, что я видел.
— Я любил все, что я видел.
— Доброй ночи!
— Доброй ночи!
— Теперь я попаду на небо!
— Теперь я попаду на небо!
— Жду не дождусь…
— Жду не дождусь…
— …узнать точно, какой у меня вампитер…
— …узнать точно, какой у меня вампитер…
— …и кто был в моем карассе…
— …и кто был в моем карассе…
— …и сколько добра мой карасс сделал ради тебя.
— …и сколько добра мой карасс сделал ради тебя.
— Аминь.
— Аминь.
100. И Фрэнк полетел в каменный мешок
Но «Папа» еще не умер и на небо попал не сразу.
Я спросил Франка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.
— Я думал, вы меня поддержите, — жалобно сказал я.
— Да, во всем, что касается техники. — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы.
— Понимаю.
— Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично — это дело ваше.
Резкий отказ Франка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически:
— Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокоторжественный день?
Ответ я получил чисто технический:
— Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.
— Прекрасно! Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа.
Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь:
— Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.
— Вот это-то мне и нужно — светлая жизнь.
— Рад стараться, сэр! — Фрэнк снова отдал честь.
— А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука?
Фрэнк снова ответил деревянным голосом:
— В час дня сегодня, сэр, все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти «Ста мучеников за демократию». Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок.
Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.
— Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка.
— Вы хозяин, сэр.
— Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. — Потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.
— Вы хозяин, сэр. — Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху.
И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец: получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.
101. Как и мои предшественники, я объявляю Боконона вне закона
И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки — только стол и стул. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная. В ней была надежда. В ней было смирение. И я понял: невозможно обойтись без божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть.
Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил. Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Боконона.
Теперь о Бокононе.
Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и, таким образом, устроить что-то вроде Золотого века для моего народа. И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца.
Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать, а всего этого ни я, ни Боконон дать не могли.
Значит, добро и зло придется снова держать отдельно: зло — во дворце, добро — в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу.
В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать.
И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я вошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое тепловатое море.
Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю сто девятнадцатое калипсо Боконона, где он просит нас спеть с ним вместе:
«Где вы, где вы, старые дружки?» —
Плакал грустный человек.
Я ему тихонько на ухо шепнул:
«Все они ушли навек!»
Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хэзел, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хониккер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннерс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хониккер и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо.
Умерли, почти все они теперь умерли…
Как говорит нам Боконон, «слова прощания никогда не могут быть ошибкой».
На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами: жареные колибри в мундирчиках, сделанных из их собственных бирюзовых перышек, лиловатые крабы — их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные акулы, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках.
Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение.
Из напитков предлагалось два, оба без льда: пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность.
Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах.
— Ацетон, — сказал он.
— Ацетон?
— Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов.
Ром я пить не стал.
Посол Минтон, с видом дипломатическим и гурманским, неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик — я никогда раньше такого не видал.
С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам.
Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело: взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал спуск, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы: они были установлены на плотах, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры.
В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо.
Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади и спереди мишени.
Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня.
— А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты.
— О да. В молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть.
— Полагаю, что вы сделали правильный выбор.
— Я молился об указаниях свыше.
— И вы их получили.
Лоу Кросби передал бинокль жене.
— Вон там Гитлер, — восторженно захихикала Хэзел. — А вот старик Муссолини и тот, косоглазый. А вон там император Вильгельм в каске! — ворковала Хэзел. — Ой, смотри, кто там! Вот уж кого не ожидала видеть. Ох и влепят ему! Ох и влепят ему, на всю жизнь запомнит! Нет, это они чудно придумали.
— Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы! — объявил Лоу Кросби.
103. Врачебное заключение о последствиях забастовки писателей
Никто из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти «Папа». Фрэнк официально сообщил, что «Папа» спокойно отдыхает и что «Папа» шлет всем наилучшие пожелания.
Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начнется с того, что посол Минтон пустит по волнам венок в честь Ста мучеников, затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов.
Он умолчал о том, что после его речи возьму слово я. Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным гранфаллонством.
— Привет, мамуля! — сказал я Хэзел.
— О, да это же мой сыночек! — Хэзел заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим: — Этот юноша из хужеров!
Оба Касла — и отец и сын — стояли в сторонке от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце «Папы», и теперь им было любопытно, зачем их пригласили.
Молодой Касл назвал меня хватом:
— Здорово, Хват! Что нового нахватали для литературы?
— Это я и вас могу спросить.
— Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня?
— Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция.
— Или профессора университетов.
— Или профессора университетов, — согласился я. И покачал головой. — Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям.
— А мне все думается — вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилась ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения…
— А вы бы радовались, если бы люди перемерли как мухи? — спросил я.
— Нет, они бы скорее перемерли как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекусали собственные хвосты.
Я обратился к Каслу-старшему:
— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?
— Не от одного, так от другого, — сказал он. — Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы.
— И то и другое не очень-то приятно, — сказал я.
— Да, — сказал Касл-старший. — Нет уж, ради бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите!
Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо.
Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки — вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку «Папы», и к нашему с ней обручению, — я колеблюсь, и то возношу ее до небес, то совсем принижаю.
Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность?
Или она бесчувственна, холодна, короче говоря рыбья кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и боко-мару?
Никогда мне не узнать истины.
Боконон учит нас:
Себе влюбленный лжет,
Не верь его слезам,
Правдивый без любви живет,
Как устрицы — глаза.
Значит, мне как будто дано правильное указание. Я должен вспоминать о моей Моне как о совершенстве.
— Скажите мне, — обратился я к Филиппу Каслу в День «Ста мучеников за демократию». — Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби?
— Он меня не узнал в костюме, при галстуке и в башмаках, — ответил младший Касл, — и мы очень мило поболтали о велосипедах. Может быть, мы с ним еще поговорим.
Я понял, что идея Кросби делать велосипеды для Сан-Лоренцо мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова, мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби и что он мог сделать.
— Как по-вашему, народ Сан-Лоренцо воспримет индустриализацию? — спросил я обоих Каслов — отца и сына.
— Народ Сан-Лоренцо, — ответил мне отец, — интересуется только тремя вещами: рыболовством, распутством и боконизмом.
— А вы не думаете, что прогресс может их заинтересовать?
— Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увлекает только одно прогрессивное изобретение.
— А что именно?
— Электрогитара.
Я извинился и подошел к чете Кросби.
С ними стоял Фрэнк Хониккер и объяснял им, кто такой Боконон и против чего он выступает.
— Против науки.
— Как это человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби.
— Я бы уже давно умерла, если б не пенициллин, — сказала Хэзел, — и моя мама тоже.
— Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я.
— Сто шесть. Чудо, правда?
— Конечно, — согласился я.
— И я бы давно была вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа, — сказала Хэзел. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства: — Котик, как называлось то лекарство, помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?
— Сульфатиазол.
И тут я сделал ошибку — взял с подноса, который проносили мимо, сандвич с альбатросовым мясом.
И так случилось, «так должно было случиться», как сказал бы Боконон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок. Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней «Папы».
Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни «Папы». Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал:
— Что это такое? Что там у него висело на шее?
— Простите?
— Он проглотил эту штуку. То, что было в ладанке. «Папа» глотнул — и умер.
Я вспомнил ладанку, висевшую у «Папы» на шее, и сказал наугад:
— Цианистый калий?
— Цианистый калий? Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?
— В камень?
— В мрамор! В чугун! В жизни не видел такого трупного окоченения. Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен. Подите взгляните сами.
И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне «Папы».
На кровать, на золотую шлюпку, страшно было смотреть. Да, «Папа» скончался, но про него никак нельзя было сказать: «Упокоился с миром».
Голова «Папы» была запрокинута назад до предела. Вся тяжесть тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло.
То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндрик с открытой пробкой. А указательный и большой палец другой руки, сложенные щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую толику какого-то порошка.
Доктор фон Кенигсвальд вынул уключину из гнезда на шкафуте золоченой шлюпки. Он постучал по животу «Папы» стальной уключиной, и «Папа» действительно загудел, как бубен.
А губы и ноздри у «Папы» были покрыты иссиня-белой изморозью.
Теперь такие симптомы, видит бог, уже не новость. Но тогда их не знали. «Папа» Монзано был первым человеком, погибшим от льда-девять.
Записываю этот факт, может, он и пригодится. «Записывайте все подряд», — учит нас Боконон. Конечно, на самом деле он хочет доказать, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно хотя бы надеяться, что люди — и мужчины и женщины — избегнут серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией.
Итак, повторяю: «Папа» Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от льда-девять.
106. Что говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством
Доктор фон Кенигсвальд, с огромной задолженностью по Освенциму, еще не покрытой его теперешними благодеяниями был второй жертвой льдадевять.
Он говорил о трупном окоченении — я первый затронул эту тему.
— Трупное окоченение в одну минуту не наступает, — объявил он.
— Я лишь на секунду отвернулся от «Папы». Он бредил…
— Про что?
— Про боль, Мону, лед — про все такое. А потом сказал «Сейчас разрушу весь мир».
— А что он этим хотел сказать?
— Так обычно говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством. — Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуя, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный.
Он опустил руки в воду.
— Какое вещество могло… — Но вопрос повис в воздухе.
Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним.
Только это уже была не вода, а полушарие из льда-девять.
Фон Кенигсвальд кончиком языка коснулся таинственной иссиня-белой глыбы.
Иней расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся оземь.
Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу.
Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь.
Солдаты и слуги вбежали в спальню.
Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анджелу и Ньюта в спальню «Папы».
Наконец-то я увидел лед-девять!
Я впустил трех детей доктора Феликса Хониккера в спальню «Папы» Монзано.
Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое лед-девять.
Я часто видел его во сне.
Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал «Папе» лед-девять. И казалось вполне вероятным, что, если Фрэнк мог раздавать лед-девять, значит, и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать.
И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про лед-девять.
Я хотел их пугнуть, сказав, что лед-девять — средство прикончить всякую жизнь на земле. Говорил я настолько убежденно, что им и в голову не пришло спросить, откуда я знаю про лед-девять.
— Смотрите и радуйтесь! — сказал я.
Но, как сказал Боконон, «бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы». На сцене, в спальне «Папы», и декорации и бутафория были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично.
Но первая же реакция на мои слова одного из Хониккеров погубила все это великолепие.
Крошку Ньюта вдруг стошнило.
108. Фрэнк объясняет, что надо делать
И нам всем тоже стало тошно. Ньют отреагировал совершенно правильно.
— Вполне с вами согласен, — сказал я ему и зарычал на Анджелу и Фрэнка: — Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать?
— К-хх, — сказала Анджела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка.
Чего он. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею.
Зато его брат и сестра участвовали в этом кошмаре, и с ними он заговорил как во сне:
— Ты ему дал эту вещь, — сказал он Фрэнку. — Так вот как ты стал важной шишкой, — с удивлением добавил Ньют. — Что ты ему сказал — что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?
Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядывал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала проходит. И сказал он так:
— Слушайте, надо убрать всю эту штуку.
— Генерал, — сказал я Фрэнку, — ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы в качестве моего советника по технике порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, «убрать всю эту штуку»?
Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за «всю эту штуку» и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок.
— Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра, — приказывал он и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами.
— Хотите автогеном уничтожить трупы? — спросил я.
Фрэнк был так наэлектризован своей технической смекалкой, что просто-напросто отбивал чечетку, прищелкивая пальцами.
— Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке Потом пройдемся автогеном по всему полу, дюйм за дюймом, вдруг там застряли микроскопические кристаллы. А что мы сделаем с трупами… — Он вдруг задумался.
— Погребальный костер! — крикнул он, радуясь своей выдумке. — Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель — и на костер!
Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты.
Анджела остановила его:
— Как ты мог?
Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой:
— Ничего, все будет в порядке!
— Но как ты мог дать это такому человеку, как «Папа» Монзано? — спросила его Анджела.
— Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим.
Но Анджела вцепилась в его руку и не отпускала.
— Как ты мог? — крикнула она, тряся его. Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения:
— Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют купил неделю со своей лилипуткой там, на даче.
Улыбка снова застыла на его лице.
Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью…
«Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое пууль-па», — учит нас Боконон. В одной из Книг Боконона он переводит слово пууль-па как дождь из дерьма, а в другой — как гнев божий.
Из слов Фрэнка, брошеных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое Хониккеров были не единственными владельцами льда-девять…
Муж Анджелы передал секрет США, а Зика — своему посольству.
Слов у меня не нашлось…
Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена льдом-девять. Сквозь смутное забытье, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анджелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта: «Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла!»
Мне ее довод показался неубедительным.
«На что может надеяться человечество, — подумал я, — если такие ученые, как Феликс Хониккер, дают такие игрушки, как лед-девять, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество?»
И я вспомнил Четырнадцатый том сочинений Боконона — прошлой ночью я его прочел весь целиком. Четырнадцатый том озаглавлен так:
«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».
Фрэнк вернулся с метлами, совками, с автогеном и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками.
Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками льда-девять. Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной Моны, а наверх водрузил честное старое ведро.
И мы стали подбирать самые крупные осколки льда-девять, и мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй старой, милой старой, честной нашей старой водичкой.
Мы с Анджелой подметали пол, крошка Ньют заглядывал под мебель, ища осколки льда-девять: мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена.
Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас В загаженном мире мы по крайней мере очищали хоть один наш маленький уголок.
И я поймал себя на том, что самым будничным тоном расспрашиваю Ньюта, и Анджелу, и Фрэнка о том сочельнике, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку.
И в детской уверенности, что они все исправят, очистив эту комнату, Хониккеры рассказали мне эту историю.
Вот их рассказ.
В тот памятный сочельник Анджела пошла в деревню за лампочками для елки, а Ньют с Фрэнком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного пса. Пес был ласковый, как все охотничьи псы, и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой.
Феликс Хониккер умер — умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на лед-девять, показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью:
«Опасно! Лед-девять! Беречь от влаги!»
Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами:
— Ну же, пошевелите мозгами! — говорил он весело. — Я вам уже сказал: точка таяния у него сто четырнадцать, запятая, четыре десятых по Фаренгейту, и еще я вам сказал, что состоит он только из водорода и кислорода. Как же это объяснить? Ну подумайте же! Не бойтесь поднапрячь мозги! Они от этого не лопнут.
— Он нам всегда говорил «напрягите мозги», — сказал Фрэнк, вспоминая прежние времена.
— А я и не пыталась напрягать мозги уже не помню с каких лет, — созналась Анджела, опираясь на метлу. — Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги, но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе.
Очевидно, прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне — играл с водой и льдом-девять в кастрюльках и плошках. Наверно, он превращал воду в лед-девять, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр — должно быть, старик измерял какую-то температуру.
Наверно, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев льдом-девять. Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого сине-белого вещества, закупоренного в бутылке, но сделал перерыв.
Однако, как говорит Боконон, «каждый человек может объявить перерыв, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв окончится».
— Надо бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер, — сказала Анджела, опершись на метлу. — Качалка ни звука не издавала. А она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал.
Но Анджела все же решила, что он уснул, и ушла убирать елку.
Ньют и Фрэнк вернулись с черным ретривером. Они зашли на кухню — дать собаке поесть. И увидали, что всюду разлита вода.
На полу стояли лужи, и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол. А мокрую тряпку бросил на шкафчик.
Но тряпка случайно попала в чашку со льдом-девять, Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта, и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту — посмотри, что ты наделал.
Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск, как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки.
— Знаете, почему я говорю «золотая сетка»? — рассказывал Ньют в спальне «Папы» Монзано. — Потому что мне эта тряпка напомнила мамину сумочку, особенно на ощупь.
Анджела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка.
— До того она была необычная на ощупь, я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. — Интересно, куда она девалась?
— Интересно, куда многое девалось, — сказала Анджела. Ее слова эхом отозвались в прошлом — грустные, растерянные.
А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что: Ньют протянул ее собаке, та лизнула — и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу — рассказать ему про собаку — и увидел, что отец тоже окоченел.
Наконец мы убрали спальню «Папы» Монзано.
Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь «Ста мучеников за демократию».
Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкаф «Папы».
Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверно, для того, чтобы упростить картину.
Что же касается рассказа Анджелы, Фрэнка и Ньюта, того, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас льда-девять, то, когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять лед-девять. Они рассказывали, какое это вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано.
— А кто его разделил? — спросил я.
Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность.
— Как будто не Ньют, — наконец сказала Анджела. — В этом я уверена.
— Наверно, либо ты, либо я, — раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память.
— Я сняла три стеклянные банки с полки, — вспомнила Анджела. — А три маленьких термоса мы достали только назавтра.
— Правильно, — согласился Фрэнк. — А потом ты взяла щипчики для льда и наколола лед-девять в миску.
— Верно, — сказала Анджела. — Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет.
Ньют поднял ручонку:
— Это я принес.
Анджела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив.
— Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные баночки, — продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом.
— А что же вы сделали с собакой? — спросил я унылым голосом.
— Сунули в печку, — объяснил мне Фрэнк. — Больше ничего нельзя было сделать.
«История! — пишет Боконон. — Читай и плачь!»
114. «Когда мне в сердце пуля залетела»
И вот я снова поднялся по винтовой лестнице на свою башню, снова вышел на самую верхнюю площадку своего замка и снова посмотрел на своих гостей, своих слуг, свою скалу и свое тепловатое море.
Все Хониккеры поднялись со мной. Мы заперли спальню «Папы», а среди челяди пустили слух, что «Папе» гораздо лучше.
Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают.
Много, много тайн было у нас в тот день.
Дела, дела, дела.
Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать, и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь.
Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венок в футляре. И он сказал поразительную речь в честь «Ста мучеников за демократию». Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «Сто мучеников за демократию» на местном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.
Всю остальную речь он произнес на американо-английском языке. Речь была записана у него на бумажке — наверно, подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с немногими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками — американцами, он оставил официальный тон.
Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы.
— Я буду говорить очень непосольские слова, — объявил он, — я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле.
Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае, он произнес удивительно боконистскую речь.
— Мы собрались здесь, друзья мои, — сказал он, — чтобы почтить память «Сита мусеники за зимокарацию», память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют мужчинами. Но я не могу назвать их мужчинами по той простой причине, что в той же войне, в которой погибли «Сито мусенкки за зимокарацию», погиб и мой сын.
И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку.
Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им приходится умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду, они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств.
Но все равно все они — убитые дети.
И я предлагаю вам: если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей Сан-Лоренцо, то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, иначе говоря — к глупости и злобности рода человеческого.
Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи, и реяние знамен, и пальба хорошо смазанных пушек.
Я не хотел бы показаться неблагодарным — ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное зрелище.
Он посмотрел всем нам прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай:
— И ура всем увлекательным зрелищам!
Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше:
— Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне, — сказал он, — то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?
«Да», — ответим мы, но при одном условии: чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неутомимо трудились над тем, чтобы убавить и глупость, и злобу в себе самих и во всем человечестве.
— Видите, что я привез? — спросил он нас.
Он открыл футляр и показал нам алую подкладку и золотой венок. Венок был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской.
Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Pro patria!»[7].
Тут Минтон продекламировал строфы из книги Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун-рйвер». Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо, а впрочем, их, наверно, не поняли и Лоу Кросби, и его Хэзел, и Фрэнк с Анджелой тоже.
Я первым пал в бою под Мишенери-Ридж.
Когда мне в сердце пуля залетела,
Я пожалел, что не остался дома,
Не сел в тюрьму за то, что крал свиней
У Карла Теннери, а взял да убежал
На фронт сражаться.
Уж лучше тыщу дней сидеть у нас в тюрьме,
Чем спать под мраморным крылатым истуканом,
Спать под плитой гранитной, где стоят
Слова «Pro patria!».
Да что же они значат?
— Да что же они значат? — повторил посол Хорлик Минтон. — Эти слова значат: «За родину!» За чью угодно родину, — как бы невзначай добавил он.
— Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Неважно, чья это родина. Думайте о народе…
И о детях, убитых на войне.
И обо всех странах.
Думайте о мире.
И о братской любви.
Подумайте о благоденствии.
Подумайте, каким раем могла бы стать земля, если бы люди были добрыми и мудрыми.
И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день, — сказал посол Хорлик Минтон. — И я от всего сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что «Сито мусеники за зимокарацию» мертвы в такой прекрасный день.
И он метнул венок вниз с парапета.
В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота Сан-Лоренцо приближались, паря над моим тепловатым морем.
Сейчас они возьмут под обстрел чучела тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы».
Мы подошли к парапету над морем — поглядеть на это зрелище. Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели потому, что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма.
Мы решили, что дым пустили нарочно, для вида.
Я стоял рядом с Лоу Кросби, и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от его дыхания пахло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота.
Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парапета, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов старого каменного помоста.
Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, и что я пропущу представление. Но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дыма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем.
Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись об скалу. Его бомбы и горючее взорвались.
Остальные целые самолеты с воем улетели, и вскоре их гул доносился словно комариный писк.
И тут послышался грохот обвала — одна из огромных башен «Папиного» замка, подорванная взрывом, рухнула в море.
Люди у парапета над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услыхал гул обвалов в перекличке, похожей на оркестр.
Перекличка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса. Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки.
И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами, в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев.
Трещина отделила меня от моих спутников.
Весь замок застонал и громко завыл.
Те, остальные, поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз, в море. И хотя трещина была не шире фута, они стали героически перескакивать через нее огромными прыжками.
И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину.
Трещина со скрежетом закрылась и снова оскалилась еще шире. На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хэзел и посол Хорлик Минтон со своей Клэр.
Мы с Франком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетащили Кросби к себе, подальше от опасности. И снова умоляюще протянули руки к Минтонам.
Их лица были невозмутимы. Могу только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств.
Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство. Но их убила воспитанность, потому что обреченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани.
Вероятно, Минтонам — путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда.
Они взялись за руки.
Они повернулись лицом к морю.
Вот они двинулись, вот они рухнули вниз в громовом обвале и исчезли навеки!
Рваная рана погибели теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое тепловатое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю — единственный след рухнувших стен.
Весь замок, сбросив с себя тяжелую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мной открылся огромный зал. Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, словно вышка для прыжков в воду.
На миг мелькнула мысль — спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска, врезаться в теплую, как кровь, вечность.
Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она.
Мы взглянули на птицу, потом друг на друга.
Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был не устойчивей волчка. И он тут же покатился по полу.
Камень рухнул на площадку, и площадка обвалилась. И по этому обвалу покатилась мебель из комнаты внизу. Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним — тумбочка, наперегонки с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья.
И где-то в глубине комнаты что-то неведомое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло.
Оно поползло по обвалу. Показался золоченый нос. Это была шлюпка, где лежал мертвый «Папа».
Шлюпка ползла по обвалу. Нос накренился. Шлюпка перевесилась над пропастью. И полетела вверх тормашками.
«Папу» выбросило, и он летел отдельно.
Я зажмурился.
Послышался звук, словно медленно закрылись громадные врата величиной с небо, как будто тихо затворили райские врата. Раздался великий А-бумм…
Я открыл глаза — все море превратилось в лед-девять.
Влажная зеленая земля стала синевато-белой жемчужиной.
Небо потемнело. Борасизи—Солнце — превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой.
Небо наполнилось червями. Это закрутились смерчи.
Я взглянул на небо, туда, где только что пролетела птица. Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как пчела. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он переваривал воздух.
Мы, люди, разбежались, мы бросились с моей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше.
Только Лоу Кросби и его Хэзел закричали. «Мы американцы! Мы американцы!» — орали они, словно смерчи интересовались, к какому именно гранфаллону принадлежат их жертвы.
Я потерял чету Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донеслись их вопли, тяжелый топот и пыхтенье всех беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно последовавшая за мной.
Когда я остановился, она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами «Папы». Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишащим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас поглотить, я поднял эту крышку.
В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри. И мы стали спускаться по железным скобам.
И внизу мы открыли государственную тайну. «Папа» Монзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды. Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная льдом-девять. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера «Национального географического вестника» за последние двадцать лет.
И было там полное собрание сочинений Боконона.
И стояли там две кровати.
Я зажег свечу. Я открыл банку куриного супа и поставил на плитку. И я налил два бокала виргинского рома.
Мона присела на одну постель. Я присел на другую.
— Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчина женщине, — сообщил я ей. — Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас.
Я развел руками.
— Что?
— Наконец мы одни, — сказал я.
118. Железная дева и каменный мешок
Шестая книга Боконона посвящена боли, и в частности пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке, — предупреждает нас Боконон, — то это, можно сказать, будет очень гуманный способ».
Потом он рассказывает о дыбе, об «испанском сапоге», о железной деве, о колесе и о каменном мешке.
Ты перед всякой смертью слезами изойдешь.
Но только в каменном мешке для дум ты время обретешь.
Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моной. Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущение полной заброшенности.
В первый день и в первую ночь нашего пребывания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрестанно. При каждом порыве давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове.
Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного телеграфного сигнала я не слыхал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио.
И мир молчит до сегодняшнего дня.
И вот что я предположил: вихри повсюду разносят ядовитый лед-девять, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии.
Я обратился к книгам Боконона, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома:
«Не будь глупцом! Сейчас же закрой эту книгу! Тут все — сплошная фо’ма!»
Фо’ма, конечно, значит ложь.
А потом я прочел вот что:
«Вначале бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества».
И бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами».
И бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по земле, и одно из них былo человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чем смысл всего этого?»
— Разве у всего должен быть смысл? — спросил бог.
— Конечно, — сказал человек.
— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал бог и удалился».
Я подумал: что за чушь?
«Конечно, чушь», — пишет Боконон.
И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах, гораздо более глубоких.
Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее дивных глаз таится тайна, древняя, как праматерь Ева.
Не стану описывать мрачную любовную сцену, которая разыгралась между нами.
Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут.
Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого — ей претила даже мысль об этом.
Под конец этой бессмысленной возни и ей, и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ, задыхаясь и потея, создавать новые человеческие существа.
Скрипя зубами, я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью. Но тут она сказала мне очень ласково:
— Так грустно было бы завести сейчас ребеночка! Ты согласен?
— Да, — мрачно сказал я.
— Может быть, ты не знаешь, что именно от этого и бывают дети, — сказала она.
«Сегодня я — министр народного образования, — пишет Боконон, — а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного: каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Боконона мне помогли.
Боконон просит меня петь вместе с ним:
Ра-ра-ра, работать пора,
Ла-ла-ла, делай дела,
Но-но-но — как суждено,
Пых-пах-пох, пока не издох.
Я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее, крутя велосипед, который в свою очередь крутил вентилятор, дававший нам воздух добрый старый воздух.
— Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту, — сказал я Моне.
— Как?
— Наука!
— А-а…
— Это одна из тайн жизни, которую человек долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот.
— А я не знала.
— Теперь знаешь.
— Благодарю тебя.
— Не за что.
Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам — взглянуть, какая там, наверху, погода. Я лазил наверх несколько раз в день. В этот четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась.
Но стабильность эта была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали, дя и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, — будто Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей.
Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи стали безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх.
Воздух был сух и мертвенно-тих.
Как-то я слыхал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре: лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав во весь рост рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь.
Запахов не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал сине-белый лед. И каждый треск будил громкое эхо. Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная. Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья. Я предупредил ее, что нельзя трогать руками сине-белый лед, нельзя подносить руки ко рту.
— Никогда смерть не была так доступна, — объяснил я ей. — Достаточно коснуться земли, а потом — губ, и конец.
Она покачала головой, вздохнула.
— Очень злая мать, — сказала она.
— Кто?
— Мать-земля, она уже не та добрая мать.
— Алло! Алло! — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую груду камней. Мы с Моной довольно машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю «машинально», потому что никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не мелькнула мимо нас.
Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножья белой краской было написано бокононовское калипсо. Буквы были аккуратные. Краска свежая — доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил бурю.
Калипсо звучало так:
Настанет день, настанет час,
Придет земле конец.
И нам придется все вернуть,
Что дал нам в долг творец.
Но если мы, его кляня, подымем шум и вой,
Он только усмехнется, качая головой.
Как-то мне попалась реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали: «Папочка, а отчего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний».
Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один, а уйму вопросиков, доверчиво цепляясь за его руку: «Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное, почему на нем какие-то червяки? Папочка, почему море такое твердое и тихое?»
Но мне пришло в голову, что я-то смог бы ответить на эти заковыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось, и где, и каким образом.
А какой толк?
Я подумал: где же мертвецы? Мы с Моной отважились отойти от нашего подземелья чуть ли не на милю и ни одного мертвеца не увидали.
Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груду мертвых. Нигде ни дымка от костров, но, может, их трудно было разглядеть на червивом небе.
И вдруг я увидел: вершина горы Маккэйб была окружена сиреневым ореолом.
Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной: мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл?
Мы дошли до предгорья у подножия горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней.
Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала.
А плакать было отчего.
В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл лед-девять.
Так как тела лежали не врассыпную, не как попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покойник держал палец у губ или во рту, я понял, что все они сознательно собрались в этом печальном месте и отравились льдом-девять.
Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе боко-мару. И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре.
Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор.
Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень. А под камнем лежала нацарапанная карандашом записка:
«Всем, кого это касается: эти люди вокруг вас — почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали лжесвятого по имени Боконон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали, чтобы он им точно объяснил, что затеял господь бог и что им теперь делать. Этот шут сказал им, что бог явно хочет их убить — вероятно, потому, что они ему надоели и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как вы видите, они и сделали».
Записка была подписана Бокононом.
— Какой циник! — ахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. — Он где-нибудь тут?
— Я его не вижу, — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. — Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену.
— Пусть только покажется тут! — сказал я с горечью. — Только представить себе эту наглость — посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством!
И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха. Страшный это был смех, неожиданно низкий и резкий.
— По-твоему, это смешно?
Она лениво развела руками:
— Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой.
И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась и обернулась ко мне. И крикнула мне оттуда, сверху:
— А ты бы захотел воскресить хоть кого-нибудь из них, если бы мог? Отвечай сразу!
— Вот ты сразу и не ответил! — весело крикнула она через полминуты. И, все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам — и умерла.
Плакал ли я? Говорят, плакал. Таким меня встретили на дороге Лоу Кросби с супругой и малютка Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси, его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хэзел расплакалась от радости.
Они силком посадили меня в такси.
Хэзел обняла меня за плечи:
— Ничего, теперь ты возле своей мамули. Не надо так расстраиваться.
Я постарался забыться. Я закрыл глаза. И с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, сырой деревенской дуре.
Меня отвезли на место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хониккера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на и’глу — ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком льда-девять.
Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня.
И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок.
Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше — буквы, обозначающие гранфаллон: США.
— И оставили банку краски под аркой? — сказал я.
— Откуда вы знаете? — спросил Кросби.
— Потом пришел один человек и написал стишок.
Я не стал спрашивать как погибла Анджела Хониккер-Коннерс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил.
Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что, пока мы ехали в такси, чета Кросби и крошка Ньют были как-то неестественно веселы.
Хэзел открыла мне секрет их хорошего настроения:
— Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много. А понадобится вода — мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство робинзонов, вот мы кто.
Прошло полгода — странные полгода, когда я писал эту книгу. Хэзел совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством робинзонов — мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма.
Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря льду-девять отлично сохранились туши свиней и коров и мелкая лесная дичь, сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверно, все вирусы вымерли или же дремали.
Мы так ко всему приспособились, так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда Хэзел сказала:
— Хорошо хоть комаров нету.
Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она сшивала полосы красной, белой и синей материи. Как Бетси Росс[8], она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синяя — цветом морской волны и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида.
Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие.
— Вид приятный, и пахнет славно, — заметил я. Он подмигнул мне:
— В повара не стрелять! Старается как может! Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и беспрерывно выстукивающего «SOS». День и ночь передатчик взывал о помощи.
— Спаси-ии-те наши ду-ууу-ши! — замурлыкала Хэзел в такт передатчику: — Спа-аси-те на-ши дуу-ши!
— Ну, как писанье? — спросила она меня.
— Славно, мамуля, славно.
— Когда вы нам почитаете?
— Когда будет готово, мамуля, как будет готово.
— Много знаменитых писателей вышло из хужеров.
— Знаю.
— И вы будете одним из многих и многих. — Она улыбнулась с надеждой. — А книжка смешная?
— Надеюсь, что да, мамуля.
— Люблю посмеяться.
— Знаю, что любите.
— Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным. Вы пишете для нас смешные книжки, Фрэнк делает свои научные штуки, крошка Ньют — тот картинки рисует, я шью, а Лоу стряпает.
— Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская пословица.
— А они были умные, эти китайцы.
— Да, царство им небесное.
— Жаль, что я их так мало изучала.
— Это было трудно, даже в самых идеальных условиях.
— Вообще, мне жалко, что я так мало чему-то училась.
— Всем нам чего-то жаль, мамуля.
— Да, что теперь горевать над пролитым молоком!
— Да, как сказал поэт: «Мышам и людям не забыть печальных слов: „Могло бы быть“»[9].
— Как это красиво сказано — и как верно!
124. Муравьиный питомник Фрэнка
Я с ужасом ждал, когда Хэзел закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккэйб.
— Будь мы с Лоу помоложе, мы бы сами туда полезли. А теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха.
— Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага.
— А куда же его еще?
— Придется пораскинуть мозгами, — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру посмотреть, что там затеял Фрэнк.
Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сандвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнка, он все видел и все комментировал.
Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скоплялись в виде плотных шариков вокруг зернышек льда-девять. В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупики можно было есть.
— Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь! — сказал я Фрэнку и его крохотным каннибалам.
Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев.
И я тоже отвечал как положено:
— Природа — великое дело, Фрэнк. Великое дело.
— Знаете, почему муравьям все удается? — спрашивал он меня в сотый раз. — Потому что они со-труд-ни-чают.
— Отличное слово, черт побери, «со-труд-ниче-ство».
— Кто научил их делать воду?
— А меня кто научил делать лужи?
— Дурацкий ответ, и вы это знаете.
— Виноват.
— Было время, когда я все дурацкие ответы принимал всерьез. Прошло это время.
— Это шаг вперед.
— Я стал куда взрослее.
— За счет некоторых потерь в мировом масштабе. — Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает.
— Было время, когда каждый мог меня обставить, оттого что я не очень-то был в себе уверен.
— Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось, — подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой.
— Нет, вы мне скажите, вы мне объясните: кто научил муравьев делать воду? — настаивал он без конца.
Несколько раз я предлагал обычное решение — все от бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает, и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой вопрос.
И я отошел от Фрэнка, как учили меня Книги Боконона. «Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее, — пишет Боконон. — И он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили».
И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта.
Крошка Ньют писал развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры, и, когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар, поискать там краски. Сам он вести машину не мог. Ноги не доставали до педалей.
И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось — ни снов на эту тему, ничего.
— Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом, — сказал мне Ньют. — А теперь? Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя лилипуточка.
Я вспомнил, что когда-то я читал про туземцев Тасмании, ходивших всегда голышом. В семнадцатом веке, когда их: открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазах белых людей они были такими ничтожествами, что те первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться.
Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными.
Ньют высказал неглупое предположение.
— Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий.
— Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хэзел уже давным-давно не способна родить даже идиота-дауна.
Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты-дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей, и среди его одноклассников было несколько даунов.
— Одна девочка-даун, звали ее Мирна, писала лучше всех — я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней и не вспоминал!
— А школа была хорошая?
— Я только помню слова нашего директора — он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь провинности и всегда начинал одинаково: «Мне до смерти надоело…»
— Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению.
— У вас такое настроение?
— Вы рассуждаете как боконист, Ньют.
— А почему бы и нет? Насколько мне известно, боконизм — единственная религия, уделившая внимание лилипутам.
Когда я не писал свою книгу, я изучал Книги Боконона, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут, в короткое четверостишие, Боконон вложил парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней.
Важничает карлик.
Он выше всех людей.
Не мешает малый рост
Величию идей.
— Все-таки удивительно мрачная религия! — воскликнул я.
И я перевел разговор в область утопий и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает.
Но Боконон и об этом подумал, он даже целый том посвятил утопиям.
Седьмой том своих сочинений он назвал: «Республика Боконона».
В этой книге много жутких афоризмов:
«Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром». «Сначала организуем в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный спорт. После этого можно написать нашу конституцию».
Я обругал Боконона черномазым жуликом и снова переменил тему. Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей. Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли, в Обитель Милосердия и Надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньше величия в смерти бедной Анджелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки льда-девять.
— Играйте, тихие флейты! — глухо пробормотал я.
— Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют.
Так мог говорить только боконист.
Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккэйб с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там.
На миг я даже бросил руль и развел руками — никакого символа у меня не было.
— А какой, к черту, символ можно найти, Ньют? Какой, к черту, символ? — Я снова взялся за руль: — Вот он, конец света, и вот он я, один из последних людей на свете, а вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой карасс, Ньют. Он день и ночь — может, полмиллиона лет подряд — работал на то, чтобы загнать меня на эту гору. — Я покрутил головой, чуть не плача: — Но что, скажите, бога ради, что я должен там водрузить?
Я поглядел вокруг из машины невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому старику, сидевшему у обочины.
И тут я затормозил. И остановился. И закрыл глаза рукой.
— Что с вами? — спросил Ньют.
— Я видел Боконона.
Он сидел на камне. Он был бос.
Ноги его были покрыты изморозью льда-девять. Единственной его одеждой было белое одеяло с синими помпонами. На одеяле было вышито «Каса-Мона». Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги.
— Боконон?
— Да.
— Можно спросить, о чем вы думаете?
— Я думал, молодой человек, о заключительной фразе Книг Боконона. Пришло время дописать последнюю фразу.
— Ну и как, удалось?
Он пожал плечами и подал мне листок бумаги.
Вот что я прочитал:
Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккэйб и лег на спину, подложив под голову эту рукопись. И я взял бы с земли сине-белую отраву, превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей, и лежал бы на спине, жутко скаля зубы и показывая длинный нос — САМИ ЗНАЕТЕ КОМУ!
Посвящение:
Алексу Воннегуту,
доверенному лицу, с любовью.
«С каждым часом Солнечная система приближается на сорок три тысячи миль к шаровидному скоплению М13 в созвездии Геркулеса — и все же находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс».
Все действующие лица, места и события в этой книге — подлинные. Некоторые высказывания и мысли по необходимости сочинены автором. Ни одно из имен не изменено ради того, чтобы оградить невиновных, ибо Господь Бог хранит невинных по долгу своей небесной службы.
Между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ
«Мне кажется, что кто-то там, наверху, хорошо ко мне относится».
Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя.
Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки — религии плодились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа вовне вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее, и попутно — зачем он это все сотворил.
Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на край света. Наконец, оно запустило их в космическое пространство — в лишенную цвета, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле: кошмар бессмыслицы, которой нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос, бесконечность вовне: ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть.
Мир вне нас наконец потерял свою выдуманную заманчивость.
Мир внутри нас — вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась terra incognita[10]. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди стародавних времен, души которых оставались еще непознанными?
Перед вами истинная история из тех Кошмарных веков, которые приходятся примерно (годом больше, годом меньше) на период между Второй мировой войной и Третьим Великим Кризисом.
* * *
Толпа гудела.
Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализоваться, возникнуть из ничего — поначалу они будут похожи на туманные облачка, но постепенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пес из плоти и крови.
Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в высшей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком приглашении полюбоваться всласть не могло быть и речи.
Материализация, как и современная, цивилизованная казнь через повешение, должна была происходить за высокими, глухими стенами, под строгой охраной. И толпа снаружи ничем не отличалась от тех толп, которые собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни.
В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие, пробиваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится! Таинство материализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращалось в порнографическое зрелище — цветные слайды нечистого воображения — цветные слайды, которые толпа, как волшебный фонарь, проектировала на белый экран каменной стены.
Это было в городе Ньюпорте, Род-Айленд, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь. Это были стены поместья Румфордов.
За десять минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции пустили слух, что материализация произошла досрочно, и что она произошла за пределами поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в двух кварталах отсюда. Толпа с топотом повалила на перекресток, смотреть материализацию.
Толпа обожала чудеса.
За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая триста фунтов. У нес был еще яблочный леденец и шестилетняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала ее туда-сюда, как шарик на резинке.
— Ванда Джуп, — сказала она, — если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше никогда в жизни не возьму на материализацию.
Материализация происходила в течение девяти лет, каждые пятьдесят девять дней. Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допущенными на материализацию. Но их всех, невзирая на лица, ждал категорический отказ. Отказ в неизменной форме, написанный от руки личным секретарем миссис Румфорд.
«Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить Вас о том, что она не в состоянии удовлетворить Вашу просьбу. Она уверена, что Вы поймете ее чувства: феномен, который Вы хотите наблюдать, — семейная трагедия, едва ли предназначенная для посторонних, какими бы благородными побуждениями ни была вызвана их любознательность»
Ни сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни па один из многих тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд считала, что она вправе давать миру лишь минимальное количество информации. И это исчезающе малое обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через двадцать четыре часа после каждой материализации. Отчет никогда не превышал ста слов. Ее дворецкий помещал бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поместье.
Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и находился в западной стене. Дверца была высотой всего в четыре с половиной фута. Она была железная и запиралась на автоматический замок.
Широкие ворота поместья были заложены кирпичом.
Бюллетени, появлявшиеся на стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отрывочны. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точное время, когда муж миссис Румфорд, Уинстон и его пес Казак материализовались, и точное время, когда они дематериализовались. Самочувствие человека и собаки неизменно характеризовалось как ХОРОШЕЕ. Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого прозрения там не приводилось.
А толпу отвлекли обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к железной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый, как денди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охранявшему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с фальшивой бородой.
Полисмен кивнул, и мужчина, достав ключ из кармана, сам отпер дверь, нырнул внутрь и с грохотом захлопнул ее за собой.
Лимузин отъехал.
Над низкой железной дверью висел плакатик: «Осторожно, злая собака!» Огненные блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон на верху высокой стены.
Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд пригласила на материализацию. Но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был недоучкой. Его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра. Это был Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, — самый богатый американец и один из самых отчаянных прожигателей жизни.
«Осторожно, злая собака!» — предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за дверцей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса-мастифа. На нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей представляла собой хитроумно сконструированную, безобидную действующую модель механизма, рвущего плоть. Челюсти защелкивались: крак! Вот здесь раньше были горящие глаза, здесь — настороженные уши, вот тут — чуткий нос, а тут — мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные ремни мышц, и они смыкали клыки в глубине живой плоти вот так: крак!
Скелет был символом, бутафорией, был затравкой для разговора, подстроенной женщиной, которая почти ни с кем не разговаривала. Никакая собака не жила и не подыхала на посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара, их для нее отбелили, вылощили и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных горьких и непонятных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время и ее собственный муж.
Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила семнадцать миллионов долларов. Миссис Уинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и к тому же талантлива.
Она была талантливой поэтессой. Она опубликовала анонимно тоненькую книжечку стихов под странным названием «Между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ». Книгу приняли довольно хорошо.
Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ, относятся к слову ВРЕМЯ.
При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала странные поступки — например, сажала на цепь у стены собачий скелет, замуровывала въездные ворота, запускала прославленный классический парк в Новой Англии до состояния джунглей.
Мораль: деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант — это еще не все.
Малаки Констант, самый богатый американец, запер за собой дверцу из «Алисы в стране чудес». Он повесил свои темные очки и фальшивую бороду на плющ, покрывающий стену. Он быстро прошел мимо собачьего скелета, глядя на свои часы, работавшие на солнечной батарейке. Через семь минут живой мастиф, Казак, материализуется и пустится рыскать по парку.
«Казак кусается, — написала миссис Румфорд в своем приглашении. — Поэтому прошу вас быть пунктуальными».
Констант улыбнулся — его рассмешила просьба быть пунктуальным. Быть пунктуальным буквально значит «существовать в одной точке», а употребляется также в значении «быть точным, появляться в точно назначенное время». Констант существовал в одной точке — и не мог вообразить, как можно существовать иначе.
А именно это ему и предстояло узнать, кроме всего прочего: как можно существовать иначе. Муж миссис Румфорд существовал иначе.
Уинстон Найлс Румфорд бросил свой личный космический корабль прямо в середину не отмеченного на картах хроно-синкластического инфундибулума, в двух днях полета от Марса. С ним был только его пес. И вот теперь Уинстон Найлс Румфорд и его пес Казак существуют в виде волнового феномена — очевидно, пульсируя по неправильной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся около звезды Бетельгейзе.
И орбита Земли вот-вот пересечется с этой спиралью.
Как ни пытайся объяснить покороче, что такое хроно-синкластический инфундибулум, обязательно вызовешь возмущение специалистов. Как бы то ни было, мне кажется, что лучшее из коротких объяснений принадлежит доктору Сирилу Холлу, оно помещено в четырнадцатом издании «Детской энциклопедии чудес и самоделок». С любезного разрешения издателей привожу эту статью полностью:
ХРОНО-СИНКЛАСТИЧЕСКИЙ ИНФУНДИБУЛУМ. — Представь себе, что твой папа — самый умный человек на Земле и знает ответы на все вопросы, и всегда и во всем прав, и может это доказать. А теперь представь себе другого малыша на какой-нибудь уютной планете за миллион световых лет от нашей Земли, и у этого малыша есть папа, который умное всех на этой милой далекой планете. И он тоже знает все на свете и всегда во всем прав, как твои папа. Оба папы самые умные на свете и всегда во всем правы»
Но вот беда — если они когда-нибудь встретятся, начнется ужасный спор, потому что они ни в чем друг с другом не согласны! Конечно, ты можешь сказать, что твой папа прав, а папа другого малыша неправ, но ведь Вселенная — такое большое пространство! В ней достаточно места для множества людей, которые все правы и все же ни за что не согласятся друг с другом.
А оба папы правы и все же готовы спорить до драки — по той причине, что существует бесконечное множество возможностей быть правым. Однако есть во Вселенной такие места, где до каждого папы доходит наконец то, о чем говорит другой папа. В этих местах все разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах твоего паны. Такое место мы и называем «хроно-синкластический инфундибулум».
Судя по всему, в Солнечной системе не счесть таких хроно-сннкластических инфундибулумов. Мы точно знаем, что в одно такое место можно попасть где-то между Землей и Марсом. Мы это знаем потому, что земной человек с земной собакой угодили прямо в него.
Ты. наверное, подумал, что было бы неплохо попасть в хроно-синкластический инфундибулум и увидеть все многочисленные возможности быть абсолютно правым, но к сожалению, это очень опасно. Этого несчастного вместе с его собакой раздробило и рассеяло вдаль и вширь — не только в пространстве, но и во времени.
Хроно значит «время». Синкластический значит «изогнутый в одну и ту же сторону во всех направлениях», Наподобие шкурки апельсина. Инфундибулум — так древние римляне, например Юлий Цезарь или Нерон, называли воронку. Если ты никогда не видел воронки, попроси свою маму, она тебе покажет.
Ключ к дверце из «Алисы в стране чудес» был прислан вместе с приглашением. Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по единственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, по скользящие лучи закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвелла Паррнша.
Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот остановят. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего тридцать четыре, но она писала, как старуха, — вычурным почерком с острыми завитушками. Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела. Тон приглашения был, мягко выражаясь, брезгливый, словно оно писалось на несвежем носовом платке.
«В последний раз, когда мой муж материализовался, — писала она в приглашении, — он настаивал на том, чтобы вы присутствовали на следующей материализации. Мне не удалось отговорить его, хотя это крайне неудобно по множеству причин. Он настаивает на том, что прекрасно с вами знаком и что вы встречались на Титане, — насколько я поняла, это спутник планеты Сатурн».
Почти в каждой фразе приглашения было слово «настаивает». Муж миссис Румфорд настаивал на чем-то, что она была вынуждена сделать против своей воли, и она, в свою очередь, настаивала на том, чтобы Малаки Констант вел себя как можно лучше, как подобает джентльмену, хотя он явно не джентльмен.
На Титане Малаки Констант никогда не бывал. Насколько это было ему известно, он ни разу в жизни не покидал атмосферу, окружающую его родную планету, Землю. Очевидно, ему предстояло убедиться в обратном.
Тропа прихотливо извивалась, так что предел видимости был ограничен. Констант шел по сырой зеленой тропке, не шире валика для стрижки газона — это и был след от машины для стрижки газона. По обе стороны тропинки стеной стояли зеленые джунгли, заполонившие регулярный парк.
След машинки для стрижки газона огибал безводный фонтан. В этом месте человек с машинкой для стрижки газона проявил изобретательность и сделал развилку, так что посетитель мог сам решать, с какой стороны обходить фонтан. Констант остановился на перепутье, взглянул вверх. Фонтан тоже был чудом изобретательности. Он представлял собой конусообразную конструкцию из каменных чаш, диаметр которых все уменьшался. Все эти чаши были похожи на воротнички, нанизанные на цилиндрический стержень в сорок футов высотой.
Повинуясь внезапному побуждению. Констант не пошел ни вправо, ни влево, а полез прямо на фонтан. Он карабкался с чаши на чашу, намереваясь добраться до самого верха и поглядеть, откуда он пришел и куда идти дальше.
Вскарабкавшись в самую верхнюю, самую маленькую из вычурных чаш фонтана, попирая ногами птичьи гнезда, Малаки Констант увидел с высоты все поместье. большую часть Ньюпорта и Нараганзеттского залива. Он повернул свои часы к солнцу, чтобы они впивали свет свой насущный, — часы на солнечных батарейках жаждут света, как люди Земли — золота.
Свежий ветерок с моря тронул иссиня-черные волосы Константа. Он был хорош собой — сложен, как боксер полутяжелого веса, смуглый, с губами поэта и мечтательными карими глазами в глубокой тени кроманьонских надбровных дуг.
Ему был тридцать один год.
Он стоил три миллиарда долларов, по большей части полученных в наследство.
Его имя означало «надежный гонец».
Он занимался биржевыми спекуляциями, главным образом ценными бумагами.
В периоды депрессии, которые всегда настигали его после злоупотребления алкоголем, наркотиками или женщинами, Констант тосковал только об одном: чтобы ему поручили единственное послание, весть великую и важную, достойную того, чтобы он смиренно пронес ее от места до места.
Под гербом, который Констант сам изобрел для себя, стоял простой девиз: «Гонец всегда готов».
Очевидно, Констант имел в виду послание первостепенной важности от самого Господа Бога к столь же высокопоставленному лицу.
Констант снова взглянул на свои солнечные часы. На то, чтобы слезть с фонтана и дойти до дома, у него оставалось две минуты — через две минуты Казак материализуется и примется рвать всех чужих, какие ему попадутся. Констант рассмеялся, представив себе, как обрадуется миссис Румфорд, если вульгарный выскочка, мистер Констант из Голливуда, все отведенное для визита время просидит на верхушке фонтана, осаждаемый чистокровным мастифом. Может, миссис Румфорд даже прикажет пустить воду.
Вполне возможно, что она уже видит Константа — дом, окруженный стриженым газоном раза в три шире чем тропинка, был всего в минуте ходьбы.
Особняк Румфордов был мраморный — раздутая копия банкетного павильона в Уайтхолле в Лондоне. Этот особняк, как большая часть богатых домов в Ньюпорте, был похож, как родной брат, на почтовые конторы и федеральные здания суда, разбросанные по всей стране.
Особняк Румфордов до смешного буквально воплощал образное выражение «люди с весом». Бесспорно, это было одно из грандиознейших воплощений увесистости — после пирамиды Хеопса. В своем роде он был даже более убедительным утверждением незыблемости, чем Великая пирамида: ведь Великая пирамида по мере приближения к небу сходит на нет. А в особняке Румфордов ни одна деталь не сходила на нет но мере приближения к небу. Переверни его вверх ногами — и он будет выглядеть точно так же, как раньше.
Увесистость и устойчивость особняка, безусловно, казалась явной насмешкой над тем, что сам бывший хозяин дома материализовывался всего на один час каждые пятьдесят девять дней, а в остальное время весил не больше лунного луча.
Констант слез с фонтана, ступая на ободки чаш, диаметр которых все увеличивался. Когда он добрался до самого низа, ему ужасно захотелось посмотреть, как фонтан действует. Он подумал о толпе за стенами, о том, как им, наверное, поправится, если фонтан заработает. Они прямо обалдеют, глядя, как малюсенькая чашечка на самой верхушке переполняется и вода стекает в другую маленькую чашечку… а из этой маленькой чашечки перетекает в следующую маленькую чашечку… а из следующей маленькой чашечки переливается в следующую маленькую чашечку… и дальше, и дальше: рапсодия переливов, где каждая чашечка поет свою радостную водяную песенку. А внизу, под всеми этими чашечками, разверстая пасть самой большой чаши… подлинный зев Вельзевула, пересохший, ненасытный… жаждущий, жаждущий, ждущий первой, сладостной капли.
Констант впал в транс, вообразив, что фонтан действует. Фонтан превратился почти в галлюцинацию — а галлюцинации, обычно под действием наркотиков, — это было едва ли не единственное, что еще могло удивить и позабавить Константа.
Время летело. Констант не двигался.
Где-то в саду раздался гулкий лай мастифа. Это мог быть только Казак, космический пес. Казак материализовался. Казак почуял чужака, выскочку.
Констант одним духом пролетел расстояние, отделявшее его от дома.
Дворецкий, глубокий старик в старомодных штанах до колен, открыл дверь Малаки Константу из Голливуда. Дворецкий плакал от радости. Он показывал в глубь комнаты, а что там, Малаки не было видно. Дворецкий старался объяснить, чему он так радуется, отчего заливается слезами. Говорить он не мог. Челюсть у него ходила ходуном, и мог только бормотать: «Па-па-па-па-па».
Пол в вестибюле был выложен мозаикой, изображавшей золотое Солнце в окружении знаков Зодиака.
Уинстон Найлс Румфорд, материализовавшийся минуту назад, вышел в вестибюль и встал прямо на Солнце. Он был гораздо выше и сильнее Малаки Константа — и, собственно говоря, это был первый человек, при виде которого Малаки подумал, что кто-то может в самом деле дать ему сто очков вперед. Уинстон Найлс Румфорд протянул ему мягкую ладонь, поздоровался с ним запросто, почти пропел свои слова сочным тенором.
— Как я рад, как я рад, как я рад, мистер Констант, — пропел Румфорд. — Как мило. что вы пришли к наммммммммммм!
— Это я рад, — сказал Констант.
— Мне говорили, что вы, очевидно, самый счастливый человек на свете.
— Пожалуй, немного сильно сказано, — сказал Констант.
— Но вы же не станете отрицать, что с деньгами вам всегда сказочно везло» — сказал Румфорд. Констант покачал головой.
— Да нет. Чего уж тут отрицать, — сказал он.
— А почему вам такое счастье привалило, как вы считаете? — спросил Румфорд.
Констант пожал плечи.
— Кто его знает, — сказал он. — Может, кто-нибудь там, наверху, хорошо ко мне относится.
Румфорд поднял глаза к потолку.
— Какая прелестная мысль — думать, что вы пришлись по душе кому-то там, наверху.
Пока шел этот разговор, рукопожатие все длилось и Константу вдруг показалось, что его собственная рука стала маленькой, вроде когтистой лапки.
Ладонь Румфорда была мозолистая, но не загрубевшая местами, как у человека, обреченного до конца дней своих заниматься одним видом труда. Эта ладонь была покрыта изумительно гладкой и ровной мозолью, образованной тысячью разных приятных занятий, — ладонь деятельного представителя праздного класса.
Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, — просто некий аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от Солнца до Бетельгейзе. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся: его руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток.
Приглашение миссис Румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа, он не обратил внимания на высокомерный тон, тушеваться перед ней он не собирался. Констант был мужчиной, а миссис Румфорд — женщиной, и Констант был уверен, что при первой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство.
А вот Уинстон Найлс Румфорд — тут дело другое, он куда сильней во всем, что касается духа, пространства, положения в обществе, секса и даже электричества. Рукопожатие и улыбка Уинстона Найлса Румфорда разрушили самомнение Константа так же быстро и умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель.
Констант, считавший себя достойным гонцом для самого Всемогущего Господа Бога, вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорда. Констант лихорадочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал, неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях, удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетели, какие можно было найти только в трех миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на красной ленточке — награда за второе место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом помещении в университете штата Виргиния.
Улыбка Румфорда продолжала сиять.
Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике: Констант вспорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить что-нибудь стоящее, в секретном кармашке. Не было там никакого секретного кармана — и ничего стоящего. У Константа в руках остались только ошметки от памяти — распотрошенные, жеваные лоскутья.
Древний дворецкий, с обожанием глядя на Румфорда, корчился и извивался в приступе раболепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения Мадонны.
— Мой хо-сяин, — умильно блеял он, — мой молодой хо-сяин!
— Кстати, я читаю ваши мысли, — сказал Румфорд.
— Правда? — робко отозвался Констант.
— Нет ничего легче, — сказал Румфорд. В глазах у него замелькали искорки. — Вы неплохой малый, знаете ли, — сказал он, — особенно когда забываете, кто вы такой.
Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана — вульгарный, рассчитанный на публику жест человека, который у себя дома, среди себе подобных, готов изворачиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться.
— Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя хоть в чем-то выше меня, — сказал он ласково, — думайте вот о чем: вы можете делать детей, а я не могу.
Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу великолепных покоев.
В одном зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной, писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони. На девочке была белая шляпка, белое накрахмаленное платьице, белые перчатки, белые носочки и белые туфельки.
Это была самая чистенькая, белоснежная, замороженная маленькая девочка из всех, кого Малаки Констант когда-либо видел. У нее на лице застыло странное выражение, и Констант решил, что она очень боится хоть чуточку замараться.
— Хорошая картина, — сказал Констант.
— Представляете себе, какой будет ужас, если она шлепнется в грязную лужу? — сказал Румфорд.
Констант неуверенно ухмыльнулся.
— Моя жена в детстве, — отрывисто пояснил Румфорд и вышел из комнаты впереди Константа.
Он повел гостя в темный коридор, а оттуда в крохотную комнатушку, не больше кладовки для щеток. Она была десяти футов в длину, шести в ширину, но потолок, как в остальных комнатах, был высотой в двадцать футов. Так что комната смахивала на трубу. Там стояли два кресла с подголовниками.
— Архитектурный курьез, — сказал Румфорд, закрывая дверь и глядя вверх, на потолок.
— Простите? — сказал Констант.
— Эта комната, — сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он описал магическую спираль, словно показывая на невидимую винтовую лестницу. — Одна из немногих вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой, — вот эта комнатка.
Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимавшиеся на шесть футов у стены, где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выброшенная морем, а на ней голубой краской было написано: «МУЗЕЙ СКИПА».
Музей Скипа был музеем бренных останков — эндоскелетов и экзоскелетов[11] — там были раковины, кораллы, кости, хрящи, панцири хитонов[12], — прах, огрызки, объедки давно отлетевших душ. Большинство экспонатов были из тех, которые ребенок — судя по всему Скип — мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были и явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией.
Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины.
Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный, закрученный винтом бивень нарвала, на который Скип в шутку прицепил этикетку «Рог Единорога».
— А кто это Скип? — спросил Констант.
— Это я, — сказал Румфорд. — То есть был я.
— Не знал, — сказал Констант.
— Семейное прозвище, понимаете ли, — сказал Румфорд.
— Угу, — сказал Констант.
Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое.
— Ангелы, кстати, тоже не могут, — сказал Румфорд.
— Чего не могут? — спросил Констант.
— Делать детей, — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую и вставил ее в длинный костяной мундштук.
— Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться с вами, — сказал он. — Это она не от вас прячется, а от меня.
— От вас? — сказал Констант.
— Именно, — сказал Румфорд. — После первой материализации она меня ни разу не видела. — Он невесело засмеялся. — С нее одного раза было достаточно.
— Я — простите, — сказал Констант. — Я не понял.
— Ей не по вкусу мои предсказания, — сказал Румфорд. — То немногое, что я ей сообщил о ее будущем, очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет.
Он откинулся в кресле и глубоко затянулся.
— Говорю вам, мистер Констант, — сказал он благодушно, — неблагодарное это. дело — твердить людям, что мы живем в жестокой, суровой Вселенной.
— Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня, — сказал Констант.
— Я ей передал через дворецкого, — сказал Румфорд. — Я просил ей сказать, что она ни за что вас не пригласит А то бы она вас ни за что и не пригласила. Можете запомнить, единственный способ заставить ее что-то сделать — это сказать, что у нее на это не хватит духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, если бы я сейчас велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне, что я совершенно прав.
— А вы — вы и вправду можете видеть будущее? — спросил Констант Кожа у него на лице словно съежилась, ему казалось, что она усохла. Ладони у него были мокрые от пота.
— Если говорить точно — да, — сказал Румфорд. — Когда я загнал свой космический корабль в хроно-синкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что все когда-либо бывшее пребудет вечно. а все, что будет, существовало испокон веков. — Он снова посмеялся немного. — Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного не остается, — дело простое, житейское, проще не придумаешь.
— Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться? — спросил Констант. Вопрос был задан походя. Константу не было никакого дела до того, что случится с женой Румфорда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся, поэтому спросил про жену Румфорда.
— Да нет, не все, — ответил Румфорд. — Она не дала мне рассказать все. Та малость, которую она успела услышать, начисто отбила у нее желание слушать дальше.
— Да-да, понимаю, — сказал Констант, хотя ничего не понял.
— Например, — добродушно сказал Румфорд, — я ей сказал, что вы с ней поженитесь на Марсе. — Он пожал плечами. — Не то чтобы поженитесь, — добавил он. — Просто марсиане подберут вас в пару друг другу, как подбирают племенной скот.
Уинстон Найлс Румфорд был представителем единственного подлинно американского класса. Это был подлинный класс, потому что он был четко ограничен в течение по меньшей мере двух столетий, и эти границы отчетливо видны любому, кто что-нибудь смыслит в определениях. Из небольшого класса, к которому принадлежал Румфорд, вышла десятая часть американских президентов, четверть путешественников-первопроходцев, треть губернаторов восточного побережья, половина ученых-орнитологов, три четверти великих американских яхтсменов и практически все жертвователи средств на содержание Гранд-оперы. В этом классе отмечается поразительное отсутствие шарлатанов, если не считать шарлатанов политических. Но политическое шарлатанство было всего лишь средством для завоевания важных постов — и никогда не касалось частной жизни. Добившись поста, представители этого класса, почти без исключения, становились на редкость честными и надежными людьми.
И если Румфорд ставил в вину марсианам то, что они разводили людей, как разводят породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила его класса в известной степени объяснилась разумными финансовыми операциями — но она куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от этого получатся.
Здоровые, обаятельные, умные дети — вот к чему они все стремились.
Самый компетентный, хотя н невеселый анализ класса, к которому принадлежал Румфорд, дан, несомненно, в книге Уолтема Киттриджа «Волхвы американского философа». Киттридж доказал, что класс по сути дела — большая семья, где все свободные концы подтягивают обратно к крепкому ядру кровною родства, аккуратно наматывают на общий клубок посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат и сестра и терпеть друг друга не могли.
И когда Киттридж дал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось разительно похожим на жесткий, похожий на тугой клубок, узел, называемый «мартышкин кулачок».
Уолтем Киттридж много напутал в своей книге «Волхвы американского философа», тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах. Как любой другой преподаватель колледжа, Киттридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные и непереводимые ученые термины.
Из всего высосанного из пальца киттриджского жаргона общеупотребительным стал только одни термин. Он звучал так: НЕ-НЕВРОТИЧЕСКАЯ ХРАБРОСТЬ.
Именно храбрость этою рода заставила Уинстона Найлса Румфорда отправиться в космос Это была храбрость в чистом виде — не только не связанная с жаждой славы или денег, но н без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда.
Кстати сказать, есть два самых обыкновенных слова, любое из которых может прекрасно заменить всю киттриджскую заумь. Вот эти слова: СТИЛЬ и ДОБЛЕСТЬ.
Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за это пятьдесят восемь миллионов долларов из собственного кармана это был стиль.
Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за хроно-синкластических инфундибулумов, а Румфорд заявил во всеуслышание, что отправляется на Марс, — это был стиль.
Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто космический корабль — просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс — не больше, чем прогулочка по коннектикутской автомагистрали, — это был стиль.
Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроно-синкластический инфундибулум, а Румфорд без оглядки швырнул свой корабль прямо в центр воронки — это была уже доблесть, без дураков.
Попробуем сравнить два контраста Малаки Константа из Голливуда и Уинстона Найлса Румфорда из Ньюпорта и Вечности.
Во всем, что бы ни делал Румфорд, был СТИЛЬ, и все человечество от этого выигрывало и казалось лучше.
А Малакн Констант всегда вел себя, как СТИЛЯГА — агрессивный, крикливый, ребячливый, расточительный, — что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому.
Константа так и распирала храбрость — только не-невротической ее не назовешь. Если он когда-нибудь проявлял храбрость, то чаще всего кому-то назло или потому, что с детства ему вбили в голову: трусят одни слабаки.
Когда Констант услышал от Румфорда, что ему предстоит быть спаренным с женой Румфорда на Марсе, он не мог смотреть в глаза Румфорду и перевел взгляд на стеллажи с бренными останками, занимавшие одну из сотен. Констант крепко сцепил пальцы, чтобы унять дрожь.
Констант несколько раз откашлялся. Потом он тоненько засвистел, прижав кончик языка к небу. Короче говоря, он вел себя, как человек, который старается перетерпеть острую боль, пока не полегчает. Он закрыл глаза и втянул воздух сквозь стиснутые зубы.
— О-ла-ла, мистер Румфорд, — сказал он негромко. — Значит, на Марс?
— На Марс, — сказал Румфорд. — Разумеется, это не конечный пункт назначения. И не Меркурий.
— Меркурий? — повторил Констант. Это красивое имя прозвучало, как неблагозвучное карканье.
— Конечный пункт назначения — Титан, — пояснил Румфорд. — Но сначала вы побываете на Марсе, на Меркурии и еще раз вернетесь на Землю.
Чрезвычайно важно понять, в какой именно точке истории точного исследования космоса Малаки Констант услышал о предстоящих ему визитах на Марс, Меркурий, Землю и Титан. Отношение землян к космическим исследованиям сильно напоминало отношение жителей Европы к плаваниям через Атлантику — еще до того, как Колумб отправился в путь.
Однако можно отметить три существенных различия: чудовищные трудности, преграждавшие космическим исследованиям путь к цели, были не воображаемые, а неисчислимые, ужасные, разнообразные и все без исключения грозили катастрофой; стоимость даже самого скромного запуска способна была пустить по миру почти любую нацию; к тому же было досконально известно что ни одна космическая экспедиция не принесет прибыли тем, кто вложит в нее деньги.
Короче говоря, все — от простого здравого смысла до глубочайших научных знаний — говорило не в пользу исследований космоса.
Давно миновало то время, когда одна нация старалась переплюнуть другую, запуская в бездонную пустоту разные тяжелые предметы. Кстати, «Галактическая Космоверфь» — корпорация, полностью подчиненная Малаки Константу, — получила самый последний заказ на изготовление такого рекламного чудища — ракеты высотой в три сотни футов и тридцати шести футов в диаметре. Ее даже построили, но «добро» на запуск так и не было дано.
Космический корабль назвали просто «Кит», и он был рассчитан на пять пассажирских мест.
А все работы были так резко прекращены из-за открытия хроно-сникластических инфундибулумов. Открытие было сделано на основе математических расчетов причудливых траекторий кораблей, которые запускали, по-видимому, для предварительных испытаний, без экипажа.
Открытие хроно-синкластических инфундибулумов как бы сказало всему человечеству «С чего это вы взяли, что вы куда-то доберетесь?»
Этой ситуацией воспользовались американские проповедники — фундаменталисты. Они раньше философов или историков, или кого бы то ни было извлекли смысл из этого усекновения Космической Эры. Не прошло и двух часов после того, как запуск «Кита» был отложен на неопределенное время, а преподобный Бобби Дентон уже разглагольствовал перед своими Крестоносцами Любви в Уилинге, Западная Виргиния:
— И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы ни один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как на вертел, на свой пронзительный, горячий и полный любви взгляд и принялся поджаривать их целиком над раскаленными угольями их собственных прегрешении.
— Не настало ли время, реченное в Библии? — вещал он, — Разве мы не воздвигли башню из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не стремились, как те древние строители, добраться до самого Неба? Разве мы не слышали собственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке математики.
Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона, а Крестоносцы Любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела.
— Так что же мы вопием в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строителям Вавилонской башни: «Стойте! Разойдитесь! По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы то ни было не взмоститесь! Рассейтесь, повелеваю вам! Перестаньте говорить друг с другом на ученом языке! Не отстанете вы ни от чего, что задумаете сделать, а мне это ни к чему! Я, ваш Господь Вседержитель, ХОЧУ, чтобы вы отстали от многого, чтобы вы перестали помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого Неба, а задумались бы о том, как стать лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми и сыновьями. Не ищите спасения в ракетах — ищите его в ваших домах и храмах!»
Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно.
— Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самый чудесный космический корабль во Вселенной! Да! Скорость? Мечтаете о скорости? Данный вам Богом космический корабль несется со скоростью шестьдесят шесть тысяч миль в час — и будет вечно нестись с такой скоростью, если будет на то божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный космический корабль, со всеми удобствами? Он у вас есть! И на нем есть место не только для богатея с его псом, и не для пяти, и не для десятка пассажиров! Нет! Бог — не какой-нибудь крохобор! Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей! Да! И им не надо пристегиваться ремнями к креслам или надевать на головы аквариумы для рыбок. Нет! На божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа Бога могут плескаться в речке, гулять по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках, и всей семьей выезжать на природу в собственной машине по воскресеньям после церкви, и подавать курицу на семейный стол!
Бобби Дентон кивнул.
— Да! — сказал он. — И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе препятствия, мешающие нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль Господь уже даровал нам. И нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать голову, соображая, какое топливо лучше. Нет! Бог сам об этом позаботился.
И Бог сказал нам, что МЫ САМИ должны делать на этом чудесном космическом корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть физиком или великим химиком, или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет! И этих правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом «Кита» необходимо проверить одиннадцать тысяч разных параметров, чтобы убедиться, что он готов к полету: закрыт ли тот клапан, открыт ли этот, натянута ли та проволока, заполнен ли этот бак — и так далее, пока не проверят все одиннадцать тысяч мелочей. А у нас, на космическом корабле Господа Бога, нужно проверить только десять пунктов — и не ради какого-то мелкого перелетика к отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство Небесное! Подумайте только! Где бы вам хотелось быть завтра — на Марсе или в Царстве Небесном?
Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого космического корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стартовый отсчет Господа Бога?
Крестоносцы Любви дружно закричали: «Хотим!»
— Десять! — провозгласил Бобби Дентон. — Желаешь ли ты дом своего ближнего, или слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо, принадлежащее ближнему твоему?
— Нет! — закричали хором Крестоносцы Любви.
— Девять! — провозгласил Бобби Дентон. — Даешь ли ты на ближнего своего свидетельство ложно?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Восемь! — провозгласил Бобби Дентон. — Крадешь ли ты?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Семь! — провозгласил Бобби Дентон. — Творишь ли ты прелюбодеяние?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Шесть! — провозгласил Бобби Дентон. — Убиваешь ли ты?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Пять! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты отца твоего и матерь твою?
— Да! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Четыре! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты день субботний и отдыхаешь ли ты от трудов?
— Да! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Три! — провозгласил Бобби Дентон. — Поминаешь ли ты имя Господа твоего всуе?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Два! — провозгласил Бобби Дентон. — Сотворил ли ты себе кумиров?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Один! — провозгласил Бобби Дентон. — Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа истинного?
— Нет! — крикнули Крестоносцы Любви.
— Пуск! — во весь голос радостно возгласил Бобби Дентон. — Мы летим к тебе, Рай! Стартуйте, дети мои и аминь!
— Что ж, — пробормотал Малаки Констант, сидя в похожей на трубу комнатушке под лестницей в Ньюпорте, — похоже, что гонец в конце концов понадобился.
— Это вы о чем? — спросил Румфорд.
— Мое имя — оно означает «надежный гонец», — сказал Констант. — Какое будет послание?
— Извините, — сказал Румфорд. — Я ничего не знаю ни о каком послании. — Он насмешливо наклонил голову набок. — А вам что, кто-нибудь говорил о послании?
Констант протянул к нему руки ладонями вверх.
— То есть как — зачем же мне тогда мучиться, добираться до этого Тритона?
— До Титана, — поправил его Румфорд.
— Титан, Тритон, — сказал Констант. — За каким бесом я потащусь в такую даль?
«Бес» было жалкое, девчонское, бойскаутовское слово, непривычное для Константа И он сразу понял, почему оно напросилось ему на язык. «Бес!» — так говорили космонавты в телевизионных сериях, когда метеорит сшибал у них панель управления или когда навигатор оказывался космическим пиратом с планеты Циркон. Он встал.
— За каким чертом я туда потащусь?
— Так надо — даю вам слово.
Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность.
— Я вам прямо говорю, — сказал он. — Я отказываюсь.
— Очень жаль, — сказал Румфорд.
— Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда?
— Нет, — сказал Румфорд.
— Тогда почему это вам «очень жаль»? — спросил Констант. — Вам-то какое дело?
— Никакого, — сказал Румфорд — Это мне вас жаль.
Вы многое потеряете.
— Например? — сказал Констант.
— Скажем — самый приятный климат во всей Вселенной, для начала, — сказал Румфорд.
— Климат? — презрительно бросил Констант. — У меня дома в Голливуде, в Кашмирской долине, в Акапулько, в Манитобе, на Таити, в Париже, на Бермудских островах, в Риме, Нью-Иорке и Кейптауне, и я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата?
— На Титане не только приятнейший климат, — сказал Румфорд. — Женщины, например, — самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и Бетельгейзе.
Констант рассмеялся горьким смехом.
— Женщины! — сказал он. — Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви красивых женщин? — то я истосковался по любви и единственное, что мне осталось, — это забраться в ракету и вылететь на одну из лун Сатурна? Вы что, шутите? У меня были такие красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Бетельтейзе плюхнется на пол и разревется, если такая скажет ему «здрасьте!».
Он вытащил бумажник и вытянул из него фотографию своей последней любовницы. Спорить было не о чем — девушка на фотографии была сногсшибательно хороша. Это была «мисс Панамский канал» а в соревновании на звание «мисс Вселенная» она заняла второе место хотя была в сто раз красивее победительницы. Просто ее красота перепугала судей.
Констант протянул фотографию Румфорду.
— Есть такие красотки там, на Титане? — сказал он Румфорд внимательно рассмотрел фотографию, отдал ее обратно.
— Нет, — сказал он — На Титане ничего подобного нет.
— О-кей, — сказал Констант, снова чувствуя себя полновластным хозяином своей судьбы, — климат красивые женщины — что там еще?
— Больше ничего, — миролюбиво сказал Румфорд. Он пожал плечами — Произведения искусства, если вы интересуетесь искусством.
— У меня самая большая коллекция произведений искусства в мире, — сказал Констант.
Свою прославленную коллекцию произведений искусства Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец — точнее, агенты его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит Коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету Управляющего внешними сношениями концерна «Магнум Опус», который был создан с единственной целью — заниматься делами Константов.
Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег.
— Значит, об искусстве говорить нечего, — сказал Румфорд.
Констант уже собирался положить фотографию «мисс Панамский канал» обратно в бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две. Он подумал, что это фото предшественницы «мисс Панамский канал», и решил, что ее тоже можно показать Румфорду — пусть посмотрит, какую потрясную красотку — первый сорт! — он взял да и выставил за дверь.
— А вот тут еще одна, — сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорду.
Румфорд пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо в глаза Константу и лукаво усмехнулся.
Констант взглянул на фотографию, к которой так пренебрежительно отнеслись. Он увидел, что это вовсе не портрет предшественницы «мисс Панамский канал». Эту фотографию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, хотя глянцевая и с белыми краями.
В белой рамке открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное стеклянное окно, за которым лежит прозрачный, неглубокий залив с коралловым дном. На дне этого как бы кораллового залива были три женщины — белая, золотая, темнокожая. Они глядели вверх, на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их совершенными.
Их красота затмевала красоту «мисс Панамский канал», как сияние Солнца — мерцание светлячка.
Констант снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты, чтобы не заплакать.
— Если хотите, можете оставить картинку себе, — сказал Румфорд. — Она как раз по размеру бумажника. Констант не знал, что сказать.
— Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан, — сказал Румфорд, — но она не помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами, но проявит такую же терпимость, как Беатриса.
— Сын? — повторил Констант. Никакого сына у него не было.
— Да — славный мальчик, по имени Хроно, — сказал Румфорд.
— Хроно? — повторил Констант.
— Имя марсианское, — сказал Румфорд. — Он родится на Марсе, от вас и Беатрисы.
— Беатрисы? — повторил Констант.
— Это моя жена, — сказал Румфорд. Он сделался совсем прозрачным. И голос у него начинал дребезжать как в дешевом транзисторном приемнике.
— Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик, — сказал он. — Одни несут послания, другие — нет. Настоящий хаос, это точно, потому что Вселенная только рождается. Великое становление — вот что производит свет, теплоту и движение и бросает вас то туда, то сюда.
— Пророчества, пророчества, пророчества, — задумчиво протянул Румфорд. — Не позабыл ли я чей-нибудь сказать? О-о-о-да, да, да. Этот ваш сын, мальчик по имени Хроно.
— Хроно подберет на Марсе маленькую металлическую полоску, — сказал Румфорд, — и назовет ее своим талисманом. Не спускайте глаз с этого талисмана, мистер Констант. Это невероятно важно.
Уинстон Найлс Румфорд исчез постепенно, начиная с кончиков пальцев и кончая улыбкой. Улыбка держалась еще некоторое время спустя после того, как он исчез.
— Увидимся на Титане, — сказала улыбка. И растаяла в воздухе.
— Все кончено, Монкрайф? — спросила миссис Уинстон Найлс Румфорд у дворецкого, стоя наверху винтовой лестницы.
— Да, мэм, он от нас ушел — ответил дворецкий — И собака тоже.
— А этот мистер Констант? — спросила миссис Румфорд, Беатриса. Она притворялась тяжело больной — нетвердо стояла на ногах, щурилась и моргала, а голос у нее был еле слышный, как шелест ветра в листве На ней был длинный белый пеньюар, падавший мягкими складками, которые легли спиралью, закрученной против часовой стрелки, как и винтовая лестница. Шлейф пеньюара стекал, как водопад, с верхней ступеньки, и Беатриса как бы становилась архитектурной деталью особняка.
Ее высокая прямая фигура была зрительным завершением, острием всей рассчитанной на зрителя конструкции Черты ее лица никакого значения не имели. Величественная композиция нисколько бы не пострадала, если бы у Беатрисы вместо головы было пушечное ядро.
Но у Беатрисы было лицо — интересное и необычное. Оно могло бы напомнить лицо индейского воина, с чуть выдающимися передними зубами. Но любой, кому это пришло бы в голову, поспешил бы прибавить, что от нее глаз не оторвешь. У нее, как и у Малаки Константа, было единственное в своем роде лицо — поразительная вариация на избитую тему, — так что каждый собеседник невольно ловил себя на мысли: «Да, лицо не как у людей, а красота? Побольше бы таких!»
А Беатриса обошлась со своим лицом, по сути дела, как могла бы любая дурнушка. Она покрыла его гримом достоинства, страдания, ума, добавив пикантную черточку презрительного высокомерия.
— Да, — откликнулся снизу Констант. — Этот мистер Констант все еще здесь.
Он стоял у нее на виду, опершись на колонну под аркой, ведущей в вестибюль. Но его так заслоняли архитектурные излишества, он помещался так низко в общей композиции, что стал практически невидимым.
— О! — сказала Беатриса — Здравствуйте.
Это было очень холодное приветствие.
— Здравствуйте! — подчеркнуто любезно отозвался Констант.
— Мне остается только воззвать к вашему врожденному благородству, — сказала Беатриса, — и просить вас, как джентльмена, не распространять повсюду слухи о вашей встрече с моим мужем. Конечно, я вполне могу понять, какое это великое искушение.
— Ну да, — сказал Констант. — я мог бы получить за рассказ об этой встрече кучу денег, выкупить закладную на домишко и стать всемирной знаменитостью. Мог бы якшаться с великими мира сего и с их охвостьем и кривляться перед коронованными особами в Европе на манер цирковой собачонки.
— Простите великодушно, — сказала Беатриса — но ваши ядовитые шуточки и блистательный сарказм до меня как-то не доходят, мистер Констант. После визитов мужа я чувствую себя совсем больной.
— Вы же с ним больше не видитесь как будто? — спросил Констант.
— Я виделась с ним в первый раз, — сказала Беатриса, — и этого достаточно, чтобы мне стало тошно до конца жизни.
— А мне он очень понравился, — сказал Констант.
— Подчас и сумасшедшие не лишены обаяния.
— Сумасшедшие? — переспросил Констант.
— Вы же знаете жизнь, мистер Констант, — сказала Беатриса. — Как можно, по-вашему, назвать человека, который изрекает путаные и в высшей степени неправдоподобные предсказания?
— Это как посмотреть, — сказал Констант. — Разве так уж безумно и неправдоподобно — сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос?
Эта новость — о том, что Констант владеет космическим кораблем, — поразила Беатрису. Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей спирали, отделившись от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее истинный облик — перепуганной, одинокой женщины в громадном доме.
— У вас и вправду есть космический корабль? — спросила она.
— Компания, которой я заправляю, держит один такой в своих руках, — сказал Констант — Про «Кита» слыхали?
— Да, — сказала Беатриса.
— Моя компания продала его правительству, — сказал Констант. — Сдается мне, что они будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по пяти центов за доллар.
— Желаю вам счастливого пути, — сказала Беатриса.
Констант поклонился.
— А я желаю ВАМ счастливого пути, — сказал он.
И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению Зодиака на полу вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз, а не возносится вверх. Констант стал самой нижней точкой в водовороте рока. Выходя из дверей, он с радостью сознавал, что тащит за собой низвергнутое величие дома Румфордов.
Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать сына по имени Хроно, Констант не собирался увиваться за ней. добиваться ее, — даже открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался. Он был намерен заниматься своими делами, а эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как простая девка.
Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из низенькой дверцы в стене.
Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже.
Полиция расчистила узкую дорожку в толпе, Констант пробрался по ней, нырнул в машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сливались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обещали, не получив ничего, чувствовали, что их бессовестно провели.
Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа.
Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой плоти.
Какой-то лысый тип, готовый убить Константа, ударил по стеклу булочкой с запеченной котлетой внутри, раздавил булочку, расплющил котлету — на стекле осталось тусклое, тошнотворное пятно от горчицы и соуса, похожее на солнышко с лучами.
— Ай-яй-яй! — вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу то, что, наверно, не показывала ни одному мужчине. Она показала ему, что передние резцы у нее вставные. Она так надрывалась, что протез выпал. Она завывала, как ведьма.
Мальчишка влез на капот, заслоняя ветровое стекло. Он выдрал дворники, швырнул их в толпу. Машина выбиралась из толпы сорок пять минут. Там, поближе к краю, уже не было психов, люди вели себя почти нормально.
И только тогда их крики стали членораздельными.
— Скажите же нам! — прокричал человек, попросту разобиженный, но не потерявший человеческий облик.
— Мы имеем право! — крикнула женщина. Она показывала Константу двух славных детишек.
Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право.
— Мы имеем право знать, что происходит! — крикнула она.
Значит, весь этот тарарам-всего лишь научно-теологическое упражнение: живые люди хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни.
Шофер наконец увидел перед собой открытую дорогу и выжал акселератор до отказа. Машина с ревом рванулась вперед.
Мимо пронеслось огромное объявление: ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ПРИЯТЕЛЯ В НАШУ ЦЕРКОВЬ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ!
Завывания в космосе
«Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторой бесчувственности».
Лимузин с ревом вырвался из Ньюпорта, свернул на проселочную дорогу, вовремя поспел к вертолету, ожидавшему на лугу.
Малаки Констант задумал эту пересадку из машины на вертолет, чтобы никто не смог за ним угнаться, не смог разузнать, кто такой этот посетитель поместья Румфордов, замаскированный темными очками и фальшивой бородой.
Никто не знал, где находится Констант.
Шофер и пилот тоже не знали, кого везут. Оба они считали, что Констант — мистер Иона К. Раули.
— Мист-Раули, cаp? — сказал шофер, когда Констант вылез из машины.
— Что? — сказал Констант.
— Вы не испугались, cap? — спросил шофер.
— Испугался? — повторил Констант, чистосердечно озадаченный вопросом. — А чего мне пугаться?
— Чего? — переспросил шофер, словно не веря своим ушам. — Да всех этих психов, которые нас линчевать хотели!
Констант улыбнулся и покачал головой. В какую бы передрягу он ни попадал, ему ни разу в голову не приходило, что он может пострадать.
— Паника еще никому не помогала, знаете ли, — сказал он. И почувствовал, что говорит, подражая не только словам Румфорда, но и певучим аристократическим переливам его голоса.
— Вот это да! У вас, наверное, есть какой-то ангел-хранитель — оттого-то вы и глазом не моргнули в такой заварухе! — восхищенно сказал шофер.
Это замечание показалось Константу интересным — шофер точно описал его поведение среди озверевшей толпы. Поначалу он воспринял его слова, как некое поэтическое описание своего настроения. Человек, у которого есть свой личный ангел-хранитель, чувствовал бы себя точь-в-точь, как Констант…
— Да, cap! — сказал шофер. — Кто-то вас оберегает, это уж точно!
И тогда Константа осенило: А ведь так оно и есть.
До этого момента озарения Констант воспринимал свое ньюпортское приключение, как очередное видение наркомана — как привычное сборище потребителей пейотля — яркое, непривычное, увлекательное — но абсолютно ни к чему не обязывающее.
Эта низенькая дверца — словно во сне… нереальный фонтан… громадный портрет девочки-недотроги в белом, с белой, как снег, лошадкой… похожая на трубу комнатка под винтовой лестницей… фотография трех сирен Титана… пророчества Румфорда… и Беатриса Румфорд, растерянная, на верхней ступеньке лестницы…
Малаки Константа прошиб холодный пот. Колени у него грозили подломиться, а веки задергались. До него наконец дошло, что все это было на самом деле! Он ничуть не волновался в водовороте взбешенной толпы, потому что знал, что ему не суждено умереть на Земле.
Его и вправду кто-то оберегал.
И кто бы это ни был, он берег его шкуру для —
Констант только постанывал, считая на пальцах главные пункты назначения в одиссее, которую ему предрек Румфорд.
Марс.
Потом Меркурий.
Потом снова Земля.
Потом — Титан.
Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там Малаки Константа и ждет смерть. Его там ждет смерть!
Чему это Румфорд так радовался?
* * *
Констант дотащился до вертолета, ввалился внутрь, заставив голенастую, неустойчивую птицу закачаться.
— Вы Раули? — спросил пилот.
— Точно, — сказал Констант.
— Имя у вас чудное, мистер Раули, — сказал пилот.
— Простите? — неприязненно бросил Констант.
Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину, смотрел на вечернее небо. Он думал: неужели оттуда, сверху, и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом? И если там наверху есть такие глаза и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки, посещал какие-то места — то как они его заставят?
Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто!
— Я говорю, имя у вас чудное, — повторил пилот.
— Какое еще имя? — спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое придумал ради маскировки.
— Иона, — сказал пилот.
Через пятьдесят девять дней Уинстон Найлс Румфорд и его верный пес Казак материализовались снова. За это время многое произошло.
Во-первых, Малаки Констант продал все принадлежавшие ему акции «Галактической Космоверфи» — того концерна, который владел космическим кораблем под названием «Кит». Он это сделал нарочно — чтобы его ничто не связывало с единственным реальным средством сообщения, способным лететь на Марс. А вырученные деньги он вложил без остатка в акции табака «Лунная Дымка».
Во-вторых, Беатриса Румфорд ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги и все вырученные деньги — без остатка — вложила в «Галактическую Космоверфь», тем самым добившись решающего голоса во всем, что касалось «Кита».
Далее, Малаки Констант стал писать Беатрисе Румфорд издевательские письма, чтобы оттолкнуть ее от себя — чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее, написанное на фирменном бланке корпорации «Магнум Опус», корпорации, которая занималась исключительно финансовыми делами Малаки Константа.
Привет из солнечной Калифорнии, Космическая Крошка! Ух, не терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на Марсе! Таких, как ты, у меня еще не было, а я могу поспорить, что в вас-то и есть главная сладость. С любовью и поцелуями — для аппетита!
Кроме того, Беатриса купила ампулу с цианистым калием — гораздо более смертельную, чем аспид Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь окажется хотя бы в пределах одного часового пояса с Малаки Константом.
Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и Беатрису Румфорд. Она купила акции «Галактической Космоверфи» по ценам от 151,5 до 169 долларов. К десятой перепродаже они упали до 6 и на этом замерли, дрожа на табло мелькающими цифрами десятых и сотых. А так как Беатриса покупала не только за наличные, но и в кредит, она потеряла все, в том числе и свой дом в Ньюпорте. У нее осталась только одежда, благородное имя да утонченное образование.
Далее, Малаки Констант по прибытии в Голливуд закатил вечеринку, и только теперь, на пятьдесят шестой день, она подходила к концу.
Далее, молодой человек, обросший самой натуральной бородой, по имени Мартин Корадубьян, назвался таинственным незнакомцем, которого пригласили в поместье Румфордов посмотреть на материализацию. Он был часовщиком из Бостона, ремонтировал часы на солнечных батарейках и был очень милый лгунишка.
Его россказни закупил журнал за три тысячи долларов.
Сидя в музее Скипа под винтовой лестницей, Уинстон Найлс Румфорд с удовольствием и восхищением читал рассказ Корадубьяна в журнале. Корадубьян врал, будто Румфорд сказал ему, что произойдет в десятимиллионном году от Рождества Христова.
В десятимиллионном году, по словам Корадубьяна, произойдет грандиозная генеральная уборка. Все документы, относящиеся к периоду между смертью Христа и миллионным годом нашей эры, свалят в одну кучу и сожгут. Это придется сделать, сказал Корадубьян, потому что всякие музеи и архивы займут столько места, что людям буквально негде будет жить.
Тот период в миллион лет, к которому относилась вся спаленная ветошь, будет подытожен в учебниках истории одной-единственной фразой: «После кончины Иисуса Христа начался период перестройки, длившейся примерно один миллион лет».
Уинстон Найлс Румфорд рассмеялся и отложил журнал со статьей Корадубьяна. Он больше всего на свете любил здорово закрученные розыгрыши.
— Десять миллионов от Рождества Христова, — сказал он вслух, — самый подходящий год для фейерверков, парадов и всемирных ярмарок. Самое время подкладывать порох под краеугольные камни и вытаскивать на свет божий контейнеры с посланиями потомкам.
Румфорд вовсе не разговаривал сам с собой. В Музее Скипа он был не один.
С ним была его жена Беатриса.
Беатриса сидела напротив него в кресле с подголовником. Она сошла вниз, чтобы попросить у мужа помощи в великой беде.
Румфорд невозмутимо заговорил о другом.
Беатриса, и без того похожая на привидение в своем белом пеньюаре, стала белее свинцовых белил.
— Человек — великий оптимист! — умиленно сказал Румфорд. — Только подумай — надеется, что наш вид протянет еще десять миллионов лет, — как будто человек так же приспособлен к жизни, как черепаха! — Он пожал плечами. — Что ж — может, люди и дотянут до десятимиллионного года — из чистого упрямства. Как ты думаешь?
— Что? — сказала Беатриса.
— Угадай, сколько продержится род человеческий? — сказал Румфорд.
Из-за стиснутых зубов Беатрисы прорвался вибрирующий, пронзительный, непрерывный звук такой высоты, что человеческое ухо его почти не воспринимало. Этот стон звучал жутко, угрожающе, как свист стабилизаторов падающей бомбы.
И грянул взрыв. Беатриса опрокинула кресло, бросилась на скелет и швырнула его в угол, так что кости загремели: Она смела все начисто со стеллажей Музея Скипа, разбивая экспонаты о стены, дробя их об пол.
Румфорд был ошеломлен.
— Боже правый, — сказал он. — Что с тобой стряслось?
— Ах, ты разве не знаешь? — истерически выкрикнула Беатриса. — Тебе надо объяснять? Можешь читать мои мысли!
Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза.
— Помехи и шум — больше ничего не слышу, — сказал он.
— А чему же там еще быть, кроме шума! — сказала Беатриса. — Меня вот-вот выкинут на улицу, мне хлеба купить будет не на что — а мой муж посмеивается и предлагает поиграть в угадайку!
— Да ведь это не просто игра! — сказал Румфорд. — Я спрашивал, сколько протянет род человеческий. Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как бы в перспективе.
— К черту род человеческий! — сказала Беатриса.
— А ведь ты его частица, — сказал Румфорд.
— Тогда я попрошусь, чтобы меня перевели в обезьяны! — сказала Беатриса. — Ни один муж — обезьян не будет стоять, сложа руки, когда у его обезьянихи отнимают все кокосовые орехи. Ни один орангутанг не подумает отдавать свою жену в космические наложницы Малаки Константу из Голливуда, Калифорния!
Выпалив эти ужасные слова, Беатриса вдруг успокоилась. Она устало покачала головой.
— Сколько же протянет род человеческий, мудрец?
— Не знаю, — сказал Румфорд.
— А я-то думала, ты все знаешь, — сказала Беатриса. — Загляни в будущее, чего тебе стоит.
— Я заглядываю в будущее, — сказал Румфорд, — и я вижу, что меня не будет в Солнечной системе к тому времени, когда род человеческий вымрет. Так что для меня это такая же тайна, как и для тебя.
В Голливуде, Калифорнии, голубой телефон в хрустальной телефонной будке возле плавательного бассейна Малаки Константа заливался звоном.
Всегда прискорбно, когда человек падает ниже любого животного. Но еще более прискорбно падение человеческое, если ему были предоставлены все земные блага!
Малаки Констант спал мертвецким сном пьяницы, лежа в сточном желобе своего плавательного бассейна, изогнутого в форме почки. В стоке застоялось с четверть дюйма тепловатой воды. Констант был в вечернем костюме: зеленовато-голубые шорты и смокинг из золотой парчи. Костюм промок до нитки.
Он был совершенно один.
Когда-то бассейн скрывался под неровным ковром плавучих гардений. Но стойкий утренний бриз отогнал цветы к одному краю бассейна, как будто свернул одеяло в ногах кровати. Свернув одеяло, ветерок открыл дно бассейна, усеянное битым стеклом, вишневыми косточками, спиральками лимонной кожуры, «почками» пейотля, апельсиновыми дольками, консервированными оливками, маринованным луком. Среди мусора валялся телевизор, шприц и обломки белого рояля. Окурки сигар и сигарет — некоторые были с марихуаной — болтались на поверхности воды.
Плавательный бассейн был совсем не похож на спортивное сооружение, а смахивал на чашу для пунша в преисподней.
Одна рука Констаята свесилась в бассейн. Под водой у него на запястье поблескивали золотом часы на солнечной батарейке. Часы остановились.
Телефон не умолкал.
Констант что-то пробормотал, но не пошевелился.
Звонок умолк. А потом, через 20 секунд, снова зазвенел.
Констант застонал, сел, застонал.
Из глубины дома послышался энергичный, деловитый топоток — стук каблучков по выложенному плитками полу.
Сногсшибательная красотка с волосами цвета меди прошла от дома к телефонной будке, бросив на Константа заносчивый и презрительный взгляд.
Она жевала резинку.
— Да? — сказала она в телефон. — А, это вы. Ага, проснулся. Эй! — крикнула она Константу, Голос у нее был резкий, как у галки. — Эй ты, звездный кот! — орала она.
— Ум-м? — сказал Констант.
— Тут с тобой хочет говорить тип, что заправляет твоей компанией.
— Какой компанией?
— Вы какой компании президент? — спросила блондинка по телефону. Ей ответили. — «Магнум Опус», — сказала она. — Рэнсом К. Фэрн из «Магнум Опуса», — сказала она.
— Скажи ему — скажи, что я позвоню попозже, — сказал Констант.
Женщина повторила это Фэрну, выслушала ответ.
— Он говорит, что уходит.
Констант, шатаясь, поднялся на ноги, потер ладонями лицо.
— Уходит? — тупо повторил он. — Старый Рэнсом К. Фэрн уходит?
— Ага, — сказала женщина. Она злорадно улыбнулась. — Он говорит, это его жалованье тебе не по карману. Он говорит, чтобы ты зашел к нему поговорить, пока он не ушел домой. — Она захохотала. — Он говорит, что ты прогорел.
А тем временем в Ньюпорте Монкрайф, дворецкий, услышал грохот и шум, поднятый разъяренной Беатрисой, и явился в Музей Скипа.
— Кликали, мэм? — спросил он.
— Скорее кричала, Монкрайф, — сказала Беатриса.
— Спасибо, ей ничего не нужно, — сказал Румфорд. — У нас просто шел горячий спор.
— Как ты смеешь говорить, нужно мне что-то или не нужно? — набросилась Беатриса на Румфорда. — Я только сейчас начинаю понимать, что ты вовсе не всезнайка, только представляешься. Вообрази, что мне что-то очень нужно. Мне многое очень нужно!
— Мэм? — сказал дворецкий.
— Будьте добры, впустите Казака, — сказала Беатриса. — Мне хочется приласкать его па прощание. Мне хочется узнать, пропадает ли в хроно-синкластическом инфундибулуме любовь собаки, как пропадает любовь человеческая.
Дворецкий поклонился и вышел.
— Хорошенькую сцену ты разыграла перед дворецким, — заметил Румфорд.
— Если уж на то пошло, я сделала для чести семейства куда больше, чем ты. Румфорд сник.
— Я в чем-то не оправдал твоих надежд? Ты это хочешь сказать?
— В чем-то? Да буквально во всем!
— А чего бы ты от меня хотела?
— Ты мог бы меня предупредить, что назревает крах на бирже! — сказала Беатриса. — Ты мог бы меня спасти от беды.
Румфорд горестно развел руками, словно прикидывая размеры и весомость своих доводов в споре.
— Ну что? — сказала Беатриса.
— Хотелось бы мне, чтобы мы с тобой вместе попали в хроно-синкластический инфундибулум, — сказал Румфорд. — Ты бы сразу поняла, о чем я говорил. А пока могу только сказать, что я не предупредил тебя о биржевом крахе, повинуясь законам природы, точно так же, как комета Галлея, — и восставать против этих законов просто глупо.
— У тебя нет ни воли, ни чувства ответственности передо мной. Вот что ты сказал, — перебила Беатриса. — Извини за прямоту, но это чистая правда.
Румфорд замотал головой,
— Правда — боже ты мой, — какая точечная правда! — сказал он.
Румфорд снова углубился в свой журнал. Журнал сам собой раскрылся посередине на цветном вкладыше — это была реклама сигарет «Лунная Дымка». Компания «Табак „Лунная Дымка“» была недавно закуплена Малаки Константом.
Бездна наслаждений! — бросалась в глаза надпись на рекламе. А картинка под этим заголовком изображала трех сирен Титана. Вот они, во всей красе: белая девушка, золотая девушка, темнокожая девушка.
Золотая девушка прижала левую руку к груди, и два пальца случайно чуть раздвинулись, так что художник ухитрился сунуть в них сигарету «Лунная Дымка». Дымок от сигареты вился возле ноздрей белой и шоколадной девушек, и получалось, что их неземной, уничтожающий пространство чувственный экстаз был вызван мятным дымком — и только.
Румфорд знал, что Констант попробует опошлить картину, сделав из нее торговую рекламу. Папаша Константа устроил примерно то же самое, когда оказалось» что он не может купить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи ни за какие деньги. Старик отомстил «Моне Лизе», изобразив ее на рекламе аптекарских свечей от геморроя. Так свободные предприниматели расправлялись с красотой, которая грозила их победить.
Румфорд произвел губами звук, напоминающий жужжание. Обычно этот звук означал, что он кого-то едва не пожалел. На этот раз он едва не пожалел Малаки Константа, которому пришлось куда хуже, чем Беатрисе.
— Это все, что ты скажешь в свою защиту? — сказала Беатриса, заходя за спинку кресла. Руки у нее были скрещены на груди, и Румфорд ясно читал у нее в мыслях, что собственные острые, торчащие локти кажутся ей шпагами тореадора.
— Прошу прощенья — не понял? — сказал Румфорд.
— Молчишь? Прячешь голову в журнал — и это все твои возражения? — сказала Беатриса.
— Возражение — самое точечное слово из всех, — сказал Румфорд. — Я говорю, потом ты мне возражаешь, потом я тебе возражаю, а потом появляется третий и возражает нам обоим. — Его пробрала дрожь. — Как в страшном сне, когда все становятся в очередь, чтобы возражать друг другу.
— Ну, а сейчас, сию минуту, ты не мог бы подсказать мне, как играть на бирже, чтобы вернуть все и даже выиграть побольше? — сказала Беатриса. — Если в тебе осталось хоть немного сочувствия, ты мог бы мне сказать, как именно Малаки Констант из Голливуда собирается меня заманить на Марс — я бы хоть попробовала его перехитрить.
— Послушай, — сказал Румфорд. — Для пунктуального — точечного — человека жизнь вроде «лабиринта ужасов». — Он обернулся и потряс руками у нее перед глазами. — Тебя ждут сплошные острые ощущения! Конечно, — сказал он, — я вижу сразу весь лабиринт, по которому запустили твою тележку. И, само собой, я могу нарисовать тебе на бумажке все спуски и виражи, обозначить все скелеты, которые будут наскакивать на тебя в темных туннелях. Но это тебе ни капельки не поможет.
— Да почему же? — сказала Беатриса.
— Да потому, что тебе все равно придется прокатиться по этому лабиринту, — сказал Румфорд. — Не я придумал аттракцион, не я его владелец, и не мне назначать, кто будет кататься, а кто нет. Я просто знаю профиль трассы, и все.
— И Малаки Констант тоже входит в маршрут? — сказала Беатриса.
— Да, — сказал Румфорд.
— И его никак не объехать?
— Нет, — сказал Румфорд.
— Ладно, — тогда скажи мне хотя бы, по порядку, какие шаги приведут к нашей встрече, — сказала Беатриса. — А я уж постараюсь сделать все, что смогу.
Румфорд пожал плечами.
— Хорошо — если ты настаиваешь, — сказал он. — Если тебе от этого легче станет…
— В эту минуту, — сказал он, — президент Соединенных Штатов провозглашает Новую Космическую Эру, которая покончит с безработицей. Миллиарды долларов будут вложены в производство радиоуправляемых космических кораблей, чтобы дать людям работу. В ознаменование начала Новой Космической Эры в следующий вторник будет торжественно запущен в космос «Кит». «Кит», переименованный в «Румфорда» — в мою честь, — будет укомплектован командой из обыкновенных мартышек и направлен в сторону Марса. Вы оба — ты и Констант — будете почетными гостями. Вы войдете на борт корабля для церемонии осмотра и из-за неисправности пускового механизма отправитесь на Марс вместе с мартышками.
В этой точке стоит прервать повествование и отметить, что неправдоподобная история, которую услышала Беатриса, — редчайший пример того, как Уинстон Найлс Румфорд говорил заведомую ложь.
А вот что в рассказе Румфорда — правда: «Кит» будет действительно переименован и запущен во вторник, а президент Соединенных Штатов и вправду провозгласит начало Новой Космической Эры.
Некоторые высказывания президента по этому случаю небезынтересно вспомнить, учитывая, что президент произносил слово «прогресс» особенно щегольски, и получалось «прог-эрс». Он также придавал своеобразный шик словам «завоевания» и «мебельные гарнитуры», произнося их как «завывания» и «мебельные гарнэ-дуры».
— Есть еще люди, — сказал президент, — которые направо и налево кричат, что американская экономика устарела и прогнила насквозь. Честно говоря, я не пойму, как у них язык поворачивается: ведь именно сейчас перед нами открываются такие возможности для прогэрса, каких еще не знала история человечества.
И самый великий путь для прогэрса — это дорога в космос. Вселенная казалась неприступной крепостью, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогэрса.
Есть еще такие люди — малодушные нытики, они каждый божий день надоедают мне, приходят в Белый дом, скулят и льют слезы, и причитают: «Ох, мистер Президент, склады забиты автомобилями и аэропланами, и кухонными и мебельными гарнэдурами, и прочей пэрдукцией», — и они говорят: «Ох, мистер Президент, теперь никому не нужна никакая фабричная пэрдукция, потому что у всех уже есть всего по два, по три, по четыре».
Помню я одного типа, он фабрикант-мебельщик, у него на фабрике перепроизводство пэрдукции и в голове тоже одни мебельные гарнэдуры. Я ему и говорю: за двадцать лет население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей надо же будет на чем-то сидеть, так что мой вам совет: держите свои мебельные гарнэдуры про запас. А пока что выкиньте-ка из головы все эти гарнэдуры, лучше подумайте про наши завывания в космосе!
Я говорю это ему, и вам говорю, и всем говорю: космос может проглотить пэрдукцию триллиона таких планет, как Земля. Мы можем без конца строить и запускать ракеты и никогда не заполним космос, никогда не познаем его до конца.
Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают: «Ох, мистер Президент, а как же хроно-синкластические инфундибулумы, а как быть с тем, как быть с этим?» А я им говорю: «Если бы народы слушали таких, как вы, человечество бы не ведало, что такое прогэрс! Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главной, говорю я им, и вам говорю, и всем говорю:
«Людей в ракеты сажать не обязательно! Мы будем запускать только низших животных».
Он еще много чего говорил.
Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, вышел из хрустальной телефонной будки трезвый, как стеклышко. Ему казалось, что вместо глаз у него тлеющие головешки. Во рту был гнусный вкус, как будто он наелся пюре из попоны.
Одно он знал точно: рыжую красотку он раньше и в глаза не видал.
Он задал ей стандартный вопрос, пригодный на любой случай, когда все перевернулось вверх ногами:
— А где все остальные?
— Ты их выставил, — ответила красотка.
— Я? — сказал Констант.
— Ага, — ответила рыжая. — Ты что, забыл? Констант слабо кивнул. За пятьдесят шесть суток вечеринки он забыл практически все, начисто. У него было одно-единственное желание: лишить себя какого бы то ни было будущего — стать недостойным какой бы то ни было миссии, непригодным для какого бы то ни было путешествия. И это ему удалось — да так, что жуть брала.
— Да уж, это был чистый цирк, — сказала женщина. — Ты веселился не хуже других, даже помогал топить рояль в бассейне. А когда он утоп, ты вдруг разревелся.
— Разревелся, — как эхо, откликнулся Констант. Это было что-то новенькое.
— Ага, — сказала женщина. — Ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство, и заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизни на тебя ласково не посмотрел — он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал, что ты бубнишь, а когда было поразборчивей, то все про одно — мол, ни разу не посмотрел.
— А потом ты и про мамашу заговорил, — сказала женщина. — Ты сказал, что она была потаскуха и что ты сын потаскухи и этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет, пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали: «Я потаскуха, точь-в-точь, как твоя мать».
— А дальше что? — сказал Констант.
— Ты дал по нефтяной скважине каждой женщине, которая здесь была, — сказала рыжая. — А потом ты окончательно разнюнился, и ухватился за меня, и всем говорил, что я единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом ты всех выставил, кроме меня. И прислугу, и гостей.
— Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда, — сказала она. — А теперь выходит, что у тебя ни кола, ни двора — даже этот хрустальный писсуар уже не твой! Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок, гангстер, с тобой разберется — скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено, он тебе шею свернет.
— Черт подери, — сказала она. — У меня детство было похуже твоего. Мать моя была потаскуха, и отец дома тоже не бывал — но мы-то были еще и нищие, У тебя хоть были твои миллиарды.
Беатриса в Ньюпорте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге Музея Скипа, лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос дворецкого. Дворецкий стоял у входной двери и звал Казака, космического пса.
— Я тоже кое-что знаю про «лабиринты ужасов», — сказала Беатриса.
— Очень хорошо, — устало сказал Румфорд.
— Когда мне было десять лет, — сказала Беатриса, — моему отцу взбрело в голову, что я получу громадное удовольствие, если прокачусь по «лабиринту ужасов». Мы проводили лето на мысе Код, и он повез меня в парк развлечений за Фолл-Ривер.
— Он купил два билета на «лабиринт ужасов». Он сам хотел прокатиться со мной.
— А я как увидела эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез отказалась в нее садиться. Мой родной отец не сумел меня заставить в нее сесть, — сказала Беатриса, — хотя он был председателем Правления Центральной Нью-Йоркской железной дороги!
— Мы повернулись и ушли домой, — гордо заявила Беатриса. Глаза У нее разгорелись, и она высоко подняла голову.
— Вот как надо отделываться от катанья по разным лабиринтам, — сказала она.
Она выплыла из Музея Скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать Казака.
В ту же секунду она почувствовала — по электрическому току, — что муж стоит у нее за спиной.
— Би, — сказал он. — Тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только потому, что я знаю, как хорошо все кончится. Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так спокойно говорю о твоем спаривании с Константом, но ведь я только смиренно признаю, что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть.
— Жди и надейся — у тебя впереди настоящая любовь, первая любовь, Би, — сказал Румфорд. — Тебе представится возможность быть благородной, не имея ни малейшего доказательства твоего благородного происхождения. Знай, что у тебя все отнимется, кроме достоинства, разума и нежности, которые дал тебе Бог, — и радуйся, что тебе предстоит только из этого материала создать нечто совершенное и прекрасное.
Румфорд издал дребезжащий стон. Он начинал терять материальность.
— Господи, — сказал он. — Ты еще говоришь про «лабиринты ужасов». Вспоминай хоть изредка, на какой тележке я качусь. Когда-нибудь, на Титане, ты поймешь, как жестоко со мной обошлись и ради каких ничтожных пустяков.
Казак одним прыжком ворвался в дом, брыли у него мотались. Он приземлился, заскользил по натертому паркету.
Он перебирал лапами на одном месте, стараясь повернуть под прямым углом, подбежать к Беатрисе. Он бежал все быстрей и быстрей, но лапы скользили на месте.
Он сделался прозрачным.
Он начал съеживаться, шипеть и испаряться с диковинным звуком, как мячик для пинг-понга на раскаленной сковородке.
Потом он исчез.
Собаки больше не было.
Беатриса знала, не оглядываясь, что ее муж тоже исчез.
— Казак! — позвала она жалким голосом. Она щелкнула пальцами, словно подзывая собаку. Пальцы у нее так ослабели, что щелчка не получилось.
— Славный ты песик, — прошептала она.
Предпочитаю объединенную компанию «Пышки-пончики»
«Сынок — говорят, что в нашей стране нет никаких королей, но, если хочешь, я тебе скажу, как стать королем в Соединенных Штатах Америки. Проваливаешься в дырку в уборной и вылезаешь, благоухая, как роза. Вот и все».
«Магнум Опус» — корпорация в Лос-Анджелесе, занимавшаяся финансовыми делами Малаки Константа, — была основана отцом Малаки. Она помещалась в небоскребе, имевшем тридцать один этаж. «Магнум Опус», будучи владельцем всего небоскреба, занимала только три верхних этажа, а остальные сдавала в аренду корпорациям, находившимся под ее контролем.
Некоторые компании, недавно проданные корпорацией «Магнум Опус», выезжали. Другие, только что купленные, въезжали на их место.
Среди арендующих компаний были «Галактическая Космоверфь», «Табак „Лунная Дымка“», «Фанданго-Нефть», «Монорельс Леннокс», «Гриль „Момент“», Фармацевтическая компания «Здоровая юность», серный концерн «Льюис и Марвин», «Электроника Дюпре», «Всемирный Пьезоэлектрик», «Телекинез (Нелимитированный)», «Ассоциация Эда Мьюра», «Инструменты Макс-Мор», «Краски и Лакокрасочные Покрытия Уилкинсона», «Американская Левитация», «Рубашки „Счастливый король“», «Союз Крайнего Безразличия» и «Калифорнийская компания по страхованию жизни».
Небоскреб «Магнум Опус» представлял собой двенадцатиугольную стройную колонну, по всем двенадцати граням облицованную голубовато-зеленым стеклом, ближе к основанию приобретавшим розоватый оттенок. По утверждению архитектора, двенадцать граней должны были представлять двенадцать великих религий мира. До сих пор никто не просил архитектора их перечислить.
И слава богу, потому что он не смог бы этого сделать.
На самой верхушке примостился личный вертолет.
Констант прилетел на вертолете, и тень, снижающаяся на крышу в трепетном ореоле вращающегося винта, многим снизу показалась тенью и ореолом крыл Светоносного Ангела Смерти. Им это показалось, потому что биржа прогорела, и ни денег, ни работы взять было неоткуда.
Им это показалось еще и потому, что из всех прогоревших предприятий самый страшный крах постиг предприятия Малаки Константа.
Констант сам вел свой вертолет, потому что вся прислуга ушла накануне вечером. Пилотировал Констант из рук вон плохо. Он приземлился так резко, что дрожь от удара потрясла все здание.
Он прибыл на совещание с Рэнсомом К. Фэрном, президентом «Магнум Опуса».
Фэрн ждал Константа на тридцать первом этаже в единственной громадной комнате, которая служила Константу офисом.
Офис был обставлен призрачной мебелью — без ножек. Все предметы поддерживались на нужной высоте при помощи магнитного поля. Вместо столов, конторки, бара и дивана были просто парящие в воздухе плоские плиты. Кресла были похожи на готовые опрокинуться плавающие чаши. А самое жуткое впечатление производили висящие в воздухе где попало карандаши и блокноты, так что всякий, кому пришла бы в голову мысль, достойная записи, мог выловить блокнот прямо из воздуха.
Ковер был травянисто-зеленый — по той простой причине, что он и был травяной — настоящая травка, густая, как на площадке для гольфа.
Малаки Констант спустился с крыши в офис на своем личном лифте. Когда дверь лифта с мягким шорохом растворилась, Константа поразила мебель без ножек и парящие в воздухе карандаши и блокноты. Он не был у себя в офисе восемь недель. Кто-то успел сменить всю обстановку.
Рэнсом К. Фэрн, престарелый президент «Магнум Опуса», стоял возле зеркального окна от пола до потолка, откуда открывался вид на город. На нем была фетровая шляпа и старомодное черное пальто. Свою бамбуковую тросточку он держал наизготовку. Он казался невероятно тощим — впрочем, тощим он был всегда. «Задница — что пара дробин, — говаривал отец Малаки, Ноэль. — Рэнсом К. Фэрн смахивает на верблюда, который уже переварил оба своих горба, а теперь переваривает и остальное, кроме волос и глаз».
Согласно данным, опубликованным налогово-финансовым управлением, Фэрн был самым высокооплачиваемым служащим в стране. Он получал жалованье миллион долларов в год чистыми — да плюс к тому премиальные и прожиточные.
Он поступил в «Магнум Опус», когда ему был двадцать один год. Теперь ему было шестьдесят.
— Кто… кто-то сменил всю мебель, — сказал Констант.
— Да, — сказал Фэрн, не отрывая взгляда от города за окном, — кто-то ее сменил.
— Вы? — спросил Констант.
Фэрн фыркнул носом. С ответом он не торопился.
— Я решил, что пора проявить внимание к нашей собственной продукции.
— Я … я в жизни ничего подобного не видел, — сказал Констант. — Никаких ножек — все плавает в воздухе.
— Магниты — если хотите знать, — сказал Фэрн.
— Признаться — признаться, выглядит это здорово, когда попривыкнешь, — сказал Констант. — А что, их делает какая-нибудь из наших компаний?
— «Американская Левитация», — сказал Фэрн. — Вы велели ее купить, и мы ее купили.
Рэнсом К. Фэрн отвернулся от окна. У него на лице непостижимым образом уживались черты юности и старости. Лицо не сохранило никаких следов постепенного старения, никакого намека на то, что этому человеку было когда-то тридцать, сорок или пятьдесят. Оно сохранило лишь черты подростка и приметы шестидесятилетнего старика. Словно бы на семнадцатилетнего юнца налетел какой-то горячий вихрь и мгновенно обесцветил, засушил его.
Фэрн прочитывал по две книги в день. Говорят, что Аристотель был последним человеком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Рэнсом К. Фэрн всерьез попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умении открывать взаимосвязи и законы в том, что он знал.
Интеллектуальная гора родила философскую мышь — скорее, мышонка-недоноска. Вот как Фэрн излагал свою философию в самых простых, житейских понятиях:
— Подходите вы к человеку и спрашиваете: «Как делишки, Джо?» А он отвечает: «Прекрасно, прекрасно — лучше некуда». А вы глядите ему в глаза и смекаете, что хуже некуда. Если докопаться до самой сути, то все живут черт знает как, все до одного, поняли? А подлость в том, что ничего с этим не поделаешь.
Эта философия его не огорчала. Она не нагоняла на него тоску.
Он сделался бессердечным и всегда был начеку.
А в делах это было очень полезно — Фэрн автоматически исходил из того, что другой только хорохорится, а на самом деле просто слабак и жизнь ему не мила.
Случалось, что люди с крепкими нервами усмехались, слушая его «реплики в сторону».
Его положение-работа на Ноэля «Константа, а потом на Малаки, — вполне располагало к горькой иронии — потому что он был выше, чем Констант-pere и Констант-fils, во всех отношениях, кроме одного, но это единственное и было поистине решающим. Оба Константа — невежественные, вульгарные, беспардонные — были счастливчиками, им сказочно, неимоверно везло.
По крайней мере, до сих пор.
Малаки Констант все еще никак не мог осознать, что счастье изменило ему — окончательно и бесповоротно. Ему еще предстояло это осознать, несмотря на то, что Фэрн по телефону сообщил ему жуткие новости.
— Ишь ты, — сказал Констант с видом знатока, — чем больше смотрю на эту мебель, тем больше она мне нравится. Эти штуки расхватают, как горячие пирожки.
Слушать, как Малаки Констант-миллиардер — говорит о бизнесе, было жалостно и противно. То же было и с его отцом. Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыслил в делах, как и его сынок, и скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно испарялась в ту секунду, когда они пытались сделать вид, что разбираются в делах лучше, чем свинья в апельсинах.
Когда миллиардер хочет казаться оптимистом, напористым и изворотливым дельцом, в этом есть что-то непристойное.
— Если хотите знать мое мнение, — сказал Констант, — это самое надежное помещение капитала — компания, выпускающая такую вот мебель.
— Я бы лично предпочел «Пышки-пончики», — сказал Фэрн. Это была его излюбленная шутка: «Предпочитаю объединенную компанию „Пышки-пончики“». Когда к нему кто-нибудь цеплялся, как репей, умоляя посоветовать, куда бы вложить деньги, чтобы за шесть недель получить сто на сто, он серьезно рекомендовал им эту вымышленную компанию. И кое-кто даже пытался следовать его совету.
— Усидеть на кушетке «Американской Левитации» потруднее, чем устоять в пироге из березовой коры, — сухо заметил Фэрн. — А если вы с маху сядете в так называемое кресло, оно вас катапультирует, как камень из пращи. Присядьте на край письменного стола, и он закружит вас в воздухе, как одного из братьев Райт в Китти Хоук[13].
Констант осторожно дотронулся до письменного стола. Тот нервно затрепетал.
— Ну что ж, просто мебель нуждается в кое-каких доделках, — сказал Констант.
— Золотые слова, — сказал Фэрн.
И тут Констант попытался оправдаться — впервые в жизни.
— Может же человек хоть иногда ошибиться, — сказал он.
— Хоть иногда? — повторил Фэрн, поднимая брови. — Три месяца кряду вы только и делали, что ошибались, и вы добились, я бы сказал, невозможного. Вам удалось уничтожить плоды более чем сорокалетнего вдохновенного предвидения и много больше того.
Рэнсом К. Фэрн взял висевший в воздухе карандаш и сломал его пополам.
— «Магнум Опус» больше не существует. Мы с вами — последние люди в этом здании. Все остальные получили расчет и разошлись по домам.
Он поклонился и пошел к двери.
— Все звонки с коммутатора будут поступать непосредственно сюда. Когда будете уходить, мистер Констант, сэр, не забудьте выключить свет и запереть за собой дверь.
Думается, именно теперь будет уместно рассказать историю концерна «Магнум Опус».
Идея создания «Магнум Опуса» пришла в голову янки-коммивояжеру, торговавшему кухонной посудой с медным дном. Янки этот был Ноэль Констант, уроженец Нью-Бедфорда, штат Массачусетс. Это был отец Малаки.
Отцом Ноэля, в свою очередь, был Сильванус Констант, наладчик ткацких станков на Нью-Бедфордской фабрике Наттауинского филиала Большой государственной компании по выпуску шерстяных тканей. Он был анархистом, но ни с кем, кроме собственной жены, никогда не ссорился.
Семейство происходило по побочной линии от Бенжамена Константа, который был трибуном при Наполеоне с 1799 по 1801 год и любовником Анны Луизы Жермены Неккер, баронессы де Сталь-Гольштинской, жены тогдашнего шведского посланника во Франции.
Как бы то ни было, как-то ночью в Лос-Анджелесе Ноэль Констант решил заняться биржевыми спекуляциями. Ему было тридцать девять, он был одиноким, физически и духовно непривлекательным неудачником.
Мысль заняться биржевыми спекуляциями пришла ему в голову, когда он сидел один-одинешенек на узкой кровати в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон».
Мощнейшая корпорация, когда-либо принадлежавшая одному человеку, родилась в самой убогой обстановке. В номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» площадью одиннадцать на восемь футов не было ни телефона, ни письменного стола.
А были там кровать, комод с тремя ящиками, старые газеты, закрывавшие дно ящиков, и Гедеоновская бесплатная Библия в нижнем ящике. На газетной странице, постланной в среднем ящике, оказались сведения о биржевых операциях четырнадцатилетней давности.
Есть такая загадка. Человека заперли в комнате, где есть только ореховый комод и электропровода. Вопрос: как ему не умереть от голода и жажды?
Ответ: пусть ест орехи и запивает водой.
Это все очень похоже на историю зарождения «Магнум Опуса». Материалы, из которых Ноэль Констант сотворил свое громадное состояние, были едва ли более питательными сами по себе, чем орехи из орехового комода и вода из электропроводов.
«Магнум Опус» был создан при помощи пера, чековой книжки, нескольких почтовых конвертов для чеков, Гедеоновской Библии и банковского счета, на котором было восемь тысяч двести двенадцать долларов.
В банке хранилась доля Ноэля Константа, полученная в наследство от отца-анархиста. В основном она состояла из государственных облигаций.
У Ноэля Константа был план распределения капиталовложений. План был проще простого. Своим оракулом в финансовых операциях Ноэль Констант избрал Библию.
Те, кто анализировал систему капиталовложений Ноэля Константа, утверждали, что он либо гений, либо владелец изумительной сети промышленного шпионажа.
Он неукоснительно предвидел самые блестящие биржевые успехи, обычно за несколько дней или часов до того, как начинался очередной бум.
За двенадцать месяцев, почти безвыходно сидя в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон», он увеличил свое состояние до миллиона с четвертью.
Ноэль Констант достиг этого, не нуждаясь ни в гениальности, ни в шпионах.
Его система была проста до идиотизма, но некоторые люди никак не поймут, сколько им ни толкуй. Это те люди, которым ради мира душевного необходимо верить, что неслыханного богатства можно добиться только неслыханной хитростью.
Вот в чем заключалась система Ноэля Константа:
Он взял Гедеоновскую Библию, находившуюся в его номере, и начал с первой фразы Книги Бытия.
Первая фраза в Книге Бытия, как вы, может быть, знаете, звучит так: «В начале сотворил Бог небо и землю». Ноэль Констант записал всю фразу заглавными буквами, ставя точку после каждой буквы, а затем разделил все буквы на пары, и вот что получилось: «В.Н., А.Ч., А.Л., Е.С, О.Т., В.О., Р.И., Л.Б., О.Г., Н.Е., Б.0., И.З., Е.М, Л.Ю.»
Потом он выискал корпорации, начинавшиеся с этих букв, и скупил их акции. Поначалу он взял себе за правило владеть акциями только одной корпорации, вкладывать в нее все свои средства и сбывать акции с рук, как только их стоимость удвоится.
Первой такой корпорацией был «Всемирный Нитрат». Затем последовали «Австралийский Чай», «Американская Левитация», «Единый Скотопромышленник», «Оптовая Торговля», «ВОАП „Океан“», «Рационализатор — Изобретатель» и «Лактоидные Бактерии».
На следующие двенадцать месяцев он запланировал «Огден Геликоптерз», «Нефть — Европе», «Багамский Октаэдр», «Интернациональный Зодиак», «Ежедневный Монитор» и «Литиум Юнайтед».
Наконец, он купил уже не часть акций «Огден Геликоптерз», а всю компанию целиком.
Не прошло и двух дней, как эта компания заключила долгосрочный контракт с правительством на производство межконтинентальных баллистических ракет, и уже один этот контракт взвинтил цену пакета акций компании до пятидесяти девяти миллионов долларов. Ноэль Констант закупил все акции за двадцать два миллиона.
Единственное руководящее указание, которое он дал как владелец этой компании, было написано на открытке с видом отеля «Уилбурхэмптон». Открытка была адресована президенту компании, и ему предлагалось изменить название на «Галактическую Космоверфь, инкорпорейтед» — компания давно оставила позади и Огденов, и геликоптеры.
Как ни маловажно было это ценное указание, оно все же имело определенное значение — как свидетельство того, что Констант проявлял интерес к своей собственности. И хотя его капитал, вложенный в эту компанию, более чем удвоился, он все акции не продал. Он продал только сорок девять процентов.
С тех пор он, продолжая следовать указаниям Гедеоновской Библии, оставлял за собой крупные пакеты акций тех фирм, которые ему нравились.
В первые годы жительства Ноэля Константа в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» его посещал только один человек. Этот человек не знал, что он — богач. Этим единственным посетителем была горничная, которую звали Флоренс Уайтхилл, и она проводила с ним каждую десятую ночь за скромное вознаграждение наличными.
Флоренс, как и все в отеле «Уилбурхэмтон», верила, что он торгует почтовыми марками — он ей сам так говорил. Личная гигиена не была сильной стороной Ноэля Константа. Было легко поверить, что он постоянно возится с гуммиарабиком.
О его богатстве знали только чиновники налогово-финансового управления и служащие авторитетной фирмы Клау и Хиггинс.
Но через два года в номер Ноэля Константа вошел второй посетитель.
Это был худощавый и энергичный юноша двадцати двух лет. Он сразу заинтересовал Ноэля Константа, объявив, что он из Государственного налогового управления Соединенных Штатов.
Констант пригласил молодого человека в свой номер, жестом предложил ему сесть на кровать. Сам он остался стоять.
— Послали ко мне молокососа, а? сказал Ноэль Констант.
Гость нисколько не обиделся. Он обратил насмешку в свою пользу, построив на обидном слове такой образ себя самого, что и впрямь мороз подирал по коже.
— У молокососа сердце из камня и ум, изворотливый, как мангуст, мистер Констант, — сказал он. — Кроме того, я окончил экономический факультет Гарвардского университета.
— Может, и так, — сказал Ноэль Констант. — Да только мне вы ничем не повредите. Я не должен государству ни гроша.
Неоперившийся юнец кивнул.
— Знаю, — сказал он. — Я все проверил — у вас комар носу не подточит.
Молодой человек оглядел комнату. Убожество обстановки его не удивило. Он достаточно знал жизнь и ожидал чего-то противоестественного.
— Я занимался вашими подоходными налогами последние два года, — сказал он. — и, по моим расчетам, вы самый везучий человек в истории человечества.
— Везучий? — сказал Ноэль Констант.
— Я так считаю, — сказал юный посетитель. — А вы не находите, что это так? К примеру — что производит «ВОАП „Океан“»?
— «ВОАП „Океан“»? — как попугай, повторил Ноэль Констант.
— Вы владели тридцатью тремя процентами акций в течение двух месяцев, — сказал юный посетитель.
— Ну, добывает рыбу, китов, морскую капусту, — сказал Ноэль Констант скрипучим голосом. — Разные там «дары моря».
Молодой посетитель улыбнулся, и морщинки у него под носом образовали как бы кошачьи усы.
— Для вашего сведения, — сказал он, — сообщаю, что «ВОАП „Океан“» — кодовое название, которым правительство во время последней войны обозначило сверхсекретный военно-акустический проект, разрабатывающий подводные прослушивающие устройства. После войны предприятие перешло в частные руки, но название не изменилось — так как этот проект до сих пор является сверхсекретным, а единственный клиент компании — правительство.
— А не могли бы вы мне сказать, — спросил юный посетитель, — что вы знаете о компании «Рационализатор-Изобретатель», коль скоро вы вложили в нее крупные средства? Может, вы думали, — что они производят игрушечные конструкторы для ребятишек?
— Я обязан отвечать на вопросы налогово-финансового управления? — спросил Ноэль Констант. — Обязан рассказать про каждую из принадлежащих мне компаний все как на духу, а то у меня отберут все деньги?
— Я просто полюбопытствовал, — сказал юный гость. — Насколько я понял по вашему ответу, вы не имеете ни малейшего представления о том, что производит компания «Рационализатор-Изобретатель». К вашему сведению, она ничего не производит, но держит в руках ряд важнейших патентов на станки для реставрации автопокрышек.
— А не перейти ли нам к делам налогово-финансового управления? — оборвал его Ноэль Констант.
— А я в управлении больше не служу, — сказал юный гость. — Сегодня утром я отказался от места, где мне платили по сто четырнадцать долларов в неделю, и собираюсь работать на новом месте за две тысячи долларов в неделю.
— На кого это вы собираетесь работать? — спросил Ноэль Констант.
— На вас, — ответил юнец. Он встал, протянул руку. — Зовут меня Рэнсом К. Фэрн, — добавил он.
— У меня в Гарварде был профессор, — поведал Рэнсом К. Фэрн Ноэлю Константу, — который все твердил, что я — ловкий малый, только если я хочу разбогатеть, мне придется найти нужного человека. И не желал больше ничего объяснять. Говорил, что рано или поздно я сам соображу. Я его спросил, как мне искать своего нужного человека, и он посоветовал поработать с годик в налогово-финансовом управлении. Когда я проверял ваши налоговые декларации, мистер Констант, до меня внезапно дошло, что он имел в виду. Да, ума и дотошности мне не занимать, а вот удачливостью хвастаться не приходилось. Мне надо было найти человека, которому сказочно везет, счастливчика, — и я его нашел.
— А с чего это я стану платить вам по две тыщи долларов в неделю? — сказал Ноэль Констант. — Вот тут перед вами вся моя контора и весь мой штат, а чего я достиг, вы сами знаете.
— Конечно, — сказал Фэрн, — но я-то могу вам показать, как можно было сделать двести миллионов там, где вы сделали только пятьдесят девять. Вы абсолютно ничего не смыслите в корпоративных законах и налоговых законах — да и о простых правилах бизнеса вы понятия не имеете.
Далее Фэрн окончательно убедил в этом Ноэля Константа, отца Малаки, и развернул перед ним план корпорации под названием «Магнум Опус». Это был чудодейственный механизм, при помощи которого можно было нарушить тысячи законов, оставляя в неприкосновенности букву каждого закона, вплоть до мелкого городского указа.
Ноэль Констант был так поражен этим величественным зданием лицемерия и жульничества, что решил вложить в него деньги, даже не справляясь со своей Библией.
— Мистер Констант, сэр, — сказал юный Фэрн. — Неужели вы не понимаете: «Магнум Опус» — это вы, вы будете председателем совета директоров, а я — президентом концерна.
— Мистер Констант, — сказал он, — в настоящей момент вы весь на виду у федерального налогово-финансового управления, как торговец яблоками и грушами на людном перекрестке А теперь представьте себе, как им трудно будет до вас добраться, если вы битком набьете целый небоскреб разными промышленными бюрократами-чиновниками, которые теряют нужные бумаги и заполняют не те бланки, потом сочиняют новые бланки и требуют представлять все в пяти экземплярах, которые понимают не больше трети того, что им говорят; чиновниками, которые привыкли давать путаные ответы, чтобы выиграть время и сообразить, что к чему, которые принимают решения, только если их припрут к стенке, а потом заметают следы; они вечно делают ошибки в сложении и вычитании, созывают собрания, когда им станет скучно, строчат циркуляры, как только их о чем-то попросят; эти люди никогда ничего не выбрасывают, разве что под угрозой увольнения. Один-единственный достаточно деятельный и опасливый промышленный бюрократ способен произвести за год тонну бессмысленных бумаг, которые федеральному налогово-финансовому управлению придется разбирать. А в нашем небоскребе «Магнум Опус» таких типов будут тысячи! Мы с вами займем два верхних этажа, и оттуда вы сможете следить за делами точно так же, как и теперь.
Он обвел взглядом комнату.
— Кстати, как вы ведете учет — записываете обгорелой спичкой на полях телефонного справочника?
— Все держу в голове, — сказал Ноэль Констант.
— И еще одно преимущество, на которое я хочу обратить ваше внимание, — сказал Фэрн. — В один прекрасный день ваше счастье вам изменит. Вот тогда вам и понадобится самый расторопный, самый изворотливый распорядитель, которого только можно нанять за деньги, — иначе вы опять очутитесь среди своих кастрюль и сковородок.
— Я вас нанимаю, — сказал Ноэль Констант, отец Малаки.
— Идет — а где будем строить наш небоскреб? — сказал Фэрн.
— Мне принадлежит этот отель, а отелю принадлежит участок на той стороне улицы. — сказал Ноэль Констант. — Стройте на той стороне.
Он поднял указательный палец, скрюченный, как заводная ручка для автомобиля.
— Только вот что…
— Слушаю, сэр? — отозвался Фэрн.
— Я туда не поеду, — сказал Ноэль Констант. — Я остаюсь здесь.
Тот, кто хочет узнать подробности истории концерна «Магнум Опус», может пойти в ближайшую библиотеку и взять там или романтическую книгу Лавинии Уотерс «Не сбылся ли сказочный сон?», или более жесткую версию Кроутера Гомбурга «Первобытный панцирь».
В книжечке мисс Уотерс, которой абсолютно нельзя верить во всем, что касается бизнеса, вы найдете более подробный рассказ о том, как горничная, Флоренс Уайтхилл, обнаружила, что беременна от Ноэля Константа, а потом узнала, что Ноэль Констант-мультимиллионер.
Ноэль Констант женился на горничной, подарил ей особняк и банковский счет на миллион долларов. Он сказал ей, что если родится мальчик, пусть назовет его Малаки, а если девочка — Прюденс. Он вежливо попросил ее навещать его, как и раньше, раз в десять дней, но младенца с собой не приносить.
В книге Гомбурга детали бизнеса изложены безукоризненно, но она много теряет из-за того, что Гомбург построил свое исследование на одной идее — а именно, что «Магнум Опус» — порождение «комплекса безлюбовности». Но в подтексте книги Гомбурга все яснее читается и то, что его никто никогда, не пробил и сам он был не способен кого-то полюбить.
Кстати, ни мисс Уотерс, ни Гомбург не сумели докопаться до метода, которым руководствовался в делах Ноэль Констант. Даже Рэнсом К. Фэрн его не разгадал, как ни бился.
Ноэль Констант открыл тайну только одному человеку — своему сыну Малаки Константу, в двадцать первый день рождения Малаки. День рождения отмечали в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон». Отец и сын увиделись на этот день впервые.
Малаки пришел в гости к Ноэлю по приглашению.
Но таков уж человек по своей природе, что на юного Малаки Константа гораздо более глубокое впечатление произвел один предмет в комнате, а не то, что он узнал, как делать миллионы — нет, миллиарды — долларов.
Тайна накопление денег была настолько проста, что не требовала большого внимания. Самое сложное в ней было в том ритуале, который должен был соблюсти Малаки Констант, подхватывая факел «Магнум Опуса», который Ноэль после стольких лет выпускал из рук. Юный Малаки должен был попросить у Рэнсома К. Фэрна список фирм, в которые были сделаны капиталовложения. Читая его, как акростих, юный Малаки должен был узнать, до какого именно места в Библии дошел сам Ноэль и с какого места он должен начать.
Внимание Малаки приковал к себе один-единственный предмет в номере 223 — висевшая на стене фотография. На ней он увидел себя самого в возрасте трех лет прелестного, милого, задорного малыша на песочке у моря.
Фотография была прикноплена к стене.
Других фотографий в комнате не было.
Старый Ноэль, заметив, что юный Малаки глядит на фотографию, страшно сконфузился и смутился — очень уж сложно было ему вникнуть в отношения между отцами и сыновьями. Он лихорадочно искал в своей душе какие-нибудь добрые слова, подходящие к случаю, и почти ничего не нашел.
— Мой отец дал мне всего два совета, — сказал он. — А испытание временем выдержал только один. Вот они: «Не трогай основной капитал» и «Не держи спиртное в спальне».
Но тут он окончательно пришел в замешательство, и больше вынести он не мог.
— Прощай! — внезапно выпалил он.
— Прощай? — потрясенный, повторил юный Малаки. Он пошел к двери.
— Не держи спиртное в спальне, — сказал старик и повернулся к нему спиной.
— Не буду, сэр, — сказал юный Малаки. — Прощайте, сэр, — сказал он и вышел.
Это было первое и последнее свидание Малаки Константа с отцом.
Его отец прожил еще пять лет, и Библия ни разу его не подвела.
Ноэль Констант умер, добравшись до конца фразы:
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды».
Его последние капиталовложения были сделаны в фирму «Золотой Динозавр», из расчета 17 1/4.
Сын начал с того места, где остановился отец, хотя в номер 223 отеля «Уилбурхэмптон» переезжать не стал.
Целых пять лет сыну так же сказочно везло, как и отцу.
И вот, в одночасье, «Магнум Опус» рассыпался в прах.
Стоя в своем офисе с ковром из натуральной травы и парящей в воздухе мебелью, Малаки Констант никак не мог поверить, что счастье ему изменило.
— Ничего не осталось? — слабым голосом сказал он. Он насильственно улыбнулся Рэдсому К. Фэрну. — Ладно, бросьте шутить — я же знаю, что хоть немного должно остаться.
— Я сам так думал — еще в десять утра, — сказал Фэрн. — Я поздравил себя с тем, что сумел обезопасить «Магнум Опус» от всех — мыслимых подвохов. Мы вполне благополучно справлялись с депрессией — и с вашими ошибками тоже.
— Но в десять пятнадцать ко мне зашел юрист, который, судя по всему, был на вашей вчерашней вечеринке. Насколько я понял, вы в этот вечер раздавали нефтяные промыслы, и юрист был настолько предупредителен, что оформил соответствующие документы, которым ваша подпись придала бы законную силу. Вы их подписали. Вчера вечером вы раздали пятьсот тридцать одну нефтяную скважину, прикончив компанию «Нефть-Европе».
— В одиннадцать, — продолжал Фэрн, — президент Соединенных Штатов объявил, что «Галактическая Космоверфь», которую мы продали, получает контракт стоимостью в три миллиарда для Новой Космической Эры.
— В одиннадцать тридцать, — сказал Фэрн, — мне принесли номер Журнала американской ассоциации медиков, на котором стоял гриф для нашего заведующего рекламой — КВС. Эти три буквы, как вы догадались бы, если бы хоть изредка бывали в своем офисе, означают «к вашему сведению». Я раскрыл журнал на отмеченной странице и получил, к своему сведению, вот какую информацию: табак «Лунная Дымка» не просто одна из, а главная причина бесплодия у лиц обоего пола повсеместно, где продавались сигареты «Лунная Дымка». И этот факт открыли не люди, а компьютер. Каждый раз, как в машину закладывали данные о курении сигарет, она приходила в ужасное возбуждение и никто не понимал, почему. Машина явно старалась что-то сообщить операторам. Она выдумывала все что могла, чтобы ей дали высказаться, и в конце концов заставила операторов задать ей нужный вопрос. Она добивалась, чтобы ее спросили, как связаны сигареты «Лунная Дымка» с размножением рода человеческого. А связь была такая:
— Люди, курящие сигареты «Лунная Дымка», не могут иметь детей, даже если страстно этого хотят, — сказал Фэрн.
— Конечно, — сказал Фэрн, — некоторые сутенеры и веселые девицы из Нью-Йорка даже рады этому освобождению от законов биологии. Но по мнению ныне распущенного Юридического кабинета «Магнум Опус», в Стране несколько миллионов лиц, которые могут вчинить нам иск, и вполне законный, — на основании того, что сигареты «Лунная Дымка» отняли у них нечто чрезвычайно ценное. Ничего не скажешь, бездна наслаждения?
— В нашей стране примерно десять миллионов бывших потребителей «Лунной Дымки», — сказал Фэрн, — и все до одного бесплодны. Если хотя бы один из десяти подаст на вас в суд за нанесение ущерба, не исчислимого и не имеющего денежного эквивалента, и потребует возмещения убытков в скромном размере — пять тысяч долларов — нам предъявят счет на пять миллиардов, не считая судебных издержек А у вас после краха на бирже и затрат на такие компании, как «Американская Левитация», не осталось и пятисот миллионов.
— «Табак „Лунная Дымка“» — это вы, — сказал Фэрн. — «Магнум Опус» — это тоже вы, — сказал Фэрн. — Все компании, которые вы воплощаете, должны будут расплатиться по иску, который будет непременно удовлетворен. И хотя истцам, как говорится, от козла молока не добиться, все же козла они доконают, это уж точно.
Фэрн снова поклонился.
— Я выполняю свой последний служебный долг, вручая вам письмо, которое ваш отец просил передать вам только в случае, если удача вам изменит. Мне было дано указание положить письмо под подушку в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон», когда вам придется плохо. Я положил письмо под подушку час назад.
— А теперь, как скромный и лояльный служащий корпорации, я попрошу вас оказать мне незначительную услугу, — сказал Фэрн. — Если это письмо проливает хоть самый слабый свет на то, что такое жизнь, позвоните мне по телефону прямо домой, буду премного благодарен.
Рэнсом К. Фэрн отсалютовал тросточкой, прикоснувшись к полям фетровой шляпы.
— Прощайте, мистер «Магнум Опус» — младший. Прощайте!
Старомодное, обшарпанное трехэтажное здание отеля «Уилбурхэмптон» — в тюдоровском стиле — находилось напротив небоскреба «Магнум Опус» и по контрасту напоминало незастланную койку, примостившуюся у ног архангела Гавриила. Оштукатуренная стенка отеля была обита сосновыми планками, под дерево. Конек крыши напоминал перешибленный хребет — нарочитая подделка под старину. Карниз крыши был утолщенный, низко нависающий — подделка под соломенную кровлю. Окошки узенькие, с мелкими ромбиками стекол.
Тесный холл отеля носил название «Исповедальня».
В холле «Исповедальня» находилось три человека — бармен и двое посетителей. Посетители — тощая женщина и тучный мужчина — на вид казались стариками, В «Уилбурхэмптоне» их никогда прежде не видели, но всем казалось, что они сидят в «Исповедальне» долгие годы. Камуфляж у них был первоклассный — они были похожа на сам отель, обшитый дранкой, скособоченный, крытый соломой, с подслеповатыми окошечками.
Они выдавали себя за вышедших на пенсию учителей средней школы откуда-то со Среднего Запада Толстяк представился как Джордж М. Гельмгольц, бывший дирижер духового оркестра. Тощая дама представилась как Роберта Уайли, бывшая учительница алгебры.
Было ясно, что только на склоне лет они познали все утешительные прелести алкоголя и цинизма. Они никогда не заказывали вторично один и тот же напиток, с жадным любопытством норовили отведать и из той бутылки, и вон из той — жаждали узнать, что такое золотой пунш, и «Елена Твелвтриз», и «Золотой дождь», и шампанское «Веселая вдова».
Бармен понимал, что они вовсе не алкоголики. Клиентов этого рода он знал и любил: это были просто постаревшие типы со страниц «Сатердей ивнинг пост».
Пока они не начинали расспрашивать о разных напитках, их невозможно было отличить от миллионов завсегдатаев американских баров в первый день Новой Космической Эры. Они устойчиво восседали на своих высоких табуретах у бара и, не отрывая глаз, созерцали шеренги бутылок. Но их губы неустанно двигались — это была жуткая репетиция ни с чем не сообразных ухмылок, гримас и оскалов.
Образное представление Бобби Дентона о Земле, как о космическом ковчеге Господа Бога, было бы особенно уместно здесь, по отношению к этой паре завсегдатаев баров. Гельмгольц и мисс Уайли вели себя, как пилот и запасной пилот в чудовищно бессмысленном космическом странствии, которое никогда не кончится. Было легко вообразить, что они начали путешествие образцово, со щегольской выправкой, в расцвете юности, владея всеми необходимыми знаниями и навыками, и что ряд бутылок — это приборы, с которых они не сводят глаз год за годом, год за годом.
Было легко вообразить, что с каждым днем космический юноша и космическая девушка становились на какую-то микроскопическую дольку неряшливей, пока, наконец, они не превратились в стыд и позор Пангалактической космической службы.
У Гельмгольца две пуговицы на ширинке расстегнулись. На левом ухе застыл мазок крема для бритья. Носки у него были разные.
Мисс Уайли была маленькая старушка диковинного вида со впалыми щеками. На ней был всклокоченный черный парик, такой потрепанный, словно он много лет провисел прибитый гроздей к притолоке деревенского сарая.
— Всем ясно: президент объявил начало Новехонькой Космической Эры не случайно, а чтобы хоть частично покончить с безработицей, — сказал бармен…
— Угу, — в один голос откликнулись Гельмгольц и мисс Уайли.
Только очень наблюдательный и подозрительный человек заметил бы фальшь в поведении этой пары: Гельмгольц и мисс Уайли чересчур интересовались временем. Для людей, которым было нечего делать и некуда спешить, они неподобающе часто поглядывали на часы мисс Уайли на мужские наручные часы. а мистер Гельмгольц — на золотые карманные.
А все дело в том, что Гельмгольц и мисс Уайли вовсе и не были учителями на пенсии. Оба они были мужчинами, оба умели мастерски менять обличье. Это были шпионы высшего класса из Марсианской Армии, глаза и уши марсианского пресс-центра, расположенного в летающей тарелке, зависшей на высоте двух тысяч миль у них над головой.
И хотя Малаки Констант об этом не знал, они подстерегали именно его.
Когда Малаки Констант перешел улицу и вошел в отель «Уилбурхэмтон», Гельмгольц и Уайли не подумали к нему приставать. Они и виду не подали, что он их интересует. Они на него даже не взглянули, пока он проходил через холл и садился в лифт.
А вот на свои часы они снова взглянули, и наблюдательный, подозрительный человек заметил бы, что мисс Уайли нажала кнопку на своих часах, пустив подрагивающую стрелку секундомера обегать круг за кругом.
Гельмгольц и мисс Уайли не собирались применять насилие к Малаки Константу. Они никогда ни к кому насилия не применяли и все же завербовали на Марс четырнадцать тысяч человек.
Обычно они одевались в гражданское платье, выдавали себя за инженеров и предлагали недалеким мужчинам и женщинам по девять долларов в час, не облагаемых налогом, включая даровое питание, бесплатное жилье и проезд — за работу для правительственных организаций в отдаленных местах сроком на три года. Между собой они посмеивались над тем, что никогда не объясняли, какие правительственные организации предлагали эту работу, и ни один новобранец никогда не додумался их об этом спросить.
Девяносто девять процентов новобранцев по прибытии на Марс подвергались амнезии. Содержание их памяти стиралось под руководством специалистов-психиатров, и марсианские хирурги вживляли в их мозг радиоантенны, чтобы новобранцами можно было управлять по радио.
Затем новобранцам давали новые имена — какие в голову взбредут — и распределяли их по заводам, строительным бригадам, по учреждениям в качестве служащих или посылали в Марсианскую Армию.
Немногие новобранцы избегали общей участи, и это были те, кто без всякого хирургического вмешательства проявил горячее желание героически служить Марсу. Этих счастливчиков принимали в узкий круг власть имущих.
К этому кругу и принадлежали секретные агенты Гельмгольц и Уайли. Они полностью сохранили свою память и в управлении по радио не нуждались: они искренне и страстно любили свою работу.
— А какова на вкус вон та «Сливовица»? — спросил Гельмгольц у бармена, бросая взгляд на бутылку в нижнем ряду. Он только что допил коктейль со сливовым ликером.
— Понятия не имел, что она у нас есть, — сказал бармен. Он поставил бутылку на прилавок, наклонил горлышком от себя, чтобы удобнее было прочесть этикетку. — Сливовый коньяк, — сказал он.
— Надо попробовать, — сказал Гельмгольц.
Со дня смерти Ноэля Константа номер 223 в отеле «Уилбурхэмптон» оставался в нетронутом виде, как мемориал.
Малаки Констант вошел в номер 223. Он здесь не был ни разу после смерти отца. Он закрыл за собой дверь и взял письмо из-под подушки.
В номере ничего не меняли, кроме постельного белья. И до сих пор на стене висела единственная фотография — Малаки Констант в раннем детстве, на пляже.
Вот что было написано в письме:
Дорогой сын, с тобой стряслась большая беда, раз ты читаешь это письмо. Я пишу письмо, чтобы сказать тебе: успокойся, горе не беда, ты лучше оглянись вокруг себя и подумай: может, что-нибудь доброе или важное все же случилось оттого, что мы так разбогатели, а потом вдруг разорились дотла? Мне бы очень хотелось, чтобы ты постарался разузнать, есть во всем этом какой-то смысл или одна сплошная неразбериха, как мне всегда казалось.
Если я был никуда не годным отцом, да и вообще ни на что не был годен, так это потому, что я стал живым мертвецом задолго до того, как помер. Ни одна душа меня не любила и мне ни в чем не везло — даже увлечься ничем не удалось — и мне так осточертело торговать горшками и сковородками да пялиться в телевизор, что я стал ни дать ни взять — мертвец и так к этому притерпелся, что воскрешать меня было уже ни к чему.
Тут как раз я и затеял это дело, по Библии. Сам знаешь, что из этого вышло. Похоже было на то, что кто-то или что-то хотело, чтобы я стал владельцем всей планеты, несмотря на то, что я был живым трупом. Я все время присматривался, не будет ли какого сигнала, чтобы мне понять, что к чему, но никакого сигнала не было. А я все богател и богател.
Потом твоя мать прислала мне эту твою фотографию, на пляже, и я посмотрел тебе в глаза и подумал, что вся эта куча денег послана мне ради тебя. Я подумал, что если так и помру, не найдя ни в чем никакого смысла, то хоть ты-то однажды вдруг увидишь все яснее ясного. Честно тебе скажу: даже живой мертвец — и тот мучается, когда приходится жить, не видя ни в чем никакого смысла.
Я поручил Рэнсому К. Фэрну передать тебе это письмо только в том случае, если счастье тебе изменит, и вот почему: никто ни о чем не задумывается и ничего не замечает, пока ему везет. Ему это ни к чему.
Ты оглянись вокруг ради меня, сынок. И если ты прогорел дотла и кто-нибудь предложит тебе что-нибудь дурацкое или невероятное — соглашайся, мой тебе совет. Может статься, ты что-то узнаешь, когда тебе захочется что-то узнать. Единственное, что я в жизни узнал, это то, что одному везет, а другому не везет, и даже тот, кто окончил экономический факультет Гарвардского университета, не может сказать — почему.
Искренне ваш,
— твой Па.
В дверь номера 223 постучали.
Не успел Констант подойти к двери, как она отворилась.
Гельмгольц и мисс Уайли вошли без приглашения. Они вошли в точно рассчитанный момент, так как их руководство указало им, с точностью до секунды, когда Малаки Констант дочитает письмо. Им было также точно указано, что они должны ему сказать.
— Мистер Констант, — сказал Гельмгольц, — я пришел, чтобы сообщить вам, что на Марсе есть не только жизнь, но и многочисленное, деятельное население, крупные индустриальные и военные ресурсы. Все население завербовано на Земле и доставлено на Марс в летающих тарелках. Мы уполномочены предложить вам сразу чин подполковника Марсианской Армии.
На Земле ваше положение безнадежно. Ваша жена — чудовище. Более того, наша разведка информировала нас о том, что здесь, на Земле, вы не только потеряете все до последнего пенса из-за судебных исков, но и сядете в тюрьму за преступную неосмотрительность.
Мы не только предлагаем вам жалованье и надбавки, значительно превышающие жалованье подполковника в армии землян, но и гарантируем полную свободу от земных законов, возможность увидеть новую замечательную планету, возможность смотреть на вашу родную планету из нового, прекрасного и далекого мира.
— Если вы согласны принять назначение, — сказала мисс Уайли, — поднимите вашу левую руку и повторяйте за мной…
На следующее утро пустой вертолет Малаки Константа был обнаружен в центре пустыни Мойаве. Следы человека уходили от него на расстояние сорока футов, затем обрывались.
Как будто Малаки Констант прошел по песку эти сорок футов и растаял в воздухе.
В следующий вторник космический корабль, называвшийся «Кит», был переименован в «Румфорд» и подготовлен к запуску.
Беатриса Румфорд, довольная собой, смотрела церемонию по телевизору, на расстоянии двух тысяч миль. До запуска «Румфорда» оставалось ровно одна минута. Если судьбе было угодно заманить Беатрису Румфорд на борт, времени у нее оставалось в обрез.
Беатриса чувствовала себя великолепно. Она сумела доказать, чего она стоит. Она доказала, что сама распоряжается своей судьбой, что она может сказать «нет!», когда ей заблагорассудится, и всем ясно, что нет — значит нет. Она доказала, что предсказания, которыми запугивал ее всезнайка — муж — чистый блеф, нисколько не лучше, чем сводки Американского бюро прогнозов погоды.
Мало того — она придумала, как обеспечить себе более или менее комфортабельную жизнь до конца своих дней и заодно хорошенько насолить своему муженьку как он того заслуживает. В следующий раз, когда он материализуется, он окажется в густой толпе зевак, собравшихся в имении. Беатриса грешила брать по пять долларов с головы за вход через дверцу из «Алисы в стране чудес».
И это не бред и не химеры. Она обсудила этот план с двумя самозванными представителями владельцев закладных на имение — и они были в восторге.
Они и сейчас сидели рядом с ней у телевизора, глядя на приготовления к запуску «Румфорда». Телевизор стоял в комнате, где висел громадный портрет Беатрисы — девочки в ослепительно белом платье, с собственным белым пони. Беатриса улыбнулась, глядя на портрет. Маленькая девочка все еще оставалась чистой и незапятнанной. И пусть кто-нибудь попробует ее замарать.
Комментатор на телевидении начал предстартовый отсчет.
Слушая обратный счет, Беатриса вела себя беспокойно, как птица. Она не могла усидеть на месте, не в силах была успокоиться. Она сидела как на иголках, но беспокойство было радостное, а не тревожное. Ей не было никакого дела до того, удачно ли пройдет запуск «Румфорда» или нет.
Двое ее гостей, наоборот, наблюдали запуск с глубокой серьезностью — словно молились, чтобы он прошел благополучно. Это были мужчина и женщина — некий мистер Джордж М. Гельмгольц и его секретарша, некая мисс Роберта Уайли. Мисс Уайли была презабавная старушенция, такая живая и остроумная.
Ракета с ревом рванулась вверх.
Запуск прошел блестяще.
Гельмгольц откинулся в кресле и облегченно вздохнул.
— Клянусь небом, — сказал он грубовато, как подобает мужчине, — я горжусь тем, что я — американец, и горжусь, что живу в такие времена.
— Хотите выпить? — спросила Беатриса.
— Премного благодарен, — сказал Гельмгольц, — но, как говорится, делу — время, потехе — час.
— А разве мы еще не покончили с делами? — сказала Беатриса. — Разве мы еще не все обсудили?
— Как сказать… Мы с мисс Уайли хотели составить список наиболее крупных построек в имении, — сказал Гельмгольц, — но я боюсь, что уже совсем стемнело. Прожектора у вас есть?
Беатриса покачала головой.
— К сожалению, нет, — сказала она.
— А фонарь у вас найдется? — спросил Гельмгольц.
— Фонарь я вам, может быть, и достану, — сказала Беатриса, — но, по-моему, вовсе незачем туда ходить. Я вам точно все расскажу.
Она позвонила дворецкому и приказала принести фонарь.
— Там крытый теннисный корт, оранжерея, коттедж садовника — прежде в нем жил привратник, дом для гостей, склад садового инвентаря, турецкая баня, собачья конура и старая водонапорная башня.
— А новое здание для чего? — спросил Гельмгольц.
— Новое? — сказала Беатриса.
Дворецкий принес фонарь, и Беатриса передала его Гельмгольцу.
— Металлическое, — сказала мисс Уайли.
— Металлическое? — растерянно переспросила Беатриса. — Там никакого металлического строения нет. Может быть, старая дранка стала серебристой от времени.
Она нахмурилась.
— Вам сказали, что там есть металлическое здание?
— Мы видели собственными глазами, — сказал Гельмгольц.
— Прямо у дорожки — в кустах возле фонтана, — добавила мисс Уайли.
— Ничего не понимаю, — сказала Беатриса.
— А может, пойти взглянуть? — сказал Гельмгольц.
— Разумеется — пожалуйста, — сказала Беатриса, вставая.
Трое прошли по Зодиаку, выложенному на полу вестибюля, вышли в благоухающую темноту парка.
Луч фонаря плясал впереди.
— Признаюсь, — сказала Беатриса, — мне самой не терпится узнать, что там такое.
— Что-то вроде сборного купола из алюминия, — сказала мисс Уайли.
— Смахивает на грибовидный резервуар для воды или что-то в этом роде, — сказал Гельмгольц, — только не на башне, а прямо на земле.
— Правда? — сказала Беатриса.
— Я вам говорила, что это такое, помните? — сказала мисс Уайли.
— Нет, — сказала Беатриса. — А что это?
— Придется шепнуть вам на ушко, — игриво сказала мисс Уайли, — а то как бы меня не сунули в психушку за такие слова!
Она приложила ладонь рупором ко рту и сказала театральным шепотом:
— Летающая тарелка!
Дрянь и дребедень
«Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень, дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень».
Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором:
Дрянь дребедень-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Пехотный дивизион численностью в десять тысяч человек был построен в каре на естественном плацу из сплошного железа толщиной в милю. Солдаты стояли по стойке «смирно» на оранжевой ржавчине. Сами люди — офицеры, солдаты — казались почти железными и сохраняли окоченелую неподвижность, даже когда их пробирала дрожь. Они были в грубой форме белесовато-зеленого цвета — цвета лишайника.
Вся армия разом вытянулась по стойке «смирно», хотя было совсем тихо. Не было дано никакого слышимого или видимого сигнала. Они все приняли стойку «смирно», как один человек, словно по мановению волшебной палочки.
Третьим с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка Первого марсианского штурмового пехотного дивизиона стоял рядовой, разжалованный из подполковников три года назад. На Марсе он пробыл уже восемь лет.
Когда в современной армии человека разжалуют из старших офицеров в рядовые, он скорее всего окажется староват для этого чина, так что его товарищи по оружию, попривыкнув к тому, что он такой же солдат, как и они, станут звать его просто из жалости — ведь и ноги, и зрение, и дыхание начинают ему изменять — каким-нибудь прозвищем: Папаша, Дед, Дядек.
Третьего с краю во втором отделении первого взвода второй роты третьего батальона второго полка Первого марсианского штурмового пехотного дивизиона звали Дядьком. Дядьку было сорок лет. Дядек был прекрасно сложенным мужчиной — в полутяжелом весе, смуглый, с губами поэта, с бархатными карими глазами в тени высоких надбровных дуг кроманьонца. Небольшие залысинки на висках подчеркивали эффектную прядь волос.
Вот анекдот про Дядька, весьма характерный:
Как-то раз, когда взвод мылся под душем, Генри Брэкман, сержант, командовавший взводом, предложил сержанту из другого подразделения указать самого лучшего солдата во всем взводе. Гость ничтоже сумняшеся показал на Дядька: Дядек, крепко сбитый, с отличной мускулатурой, казался бывалым мужчиной среди мальчишек.
Брэкман закатил глаза.
— О боже, — ты что, серьезно? — сказал он. — Да это же самый что ни на есть шут гороховый, посмешище всего взвода!
— Шутишь? — сказал второй сержант.
— Шучу — черта с два! — сказал Брэкман. — Ты только посмотри на него — битых десять минут стоит под душем, а к мылу и не притронулся! Дядек! Проснись, Дядек!
Дядек вздрогнул, пробудился от дремоты под тепловатым дождем. Он вопросительно, с беззащитной готовностью повиноваться, взглянул на Брэкмана.
— Да намылься ты, Дядек! — сказал Брэкман. — Намылься хоть разок, ради Христа!
И вот в каре на железном плацу Дядек стоял навытяжку, как и все прочие.
В центре каре стоял каменный столб с прикрепленными к нему железными кольцами. Сквозь кольца были пропущены лязгающие цепи, которыми был туго прикручен к столбу рыжеголовый солдат. Он был чистоплотным солдатом, но аккуратным его не назовешь все его награды и знаки различия были сорваны, и не было на нем ни ремня, ни галстука, ни белоснежных гетр.
Все остальные, и Дядек в том числе, были при полном параде. На всех остальных было любо посмотреть.
С человеком у столба должно было случиться что-то страшное — что-то такое, чего человек стремился избежать любой ценой, что-то, от чего и уклониться было нельзя — цепи не пускали.
А всем остальным солдатам предстояло быть зрителями.
Этому событию придавалось большое значение.
Даже солдат у столба стоял навытяжку — как подобает бравому солдату, применительно к обстановке, как его учили.
И опять — без какого бы то ни было видимого или слышимого сигнала все десять тысяч человек, как один, приняли строевую стойку «вольно».
И человек у столба — тоже.
Затем солдаты встали еще более непринужденно по команде «вольно». По этой команде полагалось стоять свободно, но не выходить из строя и не разговаривать в строю. Теперь солдатам было дозволено о чем-то подумать, оглядеться, обменяться взглядами с кем-то, если было с кем, или было о чем сказать.
Человек у столба натянул цепи и вытянул шею, прикидывая на глаз высоту столба, к которому он был прикручен цепями. Можно было подумать, что он старается точно угадать высоту столба и состав породы, из которой он сделан, в надежде, что отыщет какой-нибудь научный способ сбежать отсюда.
Столб был высотой в девятнадцать футов, шесть и пять тридцать вторых дюйма, не считая двенадцати футов, двух и одной восьмой дюйма, погруженных в железо. Диаметр столба в среднем равнялся двум футам, пяти и одиннадцати тридцать вторых дюйма, с максимальным отклонением от этого среднего сечения до семи и одной тридцать второй дюйма. В состав породы, из которой был сделан столб, входили кварц, известняк, полевой шпат, слюда со следами турмалина и роговой обманки. А еще человеку в цепях не мешало бы знать, что он находится в ста сорока двух миллионах девятистах одиннадцати милях от Солнца и помощи ему ждать неоткуда.
Рыжий человек у столба не произнес ни звука, потому что солдатам даже в положении «вольно» разговоры были запрещены. Но взгляд его был красноречив, и каждый мог бы в нем прочесть задавленный крик. Он искал взглядом, в котором бился безмолвный крик, Другие глаза, чей то ответный взгляд. Он хотел что-то передать конкретному человеку, своему лучшему другу — Дядьку. Он искал глазами Дядька.
Он не мог отыскать Дядька.
А если бы он и нашел Дядька, в глазах Дядька не увидел бы ни радости узнавания, ни жалости. Дядек только что выписался из базового госпиталя, где его лечили от психических отклонений, и в памяти у него было почти совсем пусто. Дядек не узнавал своего лучшего друга, прикованного к столбу. Дядек вообще никого не узнавал. Дядек не знал бы и собственного прозвища, не знал бы, что он солдат, если бы ему об этом не сказали, когда выписывали из госпиталя.
Прямо из госпиталя он попал в строй, в котором сейчас и находился.
В госпитале ему твердили, внушали, вдалбливали раз за разом, что он лучший солдат лучшего отделения лучшего взвода в лучшей роте лучшего батальона лучшего полка и лучшего дивизиона в лучшей из армий.
Дядек сознавал, что ему есть чем гордиться.
В госпитале ему сказали, что он был тяжело болен, но теперь совершенно здоров.
Пожалуй, это была хорошая новость.
В госпитале ему сказали, как зовут его сержанта, объяснили, что такое сержант, и показали знаки различия по чинам, рангам и специальностям.
Они так переусердствовали, стирая память Дядька, что им пришлось заново учить его азам маршировки и строевым артикулам.
Там, в госпитале, им пришлось даже объяснять Дядьку, что такое Боевой Дыхательный Рацион — (БДР), — в просторечье дышарики, — пришлось втолковывать ему, что такой дышарик надо глотать раз в шесть часов, а то задохнешься. Это такие пилюли, выделяющие кислород и компенсирующие полное отсутствие кислорода в марсианской атмосфере.
В госпитале им пришлось объяснять Дядьку даже то, что у него под черепом вживлена антенна и что ему будет очень больно, если он сделает что-нибудь такое, чего хорошему солдату делать не положено. Антенна будет передавать ему и прочие команды, и дробь барабана, под которую ему надо маршировать.
Они объяснили Дядьку, что такая антенна вставлена не только у него, а у всех без исключения — в том числе и у врачей, и у медсестер, у всех военных, вплоть до полного генерала. Они сказали, что армия зиждется на полной демократии.
Дядек понимал, что это очень хорошая система устройства армии.
В госпитале ему дали отведать малую толику той боли, которую антенна может ему причинить, если он сделает хоть шаг в сторону с пути истинного.
Боль была чудовищная.
Дядьку пришлось признать, что только спятивший с ума солдат не подчиняется своему долгу всегда и везде.
В госпитале ему сказали, что самое главное правило из всех вот какое: всегда выполняй прямой приказ незамедлительно.
Стоя в строю на железном плацу, Дядек стал понимать, как много ему надо узнать заново. В госпитале ему сказали не все, что нужно знать о жизни.
Антенна в голове снова заставила его встать «смирно», и из головы все вылетело. Затем антенна заставила его снова принять стойку «вольно», затем опять встать «смирно», потом заставила его взять винтовку «на плечо», потом снова встать «вольно».
Мысли к нему вернулись. Он еще раз украдкой взглянул на мир.
— Такова жизнь, — говорил себе умудренный опытом Дядек, — то что-то увидишь украдкой, то в голове опять пусто, а временами тебе могут причинить жуткую боль за то, что ты чем-то проштрафился.
Маленькая быстролетная луна неслась по фиолетовому небу низко, прямо над головой. Дядек не понимал, почему ему так кажется, но ему казалось, что луна плывет быстрее, чем нужно. Что-то было не так. И небо, подумал он, должно быть голубое, а не фиолетовое.
Дядьку было холодно, и ему хотелось тепла. Этот вечный холод казался ему таким же неестественным, несправедливым, как суетливая луна и фиолетовое небо.
Командир дивизиона Дядька обратился к командиру его полка. Командир полка обратился к командиру батальона. Командир батальона обратился к командиру роты, в которой служил Дядек. Командир роты обратился к командующему взводом Дядька — к сержанту Брэкману.
Брэкман обратился к Дядьку, приказал ему подойти строевым шагом к человеку у столба и задушить его до смерти.
Брэкман сказал Дядьку, что это прямой приказ.
Дядек его выполнил.
Он строевым шагом двинулся к человеку у столба.
Он маршировал под жесткую, жестяную дробь строевого барабана. Барабан звучал на самом деле только у него в мозгу, его принимала антенна:
Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Подойдя вплотную к человеку у столба, Дядек замялся на одну секунду — уж очень несчастный вид был у этого рыжего парня. В черепе Дядька вспыхнула искорка боли — как первое прикосновение бормашины к зубу.
Дядек обхватил большими пальцами горло рыжего парня, и боль тут же пропала. Но Дядек не сжимал пальцы, потому что человек пытался что-то ему сказать. Дядек не понимал, почему тот молчит, но потом до него дошло, что антенна вынуждает его молчать, как все антенны вынуждали молчать всех солдат.
Героическим усилием человек у столба преодолел приказ своей антенны, заговорил торопливо, корчась от боли:
— Дядек… Дядек… Дядек… — твердил он, и судорожная борьба его воли с волей антенны заставляла его повторять имя с идиотской монотонностью. — Голубой камень. Дядек… — сказал он. — Двенадцатый барак… Письмо.
Жало боли снова угрожающе впилось в мозг Дядька.
Дядек, выполняя свой долг, задушил человека у столба — сдавливал ему горло до тех пор, пока лицо его не стало багровым и язык не вывалился наружу.
Дядек сделал шаг назад, встал навытяжку, четко повернулся «кругом» и промаршировал на свое место, опять под дробь барабана в голове:
Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Сержант Брэкман кивнул Дядьку, одобрительно подмигнул.
И вновь все десять тысяч солдат встали навытяжку. О ужас! — мертвец у столба тоже попытался выпрямиться, гремя цепями. Он не сумел встать по стойке «смирно», как образцовый солдат, — не потому, что не старался быть образцовым солдатом, а потому, что был мертв.
Громадное каре разбилось на отдельные прямоугольники. Прямоугольники механически промаршировали с плаца, и у каждого солдата в голове бил свой барабан. Посторонний зритель не услышал бы ничего — только топот сапог.
Посторонний зритель нипочем не догадался бы, кто же по-настоящему командует, потому что даже генералы, как марионетки, печатали шаг в такт идиотским словам:
Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Письмо неизвестного героя
«Мы можем сделать память человека практически такой же стерильной, как скальпель в автоклаве. Но крупицы нового опыта начинают накапливаться почти сразу же. А эти крупицы образуют логические цепи, не вполне подобающие образу мыслей солдата. К сожалению, проблема такого вторичного заражения на сегодняшний день неразрешима».
Подразделение Дядька остановилось возле гранитного барака. Это был один из многих тысяч бараков, ровными рядами уходивших вдаль, в бесконечность плоской железной равнины. Перед каждым десятым бараком на флагштоке развевалось знамя, щелкая на резком ветру.
Все знамена были разные.
Знамя, реявшее над бараком роты Дядька, как ангел-хранитель, было веселенькой расцветки: в красную и белую полоску, с целой россыпью звезд на синем фоне. Это был государственный флаг Соединенных Штатов Америки, что на Земле, — Old Glory. Дальше реяло знамя Союза Советских Социалистических Республик.
Еще дальше развевалось сказочное зеленое, оранжевое, желтое и пурпурное знамя с изображением льва, держащего меч. Это было знамя Цейлона.
Еще дальше было видно белое знамя с алым кругом — знамя Японии.
Эти знамена обозначали страны, которые разным воинским частям с Марса предстояло атаковать и захватить, когда начнется война Марса с Землей.
Дядек никаких знамен не видел, пока сигнал антенны не позволил ему расслабиться, чуть ссутулиться, обмякнуть — по команде «разойдись».
Он тупо смотрел на бесконечный строй бараков и флагштоков. На двери барака, перед которой он оказался, были намалеваны крупные цифры. Это был номер 576.
Что-то в сознании Дядька откликнулось на этот номер. Что-то заставило его пристально рассмотреть цифры. И тут он вспомнил казнь — вспомнил рыжеголового солдата, которого убил, и его слова про голубой камень и барак номер двенадцать.
В бараке номер 576 Дядек чистил свою винтовку, и делал это с громадным удовольствием. Главное — он убедился, что все еще умеет разбирать свое личное оружие. По крайней мере, из этого уголка памяти в госпитале не все вымели начисто. Он втайне обрадовался: как знать, может они пропустили еще какие-нибудь закоулки в его памяти? А почему эта надежда заставила его так обрадоваться, но не подавать виду, он и сам не знал. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это была одиннадцатимиллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер, оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испано-американской войне, на Земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на Земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских энфильдов и американских спрингфильдов, и притом по дешевке.
Однополчане Дядька тоже надраивали свое оружие. Масло пахло хорошо и, забившись кое-где в нарезку, оказывало местами небольшое, но приятное сопротивление ходу шомпола. Разговоров почти не было.
Судя по всему, казнь не произвела на солдат особого впечатления. Если товарищи Дядька и извлекли какой-нибудь урок из этой казни, они переварили его так же бездумно, как армейский рацион.
Дядек услышал только одно мнение о своем участии в казни — от сержанта Брэкмана.
— Справился молодцом, Дядек, — сказал Брэкман.
— Спасибо, — сказал Дядек.
— Молодец он у нас, верно? — обратился Брэкман к остальным солдатам.
Кое-кто кивнул головой, но Дядьку показалось, что его товарищи закивали бы в ответ на любой вопрос, требующий подтверждения, и закачали бы головами, если бы вопрос был поставлен в расчете на отрицание.
Дядек вытащил шомпол с ветошью, засунул большой палец в промежуток, образованный открытым затвором, и поймал солнечный зайчик на блестящий от масла ноготь. Ноготь, как зеркальце, отбросил луч света вдоль ствола. Дядек прижал глаз к дулу и замер от восхищения — вот это настоящая красота! Он мог бы часами, не отрываясь, созерцать эту совершенную, безукоризненную спираль нарезки в мечтах о счастливой стране, круглый портал которой виделся ему на дальнем конце ствола. Его блестящий от масла ноготь, подцвеченный розовым, сиял в конце нарезки, как истинный розовый рай. Настанет день, когда Дядек проползет вдоль ствола и доберется до самого рая.
Там будет теплым-тепло, и луна там будет только одна, мечтал Дядек, и эта луна будет полной, величественной, неторопливой. Еще одно райское видение померещилось Дядьку в конце ствола, и четкость картины его потрясла. В раю были три прекрасные женщины, и Дядек видел их совершенно ясно! Одна была белая, другая — золотая, третья — шоколадно-коричневая. В представившейся Дядьку картине золотая девушка курила сигарету. Дядек поразился еще больше, когда понял, что знает даже марку сигарет, которые курила золотая девушка.
Это была сигарета «Лунная Дымка».
— Продайте «Лунную Дымку», — громко сказал Дядек. Было приятно отдавать приказ — чувствовать себя авторитетным, знающим.
— Чего? — сказал молодой солдат-негр, чистивший винтовку рядом с Дядьком. — Ты чего там бормочешь, Дядек? — сказал он. Солдату было двадцать три года. Его имя было вышито желтым на черной полоске над левым нагрудным карманом.
Звали его Вооз[14]. Если бы в Марсианской Армии допускалась подозрительность, Боз сразу же попал бы под подозрение. Он был простым рядовым первого класса, а форма на нем, хотя и установленного белесовато-зеленого, как лишайник, оттенка, была из отличного, гораздо более тонкого материала, да и сшита была не в пример лучше, чем у остальных, в том числе и у сержанта Брэкмана.
У всех остальных форма была из грубой, ворсистой материи, кое-как сшитая неровными стежками, толстыми нитками. На всех остальных форма выглядела пристойно, только когда они стояли навытяжку. При любом другом положении каждый солдат замечал, что форма у него пузырится в одних местах, а в других трещит, словно сделанная из бумаги.
Одежда Боза с шелковистой податливостью уступала каждому его движению. Она была сшита мелкими, многочисленными стежками. А самое удивительное было вот что: ботинки Боза отливали ярким, сочным темно-рубиновым блеском — этого блеска другому солдату вовек не добиться, как бы он ни начищал свою обувку. В отличие от ботинок всех солдат в ротном бараке, ботинки Боза были сделаны из натуральной кожи, импортированной с Земли.
— Говоришь, продавать что-то будем, а, Дядек? — сказал Боз.
— Избавьтесь от «Лунной Дымки». Сбывайте все подчистую, — пробормотал Дядек себе под нос. Смысла слов он не понимал. Он просто дал им выговориться, раз уж они так рвались на волю. — Продавайте, — сказал он.
Боз улыбнулся с насмешливой жалостью.
— Продавать? Подчистую? — переспросил он. — 0`кей, Дядек, — мы ее продадим. — Он поднял одну бровь. — А что продавать-то будем, Дядек?
Зрачки у него были какие-то особенно блестящие, острые.
Дядек забеспокоился под прицелом этих светящихся желтым светом зрачков, под сверкающим взглядом Боза — и ему становилось все больше не по себе, потому что Боз не сводил с него глаз. Дядек посмотрел в сторону, случайно заглянул в глаза нескольким своим соседям — увидел, что глаза у всех одинаково тусклые, даже у сержанта Брэкмана были тусклые, снулые глаза.
Боз неотступно сверлил глазами Дядька. Дядек почувствовал, что придется снова встретиться с ним взглядом. Зрачки Боза казались яркими, как бриллианты.
— Ты меня-то помнишь, Дядек? — спросил Боз.
Этот вопрос насторожил Дядька. По какой-то причине было очень важно, чтобы он Боза не помнил. Он обрадовался, что и вправду его не помнит.
— Боз, Дядек, — сказал темнокожий солдат. — Я — Боз.
Дядек кивнул.
— Как поживаешь? — сказал он.
— Поживаю — не то, чтобы очень уж плохо, — сказал Боз. Он тряхнул головой. — А ты обо мне совсем ничего не помнишь, Дядек?
— Нет, — сказал Дядек. Память его подзуживала, нашептывала, что он мог бы вспомнить кое-что про Боза, если бы постарался как следует. Он заставил свою память заткнуться.
— Виноват, — сказал Дядек. — Ничего не припомню.
— Да мы же с тобой — приятели, напарники, — сказал Боз. — Боз и Дядек.
— А-а, — сказал Дядек.
— Помнишь, что такое «система напарников», Дядек? — сказал Боз.
— Нет, — сказал Дядек.
— У каждого солдата в каждом взводе есть напарник, — сказал Боз. — Напарники сидят в одном окопе, плечом к плечу идут в атаку, прикрывают друг друга. Один напарник попал в беду в рукопашной, второй приятель приходит на помощь, сунул нож под ребро — и порядок.
— А-а, — сказал Дядек.
— Забавно, — сказал Боз, — что человек забывает в госпитале, а что он все же помнит, как они там ни бьются. Мы с тобой целый год работали на пару, а ты взял да забыл. А вот про сигареты ты что-то плетешь. Какие сигареты, Дядек?
— Я позабыл, — сказал Дядек.
— Давай припоминай, — сказал Боз. — Ты же только что помнил.
Он нахмурился и сощурил глаза, как будто помогал Дядьку вспоминать.
— Уж больно хочется знать, что человек может вспомнить после госпиталя. Постарайся, припомни все, что сможешь.
В манере Боза была какая-то женственная вкрадчивость — так опытный сутенер треплет педика по подбородку, улещивая его, как младенца.
Но Дядек Бозу нравился, и это тоже проглядывало в его обращении.
Дядька охватила жуть: показалось, что он и Боз — единственные живые люди в этом бараке, а кругом — одни роботы со стекляшками вместо глаз, да притом еще и плоховатые роботы. А у сержанта Брэкмана, которому полагалось по должности быть командиром, энергии, инициативы и прочих командирских качеств была не больше, чем в мешке с мокрыми перьями.
— Ну, рассказывай, рассказывай все, что помнишь, Дядек, — льстиво пел Боз. — Дружище, — уговаривал он, — ты уж вспомни, сколько можешь, а?
Но не успел Дядек ничего вспомнить, как в голове вспыхнула боль, которая заставила его там, на плацу, своими руками совершить казнь. Но на этот раз боль не прошла после первого предупредительного удара. Под бесстрастным взглядом Боза боль в голове Дядька нарастала, билась, бесновалась, жгла огнем.
Дядек встал, уронил винтовку, вцепился пальцами в волосы, зашатался, закричал и свалился, как подкошенный.
Дядек пришел в себя, лежа на полу барака, а Боз, его напарник, смачивал ему виски мокрой холодной тряпкой.
Товарищи Дядька стояли кольцом вокруг Дядька и Боза. На лицах солдат не было ни удивления, ни сочувствия. По их лицам можно было понять, что Дядек сморозил какую-то глупость, недостойную солдата, и получил по заслугам.
У них был такой вид, будто Дядек проштрафился, высунувшись из окна на виду у противника, или стал чистить винтовку, не разрядив, или расчихался в дозоре, или подцепив венерическую болезнь и не доложил об этом, а может, не выполнил прямой приказ или проспал побудку, держал у себя в сундучке книжку или гранату на взводе, а может, еще стал расспрашивать, кто организовал Армию и зачем…
Единственным, кто пожалел Дядька, был Боз.
— Я один во всем виноват, Дядек, — сказал Боз.
Сержант Брэкман растолкал солдат, встал над Дядьком и Бозом.
— Что он натворил, Боз? — сказал Брэкман.
— Да я над ним подшутить хотел, сержант, — без улыбки ответил Боз, — подначил его, чтобы вспомнить прошлое, сколько сумеет. Откуда я знал, что он и вправду начнет копаться в своей памяти.
— Хватило ума — шутить с человеком, когда он пришел из госпиталя, — проворчал Брэкман.
— Да знаю, знаю я, — ответил Боз, мучаясь раскаянием. — Он же мой напарник, — сказал он. — Черт бы меня побрал!
— Дядек, — сказал Брэкман. — Тебя что, не предупреждали в госпитале, чтобы не смел вспоминать? Дядек слабо помотал головой.
— Может, и предупреждали, — сказал он. — Они мне много чего говорили.
— Вспоминать, Дядек, — это последнее дело, — сказал Брэкман. — Тебя и в госпиталь за это самое забрали — слишком много помнил.
Он сложил свои короткопалые ладони лодочкой, держа в них ту головоломную задачу, которую представлял собой Дядек.
— Святые угодники, — сказал он. — Ты слишком много вспоминал, Дядек, так что солдатом ты был никудышным.
Дядек уселся на полу, приложил ладонь к груди, почувствовал, что рубашка спереди вся намокла от слез. Он думал, как сказать Брэкману, что он вовсе и не старался вспомнить прошлое, он сердцем чувствовал, что этого делать нельзя — и что боль поразила его, несмотря на это. Но он ничего не сказал Брэкману, боясь новой вспышки боли.
Дядек застонал и смахнул с век последние капли слез. Он не хотел ничего делать без прямого приказа.
— А что до тебя, Боз, — сказал Брэкман, — сдается мне, что если ты с недельку помоешь нужник, это тебя, может быть, и отучит лезть с шутками к человеку, который только что из госпиталя.
Что-то неуловимое в памяти Дядька подсказало ему, чтобы он повнимательней следил за Брэкманом и Бозом, за выражением их лиц. Это было почему-то очень важно.
— С недельку, сержант? — переспросил Боз.
— Да, черт меня… — сказал Брэкман и вдруг затрясся и зажмурился. Ясно — антенна только что угостила его легким уколом боли.
— Целую неделю, а? — повторил Боз с невинным видом.
— День, — сказал Брэкман, и это прозвучало как-то вопросительно, безобидно.
И снова Брэкман дернулся от боли в голове.
— А когда приступать, сержант? — спросил Боз. Брэкман замахал короткопалыми руками.
— Да ладно, — сказал он. Вид у него был потрясенный, потерянный, затравленный, как будто его предали. Он набычился, опустил голову — словно для того, чтобы лучше справиться с болью, если она снова накатит. — Покончить с шуточками, черт побери, — сказал он хрипло, с натугой. И заторопился, бросился в свою комнату в конце барака и изо всех сил хлопнул дверью.
Командир роты, капитан Арнольд Барч, вошел в барак без предупреждения, чтобы застать всех врасплох.
Боз первым увидел его. Боз сделал то, что должен был сделать солдат в подобных обстоятельствах. Боз закричал:
— Смммии-р-р-р-на!
Боз дал команду, хотя был простым рядовым. По причудам военного регламента самый последний рядовой может скомандовать остальным солдатам и вольноопределяющимся офицерам «смирно!», если он раньше всех заметит присутствие строевого офицера в любом крытом помещении вне поля боя.
Антенны всех военнослужащих мгновенно включилось, выпрямляя спины солдат, заставляя их встать навытяжку, втянуть животы, подобрать зады — опустошая их мозг. Дядек вскочил с полу и стоял, окаменев, сдерживая дрожь.
Только один человек помедлил, прежде чем встать по стойке «смирно». Это был Боз. А когда он встал навытяжку, в его манере было что-то наглое, развязное И издевательское.
Капитан Барч, которому поведение Боза показалось верхом наглости, собирался сделать ему замечание. Но капитан не успел открыть рот, как боль ударила его прямо в лоб.
Капитан закрыл рот, не издав ни звука.
Под злобно торжествующим взглядом Боза он элегантно встал навытяжку, повернулся кругом, услышал треск барабана в своем мозгу и, повинуясь его ритму, промаршировал вон из барака.
Когда капитан вышел, Боз не сразу позволил своим товарищам встать «вольно», хотя это было в его силах. У него в правом набедренном кармане брюк была маленькая коробочка дистанционного управления, с помощью которой он мог заставить своих товарищей делать практически все, что ему было угодно. Коробочка была размером с пол-литровую походную фляжку. Она была изогнута, как и фляжка, чтобы плотнее прилегала к телу. Боз носил ее в переднем кармане, на тугой, выпуклой передней поверхности бедра.
На коробочке было шесть кнопок и четыре ползунка. Манипулируя ими, Боз мог управлять на расстоянии любым, у кого была антенна в черепе. Он мог причинить этому любому дозированную боль любой силы — мог заставить его встать смирно, мог заставить его услышать бой барабана, мог заставить его маршировать, остановиться, встать в строй, разойтись, отдать честь, идти в атаку, отступать, плясать, прыгать, кувыркаться…
В черепе у самого Боза антенны не было.
Свобода воли Боза пользовалась полной свободой — он мог делать, что ему заблагорассудится.
Боз был одним из подлинных командиров Марсианской Армии. Он командовал десятой частью войск, которым предстояло штурмовать Соединенные Штаты Америки, когда будет подготовлено нападение на Землю. А дальше в ряду были расположены соединения, которые готовились к нападению на Россию, Швейцарию, Японию, Мексику, Китай, Непал, Уругвай…
Насколько Бозу было известно, подлинных командиров в Марсианской Армии было восемьсот человеки ни один из них не имел чина выше рядового. Номинальный командующий всей армией, генерал армии, Бордеро М. Палсифер, на самом деле был куклой в руках собственного вестового, капрала Берта Райта. Капрал Райт, образцовый вестовой, всегда носил с собой аспирин и давал его генералу от почти непрерывной головной боли.
Преимущества системы тайных командиров очевидны. Любой бунт в Марсианской Армии будет направлен против людей, которые ничего не значат. А в случае войны противник может истребить весь офицерский состав Марсианской Армии, не причинив самой Армии ни малейшего вреда.
— Семьсот девяносто девять, — вслух сказал Боз, корректируя собственные подсчеты. Один из подлинных командиров умер, это его задушил Дядек у каменного столба. Задушенный, рядовой по имени Стоуни Стивенсон, был подлинным командиром британского подразделения штурмовых войск Стоуни был так заворожен упорными усилиями Дядька понять, что творится вокруг, что начал, сам того не замечая, помогать Дядьку думать.
За это Стивенсона подвергли глубочайшему унижению. В его череп вставили антенну, он был вынужден промаршировать к позорному столбу, как хороший солдат, — и ждать там смерти от руки своего протеже.
Боз так и оставил солдат, своих товарищей, стоять по стойке «смирно», — пусть постоят, дрожа, ничего не соображая, ничего не видя Боз подошел к койке Дядька и улегся на бурое одеяло прямо в своих больших, до блеска начищенных ботинках. Он заложил руки за голову — изогнулся, Как лук.
— О-о-о-о-о-у, — сказал Боз. Это было нечто среднее между зевком и стоном. — О-о-о-о-о-у — право, ребята, ребята, ребята, — сказал он, позволяя себе ни о чем не задумываться.
— Черт побери, право, ребята, — сказал он. Это были ленивые, бессмысленные слова. Бозу поднадоела игра в солдатики. Ему было пришло в голову натравить их друг на друга — но, если он на этом попадется, ему грозит точно такое же наказание, как Стоуни Стивенсону.
— О-о-о-о-о-у — право, ребята. Ей-богу, право, ребята, — сказал Боз скучным голосом.
— Черт побери, право, ребята, — сказал он. — Я своего добился. И вы, ребята, должны это признать. Старика Боз поживает очень даже неплохо, будьте уверены.
Он скатился с койки, упал на четвереньки и вскочил на ноги грациозно, как пантера. Он ослепительно улыбнулся. Он старался выжать все, что мог, из своего счастливого положения в жизни.
— Вам-то еще ничего, ребята, — сказал он своим окаменевшим товарищам. — Если вам кажется, что с вами плохо обращаются, посмотрели бы вы, как мы гоняем генералов.
Он захихикал, заворковал.
— Позавчера вечером мы, настоящие командиры, поспорили, кто из генералов — самый резвый. Недолго думая, мы вытащили всех генералов — двадцать три головы — из постелек, голоштанниками, и поставили в ряд, как скаковых лошадей, а потом сделали ставки по всем правилам да и пустили генералов во весь дух, как будто за ними черти гнались. Генерал Стовер пришел первым, на корпус впереди генерала Гаррисона, а тот обошел генерала Мошера. Наутро все генералы в нашей Армии не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. И ни один не помнил, что творилось ночью.
Боз вновь захихикал и заворковал, а потом решил, что будет выглядеть куда лучше, если отнесется к своему счастливому положению в жизни всерьез — покажет, какое это бремя, покажет, что он почитает за честь нести такое бремя. Он благоразумно отступил на заранее подготовленные позиции, засунул большие пальцы за ремень и напустил на себя грозный вид.
— Да уж, — сказал он. — Это вам не игрушки, по правде-то говоря. — Он враскачку подошел к Дядьку, почти вплотную, окинул его взглядом с ног до головы.
— Дядек, старина, — сказал он, — слов нет, сколько я о тебе раздумывал — часами голову ломал, беспокоился, Дядек.
Боз покачался с носков на пятки.
— Надо же тебе каждый раз лезть и разнюхивать, что не положено! Знаешь, сколько раз тебя забирали в госпиталь, чтобы почище вымести все у тебя из. памяти, а? Семь раз, Дядек! А знаешь, сколько раз нужно посылать в госпиталь простого человека, чтобы начисто стереть его память? Один раз, Дядек. Всего разочек! — Боз щелкнул пальцами под носом у Дядька.
— И дело с концом, Дядек. С первого раза человек чистенький, и ему до конца жизни на все плевать. — Он озадаченно покачал головой. — А вот тебе этого мало, Дядек.
Дядек стал дрожать.
— Что, надоело стоять навытяжку передо мной, Дядек? — сказал Боз. Он заскрипел зубами. Боз никак не мог удержаться, чтобы не помучить Дядька хоть изредка.
Ведь у Дядька там, на Земле, было все, а у Боза — ничего.
Во-вторых, Боз чувствовал, что он, — стыдно сказать, — целиком зависит от Дядька — или будет зависеть, как только они вернутся на Землю. Боз был круглым сиротой и завербовался в четырнадцать — откуда ему было знать, как можно всласть повеселиться на Земле.
Он рассчитывал, что Дядек ему все покажет.
— Хочешь знать, кем ты был раньше — откуда ты кто ты такой? — сказал Боз Дядьку. Дядек продолжал стоять по стойке «смирно», без единой мысли в голове, и не мог даже извлечь пользу из того, что Боз мог ему выдать. Да Боз и распинался-то не ради него. Просто хотел убедить себя, что на Земле рядом с ним будет напарник, друг, приятель.
— Ты, брат, — сказал Боз, с ненавистью глядя на Дядька, — ты был таким счастливчиком, каких мало. Там, на Земле, ты был Король!
Как и большая часть информации на Марсе, сведения Боза были отрывочные, неоформленные. Он сам не мог сказать, откуда, собственно говоря, он эти сведения получил. Подхватил среди фонового шума армейской жизни.
А он был слишком хорошим солдатом, чтобы ходить да расспрашивать, пытаясь раздобыть побольше сведений. Солдату много знать не положено.
Так что про Дядька Боз знал очень немногое: только то, что когда-то Дядек был счастливчиком. Остальное он присочинил сам.
— Понимаешь, — сказал Боз, — ты мог иметь все, что вздумается, вытворять, что вздумается, ходить во все места, куда тебе вздумается!
Расписывая чудо необычайной удачливости Дядька на Земле, Боз поневоле выдавал гнездящийся в глубине души страх перед другим чудом — он был бесповоротно, суеверно убежден, что его самого на Земле ждут сплошные неудачи.
Боз наконец произнес три волшебных слова, в которых для него сосредоточилось все счастье, какого человек мог достичь на Земле: ночные рестораны Голливуда. Ни Голливуда, ни ночных ресторанов он и в глаза не видал.
— Эх, брат, — сказал он. — Ты же шлялся по ночным ресторанам Голливуда день и ночь напролет.
— Да, брат, — сказал Боз отключенному от действительности Дядьку, — у тебя было все, что нужно человеку, чтобы жить на земле в свое удовольствие, и притом ты знал, как надо жить, понял?
— Брат ты мой, — сказал Боз Дядьку, стараясь скрыть жалкую бесформенность своих мечтаний. — Пойдем мы с тобой по самым лучшим ресторанам, закажем себе самую лучшую еду и водиться будем с самыми лучшими людьми — вращаться в высших кругах! Уж мы повеселимся на славу, покутим, погуляем!
Он схватил Дядька за руку, покачав его взад-вперед.
— Напарники — вот мы кто, приятель. Мы, брат, прославимся на пару — везде побываем, всего отведаем.
— Вот сам счастливчик Дядек и его напарник Боз! — сказал Боз, высказывая то, что ему хотелось бы услышать от землян на оккупированной Земле. — Вон они, веселые, как пара пташек!
И он ухмылялся и ворковал, представляя себе счастливую, как пташки, парочку.
Улыбка на его лице внезапно погасла.
Все его улыбки были недолговечны. В самой глубине души Боз до смерти боялся. Он до смерти боялся потерять свое место. Он не мог взять в толк, как он на это место попал — как сподобился такой чести. Он не знал, кто удостоил его такой чести.
Боз даже не знал, кто командует подлинными командирами.
Он никогда не получал приказа — ни от кого, кто стоял бы выше настоящих командиров. В своих действиях Боз, как и остальные настоящие командиры, руководствовался, образно выражаясь, подброшенными и пойманными на лету намеками — намеками, которые появлялись в среде настоящих командиров.
Когда подлинным командирам случалось собраться поздним вечером, эти намеки им подавали, как лакомые кусочки, — с пивом, крекерами, сыром.
К примеру, возникал намек на то, что на складах замечена пропажа, или на то, что солдатам на учениях неплохо бы понюхать крови, чтоб озверели, и еще — что солдаты вечно небрежничают, пропуская дырочки при шнуровке гетр. Боз лично передавал эти намеки дальше — понятия не имея, откуда они пришли, — и действуя по намеку, как по приказу.
Один такой намек привел к казни Стоуни Стивенсона и сделал Дядька его палачом. Эта тема просто возникла в разговоре.
Настоящие командиры ни с того ни с сего посадили Стоуни Стивенсона под арест.
Боз ощупал пальцами коробочку, лежавшую в кармане, не нажимая ни на одну кнопку. Он встал рядом с людьми, которыми управлял, по собственному почину встал навытяжку, нажал кнопку и встал «вольно», когда все остальные задвигались.
Ему страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Кстати, ему было разрешено пить, когда захочется. Для настоящих командиров с Земли регулярно доставлялись неограниченные запасы спиртного. Офицерам тоже было разрешено пить, сколько угодно, только пили они страшную дрянь. Офицеры пили убийственную зеленую пакость местного производства, которую гнали из лишайников.
Боз никогда капли в рот не брал. Он не пил, во-первых, потому, что боялся из-за спиртного стать никудышным солдатом, а во-вторых, потому, что боялся забыться и угостить рядового спиртным.
Наказанием подлинному командиру, который предложил рядовому выпить, была смертная казнь.
— Да, Господи, — произнес Боз, и его голос вплелся в нестройное бормотанье очнувшихся солдат.
Через десять минут сержант Брэкман объявил перерыв для отдыха, который заключался в том, что все выходили на плац и играли в немецкую лапту. Немецкая лапта была главной спортивной игрой на Марсе.
Дядек потихоньку улизнул.
Дядек прокрался к бараку номер 12, чтобы отыскать письмо под голубым камнем — письмо, о котором сказал ему рыжий солдат перед тем, как он его убил.
В этом углу все бараки были пустые.
Ветру нечего было трепать на пустых флагштоках.
В пустых бараках раньше был расквартирован Марсианский высший десантно-диверсионный корпус. Десантники исчезли незаметно, глубокой ночью, месяц тому назад. Они стартовали в космических кораблях — вычернив лица, прихватив пластырем опознавательные личные жетоны, чтобы цепочки не звенели, — в неизвестном направлении.
Ребята из Марсианского высшего десантно-диверсионного корпуса умели виртуозно снимать часовых при помощи петель из рояльных струн.
Их секретным местом назначения была Луна, спутник Земли. Там они должны были начать военные действия.
Дядек увидел большой голубой камень у порога бойлерной в двенадцатом бараке. Это был кусок бирюзы. Бирюза на Марсе — не редкость. Кусок бирюзы, который отыскал Дядек, был плоский, в диаметре около фута.
Дядек заглянул под камень. Он нашел алюминиевый цилиндр с навернутым колпачком. В цилиндре было длинное, очень длинное письмо, написанное карандашом.
Дядек понятия не имел, кто написал письмо. Да и откуда ему было догадаться, если он знал имена всего трех человек: сержанта Брэкмана, Боза, Дядька.
Дядек вошел в бойлерную и закрыл за собой дверь.
Он волновался, сам не понимая отчего. Он начал читать при свете, падавшем сквозь запыленное окошко.
Дорогой Дядек, — так начиналось письмо, — здесь все, что я точно узнал, — не так уж это много, Бог свидетель, — а в конце ты найдешь список вопросов, на которые надо постараться ответить, чего бы это тебе ни стоило. Это очень важные вопросы. Над ними я думал больше, чем над ответами, которые уже получил. Вот первое, что я знаю точно:
(1) Если вопросы бессмысленные, то и в ответах смысла не найдешь.
Все ответы, которые узнал автор письма, были пронумерованы по порядку, словно для того, чтобы подчеркнуть, каких усилий, ход за ходом, стоила эта игра — поиск точных ответов на вопросы. Автор письма знал точные ответы на сто пятьдесят восемь вопросов. Раньше их было сто восемьдесят пять, но семнадцать пунктов было вычеркнуто.
Второй пункт гласил: (2) Я — живое существо.
Третий: (3) Я живу на Марсе.
Четвертый: (4) Я нахожусь в подразделении так называемой Армии.
Пятый: (5) Армия намеревается истребить другие живые существа, которые живут на Земле.
Вначале девяносто один пункт не был вычеркнут. В этих пунктах автор касался все более тонких вопросов и ошибался все чаще.
Боза он раскусил и разоблачил с первых ходов.
(46) Берегись Боза, Дядек. Он не тот, за кого себя выдает.
(47) У Боза в правом кармане спрятана штука, которая больно бьет в голову, когда человек чем-то не угодит Бозу.
(48) Еще кое-кто имеет при себе такую штуку, которая может тебя больно ударить. По виду не поймешь, у кого она есть, так что будь вежлив со всеми.
(71) Дядек, дружище, почти за все, что я точно узнал, заплачено болью в голове, с которой я боролся, — поведало Дядьку письмо. — Когда я начинаю поворачивать голову и разглядывать что-то и натыкаюсь на боль, я все равно поворачиваю голову и смотрю, потому что знаю — я увижу что-то, что мне не положено видеть. Когда я задаю вопрос и нарываюсь на боль, я знаю, что задал очень важный вопрос. Тогда я разбиваю вопрос на маленькие вопросики и задаю их по отдельности. Получив ответы на кусочки вопроса, я их все складываю и получаю ответ на большой вопрос.
(72) Чем больше я учусь терпеть боль, тем больше я узнаю. Ты сейчас боишься боли, Дядек, но ты ничего не узнаешь, если не пойдешь добровольно на пытку болью. И чем больше ты узнаешь, тем больше будет радость, которую ты завоюешь, не поддаваясь боли.
Один, в пустой бойлерной покинутого барака, Дядек на минуту отложил письмо. Он чуть не плакал, потому что герой, написавший письмо, напрасно доверял Дядьку. Дядек знал, что не выдержит и малой частицы той боли, которую перенес автор письма, — нет, не так уж ему дорого знание.
Даже маленькая, пробная боль, которой его угостили в госпитале, была невыносима. Он стал хватать воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды, при одном воспоминании о жуткой боли, которой Боз сшиб его с ног в бараке. Он готов лучше умереть, чем еще раз пойти на такую пытку.
Глаза у него налились слезами.
Если бы он попытался говорить, то разрыдался бы.
Бедняга Дядек ничем не хотел рисковать, ни с кем не хотел ссориться. И какую бы информацию он ни получил из письма — информацию, завоеванную героизмом другого, — он всю ее употребит на то, чтобы избежать новой боли.
Дядек задумался о том, способны ли одни люди лучше переносить боль, чем другие. И решил, что в этом все дело. Он со слезами говорил себе, что просто особенно чувствителен к боли. Не желая автору зла, он все же хотел бы, чтобы автор письма хоть раз почувствовал боль так же остро, как сам Дядек.
Может быть, тогда он адресовал бы свое письмо кому-нибудь другому.
Дядек не мог оценить важность содержавшейся в письме информации. Он поглощал ее безоговорочно, без критики, с жадностью голодающего. И, поглощая ее, он впитывал мировоззрение автора, перенимал его взгляд на жизнь. Дядек усваивал целую философию.
А с философией были перемешаны слухи, сведения по истории, астрономии, географии, психологии, медицине — и даже короткий рассказ.
Вот выдержки, наугад:
Слухи: (22) Генерал Бордерз всегда беспробудно пьян. Он так пьян, что даже шнурки на ботинках завязать не может, узлы не держатся. Офицеры так же запуганы и несчастны, как и все прочие. Ты тоже был офицером, Дядек, командовал целым батальоном.
История: (26) Все население Марса прибыло с Земли. Они надеялись, что на Марсе им будет легче жить. Никто не может вспомнить, чем плоха была жизнь на Земле.
Астрономия: (11) Весь небесный свод обращается вокруг Марса за одни сутки.
Биология: (58) Новые люди нарождаются от женщин, когда мужчины и женщины спят вместе. На Марсе новые люди почти не нарождаются, потому что мужчины и женщины спят в разных местах.
Теология: (15) Кто-то сотворил все сущее с какой-то целью.
География: (16) Марс шарообразен Единственный город на Марсе называется Феба. Никто не знает, почему он называется Феба.
Психология: (103) Дядек, у всех дураков одна беда — по крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете есть такая штука, как здравый смысл.
Медицина: (73) Когда здесь, на Марсе, у человека стирают память, они не могут стереть ее начисто. Они как бы метут посередке, что ли. И всегда оставляют углы невыметенными. Тут рассказывают, как они пытались стереть память начисто у нескольких солдат. Бедняги, на которых они поставили опыт, не могли ходить, не умели разговаривать, вообще ничего не умели. Единственное, что с ними додумались сделать, — научили их пользоваться уборной, вдолбили самые необходимые слова — с тысячу, не больше, — и посадили в военные или промышленные рекламные конторы.
Короткий рассказ: (89) Дядек, у тебя есть закадычный друг — Стоуни Стивенсон. Стоуни — высокий, веселый, сильный малый, он выпивает по кварте виски в день. У Стоуни нет антенны в голове, и он помнит все, что с ним было. Он притворяется контрразведчиком, но на самом деле он — один из настоящих командиров. Он управляет по радио пехотинцами-штурмовиками, которые должны завоевать местность на Земле, именуемую Англия. Стоуни сам из Англии. Стоуни нравится Марсианская Армия, потому что тут есть над чем посмеяться. Стоуни всегда смеется. Он прослышал, что есть такой шут гороховый, Дядек, и решил посмотреть на тебя собственными глазами. Он притворился твоим другом, чтобы послушать, что ты плетешь. Понемногу ты стал доверять ему, Дядек, и ты поделился с ним своими тайными теориями о том, в чем смысл жизни на Марсе. Стоуни собрался было посмеяться, как вдруг понял, что ты открыл кое-что, о чем он сам не имеет ни малейшего представления. И это его сразило, потому что ему-то полагалось знать все, а тебе не положено было знать ничего. Потом ты высказал Стоуни множество серьезных вопросов, на которые хотел получить ответ, и оказалось, что Стоуни знает не больше половины ответов. Стоуни вернулся в свой барак, и вопросы, на которые он не знал ответов, все вертелись и вертелись у него в голове. В эту ночь он так и не заснул, хотя пил, пил, пил. До него начато доходить, что кто-то его использует, а кто, он понятия не имел. Он даже не знал, кому и зачем нужна армия на Марсе. Он не знал, с чего это Марс должен нападать на Землю. И чем больше он вспоминал о Земле, тем яснее понимал, что Марсианская Армия имеет такие же шансы на победу, как снежок в пекле. Массированный удар по Земле станет массовым самоубийством, это яснее ясного. Стоуни задумался, с кем бы обсудить все это, и понял, что поговорить может только с одним человеком — с тобой. Дядек. Так что Стоуни выкарабкался из постели примерно за час до рассвета и пробрался в твой барак, Дядек, и разбудил тебя. Он рассказал тебе о Марсе все, что знал сам. И он сказал, что отныне будет сообщать тебе каждую мельчайшую мелочь, какую узнает, а ты тоже должен говорить ему про каждую мельчайшую мелочь, какую узнаешь. И вы будете при малейшей возможности куда-нибудь прятаться и вдвоем обмозговывать все, что узнали. И он дал тебе бутылку виски. И вы оба из нее пили, и Стоуни сказал тебе, что ты его самый задушевный друг, черт бы тебя побрал. Он сказал, что ты, чертов сын, самый лучший друг, какой у него есть на всем Марсе, и хотя раньше он всегда смеялся, а тут так разрыдался, что едва не перебудил всех твоих соседей. Он тебе велел остерегаться Боза, вернулся в свой барак и уснул, как младенец.
После этого короткого рассказа письмо неоспоримо доказывало эффективность совместной деятельности пары наблюдателей — Стоуни Стивенсона и Дядька. С этого места почти все точные ответы на вопросы предварялись почти неизменно такими фразами: Стоуни говорит -и: Стоуни сказал тебе -и: Ты сказал Стоуни -и: Вы со Стоуни как-то раз нализались до чертиков на полигоне, и вот что пришло в голову вам, двум пьянчугам этаким…
А самое главное, что пришло в голову двум пьянчугам, то, что всем на Марсе на самом деле заправляет рослый, любезный, улыбающийся человек с высоким певучим тенором, по пятам за которым ходит громадный пес. Как сообщалось в адресованном Дядьку письме, этот человек с собакой появляется на тайных советах настоящих командиров примерно раз в сто дней.
В письме об этом не говорилось, потому что автор этого не знал, но человек с собакой был не кто иной, как Уинстон Найлс Румфорд со своим Казаком, космическим псом. И их появления на Марсе были не случайны. С тех пор, как они попали в хроно-синкластический инфундибулум, Румфорд и Казак возвращались с такой же астрономической точностью, как комета Галлея. Они появлялись на Марсе каждые сто одиннадцать дней.
Дальше в письме к Дядьку говорилось:
(155) Стоуни говорит, что этот высокий человек со своим псом появляется на военных советах и просто-напросто пудрит всем мозги. После совета все они стараются думать точно так же, как он, словно он их заворожил. Все мысли исходят от него, а им кажется, что они сами все придумали. Он же знай себе улыбается да заливается, как соловей, а сам накачивает их новыми мыслями. И все участники военных советов начинают обмениваться этими мыслями, как своими собственными. Он помешан на игре в немецкую лапту. Имени его никто не знает. Когда его спрашивают, он только смеется. Он одет в форму воздушного десанта морской лыжной пехоты, но настоящие командиры воздушного десанта морской лыжной пехоты клянутся, что видели его только на военных советах и больше нигде.
(156) Дядек, друг сердечный, — было написано в письме к Дядьку, — каждый раз, когда вы со Стоуни что-нибудь разузнаете, пиши дальше это письмо. Запрятывай письмо как можно лучше. И каждый раз, как перепрятываешь в другое место, не забудь сказать Стоуни, куда ты его положил. Тогда сколько бы тебя ни забирали в госпиталь, чтобы вымести твою память, Стоуни всегда скажет тебе, куда идти, чтобы снова восстановить ее.
(157) Дядек, знаешь, что тебя держит? Ты держишься, потому что у тебя есть подруга и ребенок. На Марсе почти ни у кого нет ни подруги, ни ребенка. Твою подругу зовут Би. Она — инструктор в Школе шлиманносского дыхания, в Фебе. Твоего сына зовут Хроно. Он живет в начальной школе-интернате в Фебе. Стоуни Стивенсон говорит, что Хроно — лучший игрок в немецкую лапту во всей школе. Как все на Марсе, Би и Хроно научились ни в ком не нуждаться и надеяться только на себя. По тебе они не скучают. Они никогда о тебе не вспоминают. Но ты должен им доказать, что ты им нужен, как только может быть нужен человек человеку.
(158) Дядек, чучело ты этакое, я тебя люблю. По-моему, ты мировой парень. Когда ты соберешь свою маленькую семью, угони ракету и лети в какое-нибудь мирное, прекрасное место, куда-нибудь, где не придется глотать дышарики, чтобы остаться в живых. Возьми с собой Стоуни. А когда обживетесь на новом месте, соберитесь все вместе и не жалейте времени, подумайте, какого черта тому, кто сотворил весь этот мир, вздумалось его сотворить.
Дядек дочитал письмо. Осталось только взглянуть на подпись.
Подпись была на отдельном листке.
Перед тем, как перевернуть страницу, Дядек попытался себе вообразить, как выглядит автор, какой у него характер. Автор письма был бесстрашен. Он так жаждал правды, что готов был вытерпеть любые мучения, только бы добавить немного в свою сокровищницу правды. И Дядьку, и Стоуни до него было далеко. Он наблюдал и записывал результаты подпольной деятельности с любовью и преданностью, совершенно беспристрастно.
Дядьку автор письма представлялся чудесным стариком с белоснежной бородой и мощными мышцами кузнеца.
Дядек перевернул страницу и прочел подпись.
«Остаюсь преданный тебе» — вот какие чувства автор выразил на прощание, прежде чем подписаться.
Сама подпись занимала почти всю страницу. Она была начертана заглавными буквами, по шесть дюймов в высоту и по два в ширину. Буквы были неровные, расплывшиеся, выведенные по-детски неряшливо и размашисто. Вот эта подпись:
ДЯДЕК
Подпись была его собственная.
Дядек и был тот герой, написавший письмо.
Дядек написал письмо самому себе перед тем, как его память стерли. Это была литература в высшем смысле слова — потому что она сделала Дядька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным. Она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время.
Дядек не знал, что убил у позорного столба своего лучшего друга, Стоуни Стивенсона. Если бы он это знал, он мог бы наложить на себя руки. Но Судьба пощадила его, избавила от этой ужасной правды на много лет.
Когда Дядек вернулся в свой барак, там стоял свист и скрежет — все точили кинжалы и штыки. У каждого в руке было оружие.
И на всех лицах он увидел смиренную, потаенную ухмылку. Но эта ухмылка смахивала на оскал убийцы, который бросится убивать с наслаждением, дай ему только волю.
Только что был получен приказ срочно готовиться к погрузке на космические корабли.
Война с Землей началась.
Передовой десантно-штурмовой отряд уже смел с лица Луны все постройки землян. Штурмовая артиллерия вела обстрел ракетами с Луны, и каждый крупный город на Земле уже отведал адского пекла.
А вместо ресторанной музыки при этой адской дегустации марсианское радио глушило землян сводящим с ума речитативом:
Черномазый, бледнолицый, желтопузый — стань рабом или умри.
Черномазый, бледнолицый, желтопузый — стань рабом или умри.
Дезертир с поля боя
«Никак не могу понять, почему немецкая лапта не признана одним из олимпийских видов спорта — может быть, даже главным видом спорта на Олимпийских играх».
От армейского лагеря до космодрома, где базировался штурмовой космический флот, был переход длиной в шесть миль, и маршрут проходил через северо-западную окраину Фебы, единственного города планеты Марс.
Население Фебы в период расцвета, согласно данным «Карманной истории Марса» Уинстона Найлса Румфорда, составляло восемьдесят семь тысяч. Все постройки и все до единого люди в Фебе были подчинены военным целям. Массы рабочих управлялись точно так же, как солдаты, — при помощи вживленных в мозг антенн.
Рота Дядька в составе своего полка проходила походным маршем через северо-западную окраину Фебы, по дороге на космодром. Солдат больше не нужно было заставлять двигаться и соблюдать строй при помощи антенн. Ими уже овладела военная горячка.
Они маршировали с песней, и их ботинки с железными подковками гулко грохотали по железной мостовой. Они пели кровожадную песню:
Ужас, горе и невзгоды —
Ать, два, три — ать!
Мы несем земным народам!
Ать, два, три — ать!
Бей! Ломай! Дави! Круши!
Ать, два, три — ать!
Не оставим ни души!
Ать, два, три — ать!
Крик! Два, три, ать!
Кровь! Два, три, ать!
Смерть! Два, три, ать!
Гррррррррррррррррроб!
Заводы в Фебе продолжали работать в полную мощность. На улицах не было зевак, некому было смотреть на распевающих героев. Окна вспыхивали неровным светом, когда ослепительные факелы внутри разгорались и гасли. Дверные проемы изрыгали брызжущее искрами, смешанное с дымом желтое пламя, когда расплавленный металл лился в формы. Визг и скрежет машин врывался в звуки военного марша.
Над городом на бреющем полете проходили три летающие тарелки — голубые разведчики, с нежным, баюкающим жужжаньем, похожим на пение музыкальной юлы. Казалось, что они поют: «Прости-прощай!», улетая по касательной, а округлая поверхность Марса уходила из-под них, удалялась. Не успела синичка хвостиком дернуть, а они уже мерцали в беспредельном пространстве.
«Ужас, горе и невзгоды», — пели солдаты. Но один солдат только шевелил губами, не издавая ни звука. Это был Дядек.
Дядек шагал в первой шеренге предпоследней колонны своей роты.
Боз маршировал за ним в затылок, и Дядьку казалось, что взгляд Боза жжет ему шею. Кроме того, Боз и Дядек были превращены в подобие сиамских близнецов, потому что несли на плечах сувол шестидюймового осадного миномета.
— Кровь! Два, три, ать! — орали солдаты. — Смерть! Два, три, ать! Грррррроб!
— Дядек, дружище, — сказал Боз.
— Что, дружище? — рассеянно откликнулся Дядек. В путанице солдатского обмундирования он прятал гранату на взводе. Он уже выдернул чеку. Чтобы граната взорвалась через три секунды, Дядьку было достаточно разжать руку.
— Я нам с тобой обеспечил хорошее местечко, дружище, — сказал Боз. — Старина Боз — он уж не забудет своего напарника, а, дружище?
— Точно, дружище, — сказал Дядек.
Боз так все подстроил, что они с Дядьком должны были оказаться на борту флагманскою космического корабля во время вторжения на Землю. Флагманский корабль, хотя именно для него по прихоти судьбы и предназначался ствол осадного миномета, был, по сути дела, невоенным кораблем. Он был рассчитан всего на двух пассажиров, а остальная емкость была заполнена сладостями, спортивными товарами, магнитофонными кассетами, мясными консервами, настольными играми, дышариками, безалкогольными напитками, Библиями, бумагой для заметок, парикмахерскими наборами, гладильными досками и прочими припасами для поддержания силы духа.
— Счастливая примета — стартовать на борту флагманского корабля, а, дружище?
— Счастливая, это точно, дружище, — сказал Дядек. Он только что мимоходом швырнул гранату в канализационный люк.
Люк с ревом изверг столб грязи и дыма.
Солдаты бросились ничком на мостовую.
Боз, подлинный командир роты, поднял голову первым. Он увидел клубящийся в пасти люка дым, решил, что это просто газы взорвались.
Боз сунул руку в карман, нажал кнопку, подавая роте сигнал вскочить на ноги.
Когда они встали, встал и Боз.
— Черт побери, приятель, — сказал он. — Сдается, мы уже получили боевое крещение.
Он поднял свой конец ствола осадного миномета.
А другой конец поднимать было некому.
Дядек отправился на поиски своей жены, сына и лучшего друга.
Дядек дезертировал, «ушел в кусты» на плоской, плоской, плоской марсианской равнине, где не росло ни травинки.
Сын, которого разыскивал Дядек, носил имя Хроно.
По земному счету Хроно было восемь лет.
Имя ему дали по названию месяца, в котором он родился. Марсианский год состоял из двадцати одного месяца, из которых двенадцать имели по тридцать дней, а девять — по тридцати одному. Месяцы назывались январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, уинстон, найлс, румфорд, казак, ньюпорт, хроно, синкластик, инфундибулум и сэло.
Для памяти:
Тридцать дней — июнь и сэло, инфундибулум, ноябрь,
Уинстон, хроно, румфорд, ньюпорт,
Найлс, апрель, казак, сентябрь;
В остальных же, крошка-сын,
Этих дней — тридцать один.
Месяц сэло был назван в честь создания, которое Уинстон Найлс Румфорд повстречал на Титане. А Титан, как вы знаете, был спутником Сатурна и райским уголком.
Сэло, титанский приятель Румфорда, был посланцем из другой Галактики, он совершил вынужденную посадку на Титане из-за поломки одной детали в энергоблоке космического корабля. Он дожидался запасной детали.
Он терпеливо ждал двести тысяч лет.
Энергия, двигавшая его корабль в космосе, как и энергия, обеспечивавшая Марсианскую Армию, была известна под названием ВСОС, или Всемирное Стремление Осуществиться. ВСОС — это то, что творит Вселенные из ничего — заставляет ничто упорно стремиться к превращению в нечто.
Многие земляне рады, что на Земле нет ВСОСа.
Вот как это выражено в уличной песенке:
Билл раздобыл кусочек ВСОСа
И прикурил, как папиросу.
Что говорить! Беднягу Билла
На пять Галактик раздробило…
Хроно, сын Дядька, в свои восемь лет был выдающимся игроком в немецкую лапту. Кроме немецкой лапты, его ничто не интересовало. Немецкая лапта была ведущим видом спорта на Марсе — и в средней школе, и в армии, и на заводских стадионах.
Так как детей на Марсе было ровным счетом пятьдесят два человека, для них хватало одной средней школы, в самом центре Фебы. Ни один из пятидесяти двух детей не был зачат на Марсе. Все они были зачаты еще на Земле или, как Хроно, на космическом корабле с новобранцами для Марса.
Дети в школе почти не учились, потому что на Марсе им, в общем-то, делать было нечего. Они почти все время играли в немецкую лапту.
В немецкую лапту играют дряблым мячом размером с крупную зимнюю дыню. Мяч летает не лучше шелкового цилиндра, налитого до краев дождевой водой. Игра немного напоминает бейсбол: игрок с битой (подающий) выбивает мяч в сторону полевых игроков команды противника, а затем бежит от базы к базе; а полевые игроки стараются поймать мяч и «запятнать» бегущего. Однако в немецкой лапте всего три базы: первая, вторая и «дом». И подающему никто не подкидывает. Он кладет мяч на один кулак и бьет по нему другим кулаком. А если полевой игрок заденет бегущего мячом во время перебежки между базами, считается, что его вышибли, и он должен тут же покинуть поле.
Повальное увлечение немецкой лаптой исходило, конечно же, от Уинстона Найлса Румфорда, от которого исходило все, что творилось на Марсе.
Говард У. Сэмс в своей книге «Уинстон Найлс Румфорд, Бенджамен Франклин и Леонардо да Винчи» убедительно доказал, что немецкая лапта — единственная спортивная игра, с которой Румфорд был знаком в детстве. Сэмс утверждает, что Румфорда в детстве научила играть в немецкую лапту его гувернантка, мисс Джойс Маккензи.
В далеком ньюпортском детстве Румфорда команда, состоявшая из Румфорда, мисс Маккензи и Эрла Монкрайфа, дворецкого, регулярно играла в немецкую лапту с командой, состоявшей из Уатанабе Уатару, садовника-японца, Беверли Джун Уатару, дочери садовника, и Эдварда Сьюарда Дарлингтона, полоумного мальчишки-конюха. Команда Румфорда неизменно выигрывала.
Дядек, единственный дезертир за всю историю Марсианской Армии, сидел, сжавшись в комок и задыхаясь, за обломком бирюзовой скалы и смотрел, как школьники играют в немецкую лапту на железном поле для игр. За валуном рядом с Дядьком стоял велосипед, который он украл со стоянки возле фабрики противогазов. Дядек не знал, который мальчишка — его сын, какой из мальчишек — Хроно.
Планы у Дядька были самые неопределенные. Он мечтал об одном: отыскать жену, сына и лучшего друга, угнать космический корабль и улететь в какое-нибудь место, где все они будут жить-поживать, добра наживать.
— Эй, Хроно! — закричал один из играющих. — Тебе бить!
Дядек выглянул из-за камня, чтобы увидеть, кто подойдет к «дому». Мальчик, который выйдет подавать, и есть Хроно, его сын.
Хроно, сын Дядька, вышел на подачу.
Он был невысок для своего возраста, но на удивление, по-мужски широк в плечах. Волосы у мальчишки были черные, как вороново крыло, жесткие черные пряди упрямо завивались вихром против часовой стрелки.
Мальчишка был левшой. Мяч лежал у него на правом кулаке, и он приготовился бить с левой.
Глаза у него были так же глубоко посажены, как у отца. Его глаза сверкали из-под глубоких сводов под черными бровями. Они горели неземной яростью.
Горящие яростью глаза метнулись в одну сторону, потом в другую. Эти быстрые взгляды нагнали страху на полевых игроков, согнали их с занятых позиций, внушая, что неповоротливый дурацкий мяч настигнет их с жуткой скоростью и разнесет в клочки, если они окажутся у него на пути.
Стерах, который внушал мальчик с мячом, почувствовала даже учительница. Она занимала обычную позицию судьи в немецкой лапте — между первой и второй базами, и она тоже перепугалась до смерти. Это была хрупкая старушка по имени Изабель Фенстермейкер. Ей было семьдесят три, и она принадлежала к секте Свидетелей Иеговы — до того, как стерли ее память. Ее похитили обманом, когда она пыталась всучить номер «Маяка» марсианскому агенту в Дулуте.
— Хроно, милый, — сказала она дрожащим голосом, — не забывай, что это просто игра.
Небо внезапно потемнело от сотни летающих тарелок — кроваво-красных кораблей Марсианского воздушного десанта лыжной морской пехоты. Певучий рокот кораблей, как музыкальный гром, заставил дребезжать окна школы.
Однако в доказательство того, какое значение юный Хроно придавал немецкой лапте, ни один из ребят не решился взглянуть на небо.
Юный Хроно, напугав полевых игроков и мисс Фенстермейкер почти до безумия, вдруг опустил мяч к своим ногам, вынул из кармана недлинную металлическую планочку — свой талисман, приносящий счастье. Он поцеловал талисман — на счастье, положил планочку обратно в карман.
Потом он вдруг схватил мяч, мощным ударом — бляп! — послал его вперед и полетел от базы к базе, как птица.
Полевые игроки и мисс Фенстермейкер шарахнулись от мяча, как от раскаленного докрасна пушечного ядра. Когда мяч, прокатившись немного, остановился сам собой, игроки стали приближаться к нему с ритуальной торжественной медлительностью. Совершенно ясно было: они прилагают все усилия, чтобы не задеть Хроно мячом, не вышибить его из игры. Все противники словно сговорились для вящей славы Хроно продемонстрировать свое полное бессилие.
Было ясно, что Хроно — самое ослепительное существо, которое дети видели на Марсе, и сами они ловили только отраженный от него свет. Они были готовы на все, только чтобы возвеличить его еще больше.
Юный Хроно проскользнул в «дом» в облаке рыжей ржавчины.
Полевой игрок швырнул в него мячом — увы, поздно, очень поздно, слишком поздно. Игрок, как полагалось по ритуалу, обругал себя за невезенье.
Юный Хроно постоял, стряхнул с себя пыль, снова поцеловал свой талисман, поблагодарил его за еще один удачный пробег. Он твердо верил, что своей ловкостью и силой обязан этому талисману, и остальные ученики тоже были в этом уверены, и даже мисс Фенстермейкер тоже втайне в это верила.
Вот история счастливого талисмана:
Как-то раз мисс Фенстермейкер повела детей на экскурсию на завод огнеметов. Управляющий объяснил детям весь процесс сборки огнеметов, по операциям, и выразил надежду, что некоторые из них, когда подрастут, придут работать на его предприятие. В конце экскурсии в отделе упаковки управляющий запутался ногой в закрученной спиралью стальной ленте, какой скрепляют ящики с огнеметами.
Спираль с зазубренными краями, впившуюся ему в щиколотку, бросил в проходе цеха неаккуратный рабочий. Управляющий, освобождаясь от спирали, оцарапал ногу и порвал брюки. И тут он впервые за весь день выразился недвусмысленно и доступно для детей. Он по вполне понятным причинам сорвал зло на спирали.
Он стал топтать ее ногами.
А когда она снова вцепилась в него, он схватил ее и настриг громадными ножницами на кусочки по четыре дюйма длиной.
Дети увидели поучительное, захватывающее зрелище и были очень довольны. Уходя из отдела упаковки, юный Хроно поднял с пола один из четырехдюймовых кусочков и незаметно сунул в карман. Этот кусочек отличался от прочих тем, что в нем были просверлены две дырочки.
Это и был талисман Хроно. Он стал так же неотделим от Хроно, как его правая рука. Нервные окончания Хроно, образно говоря, проросли в эту полоску металла. Троньте ее — и вы тронете Хроно.
Дядек, дезертир, поднялся из-за бирюзового камня, энергично и деловито прошагал на школьный двор. Он еще раньше сорвал все свои знаки различия. Это придавало ему вполне официальный вид, как положено солдату на войне, однако не обязывало к каким-либо определенным действиям. Из всей походной выкладки он оставил себе только кинжал, однозарядную винтовку-маузер и одну гранату. Все это оружие он сложил в тайнике за камнем, вместе с краденым велосипедом.
Дядек четким шагом подошел к мисс Фенстермейкер. Он сказал, что ему необходимо допросить юного Хроно в связи с особо важным делом, без свидетелей. Он ей не сказал, что он — отец мальчика. То, что он отец мальчика, не давало ему никаких прав. А в качестве официального лица он имел право на все, о чем бы ему ни вздумалось попросить.
Бедняжку мисс Фенстермейкер провести было легче легкого. Она позволила Дядьку поговорить с мальчиком в своем собственном кабинете.
Ее кабинет был битком набит непрочитанными работами учеников начальной школы — некоторые пролежали лет пять. Она безнадежно отстала в своей работе — настолько отстала, что объявила мораторий на сочинения, пока не поставит оценки за все старые. Кое-где груды бумаг обрушились, и эти бумажные оползни медленно, как ледники, протянули щупальца под письменный стол, в прихожую и в ее отдельную уборную.
В открытом шкафу для картотек было два ящика, набитых минералами. Это была ее коллекция.
Никто никогда не проверял работу мисс Фенстермейкер. Никому не было до нее дела. Она имела диплом учительницы, выданный в штате Миннесота, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь, и этого оказалось вполне достаточно.
Перед началом разговора с сыном Дядек сел за ее письменный стол, а его сын Хроно остался стоять. Хроно сам захотел разговаривать стоя.
Дядек, обдумывая, что надо сказать, механически открыл один из ящиков письменного стола — оказалось, что этот ящик тоже набит минералами.
Юный Хроно был настроен подозрительно и враждебно, и он заявил, опережая Дядька:
— Пустой треп!
— Что? — сказал Дядек.
— Что ни скажете — все пустой треп, — сказал восьмилетний человек.
— А почему ты так думаешь? — сказал Дядек.
— Все, что люди болтают, — пустой треп, — сказал Хроно. — Вам так и так наплевать, что я думаю. Когда мне стукнет четырнадцать, вы вставите мне в голову эту штуку и мне так и так придется делать, что вам надо.
Он имел в виду тот факт, что антенны вживляли в головы детям только в четырнадцать лет. Дело было в размерах черепа. Когда ребенку исполнялось четырнадцать лет, его посылали в госпиталь на операцию. Его брили наголо, а врач и сестры подтрунивали над ним, поддразнивали, что он наконец-то стал взрослым. Перед тем, как доставить его в кресле-каталке в операционную, ребенка спрашивали, какое мороженое он больше всего любит. И когда ребенок просыпался после операции, его уже ждала большая тарелка любимого мороженого — с засахаренными орехами, крем-брюле, шоколадного — любое, любое, на выбор.
— А твоя мать тоже болтает попусту? — спросил Дядек.
— Конечно, с тех пор, как последний раз вернулась из госпиталя.
— А твой отец? — спросил Дядек.
— Про отца я ничего не знаю, — сказал Хроно. — И знать не хочу. Тоже трепло, как и все прочие.
— А кто же не трепло? — спросил Дядек.
— Я не трепло, — сказал Хроно. — Я, и больше никто.
— Подойди поближе, — сказал Дядек.
— Это еще зачем? — сказал Хроно.
— Мне нужно шепнуть тебе что-то на ухо, очень важное.
— Велика важность! — сказал Хроно.
Дядек встал, вышел из-за стола, подошел вплотную к Хроно и прошептал ему на ухо:
— Я твой отец, мальчуган! — и когда Дядек выговорил эти слова, сердце у него всполошилось, как пожарный колокол.
Хроно и бровью не повел.
— И что с того? — сказал он с леденящим безразличием. За всю свою жизнь он не слышал от других и не видел собственными глазами ни одного случая, который навел бы его на мысль, что человеку нужен отец. На Марсе это слово было эмоционально стерильным.
— Я пришел за тобой, — сказал Дядек. — Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. — Он бережно встряхнул мальчишку, словно стараясь всколыхнуть в нем что-то, как пузырьки в газировке.
Хроно отлепил отцовскую ладонь от своего плеча, словно это пиявка.
— А дальше что? — сказал он.
— Будем жить! — сказал Дядек.
Мальчик равнодушно окинул взглядом отца, словно прикидывая, стоит ли доверять свое будущее этому чужаку. Хроно вынул из кармана свой талисман и потер его между ладонями.
Воображаемая сила, которую придавал ему талисман, укрепила его в решении — никому не доверять. жить, как жил всегда, долгие годы — в озлобленном одиночестве.
— А я и так живу, — сказал он. — Живу, как надо, — сказал он. — Катись к чертовой матери.
Дядек отступил на шаг. Углы его рта поползли вниз.
— К чертовой матери? — шепотом повторил он.
— Я всех посылаю к чертовой матери, — сказал мальчик. Он попытался быть добрей, но тут же устал от этой попытки. — Ну что, можно мне идти играть в лапту?
— Ты можешь послать к чертовой матери родного отца? — еле выговорил Дядек. Вопрос разнесся эхом в пустоте его выметенной памяти и докатился до уголка, где все еще жили воспоминания о его собственном странном детстве. Все свое странное детство он провел, мечтая хоть когда-нибудь увидеть и полюбить отца, который не желал его видеть и не позволял себя любить.
— Я же — я дезертировал из армии, чтобы пробраться сюда — чтобы тебя отыскать, — сказал Дядек.
В глазах мальчика мелькнул живой интерес, но тут же погас.
— Они тебя заберут, — сказал он. — Они всех забирают.
— Я угоню ракету, — сказал Дядек. — И мы с тобой и с твоей мамой сядем в нее и улетим!
— Куда? — спросил мальчик.
— В хорошее место, — сказал Дядек.
— Что еще за хорошее место? — сказал Хроно.
— Не знаю. Придется поискать! — сказал Дядек. Хроно, словно жалея его, покачал головой.
— Ты уж извини, — сказал он. — Только, по-моему, ты сам не знаешь, про что говоришь. Из-за тебя перебьют кучу людей, и больше ничего.
— Ты хочешь остаться здесь? — спросил Дядек.
— Мне здесь неплохо, — сказал Хроно. — Можно, я пойду играть в лапту, а?
Дядек заплакал.
Его слезы потрясли и ужаснули мальчишку. Он ни разу в жизни не видел плачущего мужчину. Сам он никогда не плакал.
— Я пошел играть! — отчаянно закричал он и вылетел из кабинета.
Дядек подошел к окну. Он поглядел на железную площадку для игр. Теперь команда Хроно ловила мяч. Юный Хроно встал в ее ряды, лицом к подающему, которого Дядек видел со спины.
Хроно поцеловал свой талисман, сунул его в карман.
— Не зевай, ребята, — хрипло крикнул он. — А ну, ребята. — бей его!
Подруга Дядька, мать юного Хроно, работала инструктором в Школе шлиманновского дыхания для новобранцев. Шлиманновское дыхание — это такая методика, которая позволяет человеку выжить в вакууме или в непригодной для дыхания атмосфере без скафандров и прочих громоздких аппаратов.
Главное в этой методике — прием пилюль, содержащих большой запас кислорода. Кислород всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника, а не через легкие. На Марсе эти пилюли носили официальное название: Боевой Дыхательный Рацион, а попросту назывались дышарики.
В безвредной, но совершенно непригодной для дыхания атмосфере Марса шлиманновская дыхательная методика очень проста. Человек продолжает дышать и разговаривать нормально, хотя его легкие не извлекают кислорода из атмосферы — его там нет. Положено регулярно принимать дышарики, и все в порядке.
В школе, где служила инструктором подруга Дядька, новобранцев обучали более сложной методике, необходимой для жизни в вакууме или в ядовитой атмосфере. Одних пилюль тут мало — надо еще затампонировать уши и ноздри и держать закрытым рот. При малейшей попытке дышать или говорить может открыться кровотечение, а потом человек умирает.
Подруга Дядька была одной из шести инструкторш Школы шлиманновского дыхания для новобранцев. Она вела занятия в классе — пустой, выбеленной комнате без окон, площадью в тридцать на тридцать футов. Вдоль стен были расставлены скамейки.
На столе посередине комнаты стоял столик, а на нем — таз с дышариками, таз с заглушками для ушей и ноздрей, ролик лейкопластыря, ножницы и портативный магнитофон. Магнитофон нужен был для того, чтобы слушать музыку, когда приходилась подолгу ничего не делать, выжидая, пока природа сделает свое дело.
Сейчас настал как раз такой период. Класс только что наглотался дышариков. Студентам оставалось только неподвижно сидеть на скамейках и дожидаться, пока кислород дойдет до их тонких кишок.
Музыка, которую они слушали, была недавно пиратским образом записана по трансляции с Земли. На Земле это трио было сверхпопулярно — трио для мальчика, девочки и церковных колоколов. Называлась вещь «Господь — дизайнер нашего интерьера». Мальчик и девочка пели каждый свою строчку стиха, а потом их голоса сливались в припеве.
Перезвон церковных колоколов вступал в тех местах, где упоминалась религия.
Новобранцев было семнадцать человек. Все они были в недавно выданных трусах линяло-лишайникового цвета. Раздеваться приходилось для того, чтобы инструкторша могла наблюдать внешние признаки действия шлиманновского дыхания.
Новобранцы только что прошли чистку памяти, и им были вживлены антенны в госпитале Приемного Центра. Головы у них были наголо выбриты, и у всех от макушки до затылка тянулась полоска липкого пластыря.
Липкий пластырь отмечал место, где вживлена антенна.
Глаза у новобранцев были совершенно пустые, как окна заброшенной ткацкой фабрики.
У инструкторши были такие же пустые глаза, потому что и она совсем недавно подверглась чистке памяти.
Когда ее выписывали из госпиталя, ей сообщили, как ее зовут, где она живет и как учить шлиммановскому дыханию, — вот практически вся информация, которую ей сообщили. И еще ей сказали, что у нее есть сын восьми лет по имени Хроно и если она пожелает, то может навещать его в интернате по вторникам, во второй половине дня.
Инструкторшу, мать Хроно, подругу Дядька, звали Би. На ней был тренировочный костюм блекло-зеленого цвета и белые спортивные туфли, а на шее у нее висел судейский свисток и стетоскоп.
Ее монограмма была нашита на груди, на тренировочной куртке.
Она взглянула на часы, висевшие на стене. Времени прошло достаточно, чтобы самая вялая пищеварительная система донесла воздушный рацион до тонких кишок. Она встала, выключила магнитофон и дала свисток.
— Становись! — скомандовала она.
Новобранцы еще не проходили строевую подготовку и становиться ровными рядами они еще не умели. Весь пол был расчерчен на квадраты, так что новобранцы, встав по квадратам, располагались ровными шеренгами и рядами, ласкающими глаз. Некоторое время это сманивало на игру в «третий лишний» — несколько новобранцев с пустыми глазами разом пытались занять один и тот же квадрат. Но наконец каждый оказался в собственном квадрате.
— Так, — сказала Би. — А теперь берите заглушки и заткните, пожалуйста, ноздри и уши.
У каждого рекрута в потном кулаке были зажаты заглушки. Каждый заткнул себе уши и ноздри.
Би прошла по рядам, проверяя, хорошо ли заткнуты уши и ноздри.
— Так, — сказала она, закончив обход. — Очень хорошо, — сказала она. Она взяла со стола ролик липкого пластыря. — А теперь я вам наглядно покажу, что легкие вам совсем не нужны, пока у вас есть Боевые Дыхательные Рационы — или, как вы скоро будете называть их по-солдатски, — дышарики.
Она снова пошла по рядам, отрезая куски лейкопластыря и заклеивая им рты. Никто не протестовал. А когда она дошла до конца последней шеренги, ни у кого не осталось щелочки, через которую мог бы вырваться звук протеста.
Она засекла время и снова включила музыку. Еще двадцать минут ей будет нечего делать — надо только следить за изменением цвета голых торсов, за последними спазмами агонии умирающих легких. В идеале все тела должны посинеть, затем покраснеть, а потом, на исходе двадцати минут, снова обрести свои натуральный цвет. А грудные клетки должны сначала лихорадочно вздыматься, а потом прекратить борьбу, застыть.
К концу этой двадцатиминутной пытки каждый новобранец твердо усвоит, что дышать легкими абсолютно не нужно. В идеале, каждый новобранец к концу курса тренировки преисполнится такой уверенностью в себе и верой в дышарики, что будет готов выскочить из космического корабля и на земную Луну, и на дно земного океана — куда угодно, ни на секунду не задумавшись, куда он прыгает.
Би сидела на скамейке.
Ее прекрасные глаза были окружены темными кругами. Эти круги появились, когда она вышла из госпиталя, и становились с каждым днем все темнее. В госпитале ее уверяли, что она с каждым днем будет чувствовать себя все спокойнее, становиться все трудоспособное. Еще они ей сказали, что если, паче чаяния, по какому-то недоразумению это не получится, то она должна явиться в госпиталь и ей окажут помощь.
— Мы все нуждаемся в помощи — сегодня вы, а завтра — я, — сказал ей доктор Моррис Н. Касл — Стыдиться тут нечего. Однажды мне может понадобиться ваша помощь, Би, и я не постесняюсь вас о ней попросить.
В госпиталь ее забрали после того, как она показала старшей инструкторше вот эти стихи, которые она написала про шлиманновское дыхание:
Забудь про ветер и туман,
Все входы затвори
Захлопни горло, как капкан,
Жизнь заточи внутри.
Вдох, выдох — бьешься, не дыша,
Как в кулаке скупца.
В смертельной пустоте, душа,
Не пророни словца
Безмолвно горе, нем восторг —
Обмолвись лишь слезой
Дыханье, Слово брось в острог
Ты с узницей-душой
Человек — лишь малый остров, пыль в пространстве ледяном.
Каждый человек — лишь остров: остров-крепость, остров-дом.
Лицо Би, которую забрали в госпиталь за то, что она написала эти стихи, дышало силой — волевое, надменное, с высокими скулами. Она поразительно походила на индейского воина. Но тот, кто высказал бы это, непременно тут же добавил бы, что она настоящая красавица, такая, как она есть.
В дверь класса кто-то резко постучал. Би подошла к двери и открыла ее.
— Да? — сказала она.
В пустом коридоре стоял человек в форме, красный и весь в поту. На форме не было знаков различия. За плечом у человека болталась винтовка. Глаза у него были глубоко запавшие, тревожные.
— Курьер, — сказал он хрипло. — Сообщение для Би.
— Би — это я, — сказала Би недоверчиво.
Курьер оглядел ее с ног до головы, так что она почувствовала себя обнаженной. От его тела шел жар, и этот жар обволакивал ее, не давая дышать.
— Вы меня узнаете? — шепотом спросил он.
— Нет, — ответила она. Его вопрос отчасти ее успокоил.
Должно быть, у них были раньше какие-то общие дела. Значит, он пришел сюда по делу, как всегда, — просто в госпитале она забыла и его самого, и его дела.
— И я вас тоже не помню, — прошептал он.
— Я недавно из госпиталя, — сказала она. — Надо было очистить память.
— Говорите шепотом! — резко прервал ее курьер.
— Что? — спросила Би.
— Шепотом! — сказал он.
— Простите, — прошептала она. Очевидно, разговоры с этим деятелем полагалось вести только шепотом. — Я так много забыла.
— Как и все мы! — сердито прошептал он. Он вновь оглянулся — нет ли кого в коридоре. — Вы мать Хроно, верно? — сказал он шепотом.
— Да, — шепотом ответила она.
Теперь странный посланец не сводил глаз с ее лица. Он глубоко вздохнул, нахмурился — часто заморгал.
— А сообщение — какое сообщение? — прошептала Би.
— Сообщение вот какое, — шепотом сказал посланец. — Я — отец Хроно. Я только что дезертировал из армии. Меня зовут Дядек. Я хочу найти какой-нибудь способ удрать отсюда всем вместе, — я, вы, Хроно и мой лучший друг. Пока я еще ничего не придумал, но вы должны быть готовы в любую минуту, — он сунул ей ручную гранату. — Спрячьте где-нибудь, — прошептал он. — Может пригодиться в нужный момент.
Из приемной в дальнем конце коридора раздались громкие крики.
— Он сказал, что он — доверенный курьер! — кричал один голос.
— Черта лысого он курьер! — орал другой. — Он дезертир с поля боя! Кого он спрашивал?
— Да никого! Сказал, что совершенно секретно!
Залился свисток.
— Шестеро — за мной! — прокричал мужской голос. — Обыщем комнату за комнатой. Остальные — оцепить здание!
Дядек втолкнул Би вместе с гранатой в класс и закрыл дверь. Он сбросил с плеча винтовку, взял под прицел новобранцев, стоявших с заглушками в ушах и ноздрях и заклеенными пластырем ртами.
— Только пикни, только дернись кто из вас, — сказал он, — всех перестреляю.
Рекруты, окаменевшие в своих квадратах, никак не отреагировали на эту угрозу.
Они были бледно-синего цвета.
Их грудные клетки вздымались и опадали.
Они знали и чувствовали только одно — маленькую, белую, спасательную пилюлю, растворяющуюся в двенадцатиперстной кишке.
— Куда спрятаться? — сказал Дядек. — Где выход?
Би могла и не отвечать. Прятаться было некуда. Выхода не было, если не считать дверь в коридор.
Оставалось только одно — то, что сделал Дядек. Он сорвал с себя форму, остался в линяло-зеленых шортах, сунул винтовку под скамейку, заткнул себе уши и ноздри заглушками, заклеил рот пластырем, встал в строй новобранцев.
Голова у него была бритая наголо, как у всех новобранцев. Как и у всех, у него тоже была полоска пластыря — от макушки до затылка. Он был таким никудышным солдатом, прямо из рук вон, что доктора в госпитале снова вскрыли ему череп, чтобы проверить, не барахлит ли антенна.
Би глядела на комнату невозмутимо, как в трансе. Гранату, которую дал ей Дядек, она держала, как вазу с единственной прекрасной розой. Потом она прошла туда, где лежала винтовка Дядька, и положила гранату рядом — положила аккуратно, бережно относясь к чужому имуществу.
Потом она вернулась на свое место возле стола.
Она и не глазела на Дядька, и не избегала смотреть на него. Ей в госпитале так и сказали: ей было очень, очень плохо, и снова будет очень-очень плохо, если она не будет заниматься только своей работой, а думать и беспокоиться пусть предоставит, кому надо. Она должна была сохранить спокойствие любой ценой.
Крики и ругательства солдат, идущих с обыском от комнаты к комнате, постепенно приближались.
Би не желала ни о чем беспокоиться. Дядек, заняв место в рядах новобранцев, стал строевой единицей. С точки зрения профессиональной Би наблюдала, что его кожа становилась синей с прозеленью, а не чистого синего цвета, как полагалось. Очевидно, он принял последний дышарик несколько часов назад — а значит, вскорости он потеряет сознание и свалится.
Если он свалится, это будет самое мирное решение всех проблем, а Би желала мира превыше всего.
Она не сомневалась, что Дядек — отец ее ребенка. В жизни всякое бывает. Она его не помнила и сейчас не делала никаких усилий, чтобы его запомнить, узнать его в следующий раз — если следующий раз будет. Он ей был совсем ни к чему.
Она отметила, что тело Дядька уже стало почти совсем зеленым. Значит, ее диагноз оправдался. Он свалится с минуты на минуту.
Би грезила наяву. Ей привиделась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, в белых перчатках, в белых туфельках, державшая собственного белоснежного пони. Би завидовала маленькой девочке, которая сумела сохранить такую незапятнанную чистоту.
Би пыталась догадаться, кто эта маленькая девочка.
Дядек свалился беззвучно, обмякнув, как мешок с угрями.
Дядек очнулся на койке космического корабля. Он лежал на спине. Свет в каюте слепил глаза. Дядек начал кричать, но на него накатила такая дурнота и головная боль, что он замолк.
Он кое-как поднялся на ноги, цепляясь за алюминиевую стойку койки, чтобы не упасть. Он был совершенно один. Кто-то натянул на него его прежнюю форму.
Поначалу он подумал, что его запустили в космос.
Потом он заметил, что через открытый входной люк видна твердая земля.
Дядек выбрался наружу, и его тут же вырвало.
Он поднял слезящиеся глаза и увидел, что находится или на Марсе, или в очень похожем на Марс месте.
Была ночь.
Железная равнина была утыкана шеренгами и рядами космических кораблей.
На глазах у Дядьки шеренга кораблей длиной в пять миль оторвалась от космодрома и с музыкальным гудением уплыла в космос.
Залаяла собака — ее лай походил на удары громадного бронзового гонга.
Из ночной тьмы неторопливой рысцой выбежал пес — громадный и опасный, как тигр.
— Казак! — крикнул из темноты мужской голос. Услышав команду, пес остановился, но, скаля длинные, влажные клыки, не давал пошевельнуться Дядьку, который стоял, прижавшись к стенке корабля.
К ним шел хозяин Казака, светя себе пляшущим лучом карманного фонарика. Подойдя к Дядьку на расстояние нескольких метров, он повернул фонарь вверх, держа его под своим подбородком. Резкий контраст света и тени превратил его лицо в дьявольскую маску.
— Привет, Дядек, — сказал он. Он выключил фонарь, встал так, чтобы на него падал свет из корабельного люка. Он был высок, пренебрежительно вежлив, на редкость самоуверен. На нем были ботинки с квадратными носами и кроваво-красная форма Воздушного десанта морской лыжной пехоты. Оружия при нем не было — только офицерский стэк длиной в один фут.
— Сколько лет, сколько зим, — сказал он. Он сдержанно улыбнулся, сложив губы сердечком. Говорил он нараспев, высоким тенором с переливами, как в песнях швейцарских горцев.
Дядек понятия не имел, кто это такой, — хотя, судя по всему, человек не только знал его, но был добрым другом.
— А знаешь, кто я, Дядек? — игриво спросил человек.
У Дядька захватило дух. Это же наверняка Стоуни Стивенсон, он самый — отважный друг, лучший друг Дядька.
— Стоуни? — прошептал он.
— Стоуни? — повторил человек. Он рассмеялся. — О, господи, сколько раз я желал быть на месте Стоуни и сколько раз мне еще захочется быть на месте Стоуни.
Земля сотряслась. В тихом воздухе закрутился смерч. Соседние корабли со всех сторон взметнулись вверх, скрылись из глаз.
Корабль Дядька теперь стоял в полном одиночестве на целом секторе железной равнины. До ближайших кораблей было теперь не меньше полумили.
— Твой полк стартовал, Дядек, — сказал человек. — А ты остался. И не стыдно тебе?
— Кто вы такой? — спросил Дядек.
— Зачем имена в военное время? — сказал человек. Он положил большую ладонь на плечо Дядька. — Эх, Дядек, Дядек, Дядек, — сказал он, — досталось же тебе!
— Кто меня сюда перенес? — спросил Дядек.
— Военная полиция, дай им бог здоровья. — сказал человек.
Дядек помотал головой. Слезы бежали у него по щекам. Ему конец. Теперь уже нечего таить, скрывать, даже если этот человек может обречь его на жизнь или на смерть. Бедняге Дядьку было все едино, жить или умереть.
— Я… я хотел собрать всю свою семью, — сказал он. — Только и всего.
— Марс — самое гиблое место для любви, самое гиблое место для семейного человека, Дядек, — сказал человек.
Этот человек, как вы догадываетесь, был не кто иной, как Уинстон Найлс Румфорд. Он был верховным главнокомандующим Марса. Он вовсе не принадлежал к воздушным десантникам лыжной морской пехоты. Но он мог свободно выбрать любую форму, какая ему придется по вкусу, невзирая на то, что другому ради такой привилегии пришлось бы бог знает что вынести.
— Дядек, — сказал Румфорд. — Самая грустная любовная драма, жалостнее которой мне уже не узнать, разыгралась здесь, на Марсе. Хочешь послушать?
— В некотором царстве, в некотором государстве, — начал Румфорд, — жил один человек, которого переправили с Земли на Марс в летающей тарелке. Он добровольно завербовался в Марсианскую Армию и уже щеголял в яркой форме подполковника штурмовой пехоты марсианских войск. Он чувствовал себя по-настоящему элегантным, потому что на Земле его духовно принижали, и, как всякий духовно приниженный человек, он полагал, что форма выставляет его в наилучшем виде.
— Тогда его еще не подвергали чистке памяти, и антенну ему не вставляли — но он был таким образцово-лояльным марсианином, что ему доверили командование космическим кораблем. Вербовщики придумали прозвище для таких новобранцев — этот, мол, даже свои яйца окрестил «Деймос» и «Фобос», — повествовал Румфорд. — Деймос и Фобос — так называются два спутника Марса.
— Этот подполковник, в жизни не служивший в армии, сейчас, как говорят на Земле, «обретал самого себя». Он не имел ни малейшего понятия о том, в какую переделку попал, но все же командовал остальными новобранцами и заставлял их выполнять приказы.
Румфорд поднял палец вверх, и Дядек с ужасом увидел, что палец совершенно прозрачный.
— На корабле была одна запертая офицерская каюта, куда экипажу было запрещено входить, — сказал Румфорд — Команда охотно рассказала ему, что в этой каюте находится такая красавица, какой на Марсе еще не видывали, и что любой, кто на нее взглянет, тут же влюбится по уши. А любовь, сказали они, любого солдата, кроме кадрового ветерана, превращает в тряпку.
Новоиспеченного подполковника обидел намек на то, что он — не кадровый солдат, и он принялся развлекать команду рассказами о любовных приключениях с роскошными женщинами на Земле — хвалясь, что ни одна из них не затронула его сердце. Команда отнеслась к этому бахвальству скептически, полагая, что подполковник, во всей своей сексуальной предприимчивости, ни разу не мерялся силами с такой умной, надменной красавицей, как та, в офицерской каюте, запертой на замок.
Напускное уважение команды к подполковнику явно пошло на убыль. Остальные новобранцы почуяли это и тоже перестали его уважать. Подполковник в яркой форме почувствовал себя тем, кем он и был на самом деле, — бахвалящимся шутом. О том, как он смог бы вернуть себе потерянную честь, никто прямо не говорил, но всем до одного это было ясно. Он мог вернуть себе уважение солдат, завоевав сердце высокомерной красавицы, запертой в офицерской каюте. Он был готов пойти на это — готов пойти на отчаянный штурм.
— Но команда, — сказал Румфорд, — продолжала делать вид, что оберегает его от любовного фиаско и разбитого сердца. Его самолюбие вскипело, оно вспенилось, как шампанское, заиграло, рванулось, вышибло пробку.
— В кают-компании устроили пирушку, — сказал Румфорд, — и подполковник напился и снова расхвастался. Он опять кричал о своем бессердечном распутстве на Земле. И вдруг он увидел, что кто-то незаметно бросил ему в стакан ключ от офицерской каюты.
— Подполковник улизнул, проник в офицерскую каюту и запер за собой дверь, — сказал Румфорд. — В каюте было темно, но в мозгу подполковника зажегся настоящий фейерверк от спиртного и от предвкушения торжества, когда он объявит кое-что за завтраком, в кают-компании.
— Он овладел женщиной в темноте, и она не сопротивлялась, потому что обессилела от ужаса и транквилизаторов, — сказал Румфорд. — Это была безрадостная случка, которая никому не принесла удовлетворения, разве что матери-природе в ее самой грубой ипостаси.
— Подполковник почему-то не чувствовал себя героем. Он почувствовал гадливость к самому себе. По недомыслию он включил свет, втайне надеясь, что наружность женщины хоть отчасти оправдает его скотское поведение, позволит ему гордиться победой, — печально сказал Румфорд. — На койке сидела, сжавшись в комок, довольно невзрачная женщина, ей было явно за тридцать. Глаза у нее покраснели, а лицо распухло от горя и слез.
— Мало того — подполковник, оказывается был с ней знаком. Эта самая женщина, по предсказанию провидца, должна была родить от него ребенка, — сказал Румфорд. — Она была так недосягаема, так горда, когда он видел ее в последний раз, а теперь стала такой жалкой, раздавленной, что даже бессердечный подполковник растрогался.
— Подполковник впервые в жизни осознал то, чего люди в большинстве совсем не понимают, — что они не только жертвы безжалостной судьбы, а и самые жестокие орудия этой безжалостной судьбы. Эта женщина в тот раз смотрела на него, как на свинью, а теперь он сам неоспоримо доказал, что он последняя свинья.
— Как и предвидела команда, подполковник с этой минуты и навсегда стал никудышным солдатом. Он безнадежно погряз в поисках сложнейших тактических приемов, позволявших причинить как можно меньше, а не как можно больше страданий. И если он этому научится — женщина поймет и простит его.
— Когда космический корабль достиг Марса, он подслушал отдельные реплики в госпитале Приемного Центра, из которых понял, что у него собираются отнять память. Тогда он написал самому себе первое письмо из целой серии писем, в которых он записывал то, что не хотел забывать. Первое письмо касалось женщины, которую он оскорбил.
— Он отыскал ее после чистки памяти и понял, что она его не помнит. Но он еще увидел, что она беременна, что она носит его ребенка. И с тех пор он поставил перед собой одну цель — во что бы то ни стало добиться ее любви, а через нее — и любви ее ребенка.
— И он пытался добиться этого. Дядек, — сказал Румфорд. — Неоднократно, много-много раз. И раз за разом он терпел неудачу. Но эта цель стала средоточием его жизни — может быть, потому, что сам он жил в неблагополучной семье.
— А корень всех неудач, Дядек, — сказал Румфорд, — был не только в неподдельной холодности женщины, но и в психиатрии, которая считала идеалы марсианского социума образцом доблести и здравого смысла. Когда этому человеку удавалось хоть немного расшевелить свою подругу, психиатрия, начисто лишенная живых чувств, тут же исправляла ее — снова делала из нее полезного члена общества.
— Оба они — и он, и его подруга — то и дело попадали в психиатрические отделения, каждый в своем госпитале. И можно найти пищу для размышлений, — сказал Румфорд, — в том, что этот до полусмерти замученный человек был единственным на Марсе писателем-философом, а эта до полусмерти замучавшая себя женщина была единственной марсианкой, написавшей настоящее стихотворение.
Боз явился к флагманскому кораблю подразделения из города Фебы — он ходил туда искать Дядька.
— Черт побери, — сказал он Румфорду. — Все взяли да и отчалили без нас? — Боз приехал на велосипеде.
Он увидел Дядька.
— Черт побери, дружище, — сказал он Дядьку, — ну, брат, и задал же ты мне хлопот! Ну и ну! Как ты сюда-то попал?
— Военная полиция, — ответил Дядек.
— Без них никуда не попадешь, — шутливо сказал Румфорд.
— Пора нам догонять, приятель, — сказал Боз. — Ребята не пойдут на штурм без флагмана. За что им и сражаться, а?
— За честь быть первой армией, отдавшей жизнь за правое дело, — сказал Румфорд.
— Как-как? — сказал Боз.
— Да нет, ничего, — сказал Румфорд. — Вот что, ребята: залезайте в корабль, задраивайте люк и жмите на кнопку с надписью «ВКЛ.». Взлетите, как перышко. Автоматика!
— Знаю, — сказал Боз.
— Дядек, — сказал Румфорд.
— А? — с отсутствующим видом откликнулся Дядек.
— Помнишь, что я тебе сейчас рассказывал — историю про любовь? Я кое-что пропустил.
— Да? — сказал Дядек.
— Помнишь женщину в той истории — ну, ту, которая носила ребенка того человека? — сказал Румфорд. — Женщину, которая была единственным на Марсе поэтом?
— Ну и что? — сказал Дядек. Его не особенно интересовала та женщина. Он не понял, что героиней истории, рассказанной Румфордом, была Би, была его собственная жена.
— До того, как она попала на Марс, она несколько лет была замужем, — сказал Румфорд. — Но когда наш доблестный вояка, подполковник, овладел ею в корабле, летящем на Марс, она оказалась девственницей.
Уинстон Найлс Румфорд подмигнул Дядьку, прежде чем закрыть наружную крышку входного люка.
— Хорош был ее муженек, а, Дядек? — сказал он.
Победа
«Есть свой резон в том, что добро должно торжествовать так же часто, как зло, Победа — в любом случае лишь вопрос организации. Если на свете есть ангелы, я надеюсь, что небесное воинство организовано по принципу Мафии».
Существует мнение, что земная цивилизация за время своего существования породила десять тысяч войн, но всего только три разумных комментария о войнах — комментарии Фукидида, Юлия Цезаря и Уинстона Найлса Румфорда.
Уинстон Найлс Румфорд так тщательно отобрал 75000 слов для своей «Карманной истории Марса», что не нужно ничего добавлять или переиначивать в истории войны Марса с Землей. Всякий, кому по ходу повествования нужно описать войну Земли и Марса, должен смиренно признать, что эта эпопея уже рассказана Румфордом с неподражаемым совершенством.
Обычно такому обескураженному историку остается только одно: изложить историю войны самым сухим, невыразительным, самым телеграфным языком и рекомендовать читателю обратиться непосредственно к шедевру Румфорда.
Я так и поступаю.
Война между Марсом и Землей продолжалась 67 земных суток.
Нападение было совершено сразу на все народы Земли.
Земля потеряла 461 человека убитыми, 223 было ранено, 216 пропало без вести.
Марс потерял 149315 человек убитыми, 446 было ранено, 11 взято в плен, 46634 пропало без вести.
Под конец войны каждый марсианин числился убитым, раненым, попавшим в плен или пропавшим без вести.
На Марсе не осталось ни души. На Марсе не осталось ни одной целой постройки.
Три последних эшелона штурмующих Землю марсиан состояли, к ужасу землян, которые перестреляли их, не глядя, из стариков, женщин и горсточки маленьких детей.
Марсиане прилетели на Землю в самых совершенных космических кораблях из всех, известных в Солнечной системе. И покуда с ними были настоящие командиры, управлявшие ими по радио, солдаты сражались с упорством, самоотверженностью и энергией, что волей-неволей признавали все, кому пришлось с ними воевать.
Однако нередко случалось, что подразделения в воздухе или на земле лишались настоящих командиров. А стоило солдатам остаться без командиров, как они тут же становились вялыми, как сонные мухи.
Но их главная беда была в том, что вооружены они были не лучше, чем участковые полицейские в большом городе. У них было личное огнестрельное оружие, гранаты, ножи, минометы и мелкокалиберные ракетные минометы. У них не было ни ядерного оружия, ни танков, ни артиллерии среднего или тяжелого калибра, ни прикрытия с воздуха, — даже транспортных средств после приземления у них не оказалось.
Мало того — марсианские войска сами не знали, где они приземлятся. Их космические корабли управлялись автоматическими пилотирующими и навигационными устройствами — эти электронные устройства были запрограммированы инженерами на Марсе и обеспечивали приземление каждого корабля в определенной точке земной поверхности, абсолютно не принимая во внимание сложившуюся там военную обстановку, которая могла оказаться исключительно неблагоприятной.
Находящиеся на борту имели доступ только к двум кнопкам на центральном пульте управления: одна была обозначена «ВКЛ.», другая — «ВЫКЛ.». Кнопка «ВКЛ.» просто давала сигнал к запуску с Марса. Кнопка «ВЫКЛ.» вообще ни к чему не была подсоединена. Ее поставили на пульте по настоянию марсианских психологов, которое утверждали, что человек всегда чувствует себя спокойнее, имея дело с машинами, которые можно выключить.
Война между Марсом и Землей началась с захвата земной Луны 23 апреля подразделением Марсианской имперской штурмовой пехоты в количестве 500 человек. Они не встретили сопротивления. В это время на Луне землян было немного: 18 американцев в обсерватории Джефферсона, 53 русских в обсерватории имени Ленина и четверка датчан-геологов, бродивших где-то в Море Мрака.
Марсиане по радио объявили о своем вторжении и потребовали, чтобы вся Земля сдавалась. И они, по собственному выражению, «дали Земле отведать пекла».
Как оказалось, к немалому удовольствию землян, это адское пекло должны были создать немногочисленные ракеты, несущие каждая по двенадцать фунтов тринитротолуола.
Дав Земле «отведать пекла», марсиане объявили землянам, что им каюк.
Земляне остались при своем мнении.
За следующие двадцать четыре часа Земля выпустила 617 термоядерных ракет по Марсианскому плацдарму на Луне. 216 из них попали в цель. Эти прямые попадания не просто выжгли марсианские позиции — после этого Луна стала непригодной для обитания на ближайшие десять миллионов лет.
И по причудам войны одна шальная ракета миновала Луну и угодила в летящую к Земле группу космических кораблей, на борту которых находилось 15671 солдат Марсианской имперской штурмовой пехоты. Она покончила разом со всеми марсианскими имперскими штурмовиками.
Они носили блестящую черную форму, бриджи с наколенниками, а в голенищах — 14-дюймовые кинжалы с пилообразным лезвием. На рукавах у них были знаки различия — череп и скрещенные кости.
Их девизом были слова: «Per aspera ad astra»[15].
Девиз был тот же, что и у штата Канзас, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь.
Марсиане одержали единственную победу — семнадцать воздушных морских пехотинцев-лыжников захватили мясной рынок в Базеле, Швейцария.
Во всех других местах марсиан перебили, как кроликов, не дав им даже окопаться.
Любители принимали в избиении такое же участке, как и профессионалы. В битве при Бока Ратон, во Флориде, миссис Лаймен Р. Петерсон пристрелила четырех марсианских штурмовиков из мелкокалиберки своего сына. Она сняла их одного за другим, когда они вылезали из своего космического корабля, приземлившегося у нее на заднем дворе.
Ее наградили почетной медалью Конгресса, посмертно.
Кстати, марсиане, атаковавшие Бока Ратон, были однополчане Дядька и Боза — немногие, оставшиеся в живых. В отсутствие Боза, настоящего командира, они сражались, мягко говоря, без воодушевления.
Когда американские части прибыли в Бока Ратон, чтобы принять бой, воевать было уже не с кем. Возбужденные и гордые горожане все устроили наилучшим образом. Двадцать семь марсиан болтались на фонарных столбах в деловом центре города, одиннадцать было расстреляно и один, сержант Брэкман, в тяжелом состоянии находился в городской тюрьме.
Всего в штурме принимали участие тридцать пять марсиан.
— Пришлите нам еще марсиан! — заявил Росс Л. Максуанн, мэр Бока Ратон.
Впоследствии он стал сенатором Соединенных Штатов.
Везде и повсюду марсиан убивали, убивали, убивали, пока, наконец, на Земле осталось всего семнадцать живых и здравствующих марсиан — это были те семнадцать воздушных морских пехотинцев-лыжников, которые бражничали на Мясном рынке, в Базеле, в Швейцарии. Им по громкоговорителю объявили, что положение их безнадежно, что над ними бомбардировщики, все улицы блокированы танками и гвардейской пехотой и пятьдесят батарей наведены на мясной рынок. Им предложили выйти с поднятыми вверх руками, иначе мясной рынок будет сметен с лица Земли.
— Еще чего! — заорал настоящий командир воздушных морских пехотинцев-лыжников.
Наступило небольшое затишье.
Единственный марсианский корабль-разведчик сообщил из дальнего космоса, что Земля будет еще раз атакована, и это будет ужаснее всего, что известно из анналов войны.
Земля расхохоталась и приготовилась. По всему земному шару шел веселый треск выстрелов — это любители учились стрелять из мелкокалиберного оружия.
Были изготовлены к бою новые термоядерные ракеты, а по самому Марсу выпустили девять мощнейших ракет. Одна из них попала в Марс, смела с лица планеты город Фебу и армейский лагерь. Еще две ракеты исчезли в хроно-синкластическом инфундибулуме. Остальные превратились в космический мусор.
Прямое попадание в Марс ничего не решало.
На Марсе уже никого не было — ни души.
Последние марсиане летели к Земле.
Последние марсиане наступали тремя эшелонами.
В первом были резервы армии, последние обученные солдаты, — 26119 человек, в 721 корабле.
На пол земных дня позже них прибывали 86912 только что мобилизованных штатских мужчин на 1738 кораблях. Формы у них не было, из своих винтовок они успели выстрелить всего по одному разу и больше никаким оружием не владели.
Еще на полдня сзади этих несчастных ополченцев прибывали 1391 безоружная женщина и 52 ребенка, в 46 кораблях.
Это были последние люди и последние корабли с Марса.
Вдохновителем и организатором самоубийства Марса был Уинстон Найлс Румфорд.
Тщательно продуманное самоубийство Марса финансировалось доходами с капиталовложений в земельную собственность, ценные бумаги, бродвейские шоу, а также в изобретения. Ведь Румфорд видел будущее, так что для него получать прибыль было проще простого.
Марсианская казна хранилась в швейцарских банках, на счетах, обозначенных только кодовыми номерами.
Всеми марсианскими капиталовложениями заправлял один человек, он же возглавлял Марсианское ведомство по снабжению и Марсианскую секретную службу, получая указания непосредственно от Румфорда. Этим человеком был Эрл Монкрайф, старый дворецкий Румфорда. Монкрайф, на старости лет получивший возможность выслужиться, стал безжалостным, находчивым, даже блистательным премьер — министром Румфорда по земным делам.
Жил Монкрайф так же, как раньше.
Монкрайф скончался от старости в пристройке для прислуги, в румфордовском особняке, через две недели после окончания войны.
Лицом, несущим всю ответственность за технологическую оснащенность марсианского самоубийства, был Сэло, друг Румфорда на Титане. Сэло был посланцем с планеты Тральфамадор, что в Малом Магеллановом облаке. Сэло владел технологическими секретами цивилизации, насчитывавшей миллионы земных лет. Сэло совершил на своем космическом корабле вынужденную посадку — но все равно этот корабль, даже испорченный, был самым чудесным космическим кораблем, какой знала Солнечная система. Его корабль, за исключением предметов роскоши и излишних удобств, послужил прототипом всех марсианских кораблей. Хотя сам Сэло и не был хорошим инженером, он все же сумел снять все промеры и дать чертежи для производства копий на Марсе.
А важнее всего было то, что Сэло владел запасом наиболее мощной энергии во всей Вселенной, ВСОС или Всемирного Стремления Осуществиться. Сэло щедро пожертвовал половину своих запасов ВСОС на самоубийство Марса.
Эрл Монкрайф, дворецкий, создал свои финансовые, снабженческие и разведывательные организации с помощью грубой силы денег и на основе глубокого понимания хитрых, злонамеренных, завистливых людей, носивших маску услужливости.
Именно такие люди с радостью брали марсианские деньги и исполняли марсианские заказы. Вопросов они не задавали. Они были благодарны за то, что им дали возможность подтачивать, как термиты, устои окружающего порядка.
Они принадлежали к самым разным слоям общества.
Упрощенные чертежи космического корабля Сэло были раздроблены на чертежи отдельных частей. Чертежи этих частей были розданы агентами Монкрайфа фабрикантам во всех странах.
Фабриканты понятия не имели, части чего они делают. Они знали одно — за это хорошо платят.
Первую сотню марсианских кораблей собрали служащие Монкрайфа, прямо на Земле. Эти корабли получили запас ВСОС, переданный Монкрайфу Румфордом в Ньюпорте. Их тут же пустили в дело: они сновали между Землей и Марсом, перевозя машины и новобранцев на железную равнину Марса, где возводили город Фебу. Когда Фебу построили, все шестеренки и колеса вращались с помощью ВСОС, которую дал Сэло.
Румфорд заранее решил, что Марс должен потерпеть поражение в этой войне — поражение как можно более глупое и чудовищное. Предвидя будущее, Румфорд в точности знал, как это будет, — и он был доволен.
Он хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить Мир к лучшему.
Вот что он пишет в своей «Карманной истории Марса»:
«Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в Мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, который обычно наступает после кровопролития.
— Любую неудачу земных вождей можно отнести за счет отсутствия у вождя, — говорит Румфорд, — по меньшей мере одного из этих трех качеств.
— Хватит с нас бесконечных фиаско разных диктатур — в которых миллионы гибнут ни за что, ни про что! — говорит Румфорд. — Давайте для разнообразия организуем под предводительством выдающегося полководца смерть немногих за великое дело».
Румфорд собрал этих немногих на Марсе и он сам был их превосходным вождем.
Он умел устраивать зрелища.
Он был готов совершенно спокойно проливать чужую кровь.
И у него была в запасе очень привлекательная новая религия, которую он собирался ввести после войны.
У него были и свои методы, чтобы продлить тот период раскаяния и ужаса, который настанет после войны. Все это были вариации на одну тему: славная победа Земли над Марсом была не чем иным, как подлым избиением практически безоружных святых, которые объявили беспомощную войну Земле, чтобы объединить все народы этой планеты в единое Человеческое Братство.
Женщина по имени Би и ее сын Хроно были в самом последнем эшелоне марсианских кораблей, в последней волне, докатившейся до Земли. Собственно говоря, это была маленькая волнишка, состоявшая всего из сорока шести кораблей.
Остальные космические корабли марсиан уже приземлились — на верную смерть.
Эту последнюю волну, или волнишку, увидели с Земли.
Но в нее не полетели термоядерные ракеты. Их больше не осталось, стрелять было нечем.
Они все вышли.
Так что волнишка дошла до Земли беспрепятственно. Она разлилась по лицу Земли.
Немногие счастливчики — земляне, которым повезло — нашлись еще марсиане, которых можно было перестрелять! — палили в свое удовольствие, пока не заметили, что стреляют в безоружных женщин и детей.
Славная война закончилась.
А за ней, как и планировал Румфорд, грядет горький стыд.
В корабль, на котором летели Хроно, Би и еще двадцать две женщины, никто не стрелял. Он приземлился в стороне от цивилизованных стран.
Он разбился в тропических лесах Амазонки, в Бразилии.
Остались в живых только Би и Хроно.
Хроно выбрался наружу, поцеловал свой талисман.
В Дядька и Боза тоже никто не стрелял.
Когда они нажали кнопку «ВКЛ.», с ними произошли очень странные вещи. С Марса они стартовали, но нагнать своих, как они надеялись, им так и не удалось.
Им не удалось увидеть ни одного космического корабля.
Объяснялось все это просто, хотя некому было объяснить это им: Дядек и Боз вовсе не должны были попасть на Землю — во всяком случае, не сразу.
Румфорд настроил пилота-навигатора так, чтобы сначала корабль доставил Дядька и Боза на Меркурий, а уж потом — с Меркурия на Землю.
Румфорд не хотел, чтобы Дядька убили на войне.
Румфорд хотел, чтобы Дядек отсиделся в спокойном месте годика два.
А потом Румфорд планировал явление Дядька на Земле, планировал чудо.
Румфорд приберегал Дядька для главной роли в мистерии, которую Румфорд намеревался поставить во славу своей новой религии.
Дядек и Боз чувствовали себя ужасно одиноко в космосе и ничего не понимали. Смотреть было не на что, делать было нечего.
— Черт побери, Дядек, — сказал Боз. — Вот бы узнать, где сейчас наши ребята!
Ребята почти в полном составе висели на фонарях в деловом центре городка Бока Ратон.
Электронный пилот-навигатор автоматически управлял и освещением каюты — не говоря о прочих вещах: он поддерживал искусственный суточный ритм — земные дни и ночи, дни и ночи, дни и ночи.
Читать на борту было нечего, кроме двух комиксов, которые забыли технари с космодрома. Это были истории в картинках: «Чик-чирик и Сильвестр» — про канарейку, которая довела кота до безумия, и «Отверженные» — про человека, который украл золотые подсвечники у священника, который его приютил.
— На что ему были эти подсвечники, Дядек? — спросил Боз.
— Провалиться мне, если я знаю, — сказал Дядек. — Да и плевать я на это хотел.
Пилот-навигатор только что вырубил свет в каюте, таким образом обозначив наступление ночи.
— Ты на все плевать хотел, а? — сказал Боз в темноте.
— Точно, — сказал Дядек. — Я плевать хотел даже на ту штуку, что у тебя в кармане.
— А что у меня в кармане? — сказал Боз.
— Штука, которой можно насылать боль, — сказал Дядек. — Штука, которая заставляет людей делать то, что ты хочешь.
Дядек слышал, как Боз что-то проворчал, потом тихонько застонал в кромешной тьме. Он понял, что Боз только что нажал кнопку на этой коробочке у себя в кармане, кнопку, которая должна была сразить Дядька наповал.
Дядек затаился, замер.
— Дядек? — позвал Боз.
— Чего? — сказал Дядек.
— Ты тут, дружище? — потрясенный, сказал Боз.
— А где же мне еще быть? — сказал Дядек. — Ты думал, что я испарился?
— И ты в порядке, дружище? — сказал Боз.
— В полном порядке, дружище, — сказал Дядек. — А почему бы и нет? Прошлой ночью, пока ты спал, дружище, я вынул эту хреновину у тебя из кармана, дружище, и вскрыл ее, дружище, и выпотрошил из нее всю начинку, дружище, и набил ее туалетной бумагой. А сейчас я сижу на своей койке, дружище, и винтовка у меня заряжена, дружище, и я держу тебя на мушке, дружище, так что скажи на милость, что ты теперь собираешься делать, черт побери?
Румфорд материализовался на Земле, в Ньюпорте, дважды за время войны Марса с Землей — в первый раз сразу же после начала войны, во второй — в последний день войны Ни он, ни его пес тогда еще не имели отношения к новой религии. Они были просто аттракционом для туристов.
Держатели закладных на румфордовское имение сдали его внаем организатору платных зрелищ, Мэрлину Т. Лаппу. Лапп продавал билеты на материализации по доллару за штуку.
Смотреть-то было почти не на что, кроме материализации и дематериализации Румфорда и его пса. Румфорд не говорил ни слова ни с кем, кроме Монкрайфа, дворецкого, да и то шептал ему на ухо. Он обычно сваливался, как куль, в кресло в Музее Скипа, в комнате под лестницей. Он мрачно прикрывал одной рукой глаза, а пальцы другой руки переплетал с цепью-удавкой на шее Казака.
Румфорда и Казака в программе называли «призраками».
Снаружи, под окном маленькой комнаты, был построен помост, и дверь в коридор была снята с петель. Зрители имели возможность двигаться двумя потоками, успевая бросить взгляд на человека и собаку, угодивших в хроно-синкластический инфундибулум.
— Сдается мне, что он не очень-то разговорчив сегодня, друзья, — привычно вещал Мэрлин Т. Лапп. — Вы поймите — ему есть над чем задуматься. Он же не весь с нами, друзья. Его вместе с собакой размазало по всей дороге от Солнца до Бетельгейзе.
До последнего дня войны все мизансцены и шумовое оформление устраивал Мэрлин Т. Лапп.
— По-моему, это просто чудесно, что все вы, друзья мои, в столь знаменательный в истории мира день пришли сюда смотреть на этот замечательный культурно-воспитательный и научный экспонат, — говорил Лапп в последний день войны.
— Если этот призрак когда-нибудь заговорит, — сказал Лапп, — он расскажет нам о чудесах в прошлом и будущем и о таких вещах, которые Вселенной еще и не снились. Мне остается только надеяться, что кое-кому из вас сказочно повезет и вы окажетесь здесь в ту минуту, когда он сочтет, что пора поведать нам обо всем, что он знает.
— Пора, — сказал Румфорд замогильным голосом. — Давно пора, — сказал Уинстон Найлс Румфорд.
— В этой войне, которая сегодня завершилась победой, восторжествовали только святые мученики, которые ее проиграли. Эти святые были земляне, такие же, как и вы. Они улетели на Марс, начали войну, обреченную на провал, и с радостью отдали свои жизни, чубы земляне наконец соединились в один народ — гордый, полный радости и братской любви.
— Умирая, они желали, — сказал Румфорд, — не райского блаженства для себя, а лишь одного: чтобы воцарилось навечно Братство всех народов Земли.
— Ради этой высокой цели, к которой мы должны стремиться всей душой, — сказал Румфорд, — я принес вам слово о новой религии, которую каждый землянин с восторгом примет в самые заветные уголки своего сердца.
— Границы между государствами, — сказал Румфорд, — исчезнут.
— Жажда воевать, — сказал Румфорд, — умрет.
— Вся зависть, весь страх, вся ненависть — умрут, — сказал Румфорд.
— Новая религия, — сказал Румфорд, — будет называться Церковью Бога Всебезразличного.
— Знамя этой Церкви будет голубое с золотом, — сказал Румфорд, — на знамени будут золотом по голубому фону начертаны вот какие слова: ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЛЮДЯХ, А ВСЕМОГУЩИЙ САМ О СЕБЕ ПОЗАБОТИТСЯ.
— Учение этой религии будет опираться на два догмата, — сказал Румфорд, — а именно: жалкие, ничтожные люди ничем не в силах порадовать Всемогущего Бога, а счастье и несчастье — вовсе не перст божий.
— Почему вы должны принять эту веру и предпочесть ее всем другим? — сказал Румфорд. — Вы должны принять ее потому, что я, основатель этой религии, могу творить чудеса, а главы других церквей — не могут. Какие чудеса я могу творить? Я могу абсолютно точно предсказать, что ждет вас в будущем.
Вслед за тем Румфорд предсказал пятьдесят событий, которым предстоит свершиться, до мельчайших подробностей.
Эти предсказания были тщательно записаны всеми присутствующими.
Стоит ли говорить, что все они, одно за другим, сбылись — до мельчайших подробностей.
— Учение новой религии поначалу может показаться слишком сложным и непостижимым, — сказал Румфорд. — Но с течением времени оно станет прекрасным и кристально ясным.
— Для начала, пока вам еще не все понятно, я расскажу вам притчу:
— Во время оно Случайность так подстроила события, что младенец по имени Малаки Констант родился самым богатым ребенком на Земле. В тот же день Случайность подстроила события так, что слепая бабуся наступила на роликовую доску на верхней площадке каменной лестницы, лошадь полицейского наступила на обезьянку шарманщика, а отпущенный под честное слово грабитель банков нашел почтовую марку стоимостью в девятьсот долларов на дне сундука у себя дома на чердаке. Я вас спрашиваю: разве Случайность — это перст божий?
Румфорд поднял кверху указательный палец, просвечивающийся, как чашечка лиможского фарфора.
— В следующее мое пришествие к вам, братья по вере, — сказал он, — я расскажу вам притчу о людях, которые думают, что творят волю своего Господа Бога, а пока, чтобы лучше понять эту притчу, постарайтесь прочесть все, что сможете достать, про испанскую инквизицию.
— В следующий раз, когда я приду к вам, — сказал Румфорд, — я принесу вам Библию, исправленную и пересмотренную, чтобы придать ей новый смысл в совереном мире. И я принесу вам «Краткую историю Марса», правдивую историю о святых, которые отдали жизнь за то, чтобы на Земле воцарилось всемирное Братство Человечества. Эта история разобьет сердце всякого человеческого существа, у которого есть еще сердце, способное разбиться.
Румфорд и его пес внезапно дематериализовались.
В космическом корабле, летящем с Марса на Меркурий, в корабле, на борту которого были Дядек и Боз, автоматический пилот-навигатор опять включил день.
Это был рассвет на исходе той ночи, когда Дядек сказал Бозу, что штука, которую Боз таскает в кармане, больше никому и никогда не причинит вреда.
Дядек спал на своей койке, сидя. Винтовка Маузера, заряженная, со взведенным курком, лежала у него на коленях.
Боз не спал. Он лежал на своей койке, напротив Дядька, у другой стенки каюты. Боз всю ночь не сомкнул глаз. И сейчас он мог, если бы захотел, обезоружить и убить Дядька.
Но Боз рассудил, что напарник нужен ему куда больше, чем средство заставлять людей делать то, что ему угодно. За эту ночь он, по правде говоря, перестал понимать, что именно ему угодно.
Не знать одиночества, не знать страха — вот что, решил Боз, самое главное в жизни. И настоящий друг, напарник тут нужнее всего на свете.
В каюте раздался странный, шелестящий звук, похожий на кашель. Это был смех. Смеялся Боз. А звучал этот смех так странно потому, что Боз никогда прежде так не смеялся — никогда не смеялся над тем, над чем смеялся сейчас.
Он смеялся над тем, как он грандиозно влип — как он всю дорогу в армии прикидывался, что отлично понимает все на свете, и что все на свете устроено отлично — лучше некуда.
Он хохотал над тем, что дал себя облапошить, как последний дурак, — бог знает кому, и бог знает зачем.
— Негодники божии, дружище, — сказал он вслух, — что это мы делаем тут, в космической глубинке? С чего это мы вырядились в эту форму? Кто этой дурацкой штуковиной управляет? Как нас угораздило влезть в эту консервную банку? С чего это нам непременно надо стрелять в кого-то, как только нас доставят на место? И с чего это ему непременно понадобится нас подстрелить? И на кой черт? — сказал Боз. — Дружище, — сказал он, — скажи ты мне, ради бога, на кой черт?
Дядек проснулся, мгновенно направил свой маузер на Боза.
Боз продолжал смеяться. Он вынул коробочку дистанционного управления из кармана и швырнул ее на пол.
— Не нужна она мне, дружище, — сказал он. — Правильно сделал, что взял да и выпотрошил ее. Она мне ни к чему.
И вдруг он заорал во весь голос:
— Ни к чему мне вся эта липовая дешевка!
Голливудский ночной ресторан
«ГАРМОНИУМ — единственная известная нам форма жизни на планете Меркурий. Гармониумы — обитатели пещер. Более обаятельные существа трудно себе вообразить».
Планета Меркурий певуче звенит, как хрустальный бокал. Она звенит всегда.
Одна сторона Меркурия повернута к Солнцу. Эта сторона всегда была обращена к Солнцу. Эта сторона — океан раскаленной добела пыли.
Другая сторона Меркурия обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона всегда была обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона одета порослью гигантских голубовато-белых, обжигающе-ледяных кристаллов.
Напряжение, создаваемое разницей температур между раскаленным полушарием, где царит венный день, и ледяным полушарием, где царит вечная ночь, и рождает эту музыку — песнь Меркурия.
Меркурий лишен атмосферы, так что его песнь воспринимается не слухом, а осязанием.
Это протяжная песнь. Меркурий тянет одну ноту долго, тысячу лет по земному счету. Некоторые считают, что эта песнь когда-то звучала в диком, зажигательном ритме, так что дух захватывало от бесконечных вариаций.
В глубине меркурианских пещер обитают живые существа.
Песнь, которую поет их родная планета, нужна им, как жизнь, — эти существа питаются вибрациями. Они питаются механической энергией.
Существа льнут к поющим стенам своих пещер.
Так они поглощают звуки Меркурия.
В глубине меркурианских пещер уютно и тепло.
Стены пещер на большой глубине фосфоресцируют. Они светятся лимонно-желтым светом.
Существа, обитающие в пещерах, прозрачны. Когда они прилипают к стенам, светящиеся стены просвечивают сквозь них. Но, проходя через их тела, желтый свет превращается в яркий аквамарин.
ПРИРОДА ПОЛНА ЧУДЕС!
Эти пещерные существа очень напоминают маленьких, мягких, лишенных каркаса воздушных змеев. Они ромбовидной формы и во взрослом состоянии достигают фута в длину и восьми дюймов в ширину.
Что касается толщины, то они не толще, чем оболочка воздушного шарика.
У каждого существа четыре слабеньких присоски — по одной на каждом уголке. При помощи этих присосок они могут переползать, подчас точь-в-точь, как пяденицы, и держаться на стене, и нащупывать местечки, где песня Меркурия особенно аппетитна.
Отыскав место, где можно попировать на славу, существа прилепляются к стене, как мокрые обои.
Никаких систем пищеварения или кровообращения существам не нужно. Они такие тонкие и плоские, что животворящие вибрации заставляют трепетать каждую клеточку непосредственно.
Выделительной системы у этих существ тоже нет.
Размножаются существа, расслаиваясь. Потомство просто осыпается с родителя, как перхоть.
Все они одного пола.
Каждое существо просто отделяет себе подобных, как чешуйки, и они похожи как на него, так и на всех других.
Детства у них практически нет. Каждая чешуйка начинает расслаиваться через три часа после того, как отслоилась сама.
Они не знают, что значит достигать зрелости, а потом дряхлеть и умирать. Они достигают зрелости и живут, так сказать, в полном расцвете сил, пока Меркурий благоволит петь свою песнь.
Ни у одного существа нет возможности причинить вред другому, да и поводов для этого у них нет.
Им совершенно неведомы голод, зависть, честолюбие, страх, ярость и похоть. Ни к чему им все это.
Существа обладают только одним чувством: осязанием.
У них есть зачатки телепатии. Информация, которую они способны передавать и получать, такая же незамысловатая, как песнь Меркурия. У них всего два возможных сообщения. Причем первое — автоматический ответ на второе, а второе — автоматический ответ на первое.
Первое: «Вот и я, вот и я, вот и я!»
А второе: «Как я рад, как я рад, как я рад!»
Последняя особенность этих существ, которую так и не удалось объяснить с точки зрения «презренной пользы»: они очень любят складываться в чудесные узоры на светящихся стенах.
Хотя сами они слепые и не работают на зрителя, они часто распределяются на стене так, что образуют правильный и ослепительно-яркий узор из лимонно-желтых и аквамариновых ромбиков. Желтым светятся голые участки стен. А аквамариновый — это свет стен, просвечивающий через тела существ.
За любовь к музыке и за трогательное стремление строить свою жизнь по законам красоты земляне нарекли их прекрасным именем.
Их называют гармониумы.
Дядек и Боз совершили посадку на темной стороне Меркурия, через семьдесят девять земных дней после старта с Марса. Они не знали, что планета, на которую они сели, — Меркурий.
Солнце показалось им ужасно большим.
Но это не помешало им думать, что они опускаются на Землю.
Во время резкого торможения они потеряли сознание. Теперь они пришли в себя и стали жертвами несбыточной, прекрасной иллюзии.
Дядьку и Бозу показалось, что они медленно приземляются среди небоскребов, в небе, где шарят, играя, лучи прожекторов.
— Стрельбы не слыхать, — сказал Боз. — Может, война уже кончилась, или еще не начиналась.
Веселые снопы света, играющие перед их глазами, были вовсе не от прожекторов. Эти лучи отбрасывали высокие кристаллы, стоящие на границе светлого и темного полушарий Меркурия. Лучи Солнца, падая на эти кристаллы, преломлялись, как в призмах, и пронизывали тьму, натыкаясь на другие кристаллы, а те посылали их еще дальше.
Так что вовсе не трудно вообразить, что это лучи прожекторов, весело сплетающиеся над городом какой-то очень высокоцивилизованной расы. Было легко принять густой лес гигантских голубовато-белых кристаллов за строй головокружительно высоких небоскребов невиданной красоты.
Дядек стоял у иллюминатора и тихонько плакал. Он плакал о любви, о семье, о дружбе, о правде, о цивилизации. Эти понятия, которые заставили его плакать, были для него одинаково абстрактными, потому что память могла подсказать ему очень немногое — ни лиц, ни событий, которых хватило бы на постановку мистерии в его воображении.
Понятия стучали у него в голове, как сухие кости. «Стоуни Стивенсон, друг… Би, жена… Хроно, сын… Дядек, отец…»
Ему в голову пришло имя Малаки Констант, но он не знал, что с ним делать.
Дядек предался грезам вне образов, преклоняясь перед какими-то чудесными людьми, перед той замечательной жизнью, которая создала эти величественные строения, озаренные мелькающими лучами прожекторов. Здесь-то, без сомнения, все семьи, лишенные лиц, все близкие друзья, все безымянные надежды расцветут, как —
Дядек не умел найти сравнения.
Он вообразил себе удивительный фонтан, в виде конуса, состоящего из чаш, диаметр которых книзу все увеличивался. Но он никуда не годился. Фонтан был пересохший, разоренные заброшенные птичьи гнезда валялись тут и там. У Дядька заныли кончики пальцев, как будто ободранных о края сухих чаш.
Этот образ никуда не годился.
Дядек снова постарался и вообразил трех прекрасных девушек, которые манили его к себе, он видел их через блестящий от масла ствол своей винтовки-маузера.
— Ну, брат! — сказал Боз. — Все спят — только спать им недолго осталось! — он говорил нараспев, и глаза у него сверкали. — Когда старина Боз и старина Дядек пустятся в разгул, вы все проснетесь, и больше вам не уснуть!
Пилот-навигатор управлял кораблем артистически, Автомат нервозно переговаривался сам с собой — жужжал, стрекотал, щелкал, гудел. Он ощущал и облетал препятствия, выискивая внизу идеальное место для посадки.
Конструкторы преднамеренно вложили в пилота-навигатора навязчивую идею, которая заставляла его во что бы то ни стало искать надежное убежище для драгоценной живой силы и материальных ценностей, которые нес корабль. Пилот-навигатор должен был доставить драгоценную живую силу и материальные ценности в самое глубокое укрытие, какое сумеет найти. Предполагалось, что посадка будет производиться под огнем противника.
Двадцать минут спустя пилот-навигатор все так же болтал сам с собой — ему, как всегда, было о чем поговорить.
А корабль все падал, и падал стремительно.
Призрачные прожектора и небоскребы скрылись из виду. Кругом воцарилась кромешная тьма.
Внутри корабля царило почти такое же непроницаемое безмолвие.
Дядек и Боз понимали, что с ними происходит, — хотя пока не могли найти нужные слова.
Они совершенно правильно понимали, что их заживо хоронят.
Корабль внезапно перекосило, и Дядек с Бозом полетели на пол.
Этот резкий рывок принес мгновенное облегчение.
— Наконец-то мы дома! — заорал Боз. — С прибытием домой!
Но тут снова началось ужасное, как во сне, падение, похожее на полет сухого листа.
Прошло еще двадцать земных минут, а корабль все еще тихо падал.
Толчки участились.
Чтобы не пострадать от толчков, Боз и Дядек забрались на койки. Они лежали лицом вниз, держась за стальные трубки — крепления коек.
В довершение всех несчастий пилот-навигатор решил, что пора устроить в кабине ночь.
Корабль задрожал, заскрежетал, и Дядек и Боз оторвали лица от подушек и взглянули в сторону иллюминаторов. Сквозь иллюминаторы сочился снаружи неяркий желтоватый свет.
Дядек и Боз завопили от радости, рванулись к иллюминаторам. Но не успели они добраться до иллюминаторов, как их снова швырнуло на пол — корабль обошел препятствие и продолжал падать.
Через одну земную минуту падение прекратилось.
Пилот-навигатор тихонько щелкнул. Доставив свой груз в целости и сохранности с Марса на Меркурий, он, согласно инструкции, выключился.
Он доставил свой груз на дно пещеры глубиной в сто шестнадцать миль. Он пробирался через запутанные пропасти и колодцы, пока не уперся в дно.
Боз первым добрался до иллюминатора, выглянул и увидел россыпь желтых и аквамариновых ромбов, веселую иллюминацию, которую гармониумы устроили в их честь.
— Дядек! — сказал Боз. — Чтоб мне лопнуть, если нас не доставили прямехонько в голливудский ночной ресторан!
Здесь надо вспомнить о дыхательной методике Шлиманна, чтобы в полной мере понять все, что произошло дальше. Дядек и Боз, находясь в кабине при нормальном давлении, получали кислород из дышариков, через тонкий кишечник. Но при нормальном давлении не было необходимости затыкать уши и ноздри и держать рот закрытым. Пользоваться заглушками полагалось только в вакууме или в ядовитой атмосфере.
Боз был уверен, что за стенками космического корабля — полноценная атмосфера его родной Земли.
А на самом деле там не было ничего, кроме вакуума.
Боз распахнул внутреннюю и наружную двери воздушного шлюза с великолепной беспечностью, в надежде на то, что снаружи — благодатный воздух Земли.
За это он тут же поплатился — небольшое количество воздуха, находившееся в корабле, с шумом вырвалось в вакуум снаружи.
Боз сумел захлопнуть внутреннюю дверь, но не раньше, чем оба они, разинув рот в радостном крике, едва не захлебнулись кровью.
Они свалились на пол, а кровотечение продолжалось.
Спасло их только одно: полностью автоматизированная система жизнеобеспечения, которая ответила на этот взрыв другим взрывом и снова создала в каюте нормальное атмосферное давление.
— Мама, — сказал Боз, придя в себя. — Будь я проклят, мама, только это не Земля, и все тут.
Дядек и Боз не поддались панике.
Они для восстановления сил поели, попили, отдохнули и заправились дышариками.
Потом они заткнули себе уши и ноздри, запечатали рты и исследовали ближайшие окрестности. Они выяснили, что их гробница глубока, похожа на лабиринт — бесконечный, безвоздушный, безлюдный, — во всяком случае, в нем не обитает ни одно существо, хоть отдаленно напоминающее человека, и он вообще непригоден для обитания существ, хотя бы отдаленно напоминающих человека.
Они заметили гармониумов, но присутствие этих существ им нисколько не прибавило духу. Существа нагоняли на них жуть.
Дядек и Боз не могли поверить, что угодили в такую западню. Они просто не желали верить, и это спасло их от паники.
Они возвратились в свой корабль.
— О-кей, — невозмутимо сказал Боз. — Что-то не сработало. Мы забрались в самую глубь земли. Надо нам выбираться наверх, к тем небоскребам. Честно скажу тебе, Дядек, сдается мне, что мы вовсе не на Землю попали. Не сработало что-то, понимать, придется нам порасспросить людей там, наверху, — куда это нас занесло.
— О-кей, — сказал Дядек. Он облизнул сухие губы.
— Жми на кнопку, — сказал Боз, — и полетим вверх, как птички!
— О-кей, — сказал Дядек.
— Понимаешь, — сказал Боз, — там, наверху, люди, может, и не ведают, что здесь, внизу, творится. Может, мы открыли что-то, от чего они прямо обалдеют.
— Точно, — сказал Дядек. На душе у него лежала многокилометровая толща камня. И в душе он чувствовал, какая беда на них свалилась. Во все стороны уходили бесчисленные лабиринты ходов. Ходы ветвились, потом раздваивались на более узкие, а те разбегались на трещинки не шире пор на коже человека.
Душа Дядька безошибочно чувствовала, что даже один ход из десяти тысяч не доходит до самой поверхности.
Космический корабль был оснащен такой изумительно совершенной сенсорной аппаратурой, что без труда нащупал свой путь вниз, все вниз и вниз, пробрался одним из немногочисленных входов — вниз, все вниз и вниз по одному из немногих выходов, ведущих наружу.
Но душа Дядька и не подозревала, что, когда дело доходит до подъема вверх, пилот-навигатор туп, как пробка. Авторы проекта как-то не задумывались о том, что кораблю придется выбираться откуда-то вверх. Все марсианские корабли были рассчитаны на однократный взлет с просторных космодромов Марса, а после прибытия на Землю их просто бросали. Так и вышло, что на корабле практически не было сенсорной автоматики для движения вверх.
— Счастливо оставаться, пещерка, — сказал Боз.
Дядек с небрежной уверенностью нажал кнопку «ВКЛ.».
Пилот-навигатор загудел.
Через десять земных секунд пилот-навигатор разогрелся.
Корабль легко, почти бесшумно отделился от пола, задел за стену, с душераздирающим воем и скрежетом пропахал бортом борозду вверх, ударился куполом о выступ в потолке, отступил, снова попытался пробить куполом потолок, сдал назад, отколол выступ, с негромким шепотом полез вверх. И тут же снова раздался скрежещущий рев — на этот раз со всех сторон.
Путь вверх был закрыт.
Корабль заклинился в непроходимой скале.
Пилот-навигатор горестно подвывал.
Он выпустил сквозь деревянный пол кабины облачко горчичного дыма.
Пилот-навигатор замолк.
Он перегрелся, а это служило для пилота-навигатора сигналом, что корабль попал в безнадежное положение и его надо спасать. Что он и продолжал делать с тупым упорством. Стальные конструкции стонали. Заклепки отлетали со звуком винтовочных выстрелов.
Наконец корабль высвободился.
Пилот-навигатор знал, что его возможности исчерпаны.
Он мягко, с легким чмоканьем, вроде поцелуя, посадил корабль на пол пещеры.
Пилот-навигатор выключился.
Дядек снова нажал кнопку «ВКЛ.».
Корабль снова рванулся в тупик, снова отступил, снова опустился на пол и выключился.
Это повторилось раз десять, пока не стало совершенно ясно, что корабль только расколотит себя на куски, и больше ничего. Он и так уже здорово помял свою обшивку.
Когда корабль сел на пол в двенадцатый раз, Дядек с Бозом совсем отчаялись. Они заплакали.
— Пропали мы, Дядек! — сказал Боз. — Кончена жизнь!
— А у меня никакой жизни и не было, если вспомнить, — убитым голосом сказал Дядек. — Я-то надеялся что хоть под конец немного поживу по-человечески.
Дядек отошел к иллюминатору, посмотрел наружу сквозь слезы, застилавшие глаза.
Он увидев, что перед самым иллюминатором существа образовали на аквамариновом фоне четкую, бледно желтую букву Т.
Эта буква Т, образованная существами, лишенными мозга и расползающимися в случайных сочетаниях, еще была в пределах вероятности. Но тут Дядек заметил, что перед Т стоит четкое С. А перед ней стоит Е, выписанное, как по трафарету.
Дядек наклонил голову, глянул наискось через иллюминатор. Ему стала видна кишащая гармониумами стена, примерно футов на сто в одну сторону.
Дядек окаменел от изумления: гармониумы сверкающими буквами написали на стене целую фразу!
Вот эта фраза, начертанная бледно-желтыми буква ми на аквамариновом фоне:
ТЕСТ НА ЖИВОСТЬ УМА!
Загадка решена
«В начале Бог стал Небом и стал Землей… И сказал Господь: „Да буду Я светом“, и стал Он светом».
«К чаю рекомендую подать нежных молодых гармониумов, свернутых в трубочку, с начинкой из венерианского творога».
«Если говорить о душах, то марсианские мученики погибли не тогда, когда напали на Землю, а гораздо раньше — когда их завербовали в армию Марса».
«Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда»
В недавние времена среди бестселлеров первое место занимала «Авторизованная Библия с поправками» Уинстона Найлса Румфорда. Лишь слегка уступала ей в популярности забавная подделка — «Галактическая поваренная книга» Беатрисы Румфорд. Третьей была «Карманная история Марса» Уинстона Найлса Румфорда. А четвертой из самых популярных книг была детская книжка «Дядек и Боз в пещерах Меркурия», написанная Сарой Хорн Кэнби.
На суперобложке издатель поместил свое сладенькое объяснение популярности книги миссис Кэнби: «Какой же мальчишка не мечтает о космическом кораблекрушении, если в корабле полно бифштексов, сосисок, кетчупа, спортивного инвентаря и лимонада?»
Доктор Френк Майнот в своей статье «А если взрослые — гармониумы?» высказывает более мрачную гипотезу о подоплеке любви детей к этой книжке. «Осмелимся ли мы представить себе, — спрашивает он, — насколько положение Дядька и Боза напоминает ежедневные переживания детей, — ведь Дядьку и Бозу приходится вежливо и с уважением относиться к существам, по сути своей непредсказуемым, бесчувственным и нудным». Приводя параллель между родителями и гармониумами, Майнот исходит из сложившихся у Дядьки и Боза отношений с гармониумами. Гармониумы писали на стенах послания, внушающие надежду или полные скрытой издевки, — раз в четырнадцать земных суток, в течение трех лет. Само собой разумеется, послания писал Уинстон Найлс Румфорд, материализуясь ненадолго на Меркурии каждые четырнадцать суток. В одних местах он отлеплял гармониумов, в других — нашлепывал их на стену, выписывая громадные буквы.
О том, что Румфорд временами бывал в пещере, в сказке миссис Кэнби впервые упоминается под конец — в сцене, когда Дядек видит на пыльной земле отпечатки лап громадной собаки.
И в этом месте сказки взрослый, если он читает книгу вслух ребенку, должен обязательно спросить малыша таинственным свистящим шепотом: «А кто был этот пес-с-с-с?»
Этот пес-с-с-с был Казак. Это был громадный, злющий-презлющий пес-с-с-с дяденьки Уинстона Найлса Румфорда, прямо из хроно-синкластического инфундибулума.
Дядек и Боз пробыли на Меркурии три земных года, когда Дядек заметил следы Казака в пыли в одном из коридоров. Меркурий вместе с Дядьком и Бозом уже двенадцать с половиной раз обернулся вокруг Солнца.
Дядек нашел следы на полу коридора, находившегося на шесть миль выше пещеры, где покоился избитый, исцарапанный космический корабль, застрявший в толще горных пород. Дядек, как и Боз, покинул корабль. Корабль служил просто кладовкой, куда Дядек и Боз ходили за припасами примерно раз в месяц по земному счету.
Дядек и Боз почти не встречались. Они вращались, так сказать, в совершенно разных кругах.
Круг Боза был ограничен. Он жил постоянно в одном месте, в роскошной обстановке. Его жилье находилось на том же уровне, где лежал корабль, и всего в четверти мили от него.
Дядек двигался по широким, уводящим вдаль кругам, ему не сиделось на месте. Жилья у него не было. Он странствовал налегке и далеко, взбираясь все выше и выше, пока не добрался до холодной зоны. Холод остановил Дядька там же, где остановил и гармониумов. В верхних горизонтах, где бродил Дядек, гармониумы встречались редко, и то какие-то полудохлые.
На благоприятном нижнем уровне, где обитал Боз, гармониумы процветали и образовывали громадные скопления.
Дядек и Боз расстались, прожив вместе один земной год в космическом корабле. За этот первый год они окончательно убедились в том, что, если кто-то не явится и не вызволит их, им отсюда не выбраться.
Им обоим это было совершенно ясно, несмотря на то, что существа продолжали писать на стенах послания, утверждающие, что Дядек и Боз подвергнуты честному и справедливому испытанию, что выбраться отсюда им ничего не стоит, надо только хорошенько подумать, пошевелить мозгами.
«ДУМАЙТЕ!» — то и дело писали существа.
Дядек и Боз расстались после того, как на Дядька накатил приступ временного безумия. Дядек пытался убить Боза. Боз влез в космический корабль, показал Дядьку гармониума, как две капли воды похожего на всех остальных, и сказал:
— Посмотри, какой симпатяга, а, Дядек?
Дядек бросился душить Боза.
К тому времени, когда Дядек обнаружил следы собаки, он ходил совершенно голый. Черные сапоги из искусственной кожи и зеленоватая форма Марсианской штурмовой пехоты истерлись в пыль и прах о камни пещер.
Дядек вовсе не обрадовался, увидев собачьи следы. И душа Дядька не наполнилась бравурной музыкой от предвкушения встречи, и не вспыхнула светом надежды, когда он увидел следы теплокровного существа — следы лучшего друга человека. И он был так же мало тронут, когда к следам собаки присоединились следы человека в добротных ботинках.
Дядек был не в ладах с окружающей средой. Он привык считать окружающий мир злобным или до безобразия плохо устроенным. И он восставал против этого мира, не имея иного оружия, кроме пассивного непротивления или открытого презрения.
Следы показались Дядьку прощупывающим ходом очередной идиотской игры, в которую его втягивала окружающая среда. Пожалуй, он пойдет по следам, но только не спеша, ни на что не надеясь. Он пойдет по следам просто от нечего делать.
Пойдет по следам.
Поглядит, куда они ведут.
Он двигался неуверенно, неуклюже. Бедняга Дядек сильно отощал, да и облысел порядком. Он быстро старел. Глаза у него были воспаленные, а кости, казалось, вот-вот распадутся по суставам.
На Марсе Дядек ни разу не брился. Когда отросшие волосы и борода начинали ему мешать, он просто отхватывал лишние пряди кухонным ножом.
Боз брился каждый день. Боз сам подстригался два раза в неделю, по земному счету — у него в корабле был полный парикмахерский набор.
Боз — он был на двенадцать лет моложе Дядька — в жизни себя так хорошо не чувствовал. В пещерах Меркурия он раздобрел, на него снизошел покой.
Пещерка, в которой жил Боз, была хорошо обставлена: койка, стол, два стула, боксерская груша, зеркало, гантели, магнитофон и фонотека магнитофонных записей — тысяча сто музыкальных произведений.
Пещерка Боза закрывалась дверью — круглым камнем, которым он закрывал вход, когда было нужно. А дверь была необходима, потому что для гармониумов Боз стал Всемогущим Богом. Они научились находить его по сердцебиению.
Если бы он уснул с открытой дверью, то проснулся бы, погребенный под сотнями тысяч своих обожателей. И они не дали бы ему встать, пока сердце у него не остановилось бы.
Боз тоже ходил голым, как Дядек. Но он ходил в ботинках. Его ботинки из натуральной кожи отлично сохранились. Конечно, Дядек отшагал по пятьдесят миль на каждую милю, пройденную Бозом, но ботинки Боза не просто уцелели. Они были как новенькие.
Боз регулярно протирал, мазал их кремом и начищал до блеска.
И вот теперь он тоже наводил на них блеск.
Дверь его пещеры была закрыта камнем. При нем находились только четыре гамониума — фавориты. Два из них обвились вокруг его рук, повыше локтя. Один прилепился к бедру. Четвертый, малыш-гармониум всего в три дюйма длиной, прильнул к его запястью, изнутри, угощаясь биением его пульса.
Когда Боз выбирал себе любимчика среди гармониумов, он всегда позволял ему полакомиться своим пульсом.
— Что, нравится? — мысленно говорил он счастливчику. — Вкусно, да?
Он никогда в жизни не чувствовал себя так великолепно — физически, умственно, духовно. Он был очень рад расстаться с Дядьком — Дядек вечно переворачивал все с ног на голову, и получалось, что, если человек счастлив, он обязательно или дурак, или псих.
— И с чего это человек таким становится? — мысленно спрашивал Боз малютку-гармониума. — Чего он хочет добиться, во всем себе отказывая? Понятно, почему он весь такой больной.
Боз покачал головой.
— Как я ни старался, чтобы он полюбил вас, ребятки, он все злился, да и только. А злобствовать — это уж последнее дело.
— Не понимаю, что творится в мире, — мысленно говорил Боз. — Может, я и не пойму, если мне кто-нибудь попробует растолковать — ума не хватит. Знаю только одно — нас подвергли какому-то испытанию, и этот кто-то или что-то куда умнее нас, так что мне остается только быть добрым, сохранять спокойствие и жить как можно приятнее, пока испытание не кончится.
Боз кивнул.
— Вот и вся моя философия, — сказал он прилепившимся к нему гармониумам, — если не ошибаюсь, это и ваша философия. По-моему, это нас и сдружило.
Носок ботинка из натуральной кожи, который Боз начищал, сиял рубиновым блеском.
— Ребята — ух ты, ребята, ребята, ребята, — сказал Боз про себя, глядя в глубь рубина. Начищая ботинок, он воображал себе много чего, глядя в его рубиновый носок.
Вот и сейчас, созерцая рубин, Боз видел, как Дядек душит беднягу Стоуни Стивенсона у каменного столба на железном плацу там, на Марсе. Эта жуткая картина возникла не случайно. Она была средоточием отношений Боза с Дядьком.
— Ты мне правду-матку не режь, — мысленно сказал Боз, — и я тебе резать не стану.
Это было официальное заявление, которое он делал Дядьку лично, несколько раз.
Такое условие Боз придумал сам. Дело заключалось вот в чем: Дядек не должен был говорить Бозу правду про гармониумов, потому что Боз любил гармониумов, и еще потому, что Боз по доброте своей не лез к нему с той правдой, которая сильно огорчила бы Дядька.
Дядек не знал, что собственными руками задушил своего друга, Стоуни Стивенсона. Дядек думал, что Стоуни до сих пор живет и здравствует где-то во Вселенной. Дядек жил мечтой о встрече со Стоуни.
А Боз по доброте своей ни разу не сказал Дядьку правду, как ни велико было искушение оглушить его правдой, как дубиной.
Ужасная картина в рубине рассеялась.
— Да, Господи! — мысленно сказал Боз.
Взрослый гармониум на руке Боза зашевелился.
— Просишь старого Боза, чтобы устроил концерт? — мысленно спросил у него Боз. — Хочешь попросить, да? Хочешь сказать: Боз, старина, не подумай, что я неблагодарный, я понимаю, какая это великая честь — быть вот тут, у самого твоего сердца. Только я подумал про моих друзей, там, снаружи, и мне очень хочется, чтобы им всем было тоже приятно и хорошо. Ты это хотел сказать? — спросил Боз мысленно. — Хотел сказать: прошу тебя, папа Боз, устрой концерт для моих бедных друзей! Ты это хотел сказать?
Боз улыбнулся.
— Ну, только без лести, без лести, — сказал он гармониуму.
Маленький гармониум у него на запястье сложился вдвое, потом опять растянулся во всю длину.
— А что ты хочешь мне сказать? — спросил его Боз. — Хочешь сказать: дяденька Боз, твой пульс слишком питательный для такого крохи, как я. Дяденька Боз, пожалуйста, сыграй нам какую-нибудь милую, сладкую, легкую музыку на завтрак! Ты это хотел сказать?
Боз обратился к гармониуму на правой руке. Существо за все время ни разу не пошевельнулось.
— А ты у нас любитель спокойствия, а? — мысленно спросил у существа Боз. — Болтать не любишь, зато все время думаешь. Сдается мне, ты думаешь, что Боз — старый скупердяй, раз не дает вам слушать музыку весь день напролет? А?
Гармониум на его левой руке опять зашевелился.
— Что? Что ты говоришь? — мысленно сказал Боз. Он склонил голову на бок, делая вид, что прислушивается, хотя ни один звук не мог долететь до него в окружающем вакууме. — Ты говоришь — пожалуйста, Царь Боз, сыграй нам «Увертюру 1812 года»? — Боз напустил на себя возмущенный и суровый вид. — Мало ли что тебе больше по вкусу пришлось — это еще не значит, что оно тебе полезно.
Ученых, специализировавшихся на Марсианской войне, часто поражает странная неравномерность военных приготовлений Румфорда. В некоторых областях он допускал чудовищный недосмотр. Ботинки, которые он поставлял для рядовых солдат, почти гротескно подчеркивали непрочность марсианского общества, созданного солдатами ради войны, созданного с единственной целью — покончить с собой, чтобы воссоединить все народы Земли.
Однако в подборках фонотек, которыми Румфорд лично снабжал флагманские корабли дивизий, встречаются великие культурные ценности — запас великих ценностей, рассчитанных на цивилизацию, которой предстоит просуществовать не меньше тысячи земных лет. Говорят, что на фонотеку никому не нужной музыки Румфорд потратил времени больше, чем на артиллерию и полевые госпитали, вместе взятые.
Вот как сказал об этом неизвестный шутник:
— Марсианская Армия приземлилась, имея в запасе музыки на триста часов непрерывного звучания, а ей не хватило бы времени дослушать даже «Вальс-минутку».
Это нелепое пристрастие к фонотекам на марсианских флагманских космических кораблях объясняется как нельзя проще: Румфорд обожал хорошую музыку — кстати, эта страсть посетила его только после того, как он был рассеян во времени и пространстве хроно-синкластического инфундибулума.
Гармониумы в пещерах Меркурия тоже обожали хорошую музыку. Они веками питались одной тягучей нотой — звоном Меркурия. Когда Боз дал им отведать настоящей музыки — это оказалась «Весна Священная» — некоторые бедняги буквально умерли от восторга.
В желтом свете меркурианских пещер мертвые гармониумы выглядят оранжевыми, сморщенными. Мертвый гармониум похож на сушеный абрикос.
В тот первый раз, когда концерт вовсе не предназначался для гармониумов, магнитофон стоял на полу космического корабля. Те существа, которые умерли в экстазе, непосредственно контактировали с металлическим куполом корабля.
Теперь же, два с половиной года спустя, Боз демонстрировал, как надо устраивать концерт для аборигенов, чтобы он их не убил.
Боз вышел из своего грота, неся с собой магнитофон и несколько кассет с музыкальными записями. В коридоре снаружи он поставил две алюминиевые гладильные доски. На ножках у них были амортизирующие колпачки. Между гладильными досками было расстояние в шесть футов, перекрытое носилками с зеленоватым, как лишайник, полотнищем, натянутым на трубки.
Боз поместил магнитофон посередине носилок. Все это сооружение имело одну цель: ослаблять, рассеивать, разбавлять вибрации, исходящие от магнитофона. Прежде чем достигнуть каменного пола, вибрации должны были пробиться по лишенному упругости материалу носилок, через ручки носилок, через гладильные доски и, наконец, через мягкие колпачки на ножках этих досок.
Это рассеивание обеспечивало безопасность. Оно гарантировало, что ни один гармониум не получит смертельную дозу музыки.
Боз вложил кассету в магнитофон и включил его. Все время, пока будет длиться концерт, он простоит на страже у магнитофона. Он должен следить, чтобы ни одно существо не подкралось слишком близко к сооружению. Заметив, что одно из существ подобралось слишком близко, он должен отлепить его от стены или от пола и приклеить к стене в ста или более футах от магнитофона, отчитав как следует. Это его долг.
— Если у тебя ума не хватает, — мысленно говорил он этому сорвиголове, — придется тебе каждый раз торчать вот тут, на галерке. Пора бы тебе об этом подумать!
По правде говоря, даже на расстоянии сотни футов существо получало питательную музыку в изобилии.
Стены пещер обладали такой редкостной звукопроницаемостью, что гармониумы на стене пещер, удаленных на много миль, еще могли попробовать на вкус концерты Боза, просочившиеся сквозь камень.
Дядек, уходивший по следам все глубже и глубже в лабиринт пещер, мог догадаться по поведению гармониумов, что Боз устроил концерт. Он добрался до теплых коридоров, где гармониумов было особенно много. Совершенный узор из желтых и аквамариновых ромбов искажался на глазах — деградировал до неровных комков, клякс, молниевидных зигзагов. Так гармониумы реагировали на музыку.
Дядек положил на пол свой узелок, потом и сам прилег отдохнуть.
Дядек вообразил себе все цвета радуги, кроме желтого и аквамаринового.
Потом ему вообразилось, что его славный друг, Стоуни Стивенсон, ждет его прямо за поворотом. В голове у него зароились слова, которые он и Стоуни скажут при встрече. В голове Дядька так и не возникло лицо, которое соотносилось бы с именем Стоуни Стивенсон, но это было не так уж важно.
— Вот это пара, — сказал сам себе Дядек. Он хотел сказать, что он и Стоуни Стивенсон, действуя заодно, станут непобедимыми.
— Говорю тебе, — сказал сам себе довольный Дядек, — эту пару они норовят держать подальше друг от друга — любой ценой. Если когда-нибудь старина Стоуни встретится со стариной Дядьком, им всем не поздоровится. Когда старина Стоуни и старина Дядек сойдутся вместе, тут уж что угодно может случиться — и случится обязательно.
Старина Дядек засмеялся.
Кто же должен бояться встречи Дядька и Стоуни? — Очевидно, люди в громадных, роскошных небоскребах на поверхности. Воображение Дядька неплохо поработало эти три года, украшая те промелькнувшие мимо картины, которые он успел увидеть, — они казались небоскребами, но на самом деле это были сплошь мертвые, чудовищно холодные кристаллы. Дядек сам поверил в собственную выдумку, что в тех небоскребах живут хозяева всего сущего. Это и были тюремщики Дядька и Боза, а может статься, и тюремщики Стоуни.
Они поставили этот пещерный эксперимент с Дядьком и Бозом. Они писали послания, используя гармониумов. Сами гармониумы никакого отношения к посланиям не имели.
Все это Дядек знал совершенно точно.
Дядек многое знал точно. Он даже знал, как эти небоскребы на поверхности меблированы. У вещей нет никаких ножек. Вся мебель просто парит в воздухе, на магнитной подвеске.
И люди там никогда не работают, их никогда ничто не тревожит.
Дядек их ненавидел.
Гармониумов он тоже ненавидел. Он содрал гармониума со стенки и разорвал его надвое. Тот сразу скукожился, стал оранжевым.
Дядек подбросил разорванное тельце к потолку. Взглянув мельком на потолок, он увидел на нем новое послание. Послание уже расползалось под действием музыки, но пока прочесть его было можно.
Это послание в нескольких словах поведало Дядьку, как уверенно, легко и быстро выбраться из пещер. Он поневоле признал, прочтя ответ на загадку, которую не мог разгадать три года, что загадка была и вправду простенькая и честная.
Дядек, шаркая ногами, шел все вниз и вниз, пока не добрался до Боза, устроившего концерт для гармониумов. Дядек, разгадавший великую тайну, пришел весь встрепанный, с дико вытаращенными глазами. Он потащил Боза к кораблю — в вакууме он не мог говорить.
Там, в искусственной атмосфере, Дядек поведал Бозу о послании, которое подсказало ему путь к спасению.
На этот раз Боз повел себя как-то чересчур спокойно. Боз приходил в восторг, когда ему казалось, что у гармониумов есть зачатки разума, — а теперь, услышав, что его ждет свобода, он проявил непонятную бесчувственность.
— А — тогда я понимаю то, другое послание, — негромко сказал Боз.
— Какое еще другое? — спросил Дядек. Боз воздел руки кверху, чтобы выразить суть послания, возникшего четыре земных дня назад на стене напротив его жилья.
— БОЗ, НЕ ПОКИДАЙ НАС! — вот какое, — сказал Боз. Он смущенно потупил глаза. — МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, БОЗ, — так и написали.
Боз уронил руки, отвернулся, как будто ослепленный неописуемой красотой.
— Когда я это увидал, — сказал он, — то не мог не улыбнуться. Гляжу я на них, милых, славных моих ребятишек — там, на стене, — и говорю я себе — неужели старый Боз вас покинет? Старый Боз останется с вами — и надолго!
— Это ловушка! — сказал Дядек.
— Что такое? — сказал Боз.
— Ловушка! — сказал Дядек. — Обман, чтобы задержать нас здесь!
На столе перед Бозом лежала открытая книжка — «Чик-чирик и Сильвестр». Боз не торопился отвечать Дядьку. Он стал листать потрепанную книжку.
— Я этого ждал, — сказал он наконец.
Дядек подумал о фантастическом признании в любви, похожем на одеяло из цветных лоскутков. И с ним произошло нечто, от чего он давно отвык. Его разобрал смех. Он подумал, что это смешное до истерики завершение кошмара — безмозглые пленочки на стене, говорившие о любви.
Боз вдруг сграбастал Дядька, тряхнул его так, что все косточки у бедного Дядька загремели.
— Я был бы тебе очень обязан, Дядек, — сквозь стиснутые зубы сказал Боз, — если бы ты предоставил мне самому разобраться в том, что думать об их словах, что они меня любят. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — для тебя это, может, ничего и не значит. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — тебя вообще не просят об этом разговаривать. Понимаешь, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — эти существа вовсе не набивались тебе в друзья. Ты не обязан их любить, или понимать, или что-то о них говорить. Понимаешь, — сказал Боз, — видишь ли, — сказал Боз, — их послание тебя не касается. Они говорят, что любят меня. Ты тут ни при чем.
Он выпустил Дядька и снова отвернулся к детскому комиксу. Дядька заворожила его широкая, коричневая спина в литых буграх мускулов. Пока Дядек жил поодаль от Боза, он воображал, что физически ему ни в чем не уступит. Теперь он понял, какое это печальное заблуждение.
Мышцы на спине Боза играли, неторопливо переливались, в контрапункте с более быстрыми движениями пальцев, листающих книгу.
— Ты так много знаешь про ловушки и тому подобное, — сказал Боз. — А откуда ты знаешь, что нас не ждет ловушка похуже, как только мы отсюда выберемся?
Но Дядек не успел ответить — Боз вдруг вспомнил, что оставил включенный магнитофон без присмотра.
— Да их же никто не охраняет, никто! — закричал он. Он бросил Дядька и помчался спасать гармониумов.
Пока Боза не было, Дядек соображал, как бы перевернуть космический корабль вверх ногами. Это и был ответ на загадку — как отсюда выбраться. Вот что посоветовали гармониумы на потолке:
ДЯДЕК, ПЕРЕВЕРНИ КОРАБЛЬ ВВЕРХ НОГАМИ.
Разумеется, это была хорошая мысль — перевернуть корабль. Сенсорная автоматика корабля располагалась на дне. Стоило его перевернуть, как он мог выбраться из пещер так же умело, с той же грациозной легкостью, с какой туда пробрался.
Сила тяжести на Меркурии была невелика, так что с помощью ручной лебедки Дядьку удалось перевернуть корабль, не дожидаясь возвращения Боза. Чтобы отправиться в путь, оставалось только нажать на кнопку «ВКЛ.». Перевернутый корабль ткнется в пол, потом отступит в полной уверенности, что пол — это потолок.
Он начнет пробираться вверх по лабиринтам ходов, уверенный, что спускается вниз. И он непременно отыщет выход, считая, что забирается в самую глубокую пропасть.
А пропасть, в которой он в конце концов окажется, — это будет бескрайняя, лишенная стен бездна бесконечного космоса. Боз ввалился в перевернутый вверх дном корабль, обеими руками прижимая к себе мертвых гармониумов, похожих на сушеные абрикосы. Он принес их четыре кварты, а то и больше. Конечно, некоторых он уронил. И, наклонившись, чтобы благоговейно поднять их, он разронял еще больше.
По его лицу струились слезы.
— Видишь? — сказал Боз. Он горько сетовал на самого себя. — Видишь, Дядек? — сказал он. — Видишь, что делается, когда кто-то бросает свой пост и про все забывает.
Боз потряс головой.
— Это еще не все, — сказал он. — Там их еще столько… — Он отыскал пустую картонную коробку из-под шоколада. Он ссыпал туда трупики гармониумов.
Он выпрямился, уперев руки в бока. И если раньше Дядька поразила его физическая мощь, то теперь его потрясло величие Боза.
Выпрямившись, Боз стоял, как мудрый, величавый, плачущий коричневый Геракл.
По сравнению с ним Дядек чувствовал себя тщедушным, ущербным и никому не нужным.
— Будем делиться, Дядек? — сказал Боз.
— Делиться? — переспросил Дядек.
— Дышарики, еда, лимонад, сладости — все пополам, — сказал Боз.
— Все пополам? — сказал Дядек. — Господи — да там всего запасено лет на пятьсот!
До сих пор никто ни разу не предлагал делить запасы. Недостатка не было ни в чем и в будущем не предвиделось.
— Половину заберешь с собой, половину оставишь мне, — сказал Боз.
— Оставить тебе? — не веря своим ушам, сказал Дядек. — Ты — ты же летишь со мной, правда?
Боз поднял вверх сильную правую руку, и это был ласковый призыв к молчанию, жест сына человеческого, достигшего предела величия.
— Ты мне правду-матку не режь, Дядек, — сказал Боз. — И я тебе не стану резать.
Он смахнул кулаком слезы с глаз.
Дядек никогда не мог устоять перед этим договором о правде. Он его смертельно боялся. Что-то в глубине памяти говорило ему, что Боз угрожает ему не впустую, что Боз действительно знает про Дядька такую правду которая растерзает ему душу.
Дядек открыл рот и снова закрыл.
— Ты приходишь и приносишь мне великую весть, — сказал Боз. — Боз, говоришь, мы выйдем на свободу! И я себя не помню от радости, бросаю все, как есть, и собираюсь на свободу.
— И я все твержу себе, твержу, как я буду жить на свободе, — продолжал Боз, — а вот когда я хочу себе представить, на что эта свобода похожа, я вижу только толпу народа. Они меня толкают, тащат в одну сторону, потом волокут в другую — и ничем им не угодишь, они только злее становятся, прямо свирепеют, потому что они радости в жизни не видели. И они орут на меня за то, что я им радости не прибавил, и опять все мы толкаемся, рвемся куда-то.
— И тут невесть почему, — сказал Боз, — я вспоминаю про эти чудацкие маленькие существа, которых так легко осчастливить, стоит им только музыку сыграть. Бегу я и вижу, что они тысячами валяются там, мертвые, — и все потому, что Боз про них позабыл, уж больно он обрадовался свободе! А я мог спасти их всех, всех до одного, если бы делал свое дело, оставался на посту.
— И тогда я сказал сам себе, — продолжал Боз. — «Я от людей никогда ничего хорошего не видел, и они от меня — тоже. Нужна мне эта свобода в толпе народу или нет?» И тогда я понял, что я должен сказать тебе, Дядек, когда вернусь.
И Боз сказал эти слова:
— Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда, и сам я вижу, что творю добро, и те, кому я делаю добро, понимают мою доброту и любят меня. Дядек, любят, как могут. Я нашел себе дом родной.
— А когда я умру здесь, внизу, — сказал Боз, — я хочу перед смертью сказать себе: «Боз — ты озарил счастьем миллионы жизней. Никто никогда не дарил столь» ко радости живым существам. У тебя нет ни одного врага во всей Вселенной».
Боз вообразил, что он сам себе — любящая Мама и любящий Папа, хотя их у него никогда не было.
— Спи, усни, — сказал он сам себе, представляя, что умирает на каменном смертном ложе в глубине пещер. — Ты хороший мальчик, Боз, — сказал он. — Доброй тебе ночи.
Век чудес
«О Всевышний, Творец Космоса, Вращатель Галактик, Дух Электромагнитных Волн, Вдыхающий и Выдыхающий неисследимые бесконечности Вакуума, Извергающий Огнь и Каменья, Играющий Тысячелетиями — в силах ли мы сделать для Тебя что-нибудь, что бы Ты Сам не сделал для Себя в октильон раз лучше? Ничего! Можем ли мы сделать или сказать хоть что-то для Тебя интересное? Ничего! О, Человечество, возрадуйся безразличию своего Творца, ибо оно, наконец, дарует нам свободу, правдивость, человеческое достоинство. Больше никогда дурак вроде Малаки Константа не сможет сказать про свое нелепое, сказочное везенье: „Кто-то там, наверху, хорошо ко мне относится“. И ни один тиран больше не скажет: „Делайте то или это, потому что так хочет Бог, а если не делаете, то восстаете против Самого Бога“. О Всевышний, Безразличие Твое — меч огненный, ибо мы обнажили его и со всей мощью разили и поражали им, и ныне вся лживая болтовня, которая порабощала нас или загоняла в сумасшедшие дома, лежит во прахе!»
Был вторник, день клонился к закату. В Северном полушарии Земли стояла весна.
Земля изобиловала зеленью и водами. Воздух Земли был сладок и дыханье утучняло, как сливки.
Дожди, сходившие на Землю, были чисты, и эту чистоту можно было попробовать на вкус. У чистоты был освежающе-терпкий привкус.
На Земле было тепло.
Поверхность Земли шевелилась и вздымалась, не зная покоя от плодящейся жизни. Плодороднее всего Земля была в местах, где было больше трупов.
Освежающе-терпкий дождик сеялся на зеленое поле, где трупов было очень много. Он падал на деревенское кладбище в Новом Свете. Это кладбище находилось в Западном Барнстейбле, Мыс Код, Массачусетс, США, Кладбище было перенаселено — все промежутки между могилами покойников, умерших своей смертью, были забиты телами героев, погибших на войне. Марсиане лежали бок о бок с землянами.
На Земле в каждой стране были кладбища, где марсиане и земляне были погребены бок о бок. Не осталось ни одной страны на Земле, где не было сражений, когда вся Земля воевала с марсианами.
Все было прощено и забыто.
Живые составляли единое Братство, а все мертвые — Братство еще более тесное.
Церковь, похожая на мокрую самку ископаемого дронта, насиживающую надгробные камни, успела побывать в разные времена пресвитерианской, конгрегационалистской, униатской и универсально-апокалиптической. Теперь она была храмом Господа Всебезразличного.
Среди кладбищенских плит стоял человек, совершенно дикий на вид, опьяневший от сытного, как сливки, воздуха, зелени, влажности. Человек был почти голый, иссиня-черная борода и спутанные отросшие волосы были тронуты сединой. На нем позвякивала набедренная повязка из железок и медной проволоки.
Это одеяние прикрывало его срам.
Дождь струился по его обветренным щекам. Он закинул голову и пил дождевые струи. Он положил руку на надгробный камень — не опираясь, а просто чтобы прикоснуться. К камням-то он привык — в усмерть привык к пересохшей, грубой, жесткой на ощупь поверхности камня. Но вот таких камней — влажных, поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой, — он не касался с давних-давних пор.
Pro patria[16] — гласила надпись на камне, которого он касался.
Человек этот был Дядек.
Он возвратился домой с Марса и с Меркурия. Космический корабль приземлился в лесу, неподалеку от кладбища. Дядька переполняла безоглядная, юношеская жажда жизни — ведь лучшие годы у него безжалостно отняли.
Дядьку было сорок четыре.
Он вполне мог бы зачахнуть и умереть.
Но его заставляло жить одно-единственное желание, почти не затрагивавшее его чувств, ставшее почти автоматическим. ОН ХОТЕЛ ОТЫСКАТЬ БИ, СВОЮ ПОДРУГУ, ХРОНО, СВОЕГО СЫНА, И СТОУНИ СТИВЕНСОНА, СВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО, ЗАДУШЕВНОГО ДРУГА.
Дождливым утром во вторник преподобный С. Хорнер Редуайн стоял на кафедре своей церкви. В церкви больше никого не было. Редуайн взошел на кафедру просто потому, что хотел почувствовать всю полноту радости. К этой радости во всей ее полноте он стремился вовсе не от плохой жизни. Он познал всю полноту радости в чрезвычайно благоприятной обстановке — его все горячо любили, как служителя религии, которая не только сулила, но и творила чудеса.
Его церковь — Первая Барнстейблская церковь Господа Всебезразличного, называлась еще, как бы в скобках, Церковью Усталого Звездного Странника. Этот подзаголовок был рожден пророчеством: одинокий марсианский солдат, отбившийся от своих, в один прекрасный день явится в церкви Редуайна.
Церковь была подготовлена к чуду. В обветшалый дубовый стояк позади кафедры был забит железный гвоздь ручной ковки. На стояке покоилась тяжелая мощная балка — конек крыши. А на гвозде висели плечики, инкрустированные полудрагоценными каменьями. А на плечиках, в прозрачном пластиковом мешке, висел костюм.
В пророчестве упоминалось, что Звездный Странник явится голым и что костюм окажется ему точь-в-точь впору. Костюм был такого покроя, что не пришелся бы впору никому, кроме того, для кого предназначался. Это был комбинезон из прорезиненной материи лимонно-желтого цвета, спереди он застегивался на молнию. Он был облегающий, как перчатка.
Таких костюмов никто не носил. Он был сшит специально, чтобы придать чуду блеск и величие.
На груди и на спине этого одеяния были нашиты вопросительные знаки по футу длиной. Они напоминали, что Звездный Странник не будет знать, кто он такой.
И никто не будет знать, кто он, пока Уинстон Найлс Румфорд, основатель Церкви Господа Всебезразличного, не провозгласит во всеуслышанье имя Звездного Странника.
Когда Звездный Странник явится, Редуайн должен подать сигнал, трезвоня во все колокола.
Когда раздастся сполошный перезвон колоколов, прихожане должны прийти в дикий восторг, бросить все, чем занимались, и, плача и смеясь, бежать в церковь.
Пожарная бригада Западного Барнстейбла почти вся состояла из прихожан церкви Редуайна, и они должны были подогнать к ней пожарную машину — единственный мало-мальски пригодный для торжественной встречи Звездного Странника экипаж.
В историческое ликование колоколов должно было влиться завывание сирены на пожарной вышке. Одинокий вопль сирены означал пожар в лесу или загорание травы. Цва сигнала — пожар в доме. Троекратное завывание — спасательные работы. А десять сигналов подряд будут возвещать прибытие Звездного Странника.
Вода просачивалась сквозь плохо пригнанную оконную раму. Вода пробиралась под отставшую черепицу на кровле, сочилась из трещины и собиралась блестящими каплями на потолочной балке над головой Редуайна. Бойкий дождик хлестал по колокольне, по старинному колоколу времен Поля Ревира[17], струился — вниз по веревке колокола, — пропитывал деревянную куклу, подвешенную к концу веревки, стекал с ножек куклы, собирался в лужу на выложенном каменными плитами полу церкви.
Кукла была не простая, она имела отношение к культу. Она символизировала отвратительный, давно забытый образ жизни. Называлась кукла МАЛАКИ. Повсюду — в домах и служебных помещениях приверженцев — религии Редуайна — обязательно был подвешен хоть один Малаки.
Вешать Малаки полагалось только определенным образом. Обязательно за шею. И узел был предписан строго: скользящая петля палача.
И капли капали с ножек редуайновского Малаки.
Холодная, капризная весна крокусов осталась позади.
Хрупкая, пронзительно прохладная, волшебная весна нарциссов тоже осталась позади.
Настала весна человечества, и пышные кисти сирени возле церкви Редуайна клонились под собственной тяжестью, как гроздья винограда «конкорд».
Редуайн вслушивался в лепет дождя, и ему чудилось, что дождь говорит старинным чосеровским языком. Он произносил вслух слова, которые слышались ему в говоре струй, словно вторил, не заглушая голос дождя:
Когда Апрель обильными дождями
Разрыхлил землю, взрытую ростками,
И мартовскую жажду утоля, от корня до зеленого стебля,
Набухли жилки той весенней силой[18]…
Капелька, посверкивая, сорвалась с потолочной балки, прочертила мокрый след по левой линзе очков Редуайна и по его круглой, как яблоко, щеке.
Время было милостиво к Редуайну. Он стоял на кафедре, похожий на румяного деревенского мальчишку-почтальона, а ведь ему было сорок девять. Он поднял руку, чтобы смахнуть каплю со щеки, и на запястье у него зазвенела насыпанная в голубой мешочек дробь.
Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и к обеим ногам, а на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины, поддерживаемые лямками.
Эти вериги представляли собой дополнительный вес, назначенный ему в гандикапе жизни.
Редуайн нес дополнительный вес в сорок девять фунтов — и гордился этим. Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому — поменьше. Каждый сильный мужчина в приходе Редуайна принимал свое бремя радостно и носил его с гордостью, на людях и дома.
Самые слабенькие и жалкие были вынуждены, наконец, признать, что скачка жизни организована честно.
Переливчатые мелодии дождя так чудесно отдавались в пустом храме, создавая фон для любой декламации, что Редуайн продолжал говорить. На этот раз он говорил слова, написанные Уинстоном Найлсом Румфордом, Хозяином Ньюпорта.
Редуайн собирался повторить под аккомпанемент дождя слова, которые Хозяин Ньюпорта написал, определяя свое положение по отношению к священнослужителям, их положение по отношению к пастве и положение каждого верующего по отношению к Богу. Редуайн читал это место своей пастве каждое первое воскресенье месяца.
— Я вам не отец, — декламировал Редуайн. — Лучше зовите меня братом. Но я вам не брат. Лучше зовите меня сыном. Но я вам не сын. Лучше зовите меня псом. Но я и не пес ваш. Зовите меня лучше блохой на вашем псе. Но я и не блоха. Лучше зовите меня микробом на блохе, кусающей вашего пса. И я, будучи микробом на блохе вашей собаки, всегда готов служить вам верой и правдой, как и сами вы готовы служить Всевышнему Творцу Вселенной.
Редуайн хлопнул в ладоши, как будто убил блоху, на которой кишели микробы. По воскресеньям все собрание верующих убивало воображаемую блоху, хлопая и унисон.
Еще одна дрожащая капля сорвалась с потолка, опять смочила щеку Редуайна. Редуайн, склонив голову, возблагодарил от всего сердца за каплю, за церковь, за мир, за Хозяина Ньюпорта, за Землю, за Бога, Которому ни до чего Нет Дела, за всех и вся.
Он сошел с кафедры, раскачивая мешочки-бремена на запястьях, так что они торжественно шуршали.
Он прошел по храму, вошел в арку под колокольней. Задержался у лужицы, натекшей с веревки колокола, посмотрел вверх, соображая, откуда могла просочиться вода. Он подумал, какой это славный, милый обычай весеннего дождя — вот так, тайком, пробираться внутрь. И он решил, что, если ему когда-нибудь поручат перестраивать церковь, он непременно оставит лазейку для веселых, пронырливых дождевых капель, проникающих повсюду.
Сразу за аркой внизу колокольни изгибалась вторая арка, арка из темной листвы и гроздьев сирени.
Редуайн вступил под эту вторую арку, заметил космический корабль, похожий на большой пузырь, в щетине леса, увидел голого, обросшего бородой Звездного Странника на церковном кладбище.
Редуайн возопил от радости. Он помчался обратно в церковь и принялся дергать и раскачивать веревку колокола, как пьяный шимпанзе. В сумасшедшем перезвоне колоколов Редуайну слышались слова — по уверению Хозяина Ньюпорта, все колокола твердят одно и то же:
— АДА НЕТ! — звенел-заливался набат.
— АДА НЕТ,
— АДА НЕТ,
— АДА НЕТ!
Дядька колокольный звон напугал до полусмерти. Дядьку звон показался враждебным н полным страха. Он бросился бежать к кораблю и по дороге здорово рассадил голень, карабкаясь через каменную ограду. Задраивая входной люк, он услышал, как в колокольный переполох влился ответный вой пожарной сирены.
Дядек думал, что Земля все еще воюет с Марсом и что колокола и сирена призывают скорую и неизбежную смерть на его голову. Он нажал на кнопку «ВКЛ.».
Автомат-навигатор вместо того, чтобы сразу дать команду «на взлет», принялся впустую и бессмысленно спорить сам с собой. В результате он сам себя выключил.
Дядек снова нажал кнопку «ВКЛ.». На этот раз он прижал ее пяткой и не отпускал.
И снова навигатор тупо препирался сам с собой, потом снова попытался выключиться. Когда это ему не удалось, он стал изрыгать грязно-желтый дым.
Дым становился все гуще, все ядовитей, так что Дядьку пришлось проглотить дышарик и применить шлиманновскую дыхательную методику.
Потом пилот-навигатор издал басовитый, вибрирующий органный звук и навсегда отключился, умер.
Теперь о взлете думать было нечего. Смерть пилота-навигатора означала смерть всего корабля.
Дядек пробрался сквозь клубы дыма к иллюминатору и выглянул.
Он увидел пожарную машину. Машина, ломая кустарник, пробивалась к космическому кораблю. На ней гроздьями висели мужчины, женщины, дети — все, как один, вымокшие до нитки, но радостные и счастливые.
Впереди пожарной машины шествовал преподобный С. Хорнер Редуайн. В одной руке он нес лимонно-желтый комбинезон в пластиковом мешке. В другой — букет только что наломанной сирени.
Женщины посылали воздушные поцелуи Дядьку, выглядывающему в иллюминатор, они поднимали детей, чтобы те посмотрели, какой там чудесный дяденька. А мужчины, не слезая с пожарной машины, громко кричали «ура!» в честь Дядька, в честь друг друга, в честь всего, что попадалось на глаза. Шофер заставил мощный мотор разразиться канонадой выхлопов, включил сирену, а сам трезвонил в колокол.
На каждом человеке висело какое-нибудь бремя. Большинство этих «гандикапов» сразу бросались в глаза — грузила, мешки с дробью, старые печные решетки — все они были рассчитаны на то, чтобы компенсировать физические преимущества. Но кое-кто из прихожан Редуайна — немногие истинные приверженцы новой религии — выбрал себе бремя, не столь бросающееся в глаза, зато куда более эффективное.
Там были женщины, по слепой прихоти судьбы одаренные ужасным преимуществом — красотой. Они расправились с этим непростительным преимуществом — одевались как попало, горбились, жевали резинку и жутко размалевывали лица косметикой.
Один старик, у которого было единственное преимущество — отличное зрение, — испортил себе глаза, пользуясь очками своей жены.
Молодой смуглый брюнет, который был не в силах уничтожить сводившую женщин с ума хищную мужественность ни дрянной одеждой, ни отвратительными манерами, обременил себя женой, которую от секса тошнило.
А жена молодого брюнета, которая вполне могла гордиться своим значком-ключиком общества Фи-Бета Каппа[19], обременила себя мужем, который не читал ничего, кроме комиксов.
Приход Редуайна не был единственным в своем роде, И крайнего фанатизма среди прихожан тоже не замечалось. На Земле жили буквально миллиарды людей, с радостью взваливших на себя какое-нибудь бремя.
Радовались все они оттого, что теперь уже никто не мог быть лучше других. Все были равны.
Тут пожарники выдумали еще один способ выразить свой восторг. Посредине машины был укреплен брандспойт. Его можно было направить куда угодно, как пулемет. Пожарники нацелили его вертикально вверх и пустили воду. К небу устремился пульсирующий, опадающий фонтан: не в силах карабкаться выше, он распадался на струйки, и порывы ветра подхватывали, разбивали эти струйки, относя в сторону. Водяные струи то принимались барабанить по обшивке космического корабля, то падали на головы самих пожарников, то поливали женщин и детей, приводя их в неописуемый восторг.
На празднестве в честь явления Дядька вода сыграла столь важную роль по счастливой случайности. Этого никто не планировал заранее. Но все самозабвенно радовались праздничному изобилию воды, вымочившей всех до одного, — это и было прекрасно.
Преподобный С. Хорнер Редуайн, облепленный промокшей сутаной, чувствовал себя голым, как языческий фавн, и сначала махал букетом сирени перед иллюминатором, а потом прижал к стеклу лицо, сияющее восторженной любовью.
Лицо, глядевшее на Редуайна из корабля, поразительно напоминало физиономию умной обезьяны в зоопарке.
Лоб Дядька бороздили глубокие морщины, а на глаза навернулись слезы от напряженного, безнадежного усилия — понять, что происходит.
Дядек решил не поддаваться страху.
Но впускать Редуайна в корабль он тоже не торопился.
Наконец он подошел к люку, отпер и внутреннюю, и наружную двери шлюзовой камеры. Потом отступил, ожидая, чтобы кто-то толкнул дверь и вошел.
— Погодите — я войду первым и дам ему надеть костюм! — сказал Редуайн своим прихожанам. — А уж потом встречайте его, как хотите, — он ваш!
В космическом корабле Дядек надел комбинезон, и тот прильнул к нему плотно, как слой краски. Оранжевые вопросительные знаки на груди и на спине расправились без единой морщинки.
Дядек еще не знал, что никто в мире, кроме него, не носит таких комбинезонов. Он полагал, что множество людей носит точно такие же костюмы — даже с вопросительными знаками.
— Это — это Земля? — спросил Дядек Редуайна.
— Да, — сказал Редуайн. — Мыс Код, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, Братство Человечества.
— Слава Богу! — сказал Дядек. Редуайн вопросительно поднял брови.
— А за что?
— Простите? — не понял Дядек.
— За что вы его благодарите? — спросил Редуайн. — Ему до вас нет никакого дела. Он и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь вам сюда добраться в целости и сохранности, точно так же, как не сделал ни малейшего усилия, чтобы вас прикончить.
Он воздел руки, и его мускулатура словно воплощала мощь его веры. Дробинки в мешках на его запястьях зашуршали, пересыпаясь, и Дядек обратил внимание на них. Потом его взгляд естественно скользнул с мешков-гандикапов на железную пластину на груди Редуайна, Редуайн, угадав направление взгляда Дядька, приподнял, как бы взвешивая, железную пластину.
— Тяжелая, — сказал он.
— Угу, — согласился Дядек.
— Вам придется носить фунтов пятьдесят, если прикинуть на взгляд, — после того, как мы вас приведем в порядок, — сказал Редуайн.
— Пятьдесят фунтов? — сказал Дядек.
— Вы должны радоваться, а не огорчаться, что на вас возложат такое бремя, — сказал Редуайн. — Тогда уж никто не бросит вам в лицо упрек, что вы, мол, обогнали других по слепой прихоти судьбы.
В его голосе зазвучали красноречиво-грозные нотки, которые не часто звучали в нем после самых ранних дней становления Церкви Бога Всебезразличного, славных дней, когда люди толпами обращались в его веру после войны с Марсом. В те времена Редуайн, как и все другие проповедники новой веры, пугал неверующие праведным гневом толп — праведным гневом толп, которых тогда просто не было.
Но зато теперь толпы, полные праведного гнева, существовали повсюду на земном шаре. Число приверженцев Церкви Бога Всебезразличного составляло внушительную цифру — целых три миллиарда. Юные львы некогда бывшие первыми апостолами нового вероисповедания; отныне могли смириться и превратиться в агнцев, созерцающих восточные мистерии, вроде капель падающих с веревок от колокола. Рука Церкви повсюду властно правила толпами людей.
— Предупреждаю вас, — сказал Редуайн Дядьку, — когда выйдете к людям, не вздумайте даже невзначай намекнуть на то, что Бог к вам как-то особенно относится или что вы хоть на что-то можете пригодиться Богу. Хуже ничего не придумаешь, чем сказать что-то в таком роде: «Слава Богу за то, что избавил меня от всех бед. По какой-то причине Он сделал меня своим избранником, и теперь я желаю только одного — служить Ему».
— Эта восторженная толпа, — продолжал Редуайн, — может в мгновение ока стать очень опасной толпой, и тут уж никакие добрые предзнаменования, никакие пророчества вас не спасут.
Дядек как раз собирался сказать почти дословно то, что Редуайн не советовал ему говорить.
— А что же — что же мне говорить? — спросил Дядек.
— В пророчестве указано все, что вы должны сказать, до последнего слова. Я долго и глубоко обдумывал слова, которые вам предстоит сказать, и убедился, что лучше сказать нельзя.
— Но мне никакие слова в голову не идут — разве что «здравствуйте» и «спасибо»… — сказал Дядек. — Вы-то что хотите от меня услышать?
— То, что вы скажете, — сказал Редуайн. — Славные люди, собравшиеся здесь, повторяли эти слова, готовясь к встрече, сотни раз. Они зададут вам два вопроса, и вы ответите им, как сумеете.
Он вывел Дядька наружу через люк. Фонтан на пожарной машине заглушили. Крики замерли, танцы прекратились.
Паства Редуайна выстроилась, полукругом вокруг Дядька и Редуайна. Все, как один, сделали глубокий вздох и сжали губы.
Редуайн подал священный знак.
Толпа выдохнула, как один человек:
— Кто вы? — спросили они.
— Я… Я не помню свое настоящее имя, — сказал Дядек. — Меня звали Дядек.
— Что с вами произошло? — крикнула толпа. Дядек растерянно покачал головой. Он никак не мог найти слова, подходящие к такому торжественному случаю, чтобы кратко изложить свои приключения. От него ждали великих откровений. А он не находил в себе ни капли величия. Он шумно вздохнул, чтобы толпе стало понятно, как он стыдится своей будничной серости.
— Я жертва цепи несчастных случайностей, — сказал он. И, пожав плечами, добавил: — Как и все мы.
Толпа разразилась приветственными криками и закружилась в танце.
Дядька втащили на борт пожарной машины и повезли к дверям церкви.
Редуайн благостным жестом показал на вырезанный из дерева развернутый свиток, помещенный над воротами храма. На свитке сияли золотом резные слова:
Я ЖЕРТВА ЦЕПИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ, КАК И ВСЕ МЫ.
Прямо от ворот церкви Дядька доставили на пожарной машине в Ньюпорт, Род-Айленд, где ожидалась очередная материализация.
По разработанному заблаговременно, несколько лет назад, плану, пожарные машины Мыса Код подтянули поближе к Западному Барнстейблу, для подстраховки на время отсутствия тамошней пожарной машины.
Весть о явлении Звездного Странника пронеслась по Земле, как лесной пожар. Во всех деревушках, городках и крупных городах, лежавших на пути пожарной машины, Дядька засыпали цветами.
Дядек восседал высоко — высоко, на еловом брусе два на шесть футов размером, переброшенном через борта посередине кузова. А в самом кузове ехал. преподобный С. Хорнер Редуайн.
Редуайн завладел веревкой пожарного колокола и названивал в него, не покладая рук. К языку колокола был подвешен Малаки из пластика повышенной прочности. Эта кукла была особенная, такую можно было купить только в Ньюпорте. Видя такого Малаки, каждый сразу понимал, что его владелец совершил паломничество в Ньюпорт.
Паломничество в Ньюпорт Добровольная пожарная Бригада Западного Барнстейбла совершила в полном составе, за исключением двух нонконформистов. Малаки, подвешенный на пожарном колоколе, был приобретен на средства Пожарного Надзора.
На жаргоне лотошников, торгующих сувенирами, Малаки из особо прочного пластика, принадлежащий Пожарному Надзору, был «самый что ни на есть доподлинный, натуральный, государственный Малаки».
Дядек был совершенно счастлив — как чудесно вновь оказаться среди людей, снова дышать воздухом. И все встречали его с такой любовью.
Кругом был такой замечательный шум. Кругом было столько всего замечательного. И Дядек надеялся, что все замечательное теперь останется с ним навсегда.
— Что с вами произошло? — громко кричали ему все люди, и все хохотали.
Для удобства общения с такой массой народа Дядек подсократил фразу, так восторженно встреченную небольшой толпой перед Церковью Звездного Странника.
— Несчастья! — орал он.
Он смеялся во весь голос.
Вот это жизнь!
Какого черта! И он смеялся.
Поместье Румфордов в Ньюпорте было уже восемь часов забито до отказа. Охрана не пускала тысячную толпу к маленькой дверце в стене. Но охрана была практически не нужна — толпа стояла от стены к стене, спрессованная в единый монолит.
В нее не смог бы втиснуться и намыленный угорь.
Тысячи паломников, оставшиеся за стенами, старались, не нарушая благочестия, пробраться поближе к громкоговорителям, укрепленным по углам, на стенах.
Из рупоров будет слышен голос Румфорда.
Толпа была самая громадная и самая наэлектризованная из всех толп, потому что настал давно обетованный Великий День Звездного Странника.
Повсюду бросались в глаза бремена, самые хитроумные и чрезвычайно эффективные. Толпа производила отрадное впечатление сплошной серости и крайней обремененности.
Би, подруга Дядька с Марса, тоже была в Ньюпорте. С ней был и сын ее от Дядька, Хроно.
— Эгей! Покупайте самых что ни на есть доподлинных, натуральных, государственных Малаки только у нас, — хрипло выкрикивала Би. — Покупайте у нас! А вот Малаки, будете махать Звездному Страннику! — говорила Би. — Берите Малаки, Звездный Странник благословит их, когда придет!
Она сидела в ларьке, лицом к железной дверце в стене румфордовского имения в Ньюпорте. Ларек Би был первым в ряду из двадцати ларьков, вытянувшихся напротив дверцы. Все двадцать были подведены под общую односкатную крышу, а друг от друга отделялись перегородками по пояс высотой.
Би торговала пластиковыми куклами-Малаки, у которых ручки и ножки гнулись в суставах, а глаза были хрустальные. Би покупала их на оптовом складе предметов культа по двадцать семь пенсов за штуку, а продавала по три доллара. Она отлично вела торговое дело.
Ее житейская хватка и яркая внешность — то, что было видимо миру, — не шли ни в какое сравнение с невидимым миру величием, которое и помогало ей бойко распродавать товар. Сначала паломники замечали карнавальную яркость Би, но подойти к ларьку н раскошелиться их заставляла ее аура. Это невидимое излучение окутывавшее ее, яснее слов говорило о том, что Би родилась для более высокой и благородной жизни и она просто молодчина: не сдается, попав даже в такую передрягу.
— Эй! Покупайте Малаки, пока не поздно, — говорила Би. — Начнется материализация — Малаки не получите!
Она говорила правду. По предписанию все торговцы были обязаны закрыть ставни своих ларьков за пять минут до материализации Уинстона Найлса Румфорда и его пса. И ставни должны были оставаться закрытыми еще десять минут после того, как от Румфорда с Казаком и след простынет.
Би обернулась к своему сыну, Хроно, вскрывавшему новый ящик с Малаки.
— Сколько до свистка? — спросила она. Она имела в виду мощную паровую сирену, установленную в парке за стеной поместья. Сирена начинала свистеть за пять минут до материализации.
Самый момент материализации возвещал выстрел из трехдюймовой пушки.
А дематериализация отмечалась взлетом целой тучи детских воздушных шариков.
— Восемь минут, — сказал Хроно, взглянув на свои часы.
Ему исполнилось одиннадцать по земному счету. Он был смуглый, и в его черных глазах горела затаенная злоба и ненависть.
Обсчитывать он умел виртуозно, да и в картах ему всегда подозрительно везло. Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим шестидюймовым лезвием. Хроно не ладил с другими детьми, и о нем шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам.
Ньюпортовское полицейское управление и отделение полиции Род-Айленда внесли Хроно в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше чем с пятьюдесятью инспекторами по уголовным делам — знал их по именам — и выдержал четырнадцать тестов на детекторе лжи, как истинный ветеран.
Хроно давно угодил бы в исправительное заведение, если бы не самая лучшая коллегия адвокатов — коллегия при Церкви Господа Всебезразличного. По приказу Румфорда эта коллегия защищала Хроно против любых обвинений.
Чаще всего Хроно привлекался к ответственности за мошенничество и шулерство, ношение запрещенного оружия, владение незарегистрированными револьверами, стрельбу в черте города, продажу порнографических открыток и других предметов и вообще как особо трудный ребенок.
Официальные власти горько сетовали на мать мальчика, обвиняя во всем ее. Мать просто любила его — такого, как он есть.
— Эй, люди, осталось всего восемь минут, покупайте Малаки, пока не поздно, — сказала Би. — Берите, берите, не зевайте!
Верхние передние зубы у Би был золотые, а кожа, как и у Хроно, напоминала цветом золотистый дуб.
Передние зубы Би потеряла, когда космический корабль, в котором они прилетели с Марса, потерпел крушение над амазонскими джунглями, в районе Гумбо. Она и Хроно — единственные, кто уцелел после катастрофы, — целый год скитались по джунглям.
Цвет кожи у Би и Хроно изменился на всю жизнь из-за стойких изменений в печени, А стойкие изменения в печени у них наступили после того, как они три месяца просидели на особой диете — ничего, кроме воды и корней сальпа-сальпа, или амазонского голубого тополя. Эта диета входила в ритуал посвящения Би и Хроно в члены племени Гумбо.
Ритуал посвящения заключался в том, что мать и сына привязали к кольям посреди деревни, причем Хроно олицетворял Солнце, а Би олицетворяла Луну — конечно, в представлении племени Гумбо.
После всего пережитого Би и Хроно были друг другу ближе, чем обычно бывают мать и сын.
В конце концов их спасли — вывезли на вертолете. Уинстон Найлс Румфорд послал вертолет точно в определенное место и в точно определенный момент.
Уинстон Найлс Румфорд дал на откуп Би и Хроно процветающую торговлю куклами-Малаки у самой дверцы из «Алисы в стране чудес». Он также оплатил счет у зубного протезиста и настоял, чтобы Би вставили золотые зубы.
Соседний ларек занимал Гарри Брэкман. Он был сержантом на Марсе, командовал взводом Дядька. Брэкман растолстел и начинал лысеть. У него была пробковая нога и протез из нержавеющей стали вместо правой руки. Ногу и руку он потерял в битве при Бока Ратон. Он был единственным, кто остался в живых, — и, если бы не тяжелейшие ранения, его бы непременно линчевали заодно с остальными солдатами взвода, взятыми в плен.
Брэкман торговал пластмассовыми моделями фонтана в парке. Модели были в фут высотой. В их цоколях были запрятаны насосики, работавшие от пружинного завода. Насосы подавали воду из большой чаши вверх, к маленьким чашечкам. Маленькие чашечки переполнялись, вода стекала в чашечки побольше, потом…
Брэкман запустил сразу три фонтанчика на прилавке.
— Точь-в-точь как там, за стенкой, можете мне поверить, — говорил он. — Берите, везите домой. Поставите его в окне и все соседи будут знать, что вы побывали в Ньюпорте. А для детишек на день рождения можете водрузить его посреди стола и налить туда розовый лимонад.
— Сколько просите? — спросил приезжий фермер.
— Семнадцать долларов, — ответил Брэкман.
— Ух ты! — крякнул фермер.
— Это же всенародная святыня, братец, — сказал Брэкман, невозмутимо глядя в глаза деревенщине. — Это тебе не игрушка. — Он наклонился, вынул из-под прилавка модель марсианского космического корабля. — Тебе игрушка нужна? Вот тебе игрушка. Сорок девять центов. Я на ней всего два цента зарабатываю.
Фермеру хотелось показать, какой он разборчивый покупатель. Он стал сравнивать модель с оригиналом. который она изображала. Оригинал модели — марсианский космический корабль — лежал на верхушке колонны высотой в девяносто восемь футов. Колонна с космическим кораблем находилась в поместье Румфордов — в углу, на месте теннисных кортов.
Румфорд пока еще не объяснил, для чего здесь космический корабль, на постройку пьедестала, под который пошли деньги, собранные школьниками всего мира по пенсу. Корабль был готов стартовать в любую минуту. К колонне была приставлена самая длинная, как говорили, приставная лестница в истории человечества. Это был шаткий, головокружительный путь к люку космического корабля.
В аккумуляторе космического корабля находились последние поскребыши марсианского военного запаса Всемирного Стремления Осуществиться.
— Угу, — сказал фермер. Он поставил модель обратно на прилавок. — Вы уж извините, я тут еще похожу, приценюсь.
Пока что он купил только шапочку, как у Робин Гуда, с портретом Румфорда на одной стороне и парусной яхтой — с другой, а на пере было вышито его собственное имя. Если верить надписи, его звали Делберт.
— Спасибо вам, — сказал Делберт. — Может, я еще вернусь.
— Не, сомневаюсь, Делберт, — сказал Брэкман.
— А откуда вы знаете, что меня зовут Делберт? — подозрительно спросил польщенный Делберт.
— Ты думаешь, тут только один Уинстон Найлс Румфорд владеет сверхъестественными способностями? — сказал Брэкман.
За стеной взвилось облачко пара. Мгновенье спустя над ларьками прокатился вой мощной паровой сирены — оглушительный, горестный, торжествующий. Этот сигнал означал, что Румфорд и его пес материализуются ровно через пять минут.
Это был сигнал для торговцев — прекратить зазывать покупателей, беспардонно расхваливая свои дешевые поделки, закрыть рты, захлопнуть ставни.
Ставни сразу захлопнулись.
При закрытых ставнях ряд ларьков превратился в полутемный туннель.
В этом сумрачном туннеле всегда воцарялась особая, замогильная жуть — еще и потому, что сидели там только выходцы с Марса, случайно оставшиеся в живых. Румфорд приказал, чтобы марсианам было предоставлено право в первую очередь получить концессии для торговли в Ньюпорте. Таким своеобразным способом он говорил им «спасибо».
В живых осталось немного — всего пятьдесят восемь человек в Соединенных Штатах, всего сто шестнадцать во всем мире.
Из пятидесяти восьми марсиан, живущих в Соединенных Штатах, двадцать один занимался мелочной торговлей в Ньюпорте.
— Ну, поехали-покатились, ребятишки! — сказал кто-то далеко-далеко, в самом дальнем конце ряда. Это был голос слепого, который торговал робингудовскими шапочками с портретами Румфорда па одной стороне н парусной яхтой — на другой.
Сержант Брэкман оперся, скрестив руки, па перегородку, отделявшую его ларек от ларька Би. Он подмигнул юному Хроно, который разлегся на вскрытом ящике с Малаки.
— Ну и катитесь к чертовой матери, верно, малыш? — сказал Брэкман Хроно.
— К чертовой матери, — откликнулся Хроно. Он чистил ногти странно изогнутой, просверленной и зазубренной металлической полоской. На Марсе она была его талисманом. На Земле она по-прежнему оставалась его талисманом.
Как знать, может быть, этот талисман спас жизнь Би и Хроно в джунглях. Туземцы из племени Гумбо почувствовали в этом кусочке металла неимоверную магическую силу. Преклоняясь перед этой силой, они приняли владельцев талисмана в племя, хотя вообще-то их полагалось съесть.
Брэкман ласково усмехнулся.
— Знай наших — вот настоящий марсианин, господа! — сказал он. — Лежит себе на ящике с Малаки и не подумает встать, взглянуть на Звездного Странника.
Не один Хроно проявлял полное безразличие к Звездному Страннику. Всеми владельцами ларьков был принят гордый и вызывающий обычай — не участвовать в церемониях, оставаться в полутьме туннеля, каждый в своем ларьке, пока Румфорд и его псина являются и пропадают.
Не то чтобы лавочники и вправду презирали румфордовскую веру. Большинство даже считало, что эта новая религия, должно быть, очень даже неплохая штука. Но, демонстративно оставаясь в запертых ларьках, они давали понять, что, как марсианские ветераны, сделали больше чем достаточно для того, чтобы Церковь Господа Всебезразличного утвердилась и вошла в силу.
Они демонстративно показывали всем, что фактически отдали жизнь за это дело.
И Румфорд поддерживал их — говорил о них с любовью: «Святые солдаты там, перед дверцей в стене. Их равнодушие — тяжкая рана, которую они приняли, чтобы мы стали еще жизнерадостней, еще богаче чувствами, еще свободней».
Марсиане-торговцы противостояли великому искушению хоть одним глазком взглянуть на Звездного Странника. На стенах поместья Румфордов были установлены громкоговорители, так что каждое слово, сказанное Румфордом, гремело во всеуслышание на четверть мили в окружности. Эти слова вновь и вновь возвещали великое торжество правды, которое настанет с явлением Звездного Странника.
Истинно верующие с трепетом, в сладком предвкушении, готовились к этой великой минуте, великой минуте, когда все истовые приверженцы новой веры почувствуют, что вера их десятикратно умножилась, засияла, наполнилась жизнью.
И вот наступила эта минута.
Пожарная машина, доставившая Звездного Странника от самых дверей Церкви Звездного Странника па мысе Код, под звон колокола и истерические вопли пожарной сирены уже проезжала мимо ряда ларьков.
Тролли не желали выглядывать из сумрачного туннеля.
Внутри, за стеной, рявкнула пушка.
Это значит, что Румфорд со своим псом материализовался — а Звездный Странник уже входит в дверцу из «Алисы в стране чудес».
— Наверное, какой-нибудь безработный актеришка из Нью-Йорка, которого он нанял, — сказал Брэкман.
Никто не сказал в ответ ни слова — даже Хроно, который считал себя главным циником торгового ряда. Да и сам Брэкман не принимал свои слова всерьез не считал, что Звездный Странник — наемный статист. Все нынешние торговцы на собственной шкуре испытали румфордовское пристрастие к реализму. Когда Румфорд ставил мистерию страстей, он использовал только настоящих людей — в настоящем адском пекле.
Позвольте мне обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя Богом или даже каким-то подобием Бога.
Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Морис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка, или Три миллиарда одураченных» пишет:
«Уинстон Найлс Румфорд-межзвездный Фарисей, Тартюф и Калиостро — все же потрудился объявить, что он не Господь Вседержитель, даже не близкий родственник Господа Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от Господа Вседержителя не получал. На эти слова Хозяина Ньюпорта мы можем сказать только одно: аминь! И да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа Вседержителя, что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом Вседержителем!»
Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело расцвечивая разговор забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилям.
Но теперь, когда Румфорд и Звездный Странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно.
Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана. Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему недоставало ее сигналов.
— ПРИВЕДИТЕ КО МНЕ ЗВЕЗДНОГО СТРАННИКА! — прогремел голос Румфорда из труб архангельских на стенах поместья.
— А может — может, пойдем, посмотрим? — сказал Брэкман Би.
— Что? — еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены. Казалось, она заледенела.
Ее всегда била дрожь, когда начиналась материализация.
Хроно неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сиянье в холодном металле, на ореол вокруг пальца.
— Пусть катятся к черту — верно, Хроно? — сказал Брэкман.
Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. В битве при Тоддингтоне, в Англии, деревенская тетка подколола его вилами и бросила, сочтя мертвым.
«Международная комиссия по установлению личности и трудоустройству марсиан» с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц как Бернарда К. Уинслоу, странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц.
— Премного благодарен за информацию, — сказал Уинслоу комиссии. — А то я чувствовал себя каким-то потерянным.
Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Дж. Томсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу в Форте Брэгг, Северная Каролина, США.
Би доставила комитету много хлопот. Отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо Дарлин Симпкинс, некрасивая одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас.
А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие ошметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона С. Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста смотрителя платной уборной в Нью-йоркском аэропорту… как Арлин Хеллер, помощницу диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Дейтоне, штат Огайо… как Кришну Гару, наборщика, которого до сих пор разыскивали по обвинению в двоеженстве, сводничестве и за оставление без помощи семьи в Калькутте, Индия… как Курта Шнайдера, тоже алкоголика, заведующего прогоревшим бюро путешествий в Бремене, Германия.
— Этот всемогущий Румфорд… — сказала Би.
— Простите, не понял? — сказал Брэкман.
— Он вырвал нас из жизни, — сказала Би. — Он усыпил нас. Он выскреб нашу память, как будто это тыква, из которой надо сделать фонарь. Он превратил нас в роботов с дистанционным управлением, он нас муштровал, гонял — он всех нас предал всесожжению за правое дело. — Она пожала плечами.
— А добились бы мы чего-нибудь получше, если бы он нас не трогал и мы жили бы сами по себе? — сказала Би. — Достигли бы мы чего-то большего — или меньшего? Я, пожалуй, даже рада, что он пустил меня в дело. Пожалуй, он лучше знал, что со мной делать, чем Флоренс Уайт или Дарлин Симкинс, или кто там еще — чем бы я ни была раньше.
— Но я все равно его ненавижу, — сказала Би.
— Это ваше право, — сказал Брэкман. — Он сам сказал, что это право н привилегия каждого марсианина.
— Одно только есть утешение, — сказала Би. — Мы все — конченные люди. Больше мы ему ни на что не сгодимся.
— Добро пожаловать, Звездный Странник, — проблеял масляно-маргариновый тенор Румфорда из архангельских труб на стенах. — Как подобает случаю то, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды! Я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина. Скажите мне, Звездный Странник — видите ли вы здесь что-нибудь — что-нибудь, напоминающее вам, что вы уже когда-то здесь побывали?
Звездный Странник пробормотал что-то нечленораздельное.
— Громче, прошу вас, — сказал Румфорд.
— Фонтан — я помню этот фонтан, — неуверенно сказал Звездный Странник. — Только — только…
— Что «только»? — спросил Румфорд.
— Он был тогда сухой — только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды, — сказал Звездный Странник.
Тут на репродукторы через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана, так что журчанье, плеск и кипенье струй фонтана стало фоном для голоса Звездного Странника.
— Еще что-нибудь знакомое видите, о Звездный Странник? — сказал Румфорд.
— Да, — смущенно сказал Звездный Странник. — Вас.
— Меня? — высокомерно переспросил Румфорд. — Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни?
— Я вас видел на Марсе, — сказал Звездный Странник. — Я видел там человека с собакой — это были вы. Перед самым запуском.
— А что было после запуска? — спросил Румфорд.
— Что-то не сработало, — сказал Звездный Странник. Он говорил извиняющимся тоном, как будто сам был виновником цепи свалившихся на него несчастий. — Сразу много чего не сработало.
— А вам никогда не приходило в голову, — спросил Румфорд, — что все сработало, и в точности так, как надо?
— Нет, — простодушно ответил Звездный Странник. Эта мысль его не напугала — не могла напугать — она была слишком непостижима для его философии военного образца.
— А вы смогли бы узнать свою жену и сына? — спросил Румфорд.
— Я… не знаю, — ответил Звездный Странник.
— Приведите сюда женщину с мальчишкой, которые продают Малаки перед железной дверцей, — приказал Румфорд. — Приведите Би и Хроно.
Звездный Странник, Уинстон Найлс Румфорд и Казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз стоящей вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собой висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков и эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков.
Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье.
Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было. Просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом.
Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы.
На случай ночных материализации все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона.
Звездный Странник был всего лишь тридцать первым гостем, которого Румфорд пригласил подняться наверх.
И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали Малаки — за тридцать вторым и тридцать третьим гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести.
Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший. И хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо.
Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный высокомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке-удавке своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней — пес явно невзлюбил Звездного Странника.
Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет ради людей, — и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно.
На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак.
Сейчас монетка как раз была зажата в кулаке — он подшучивал над Звездным Странником, и толпе, во избежание смуты, не полагалось слушать эти шуточки.
— Вы настоящий герой дня, не правда ли? — говорил Румфорд. — С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает. А вы толпу обожаете?
Нечаянные радости этого дня настолько ошеломили Звездного Странника, что он словно впал в детство — в этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую, нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств, и сейчас он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним.
— Они такие чудесные, — ответил он Румфорду. — Такие славные люди.
— О, компания славная, что и говорить, — подхватил Румфорд. — Я как раз ломал голову, пытался подобрать верное слово, а вы принесли мне его из глубин космоса. Славные — вот именно, славные.
Румфорд явно думал о чем-то другом. Звездный Странник его не интересовал — он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына Звездного Странника тоже его не особенно занимало.
— Ну где они, где они? — спросил Румфорд у ассистента, стоявшего внизу. — Не затягивайте, пора кончать.
Звездный Странник был в таком блаженном, приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным.
Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии, и счел за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще.
Не то чтобы в голове Звездного Странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна, идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние.
Этот внезапный поворот колеса фортуны стал поводом для всенародного торжества. Звездный Странник улыбался, разделяя восторг толпы, — словно и сам был там, в толпе, охваченный восторгов.
Румфорд читал мысли Звездного Странника.
— Имейте в виду, что они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот, — сказал он.
— Наоборот? — сказал Звездный Странник.
— Если бы началось с неслыханно щедрого воздаяния, а затем настал черед неслыханных страданий, — сказал Румфорд. — Их радует контраст. Порядок событий их не интересует. Перевороты — вот что они обожают…
Румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти Би и Хроно, уже вознесенных на высоту золоченых переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад.
— Прошу, прошу сюда. У нас не так уж много времени, — торопил их Румфорд, как классная дама.
Наступило недолгое затишье, и Звездный Странник впервые успел по-настоящему обрадоваться, подумать о том, как хорошо ему будет жить на Земле. Кругом такие добрые, восторженные и мирные люди — значит, на Земле можно жить не просто хорошо, а замечательно.
Звездному Страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе и вот-вот ему вернут жену и сына.
Для полного счастья не хватало только лучшего друга, и Звездный Странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг, Стоуни Стивенсон, затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти.
Звездный Странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз.
— Дядек, чертяка ты этакий, — прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями, — да я же все злачные места на этой чертовой Земле облазил, — все обшарил, провалиться мне на этом месте, а ты-ты, оказывается, проторчал все это чертово время на Меркурии, сукин ты сын!
Когда Би и Хроно подошли к тому месту, где стояли Румфорд и Звездный Странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность. Но благодаря системе золоченых подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих, и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами.
Да, это был поистине великий театр, что бы ни говорил язвительный доктор Морис Розенау (ор. cit.)[20].
«Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона Найлса Румфорда, танцующего среди своих золоченых трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговейно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут — чух-чух-чух — ныряют в картонные туннели, пробегают по спичечным эстакадам через городки из папье-маше и снова ныряют в картонные туннели. Интересно, вынырнет ли игрушечный поезд — или Уинстон Найлс Румфорд-чух-чух-чух! — с другого конца? О, mirable dictu![21] Вон он, глядите!»
С помоста перед особняком Румфорд перебрался на ступенчатый мостик, переброшенный аркой над живой изгородью-боскетом. Мостик кончался трехметровым балкончиком, примыкавшим к стволу медного бука. Медный бук имел четыре фута в диаметре. К стволу крепились на болтах вызолоченные ступеньки.
Румфорд привязал Казака к нижней ступеньке, полез вверх, как Джек из детской сказки по бобовому побегу, и скрылся из глаз.
Он заговорил откуда-то из глубины кроны.
Но его голос доносился не с дерева, а из архангельских труб, торчавших на стенах.
Толпа оторвалась от созерцания густой кроны, все вперили глаза в ближайшие громкоговорители.
Только Би, Хроно и Звездный Странник все еще смотрели вверх, туда, где находился сам Румфорд. И вовсе не потому, что они были разумнее других, а просто от смущения. Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга.
Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече.
Би не понравился тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак в исподнем белье лимонно-желтого цвета. Она мечтала о высоком, насмешливом, дерзком бунтаре.
Хроно с первого взгляда возненавидел этого бородача, которыми грозил нарушить его тонкие, особенные отношения с матерью. Хроно поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю.
А сам Звездный Странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца пожелать, чтобы мать и сын — темнокожие, озлобленные — стали его семьей.
Совершенно случайно Звездный Странник взглянул прямо в глаза Би, точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать.
— Как поживаете? — сказал Звездный Странник.
— Как вы поживаете? — ответила Би.
И оба снова стали смотреть вверх, в гущу листвы.
— О мои счастливые, обремененные братья, — зазвучал голос Румфорда, — возблагодарим Господа Бога — Господа Бога, которому наши хвалы так же нужны и приятны, как великой Миссисипи — дождевая капелька, — за то, что мы не такие, как Малаки Констант.
У Звездного Странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном вызолоченном висячем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножия самой длинной на Земле свободно стоящей приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена.
Звездный Странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного на верху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце.
Звездный Странник снова окинул взглядом толпу. Может, Стоуни Стивенсон все же прячется где-то в толпе. Может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному, задушевному другу с Марса.
Мы ненавидим малаки константа за то…
«Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни».
Вот что говорилось в проповеди дальше:
— Мы презираем Малаки Константа за то, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — что все фантастические богатства, плод своего фантастического везения, он тратил только на то, чтобы непрестанно доказывать всему миру, что человек — просто свинья. Он окружил себя прихлебателями и льстецами. Он окружил себя падшими женщинами. Он с головой окунулся в разврат, пьянство, наркоманию. Он погряз во всех порочных наслаждениях, какие только можно себе представить.
— Пока ему так сказочно везло, Малаки Констант стоил больше, чем штаты Юта и Северная Дакота, вместе взятые. И все же я утверждаю, что в те времена нравственных принципов у него было меньше, чем у самой мелкой, самой вороватой полевой мышки в любом из этих штатов.
— Мы возмущены Малаки Константом, — вещал Румфорд с вершины дерева, — потому что он ничем не заслужил свои миллиарды, а еще потому, что он не тратил их ни на творчество, ни на помощь другим — только на себя. Он был так же человеколюбив, как Мария-Антуанетта, а творческого духа в нем было столько же, сколько в инструкторе-косметологе при похоронном бюро.
— Мы ненавидим Малаки Константа, — говорил Румфорд с вершины дерева, — за то, что он принимал фантастические плоды своего сказочного везенья, как нечто само собой разумеющееся, как будто удача — это перст Божий. Для нас, паствы Церкви Господа Всебезразличного, самое жестокое, самое опасное, самое кощунственное, до чего может докатиться человек, — это уверенность, что счастье или несчастье — перст Божий!
— Счастье или несчастье, — провозгласил Румфорд с вершины дерева, — вовсе не перст Божий!
— Счастье, — сказал Румфорд с вершины дерева, — это ветер, крутящий горсточку праха, — эоны спустя после того, как Бог прошествовал мимо.
— Звездный Странник! — воззвал Румфорд сверху, из кроны дерева.
Звездный Странник отвлекся и слушал плохо. Ему не удавалось долго сосредоточивать свое внимание на чем-то — то ли он слишком долго жил в пещерах, то ли слишком долго жил на дышариках, а может, слишком долго служил в Марсианской Армии.
Он любовался облаками. Они были такие красивые, а небо, в котором плыли облака, радовало взгляд изголодавшегося по всем цветам радуги Звездного Странника чудесной голубизной.
— Звездный Странник! — снова окликнул его Румфорд.
— Эй, вы, в желтом, — угрюмо сказала Би. Она толкнула его локтем в бок. — Проснитесь.
— Простите? — сказал Звездный Странник.
Звездный Странник встал по стойке «смирно».
— Да, сэр? — крикнул он, глядя в зеленую листву над головой. Он откликнулся разумно, бодро, с приятностью. Прямо перед ним закачался опустившийся откуда-то микрофон.
— Звездный Странник! — повторил Румфорд, уже успевший рассердиться, — ведь плавный ход представления был нарушен.
— Здесь, сэр! — крикнул Звездный Странник. Громкоговорители оглушительно усилили его голос.
— Кто вы такой? — спросил Румфорд. — Как ваше настоящее имя?
— Я своего настоящего имени не знаю, — сказал Звездный Странник. — Меня все звали Дядек.
— А что с вами было до того, как вы вернулись на Землю, Дядек? — спросил Румфорд.
Звездный Странник просиял. Ему подали реплику, и он знал простой ответ, услышав который па Мысе Код все начали смеяться, танцевать, распевать песни.
— Я — жертва цепи несчастных случайностей, как и все мы, — сказал он.
На этот раз никто не смеялся, не танцевал и не пел, но присутствующим явно пришлись по душе слова Звездного Странника. Головы высоко поднялись, глаза широко раскрылись, ноздри раздувались. Но никто не кричал, потому что всем хотелось услышать все, что скажут Румфорд и Звездный Странник, до последнего словца.
— Жертва цепи несчастных случайностей, вот как? — сказал Румфорд сверху, из кроны дерева. — А какую из этих случайностей вы назвали бы самой значительной?
Звездный Странник наклонил голову набок.
— Надо подумать, — сказал он.
— Я вас избавлю от труда, — сказал Румфорд. — Самое главное несчастье, которое с вами стряслось, — то, что вы родились на свет. А не хотите ли, чтобы я вам сказал, как вас назвали, когда вы родились на свет?
Звездный Странник замялся на мгновение, испугавшись, что испортит так прекрасно начавшуюся карьеру героя торжеств и празднеств каким-нибудь неверным словом.
— Пожалуйста, скажите, — отозвался он.
— Вас назвали Малаки Констант, — объявил Румфорд с вершины дерева.
Если толпа вообще может быть до какой-то степени хорошей, толпу, собравшуюся в Ньюпорте ради Уинстона Найлса Румфорда, можно назвать хорошей толпой. Они не превращались в неуправляемое многоголовое чудище. Каждый сохранял свою личность, свою совесть, и Румфорд никогда не призывал их действовать заодно — и уж, конечно, не ждал от них ни дружных аплодисментов, ни издевательских криков и свиста.
Когда до всех постепенно дошло, что Звездный Странник — тот самый презренный, возмутительный, ненавистный Малаки Констант, люди в толпе восприняли это каждый по-своему, спокойно, с затаенной грустью — и почти все ему сочувствовали. Ведь это на их совести, на совести в общем порядочных людей, лежало то, что они повсюду символически вешали Константа — вешали его изображения и дома, и на работе. И хотя куколок — Малаки они вздергивали не без удовольствия, почти никто не считал, что Констант из плоти и крови заслуживает казни через повешение. Куколок вешали так же беззлобно, как обрезали лишние ветки с новогодней елки или прятали пасхальные яйца.
Румфорд со своей древесной кафедры ни одним словом не пытался отнять у него их сочувствие.
— С вами произошло несчастье совсем особого рода, мистер Констант, — сочувственно, даже с симпатией сказал Румфорд. — Вы послужили живым символом заблудшего грешника для громадной религиозной секты.
— Как символ вы для нас не так уж интересны, мистер Констант, — продолжал он, — но все же вы тронули наши сердца, хотя бы отчасти. Мы сердечно сочувствуем вам — ведь все ваши вопиющие прегрешения — лишь извечные заблуждения, свойственные человеку.
— Через несколько минут, мистер Констант, — говорил Румфорд со своей вершины, — вы пройдете по мостикам и пандусам к той длинной золотой лестнице, а потом подниметесь по этой лестнице, войдете в космический корабль и полетите на Титан, теплый и плодородный спутник Сатурна. Там вы будете жить в покое и безопасности, но все же как изгнанник с вашей родной Земли.
— И вы сделаете все это по доброй воле, мистер Констант, чтобы Церковь Господа Всебезразличного вечно помнила и переживала драму благородного самопожертвования.
— Нам принесет духовную радость одна мысль о том, — говорил Румфорд ее своей вершины, — что вы унесли с собой и ошибочное понимание счастья и несчастья, и самую память как о богатстве и власти, употребленных всуе, так и о всех ваших постыдных и грешных развлечениях.
Человек, который был Малаки Константом, был Дядьком, был Звездным Странником, человек, который снова стал Малаки Константом, — этот человек почти ничего не почувствовал, когда его назвали Малаки Константом. Вполне возможно, что он успел бы испытать какие-то чувства, достойные упоминания, если бы Румфорд построил свой сценарий иначе. Но Румфорд сообщил ему о тяжких испытаниях, которые его ждут, почти сразу же после того, как объявил его настоящее имя. Предстоящие Малаки Константу ужасные испытания требовали напряженного, пристального внимания.
Эти страсти должны были начаться не годы, не месяцы и не дни спустя, а спустя считанные минуты. Так что Малаки Констант, как любой приговоренный к наказанию преступник, отрешился от всего другого, принялся прилежно изучать то орудие кары, которое послужит реквизитом в сцене под занавес с его участием.
Как ни странно, больше всего он беспокоился о том, как бы не споткнуться; если он начнет думать о каждом шаге вместо того, чтобы просто идти, то ноги откажутся ему повиноваться, как деревяшки, и он непременно споткнется.
— Да нет, не споткнетесь вы, мистер Констант, — сказал с верхушки дерева Румфорд, прочитавший мысли Константа. — Вам же больше некуда идти, некуда деваться. Так что вам остается только переставлять ноги одну за другой — больше ничего, и вы оставите по себе вечную память — станете самым незабвенным, великолепным, значительным представителем человечества новой эры.
Констант обернулся, взглянул на свою темнокожую подругу и смуглого сына. Они смотрели прямо ему в глаза. Констант прочел в их глазах, что Румфорд сказал чистую правду и все пути для него закрыты — кроме дороги к космическому кораблю. Беатриса и юный Хроно с циничным пренебрежением относились ко всяческим церемониям — но к мужеству в тяжких испытаниях они относились всерьез.
Они ждали и требовали, чтобы Малаки Констант вел себя достойно.
Констант потер подушечкой большого пальца указательный аккуратным круговым движением. И это бесцельное действие он наблюдал не меньше десяти секунд.
Потом он опустил руки по швам, поднял голову и твердым шагом пошел к космическому кораблю.
Когда он поставил левую ногу на пандус, в голове у него раздался звук, которого он не слышал три земных года. Звук передавался через антенну, вживленную в его мозг. Это Румфорд со своей древесной вершины посылал сигналы на антенну в черепе Константа при помощи небольшой коробочки, которую носил в кармане.
Он облегчил долгое, одинокое восхождение Константа, заполнив голову Константа дробью строевого барабана.
А строевой барабан знай заливался трелью:
Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень.
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень,
Дрянь-дребедень-дребедень!
Как только рука Константа обхватила золотую ступеньку самой высокой в мире приставной лестницы, дробь барабана оборвалась. Констант поднял глаза, и верхний конец лестницы, в перспективе, показался ему узеньким, как острие иголки. Констант на минуту прижался лбом к ступеньке, за которую держался рукой.
— Не хотите ли что-нибудь сказать, мистер Констант, прежде чем подниметесь по лестнице? — спросил Румфорд, невидимый в кроне дерева.
Перед лицом Константа на конце шеста снова закачался микрофон. Констант облизнул губы.
— Собираетесь что-нибудь сказать, мистер Констант? — сказал Румфорд.
— Если будете говорить, — сказал Константу ассистент звукооператора при микрофоне, — говорите совершенно естественным тоном, а губы держите примерно в шести дюймах от микрофона.
— Вы будете говорить с нами, мистер Констант? — спросил Румфорд.
— Может — может, об этом не стоит и говорить, — негромко сказал Констант, — но все же мне хочется сказать, что я ничего не понял, совсем ничего — с той минуты, как оказался на Земле.
— То есть вы не чувствуете себя полноправным участником событий? — сказал Румфорд в кроне дерева. — Это вы хотите сказать?
— Это неважно, — сказал Констант. — Я ведь все равно полезу по этой лестнице.
— Нет уж, позвольте, — сказал Румфорд, скрытый листвой, — если вы считаете, что мы с вами поступаем несправедливо, — тогда пожалуйста, расскажите о чем-нибудь — очень хорошем, что вы сделали хоть раз в жизни, и предоставьте нам решить, не отменить ли наказание, к которому мы вас присудили, ради этого единственного доброго дела.
— Доброе дело? — сказал Констант.
— Да-да, — великодушно подтвердил Румфорд. — Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, — если можете припомнить.
Констант думал изо всех сил. Главным образом ему вспоминались бесконечные скитания по лабиринтам пещер. Там ему, хотя и не часто, представлялись возможности быть добрым к Бозу или гармониумам. Но, честно говоря, он этими возможностями творить добро как-то не воспользовался.
Тогда он стал думать о Марсе, о том, что он писал в письмах к самому себе. Не может быть, чтобы среди всех этих записей не было ничего, свидетельствующего о его собственной доброте.
Как вдруг он вспомнил Стоуни Стивенсона — своего друга. У него был друг, и это, конечно, очень хорошо.
— У меня был друг, — сказал Констант в микрофон.
— А как его звали? — спросил Румфорд.
— Стоуни Стивенсон, — ответил Констант.
— Один-единственный друг? — спросил Румфорд со своей вершины.
— Единственный, — сказал Констант. Его бедная душа радостно встрепенулась, когда он понял, что единственный друг — все, что человеку нужно, чтобы чувствовать себя щедро одаренным дружбой.
— Значит, все хорошее, что вы отыскали в своей прошлой жизни, всецело зависит от того, хорошим или плохим другом вы были этому Стоуни Стивенсону?
— Да, — сказал Констант.
— А помните казнь на Марсе, мистер Констант, — сказал Румфорд со своей вершины, — где вы сыграли роль палача? Вы задушили человека, прикованного к столбу, на глазах у солдат трех полков Марсианской Армии.
Именно это воспоминание Констант все время старался вытравить из памяти. И это ему почти удалось — настолько, что он искренне задумался, роясь в памяти. Он не был уверен, что казнь состоялась на самом деле.
— Я — кажется, что-то припоминаю, — сказал Констант.
— Так вот — человек, которого вы задушили, и был ваш лучший, самый дорогой друг, Стоуни Стивенсон, — сказал Уинстон Найлс Румфорд.
Малаки Констант лез наверх по золоченой лестнице и плакал. Он приостановился на полпути, и тогда голос Румфорда снова загремел в громкоговорителях.
— Ну как, чувствуете теперь живой интерес к происходящему, мистер Констант? — окликнул его Румфорд.
Да, мистер Констант чувствовал живой интерес. Он постиг всю глубину собственного ничтожества и с горьким одобрением отнесся бы к любому, кто считал, что он заслужил самое суровое наказание, и поделом.
А когда он добрался до самого верха, Румфорд сказал, чтобы он не закрывал входной люк — за ним идут его жена и сын.
Констант присел на пороге своего космического корабля, у последней ступеньки лестницы, и слышал, как Румфорд читает проповедь о смуглой подруге Константа, об одноглазой женщине с золотыми зубами по имени Би. Констант не прислушивался к словам. Перед его взглядом разворачивалась неизмеримо более значительная, куда более утешительная проповедь — вид с высоты на город, залив и далекие острова на горизонте.
А смысл этой проповеди, этого взгляда с высоты был вот какой: даже тот, у кого нет ни единого друга во всей Вселенной, может увидеть свою родную планету непостижимо, до боли в сердце, прекрасной.
— Настала пора рассказать вам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд со своей верхушки дерева, очень далеко внизу, под лестницей, — про Би — ту женщину, которая продает Малаки за стеной, про эту темнокожую женщину, которая вместе с сыном смотрит на нас так враждебно.
— Много лет назад, по дороге на Марс, Малаки Констант злоупотребил ее беспомощностью, и она родила ему сына. А до того она была моей женой, владелицей этого поместья. Ее звали Беатриса Румфорд.
По толпе пронесся стон. Можно ли удивляться тому, что все религии были вынуждены бросить в небрежении свои пыльные, никому не нужные игрушки, а глаза всех людей обратились к Ньюпорту? Глава церкви Господа Всебезразличного не только умел предсказывать будущее и побеждать самое вопиющее неравенство — неравенство перед лицом слепой судьбы, — у него еще был неистощимый запас потрясающих чудес!
Этого великого материала для сенсаций у него было в избытке, так что он мог даже позволить себе снизить голос почти до шепота, объявляя, что одноглазая женщина с золотыми зубами когда-то была его женой, а Малаки Констант наставил ему рога.
— И вот теперь я предлагаю вам выразить презрение к ее образу жизни, такое же презрение, какое вы так долго питали к образу жизни Малаки Константа, — сказал он снисходительно. — Можете, если хотите, подвесить ее рядом с Малаки Константом у себя в окне или на люстре.
— Она тоже предавалась излишествам — только это были излишества замкнутости, — сказал Румфорд. — Эта молодая женщина считала, что при ее благородном происхождении и утонченном воспитании она ничего не должна делать и не допускать, чтобы с ней что-то делали, — боялась, как бы не уронить себя, не замараться. Беатрисе, когда она была моложе, жизнь представлялась полной заразных микробов и вульгарности — короче, почти невыносимой.
— Мы, дети Церкви Господа Всебезразличного, клеймим ее так же строго за отказ от жизни из боязни потерять свою воображаемую чистоту, как мы клеймим Малаки Константа за то, что он вывалялся в каждой сточной канаве.
— Беатриса каждым словом и жестом старалась показать, что она достигла наивысшего интеллектуального, морального и физического совершенства, какое Бог мог создать, а остальному человечеству до нее так далеко, что ему и за десять тысяч лет ее не догнать. Перед нами опять наглядный пример: заурядное, лишенное творческой искорки человеческое существо надеется так разодолжить Всемогущего, что дальше некуда. Предположение, что Беатриса угодила Господу Богу, сделавшись недотрогой от своего слишком благородного происхождения и изысканного воспитания, столь же сомнительно, как и предположение, что Господь Бог пожелал, чтобы Малаки Констант родился миллиардером.
— Миссис Румфорд, — сказал Уинстон Найлс Румфорд со своей вершинй, — я предлагаю вам и вашему сыну подняться следом за Малаки Константом в космический корабль, который летит на Титан. Вы не хотите что-нибудь сказать нам на прощанье?
Молчание затянулось. Мать и сын встали рядом, плечом к плечу, глядя на мир, который так изменился за один день.
— Вы собираетесь что-нибудь сказать нам, миссис Румфорд? — сказал Румфорд со своей вершины.
— Да, — сказала Беатриса. — Очень немного. Думаю, что про меня вы сказали правду, потому что лжете вы редко. Но когда я и мой сын вместе пойдем к этой лестнице и взберемся по ней, не думайте, что мы делаем это ради вас или вашей глупой толпы. Мы сделаем это ради самих себя — мы докажем себе и всем, кто станет смотреть, что мы ничего не боимся. И мы покинем эту планету без сожаления. Мы ее презираем не меньше, чем ваша толпа по вашей указке презирает нас.
— Я не помню ничего о прежней жизни, когда я была хозяйкой этого поместья и не выносила, чтобы со мной что-то делали, и сама не желала ничего делать. Но я сама себя полюбила сразу же, как вы мне сказали, какая я была. Земля — помойная яма, а все люди — подонки, в том числе и вы.
Беатриса и Хроно быстро пошли по подмосткам и пандусам к лестнице, вскарабкались вверх. Они проскользнули мимо Малаки Константа, не подавая виду, что заметили его, и скрылись внутри корабля.
Констант вошел за ними, и вместе они осмотрели кабину. Состояние внутренних помещений их поразило — и оно куда сильнее поразило бы охрану поместья. В космическом корабле, помещенном на верху неприступной колонны в парке, охраняемом, как святая святых, побывали одна, а может, и не одна пьяная компания.
Все кровати были разворочены. Постели были скомканы, скручены, словно жеваные. Простыни измазаны губной помадой и кремом для обуви.
Раковины жареных моллюсков хрустели под ногами, оставляя жирные пятна.
По всему кораблю были разбросаны пустые бутылки: две литровых из-под «Горной луны», пол-литровая из-под «Утешительного Юга» и еще дюжина жестянок из-под нарраганзеттского пива Лагера.
На белой стене возле люка были написаны имена:
Бад и Сильвия. А с пульта в центральной рубке свисал черный бюстгальтер.
Беатриса собрала бутылки и жестянки из-под пива. Она выкинула их за дверь. Бюстгальтер, который она стащила с пульта и держала в руке, трепыхался снаружи, а она ждала, пока налетит порыв ветра.
Малаки Констант, все еще оплакивая Стоуни Стивенсона, вздыхая, покачивая головой, сгребал мусор ногами за неимением щетки. Он подгребал раковины жареных моллюсков поближе к двери. Юный Хроно сидел на койке, поглаживая свой талисман.
— Давай отваливать, мать, — процедил он сквозь зубы, — пусть катятся к чертовой матери, пора отваливать!
Беатриса выпустила бюстгальтер. Ветер подхватил его, понес над толпой, зацепил за дерево рядом с тем, в котором засел Румфорд.
— Прощайте, чистенькие, умненькие, славненькие людишки, — сказала Беатриса.
Джентльмен с тральфамадора
«Выражаясь пунктуально, — прощайте».
У Сатурна девять лун, и самая большая из них — Титан.
Титан немного уступает по величине Марсу.
Титан — единственная планета-спутник в Солнечной системе, у которой есть своя атмосфера. Атмосфера пригодна для дыхания — кислорода в ней достаточно.
Воздух Титана можно сравнить с воздухом, какой бывает на Земле весенним утром возле двери пекарни, выходящей на задний дворик.
Ядро Титана — природная химическая топка, которая поддерживает ровную температуру воздуха — шестьдесят семь градусов по Фаренгейту.
На Титане три моря, каждое размером с земное озеро Мичиган. Все три моря заполнены чистой, изумрудно-зеленой водой. Они называются Море Уинстона, Море Найлса и Море Румфорда.
Есть еще целая сеть озер и заливов — зачатки четвертого моря. Эта система озер называется Заводи Казака.
Море Уинстона, Море Найлса и Море Румфорда связывают между собой и с Заводями Казака три широкие реки. Эти реки, вместе с системой притоков, ведут себя неспокойно — то бесятся, то замирают, то снова терзают берега. Их бешеный норов зависит от прихотливого, изменчивого притяжения девяти лун Сатурна и от мощного влияния самого Сатурна, масса которого в девяносто пять раз больше массы Земли. Эти реки называются Река Уинстона, Река Найлса и Река Румфорда.
На Титане есть и леса, и долины, и горы.
Высочайшая гора — Пик Румфорда, высотой в девять тысяч пятьсот семьдесят один фут.
Только на Титане можно наблюдать зрелище потрясающей, неслыханной красоты — грандиозное явление, уникальное в Солнечной системе, — кольца Сатурна. Эти ослепительно сверкающие ленты достигают в ширину сорока тысяч миль, но не толще лезвия бритвы.
На Титане эти кольца называют Радугой Румфорда.
Сатурн летит по орбите вокруг Солнца.
Он совершает полный оборот за двадцать девять с половиной земных лет.
Титан летит по орбите вокруг Сатурна.
Следовательно, Титан описывает спираль вокруг Солнца.
Уинстон Найлс Румфорд и его пес, Казак, превратились в волновой феномен — они пульсировали по неравномерной спирали, начинающейся на Солнце и кончающейся на звезде Бетельгейзе. Когда эта спираль пересекалась с орбитой какого-нибудь небесного тела, Румфорд вместе с собакой материализовался на этом небесном теле.
По таинственным и до сих пор неясным причинам спиральные траектории Румфорда, Казака и Титана полностью совпадали.
Так что на Титаце Румфорд и его пес постоянно сохраняли материальность.
Там Румфорд и Казак обитали на острове в Море Румфорда, на расстоянии одной мили от берега. Они жили в доме, который был точной копией Тадж Махала — того, что в Индии, на планете Земля.
Его построили марсиане.
По странной прихоти воображения Румфорд дал своему дому название «Dun Roamin» — «Конец скитаниям».
Кроме Румфорда и Казака, до прибытия Малаки Константа, Беатрисы и Хроно на Титане обитало еще одно существо. Это существо звали СЭЛО. Он был очень стар. По земному счету ему было одиннадцать миллионов лет.
Сэло прилетел из другой галактики, из Малого Магелланова Облака. Ростом он был в четыре с половиной фута.
Кожа Сэло по цвету н фактуре напоминала кожуру земного мандарина.
У Сэло были три тонкие, как у олененка, ножки. А ступни у него были устроены поразительно интересно: каждая из них представляла собой надувной шар. Надув шары до размера мяча для немецкой лапты, Сэло мог шествовать по водам. Уменьшив их до размера мячиков для гольфа, Сэло мог передвигаться по твердой почве прыжками, с огромной скоростью. А когда он совсем выпускал воздух, его ступни превращались D присоски. Сэло мог ходить по стенам.
Рук у Сэло не было. Зато у него было три глаза, которые могли улавливать не только так называемые лучи видимого спектра, но и инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Сэло был пунктуален — точен — иными словами, он в каждый данный момент находился в определенной точке — и он говаривал Румфорду, что предпочитает видеть чудесные оттенки невидимого людям спектра, чем прошлое или будущее.
Сэло заведомо кривил душой: живя в точном времени, он тем не менее видел неизмеримо большие пространства Вселенной и глубины прошлого, чем Румфорд. К тому же он лучше запоминал то; что видел.
Голова у Сэло была шарообразная и держалась на кардановом подвесе, как корабельный компас.
Его голос напоминал клаксон старинного автомобиля, и его издавало электронное устройство.
Он говорил на пяти тысячах языков, из них пятьдесят были языками Земли: девятнадцать живых языков и тридцать один — мертвый.
Сэло не хотел жить во дворце, хотя Румфорд предложил построить ему дворец силами марсиан. Сэло жил под открытым небом, неподалеку от космического корабля, который сделал вынужденную посадку на Титане две тысячи лет назад. Это была летающая тарелка — прототип кораблей Марсианского космического флота.
История Сэло чрезвычайно интересна.
В 483.441 году до Рождества Христова всеобщее телепатическое собрание единодушно и с восторгом признало его самым красивым, здоровым и чистым сердцем представителем своего народа. Это было приурочено к торжествам по поводу стомиллионной годовщины правительства его родной планеты в Малом Магеллановом Облаке. Его родная планета называлась Тральфамадор, и Сэло однажды перевел это название Румфорду: оказалось, что оно означало одновременно и «все мы», и число 541.
Год на родной планете Сэло, по его собственным расчетам, был в 3.6162 раза длиннее земного, — так что упомянутое торжество относилось к почетному юбилею правительства, насчитывавшего 361.620.000 земных лет. Сэло как-то в разговоре с Румфордом назвал эту столь долговечную форму правления гипнотической анархией, но отказался давать дальнейшие разъяснения.
— Или ты сразу поймешь, что это такое, — сказал он Румфорду, — или не стоит пытаться объяснять тебе, Скип.
Когда Сэло был избран представителем Тральфамадора, на него возложили миссию — пронести запечатанное послание «от одного края Вселенной до другого». Устроители торжеств не питали никаких иллюзий и вовсе не предполагали, что Сэло пройдет из конца в конец всю Вселенную. Это был образ поэтический, как и вся экспедиция Сэло. Сэло просто-напросто возьмет послание и понесет его как можно дальше и как можно быстрее — насколько позволит тральфамадорская техническая культура.
Содержания послания Сэло не знал. Послание было составлено, как Сэло объяснил Румфорду, «как бы университетом, только туда никто не ходит».
— Никаких зданий там нет, никаких факультетов. В нем участвуют все, но никто там не бывает. Он похож на облако, в которое каждый вдохнул свой маленький клубочек пара, а уж потом облако думает обо всем и за всех вместе. Нет, ты не подумай, что облако и вправду существует. Я просто хотел сказать, что оно похоже на облако. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, Скип, не стоит пытаться объяснить тебе. Понимаешь, никаких собраний там не бывает, вот и все.
Послание было заключено в запечатанном свинцовом контейнере — похожем на вафлю квадратике со сторонами по два дюйма, толщиной в три восьмых дюйма. Сама вафелька помещалась в сумочке из золотой сетки, подвешенной на ленте из нержавеющей стали к штырьку, который можно было считать шеей Сэло.
Сэло было строго-настрого приказано не вскрывать сумочку и контейнер до тех пор, пока он не прибудет на место назначения. Его местом назначения был вовсе не Титан. Он направлялся к Галактике, начинавшейся в восемнадцати миллионах световых лет дальше Титана. Устроители торжеств, в которых Сэло принимал участие, не представляли себе, что Сэло обнаружит в этой Галактике. Ему была дана инструкция: разыскать там живые существа, выучиться их языку, а потом вскрыть послание и перевести им его содержание. Сэло не задумывался над тем, есть ли какой-нибудь смысл в его экспедиции, — ведь он, как и остальные жители Тральфамадора, был машиной. Будучи машиной, он должен был выполнять то, что положено.
А самым важным из приказов, полученных Сэло перед отлетом с Тральфамадора, был приказ ни под каким видом не вскрывать послание по дороге.
Приказ был настолько категоричен, что стал средоточием всего существа маленького тральфамадорского гонца.
В 203.117 году до нашей эры Сэло совершил вынужденную посадку в Солнечной системе из-за технической неисправности. Пришлось пойти на посадку из-за того, что одна деталь энергоблока космического корабля внезапно полностью дезинтегрировала, распалась — она была размером примерно с консервный нож, по земным понятиям. Сэло был не очень силен в технике и поэтому весьма слабо представлял себе, как выглядела или должна была выглядеть исчезнувшая деталь. А так как в энергоблоке корабля использовалась энергия ВСОС, или Вселенского Стремления Осуществиться, то всякому, кто не знаком с техникой, лучше было туда не соваться.
Корабль Сэло не то чтобы вышел из строя. Он мог еще кое-как ползти со скоростью не более шестидесяти восьми тысяч миль в час. В таком жалком состоянии он вполне годился для мелких перелетов в пределах Солнечной системы, и копии неполноценного корабля отлично послужили марсианам, штурмовавшим Землю.
Но неполноценный корабль решительно не годился для межгалактического путешествия Сэло.
Так что старый Сэло намертво засел на Титане и был вынужден послать на родной Тральфамадор сообщение о том, что попал в беду. Он послал это сообщение со скоростью света, а это значило, что на Тральфамадоре его примут только через сто пятьдесят тысяч лет по земному счету.
Чтобы не скучать, Сэло придумал себе несколько хобби. Главные из них были скульптура, селекция титанических маргариток и наблюдение за событиями на Земле. Все происходящее на Земле он мог видеть на экране, расположенном на пульте управления космического корабля. Это было настолько мощное устройство, что Сэло мог при желании следить за людьми в земном муравейнике.
Именно на этом экране он и увидел первый ответ с Тральфамадора. Ответ был выложен из громадных камней на равнине, которая теперь стала Англией. Остатки этого ответа сохранились до сих пор, и называются Стоунхендж. По-тральфамадорски Стоунхендж означал, если поглядеть сверху: «Высылаем запасную часть со всей возможной скоростью»
Сэло получил еще несколько посланий, кроме Стоунхенджа.
Общим счетом их было четыре, и все они были написаны на Земле.
Великая Китайская стена при взгляде сверху означает по-тральфамадорски: «Терпение! Мы помним о тебе».
Золотой дворец римского императора Нерона означал: «Стараемся, как можем».
Стены Московского Кремля в первоначальном виде означали: «Не успеешь оглянуться, как отправишься в путь».
Дворец Лиги Наций в Женеве, Швейцария, значит вот что: «Собирай вещи и будь готов к отлету в ближайшее время».
При помощи простой арифметики можно вычислить, что все эти послания пришли со скоростью, значительно превышающей скорость света. Сэло послал домой просьбу о помощи со скоростью света, и она дошла до Тральфамадора только через сто пятьдесят тысяч лет. А ответ с Тральфамадора пришел меньше чем за пятьдесят тысяч лет.
— Для примитивного земного ума совершенно непостижимо, каким образом осуществлялись эти молниеносные передачи. Единственное, что можно сказать в такой непросвещенной компании, — жители Тральфамадора умели так направлять импульсы Вселенского Стремление Осуществиться, что они, отражаясь от неевклидовых искривлений структуры Вселенной, приобретали скорость, в три раза превышающую скорость света. И тральфамадорцы ухитрялись так фокусировать и формировать эти импульсы, что под их влиянием существа в страшной дали от Тральфамадора делали то, что внушали им тральфамадорцы.
Это был чудодейственный способ управлять местами, которые были далеко-далеко от Тральфамадора. И, разумеется, это был самый скоростной способ.
Но обходился он недешево.
Старый Сэло не мог посылать сообщения и заставлять других делать то, что ему угодно, — даже на небольшом расстоянии. Для этого были нужны громадные количества Вселенского Стремления Осуществиться и колоссальные сооружения, обслуживаемые тысячами инженеров и техников.
При этом даже мощные запасы энергии, многочисленный штат и колоссальные механизмы тральфамадорцев не обеспечивали полной точности. Старый Сэло много раз видел следы этих просчетов на поверхности Земли. На Земле внезапно начинайся расцвет той или иной цивилизации, и люди, принимались возводить, циклопические постройки, в которых явно было заложено послание на тральфамадорском языке, — а потом цивилизации внезапно гибли, так и не дописав послание.
Это старый Сэло видел сотни раз.
Старый Сэло рассказал Румфорду очень много интересного о тральфамадорской цивилизации, но он ни словом не обмолвился ни о посланиях, ни о технике их передач.
Он только сказал Румфорду, что послал домой сообщение об аварии и что ждет запасной части со дня на день. Мысли старого Сэло рождались в уме, настолько непохожем на ум Румфорда, что Румфорд не мог их читать.
Старый Сэло был очень рад, что Румфорд не может читать его мысли, — он до смерти боялся, что Румфорд возмутится, когда узнает, как много сородичи Сэло напортили и напутали в истории Земли. Несмотря на то, что Румфорд, попав в хроно-синкластический инфундибулум, мог бы, казалось, приобрести более широкий взгляд на события, он, к удивлению Сэло, остался в глубине души настоящим патриархальным землянином.
Старый Сэло боялся, как бы Румфорд не узнал, что тральфамадорцы натворили на Земле: он был уверен, что Румфорд обидится и возненавидит самого Сэло и всех тральфамадорцев. Сэло был уверен, что не переживет этого, — ведь он любил Уинстона Найлса Румфорда.
Ничего непристойного в этой любви не было. То есть никаким гомосексуализмом тут и не пахло. Это было невозможно, так как Сэло вообще не имел пола.
Он был машиной, как и все тральфамадорцы.
Он был собран на скрепках, зажимах, винтиках, шпунтиках и магнитах. Мандариновая кожа, с большой тонкостью передававшая оттенки настроения Сэло, снималась и надевалась так же просто, как земная штормовка. Она застегивалась на магнитную молнию.
Сэло рассказывал, что тральфамадорцы конструировали друг друга. Но никто не знал, как появилась на свет первая машина.
Об этом сохранилась только легенда. Вот она.
Во время оно жили на Тральфамадоре существа, совсем не похожие на машины. Они были ненадежны. Они были плохо сконструированы. Они были непредсказуемы. Они были недолговечны. И эти жалкие существа полагали, что все сущее должно иметь какую-то цель и что одни цели выше, чем другие.
Эти существа почти всю жизнь тратили на то, чтобы понять, какова цель их жизни. И каждый раз, как они находили то, что им казалось целью Жизни, эта цель оказывалась такой ничтожной и низменной, что существа не знали, куда деваться от стыда и отвращения.
Тогда, чтобы не служить столь низким целям, существа стали делать для этих целей машины. Это давало существам возможность на досуге служить более высоким целям. Но даже когда они находили более высокую цель, она все же оказывалась недостаточно высокой.
Тогда они стали делать машины и для более высоких целей.
И машины делали все так безошибочно, что им в конце концов доверили даже поиски цели жизни самих этих существ.
Машины совершенно честно выдали ответ: по сути дела, никакой цели жизни у этих существ обнаружить не удалось.
Тогда существа принялись истреблять друг друга, потому что никак не могли примириться с бесцельностью собственного существования.
Они сделали еще одно открытие: даже истреблять друг друга они толком не умели. Тогда они и это дело передоверили машинам. И машины покончили с этим делом быстрее, чем вы успеете сказать «Тральфамадор».
При помощи экрана, расположенного на панели управления космического корабля, старый Сэло следил за приближением к Титану летающей тарелки, на которой летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хроно. Корабль должен был автоматически приземлиться на берегу Моря Уинстона.
Автомат должен был посадить корабль среди громадной толпы статуй, изображающих людей, — всего их было два миллиона. Сэло Делал примерно по десятку в земной год.
Статуи оказались поблизости от Моря Уинстона потому, что были сделаны из титанического торфа. По берегам Моря Уинстона сколько угодно этого торфа — он залегает всего в двух футах от поверхности.
Титанический торф — диковинный материал, необычно благодатный для плодовитого и серьезного скульптора.
Свежевыкопанный титанический торф податлив, как земная замазка.
Через час под влиянием света и воздуха Титана торф приобретает прочность и твердость застывшего гипса.
Через два часа он становится крепким, как гранит, и поддается только резцу.
А через три часа лишь алмаз может оставить царапину на поверхности титанического торфа.
Сэло сделал такое множество статуй, вдохновленный привычкой землян все делать напоказ. Сэло занимало не то, что делали земляне, а то, как они это делали.
Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз — и как будто громадный глаз жаждет зрелищ.
Громадный ненасытный глаз требовал грандиозных зрелищ. Этому глазу было безразлично, что ему показывают земляне: комедию, трагедию, фарс, сатиру, физкультурный парад или водевиль. Он требовал с настойчивостью, — которую земляне, очевидно, считали такой же непобедимой, как сила тяжести, — чтобы зрелище было великолепное.
Подчиняясь этому необоримому, неотступному требованию, земляне только и делали, что разыгрывали спектакли, денно и нощно — даже во сне.
Этот великанский глаз был единственным зрителем, для которого старались земляне. Самые изощренные представления, которые наблюдал Сэло, разыгрывались землянами, страдавшими от безысходного одиночества. И воображаемый громадный глаз был их единственным зрителем.
Сэло попытался запечатлеть в своих вечных, как алмаз, статуях некоторые состояния души тех землян, которые разыгрывали наиболее интересные представления для воображаемого небесного глаза.
Титанические маргаритки, во множестве растущие у Моря Уинстона, пожалуй, поражали воображение не меньше, чем статуи. Когда Сэло в 203.117 году до Рождества Христова прибыл на Титан, маргаритки на Титане цвели крохотными, похожими на звездочки желтыми цветочками не больше четверти дюйма в диаметре.
Сэло занялся селекцией маргариток.
Когда на Титан прибыли Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, у типичных титанических маргариток на стеблях диаметром в четыре фута росли цветочки бледно-лилового цвета с розовым отливом, весившие больше тонны.
Заметив приближение космического корабля, на котором летели Малаки Констант, Беатриса и их сын Хроно, Сэло надул свои ступни до размеров мяча для немецкой лапты. Он вступил на изумрудную, кристально чистую воду Моря Уинстона и двинулся к Тадж-Махалу Уинстона Найлса Румфорда.
Войдя во двор, окруженный стеной, он выпустил воздух из своих ног. Воздух выходил со свистом. Свист отдавался эхом, отражаясь от стен.
Бледно-лиловое кресло-шезлонг Уинстона Найлса Румфорда стояло возле бассейна.
— Скип! — окликнул Сэло. Он называл Румфорда этим самым интимным и ласковым именем, детским прозвищем, хотя Румфорду это явно было не по душе. Но Сэло вовсе не хотел дразнить Румфорда. Он произносил это имя, чтобы утвердить свою дружбу с Румфордом — чтобы испытать хоть немножко прочность этой дружбы и убедиться, что она с честью выдержала испытание.
У Сэло были свои причины подвергать дружбу таким наивным испытаниям. До того, как он попал в Солнечную систему, он никогда в жизни не слыхал про дружбу, понятия о ней не имел. Для него это было нечто новое, увлекательное. Ему хотелось наиграться в дружбу.
— Скип? — снова позвал Сэло.
В воздухе стоял какой-то странный запах. Сэло определил, что это запах озона. Но он не мог понять, откуда тут мог взяться озон.
В пепельнице рядом с креслом Румфорда все еще дымилась сигарета, так что Румфорд, как видно, только что встал и вышел.
— Скип! Казак! — позвал Сэло. Странно — ведь Румфорд всегда дремал в своем кресле, а Казак всегда дремал рядом. Человек и пес по большей части сидели здесь, возле бассейна, получая сигналы от всех своих двойников, разбросанных в пространстве и времени. Румфорд обычно сидел в кресле не двигаясь, опустив усталую, вялую руку, зарывшись пальцами в густую итерсть Казака. А Казак обычно повизгивал и дергал лапами во сне.
Сэло взглянул на дно прямоугольного бассейна. Сквозь восьмифутовыи слой воды он увидел на дне трех сирен Титана — трех прекрасных женщин, которыми так давно соблазняли похотливого Малаки Константа.
Их сделал Сэло из титанического торфа. Только они из всех миллионов статуй, созданных Сэло, были раскрашены. Их пришлось раскрасить, чтобы они не затерялись среди восточной роскоши, царившей во дворце Румфорда.
— Скип? — снова окликнул Сэло.
На зов откликнулся Казак, космический пес. Казак вышел из дворца, купол и минареты которого отражались в бассейне. Казак вышел из кружевной тени восьмиугольного зала на негнущихся лапах.
Можно было подумать, что Казака отравили.
Казак весь трясся, уставившись в одну точку, сбоку от Сэло. Там никого не было.
Казак остановился — казалось, он ждет ужасной боли, которую навлечет на него следующий шаг.
Как вдруг Казак весь занялся сверкающим, потрескивающим огнем святого Эльма.
Огонь святого Эльма — это электрические разряды, и когда он охватывает живое существо, оно страдает не больше, чем от щекотанья перышком. Но все же кажется, что животное горит ярким пламенем, и вполне простительно, если оно перепугается.
На огненные языки, струившиеся из шерсти Казака, было страшно смотреть. В воздухе снова резко запахло озоном.
Казак застыл, не двигаясь. У него уже давно не стало сил удивляться этому поразительному фейерверку или пугаться его. Он переносил треск и сверканье с печальным безразличием.
Сверкающий огонь погас.
В пролете арки появился Румфорд. Он тоже выглядел каким-то потрепанным, издерганным. От макушки до пят по всему телу Румфорда проходила полоса дематериализации в фут шириной — полоса пустоты. А по бокам от нее на расстоянии дюйма шли еще две узкие полоски.
Руки Румфорда были высоко подняты, а пальцы раздвинуты. С кончиков пальцев струились языки розового, фиолетового, бледно-зеленого огня святого Эльма. Золотые искры, шипя, плясали у него в волосах, словно пытаясь создать вокруг его головы мишурный ореол.
— Мир, — сказал Румфорд слабым голосом.
Огонь святого Эльма вокруг Румфорда погас.
Сэло был потрясен.
— Скип… — сказал он. — Что — что с тобой, Скип?
— Солнечные пятна, — сказал Румфорд. Он, шаркая ногами, протащился к своему креслу, сел, откинулся назад, прикрыл глаза рукой, вялой и бледной, как мокрый платок.
Казак лег у его ног. Казак все еще дрожал.
— Я — я никогда не видел тебя таким, — сказал Сэло.
— На Солнце еще никогда не было такой магнитной бури, — сказал Румфорд.
Сэло не удивился, узнав, что солнечные пятна действуют на его друзей, попавших в хроно-синкластический инфундибулум. Он и раньше много раз видел, как нехорошо Румфорду и Казаку от этих солнечных пятен, но тогда их просто тошнило, и больше ничего. Языки пламени и полосы дематериализации он наблюдал впервые.
Глядя на Румфорда и Казака, Сэло увидел, как они мгновенно стали плоскими, потеряли третье измерение, словно нарисованные на колышущихся полотнищах флагов.
Затем они перестали колыхаться, снова обрели трехмерность.
— Могу ли я чем-нибудь помочь, Скип? — сказал Сэло.
Румфорд заскрипел зубами.
— Когда люди перестанут задавать этот ужасный вопрос? — простонал он.
— Прости, — сказал Сэло. Он выпустил весь воздух из ступней, и они стали вогнутыми, как присоски. Его ноги издавали сосущее чмоканье на отполированных камнях.
— Ты не можешь прекратить этот шум? — неприязненно сказал Румфорд.
Старому Сэло захотелось умереть. Его друг, Уинстон Найлс Румфорд. впервые разговаривал с ним так резко. Сэло просто не мог этого вынести.
Старый Сэло зажмурил два глаза из трех. Третий глаз глядел в небо. Он увидел две нечеткие синие точки. То парили в вышине две синие птицы Титана.
Эта пара нашла восходящий ток воздуха.
Ни одна из громадных птиц ни разу не взмахнула крылом.
Ни одного негармоничного движения — ни одно маховое перо не шелохнется. Жизнь казалась парящим сном.
— Грау, — дружелюбно сказала одна — титаническая птица.
— Грау, — согласилась другая.
Птицы одновременно сложили крылья, стали камнем падать с высоты.
Казалось их ждет неминуемая смерть за стенами дворца Румфорда. Но они снова раскинули крылья, снова начали легкий, парящий полет.
На этот раз они парили в небе, прочерченном полоской белого пара, — это был след космического корабля, несущего на борту Малаки Константа, Беатрису Румфорд и их сына Хроно. Корабль шел на посадку.
— Скип? — сказал Сэло.
— Ты не можешь звать меня по-другому? — сказал Румфорд.
— Могу, — сказал Сэло.
— Тогда и зови, — сказал Румфорд. — Я это прозвище не люблю, — так меня может звать только тот, с кем я вместе вырос.
— Я думал — что раз я твой друг… — сказал Сэло. — Может быть, мне позволительно…
— А не пора ли нам бросить эту игру в дружбу? — резко оборвал его Румфорд.
Сэло закрыл и третий глаз. Вся кожа на его теле съежилась.
— Игру? — повторил он.
— Опять ты чавкаешь ногами! — крикнул Румфорд.
— Скип! — крикнул Сэло. Он тут же спохватился — какая непростительная фамильярность! — Уинстон — ты так со мной говоришь — я словно в страшном сне… Мне казалось, что мы — друзья…
— Лучше скажем, что мы друг другу в чем-то пригодились, и нечего об этом вспоминать, — сказал Румфорд.
Голова Сэло слабо закачалась в кардановом подвесе.
— А я думал, нас связывает нечто большее, — выговорил он наконец.
— Давай скажем, — зло перебил Румфорд, — что мы просто нашли возможность использовать друг друга для личных целей, — сказал Румфорд.
— Я-то — я был счастлив, что могу тебе помочь, — я думаю, что и вправду помог тебе, — сказал Сэло. Он открыл глаза. Ему было необходимо увидеть лицо Румфорда. Теперь-то Румфорд снова посмотрит на него, как друг, ведь Сэло помогал ему, и помогал бескорыстно.
— Разве я не отдал тебе половину своего ВСОС? — сказал Сэло. — Не позволил тебе скопировать мой корабль для Марсианского космического флота? Разве я лично не посылал первые корабли с вербовщиками? Разве я не помог тебе разработать метод управления марсианами, чтобы они никогда не своевольничали? Разве я день за днем не помогал тебе создавать новую религию?
— Ну да, — сказал Румфорд. — А после этого что ты для меня сделал?
— Что? — спросил Сэло.
— Да нет, ничего, — отрывисто сказал Румфорд. — Это из одного нашего земного анекдота, но в теперешних обстоятельствах смеяться нечему.
— А, — сказал Сэло. Он знал множество земных анекдотов, а этого не знал.
— Следи за своими ногами! — крикнул Румфорд.
— Прости! — крикнул Сэло. — Если бы я мог плакать, как землянин, я бы заплакал! — Он был не в силах совладать со своими всхлипывающими ногами. Они сами собой издавали звук, который Румфорд внезапно так возненавидел. — Прости за все! Я знаю только одно — я изо всех сил старался быть твоим верным другом и я никогда ничего не просил у тебя.
— А тебе и не приходилось ни о чем просить! — сказал Румфорд. — Ни о чем! Ты только и знал, что сидеть и ждать, пока она с неба не свалится.
— А что я ждал? — потрясенный, спросил Сэло.
— Запасную часть для твоего космического корабля, — сказал Румфорд. — Она уже почти здесь. Она вот-вот прибудет, сир. Она у мальчишки Константа — он ее зовет своим талисманом — можно подумать, что ты про все это даже не знал!
Румфорд выпрямился в кресле, позеленел, знаком попросил Сэло молчать.
— Прошу прощения, — сказал он. — Мне опять нехорошо.
Уинстону Найлсу Румфорду и его псу Казаку было очень нехорошо — им было много хуже, чем в прошлый раз. Бедный старый Сэло в ужасе ждал, что их испепелит без остатка или разнесет на клочки взрывом.
Воющий Казак был окружен сферой из огня святого Эльма.
Румфорд стоял совершенно прямо, с выпученными глазами — ослепительный огненный столп.
Этот приступ кончился, как и первый.
— Прошу прощения, — сказал Румфорд с уничтожающей любезностью, — ты что-то говорил?
— Что? — еле слышно сказал Сэло.
— Ты что-то говорил — или собирался сказать, — ответил Румфорд. Только капли пота на висках напоминали о том, что он пережил настоящую пытку. Он вставил сигарету в длинный костяной мундштук, закурил, выдвинул вперед нижнюю челюсть, так что мундштук вместе с сигаретой встал торчком.
— Нас не прервут еще три минуты, — сказал он. — Так ты говорил?
Сэло пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, о чем они говорили. А стоило ему вспомнить, как его охватило отчаяние. Случилось самое страшное. Очевидно, Румфорд не только узнал всю правду о влиянии Тральфамадора на события на Земле — этого было более чем достаточно, чтобы рассердить его, — но Румфорд, очевидно, считал, что и сам он — одна из главных жертв этого влияния.
У Сэло время от времени мелькало тревожное подозрение, что Румфорд находится под влиянием Тральфамадора, но он спешил выбросить эту мысль из головы все равно он был бессилен что-либо изменить. Он даже и говорить об этом не решался — любой разговор об этом с Румфордом навеки погубил бы их прекрасную дружбу. Сэло попытался выяснить, хотя и очень неловко, знает ли Румфорд всю правду или только притворяется.
— Скип… — начал он.
— Я же просил! — сказал Румфорд.
— Мистер Румфорд, — сказал Сэло. — Вы считаете, что я злоупотребил вашим доверием?
— Не ты, — сказал Румфорд. — А твои собратья-машины на твоем драгоценном Тральфамадоре.
— М-мм… — сказал Сэло. — Ты — ты полагаешь — что тобой воспользовались, Скип?
— Тральфамадор, — с горечью сказал Румфорд, — протянул лапу в Солнечную систему, выхватил меня и употребил, как дешевый ножичек для чистки картофеля.
— Ты же мог видеть будущее, — ответил Сэло, чувствуя себя совершенно несчастным. — Почему ты ни разу об этом не сказал?
— Мало кому приятно сознавать, что его кто-то использует, — сказал Румфорд. — Человек старается, пока возможно, не признаваться в этом даже себе самому. — Он криво усмехнулся. — Может быть, тебя удивит, что я горжусь — может быть, глупо и напрасно, — но все же я горжусь тем, что могу принимать решения самостоятельно, действовать по собственному усмотрению.
— Меня это не удивляет, — сказал Сэло.
— Вот как? — с издевкой сказал Румфорд. — Я склонялся к мнению, что эта тонкость недоступна пониманию машины.
Все кончено — хуже этого их отношения уже стать не могут. Ведь Сэло действительно машина, потому что его спроектировали и собрали, как машину. Он этого и не скрывал. Но Румфорд никогда не пользовался этим словом в обидном для Сэло смысле. А сейчас он явно хотел его оскорбить. Под тонким покровом светской любезности в словах Румфорда можно было прочесть, что машина — это нечто бесчувственное, нечто лишенное воображения, нечто вульгарное, нечто запрограммированное для достижения цели и лишенное малейшего проблеска совести.
Это было самое больное, самое уязвимое место, здесь Сэло был совершенно беззащитен. И Румфорд благодаря их былой духовной близости отлично знал, как причинить ему боль.
Сэло снова закрыл два глаза из трех, снова стал следить за парящими в вышине титаническими птицами. Они были величиной с земного орла.
Сэло захотелось стать синей птицей Титана.
Космический корабль, на котором летели Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хроно, проплыл над куполом дворца и мягко приземлился на берегу Моря Уинстона.
— Даю тебе слово чести, — сказал Сэло, — я не знал, что тебя используют, я и понятия не имел, что ты…
— Машина, — ядовито сказал Румфорд.
— Ты мне только скажи, как тебя использовали, — прошу тебя! — сказал Сэло. — Честное слово — я даже не представлял…
— Машина! — сказал Румфорд.
— Если ты так плохо обо мне думаешь. Скип — Уинстон — мистер Румфорд, — сказал Сэло, — после всего, что я сделал и старался сделать только ради нашей дружбы, — я понимаю, что не могу ничего сделать или сказать, чтобы переубедить тебя.
— Других слов и не дождешься — от машины, — сказал Румфорд.
— И машина их сказала, — смиренно ответил Сэло. Он надул свои ступни до размера мяча для немецкой лапты, готовясь уйти из дворца Румфорда и перейти воды Моря Уинстона — чтобы никогда не возвращаться. Но когда его ноги были в полной готовности, он вдруг понял, что в словах Румфорда таился какой-то намек.
Румфорд явно намекал на то, что старый Сэло еще может все исправить, если захочет.
Конечно, Сэло Был машиной, но все же он был достаточно чувствителен и прекрасно понимал: расспрашивать, что нужно сделать, было крайне унизительно. Но он собрал все свое мужество. Ради дружбы он пойдет на любое унижение.
— Скип, — сказал он. — Скажи, что я должен сделать. Я готов на все — на все, что угодно.
— Очень скоро, — сказал Румфорд, — кончик моей спирали вышибет взрывом из Солнца и из Солнечной Системы тоже.
— Нет! — завопил Сэло. — Скип! Скип!
— Только не надо меня жалеть — пожалуйста, — сказал Румфорд и отступил на шаг, опасаясь, что до него могут дотронуться. — Это не так уж плохо, если подумать. Мне предстоит увидеть много нового, встретить новые существа. — Он попытался улыбнуться. — Довольно утомительно, знаешь ли, без конца крутиться и крутиться по Солнечной системе. — Он невесело рассмеялся. — В конце концов, — сказал он, — я же не умираю, ничего со мной не сделается. Все, что было, будет всегда, а все, что будет, всегда существовало.
Он резко мотнул головой, и слеза, которой он не замечал, слетела с его ресниц.
— Хотя эта мысль, достойная хроно-синкластического инфундибулума, отчасти меня и утешает, — сказал он, — я же непрочь узнать, в чем смысл эпизода, разыгравшегося в Солнечной системе.
— Но ты — ты лучше, чем кто бы то ни было, объяснил это в своей «Карманной истории Марса», — сказал Сэло.
— В «Карманной истории Марса», — сказал Румфорд, — не упомянуто о том, что я находился под непреодолимым влиянием сил, исходящих от планеты Тральфамадор. — Он скрипнул зубами.
— Прежде чем я и мой пес умчимся в бесконечность, щелкая, как хлысты в руках у сумасшедшего, — сказал Румфорд, — мне бы очень хотелось узнать, что написано в послании, которое ты несешь.
— Я-я не знаю, — сказал Сэло. — Оно запечатано. И мне строго запрещено…
— Вопреки всем тральфамадорским запретам, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — в нарушение всех заложенных в тебя, как в машину, программ, — во имя нашей дружбы, Сэло, я прошу тебя вскрыть послание и прочесть его мне — сейчас же.
Малаки Констант, Беатриса Румфорд и их угрюмый сын, Хроно, устроили невеселый пикник на свежем воздухе, в тени гигантской маргаритки, на берегу Моря Уинстона. Каждый из них опирался спиной о свою отдельную статую.
Заросший бородой Малаки Констант — первый повеса в Солнечной системе — все еще был в своем ярко-желтом комбинезоне с оранжевыми вопросительными знаками. Больше ему нечего было надеть.
Констант прислонился к статуе святого Франциска Ассизского. Св. Франциск пытался приручить пару свирепых и устрашающе громадных птиц, похожих на белоголовых орланов[22]. Констант не мог узнать в них местных синих птиц, потому что ни разу не видел синих птиц Титана. Он прилетел на Титан всего час назад.
Беатриса, похожая на королеву-цыганку, застыла у подножия статуи, изображавшей молодого студента-физика. На первый взгляд казалось, что этот облаченный в белый лабораторный халат ученый служит верой и правдой только истине, и только ей одной. С первого взгляда каждый верил, что он добивается только правды и радуется только ей, восхищенно вглядываясь в пробирку, которую держит в руках. На первый взгляд можно было поверить, что он выше низменных, животных страстей рода человеческого, как и гармониумы в пещерах Меркурия. Перед зрителем, на первый взгляд, стоял юноша, свободный от тщеславия, от алчности, — и зритель принимал всерьез надпись, которую Сэло вырезал на пьедестале: «Открытие мощи атома».
Как вдруг зритель замечал, что молодой человек находится в состоянии крайнего полового возбуждения.
Беатриса этого пока еще не заметила.
Юный Хроно, темнокожий и таящий угрозу, под стать своей матери, уже приступил к первому акту вандализма — по крайней мере, он пытался совершить надругательство над искусством. Хроно норовил нацарапать грязное земное ругательство на пьедестале статуи, к которой он прислонился. Он старался нацарапать его острым уголком своего талисмана.
Но затвердевший титанический торф не только не поддался, а сам сточил острый уголок стальной полоски.
Хроно трудился у пьедестала скульптурной группы, изображавшей семью — неандертальского человека, его подругу и их младенца. Группа была необыкновенно трогательная. Нескладные, взлохмаченные, многообещающие существа были настолько уродливы, что казались прекрасными.
Впечатление значительности и всеобъемлющая символика этой группы нисколько не пострадали от того. что Сэло снабдил ее сатирической подписью. Он вообще давал своим скульптурам ужасные названия, словно изо всех сил старался показать, что сам себя вовсе не считает художником, творцом. Название, которое он дал группе, изображающей неандертальцев, было подсказано, очевидно, тем, что ребенок тянулся к человеческой ступне, которая жарилась на грубом вертеле. Скульптура называлась «Ай да поросенок!».
— Что бы ни случилось — самое прекрасное или самое печальное, или самое радостное, или самое ужасное, — говорил Малаки Констант своему семейству, прибыв на Титан, — будь я проклят, если я хоть бровью поведу. В ту самую секунду, когда мне покажется, что кто-нибудь или что-нибудь хочет заставить меня совершить определенное действие, я застыну.
Он взглянул наверх, на кольца Сатурна, скривил губы.
— Красота-то какая! — слов нет, — и он сплюнул.
— Если еще кто-нибудь захочет использовать меня в своих грандиозных замыслах, — сказал Констант, — его ждет большое разочарование. Ему будет легче довести до белого каления одну из этих вот статуй.
И он снова сплюнул.
— Если вы меня спросите, — сказал Констант, — то вся Вселенная — просто свалка старья, за которое норовят содрать втридорога. Хватит с меня — больше не собираюсь рыться на свалках, скупать старье по дешевке. Каждая мало-мальски пригодная вещь, — сказал Констант, — подсоединена тонкими проволочками к связке динамитных шашек.
Он сплюнул еще раз.
— Я отказываюсь, — сказал Констант.
— Я увольняюсь, — сказал Констант.
— Я ухожу, — сказал Констант.
Маленькая семья Константа равнодушно согласилась. Этот короткий спич успел им порядком надоесть. Констант произносил его много раз за те семнадцать месяцев, пока они летели к Титану. И вообще это была привычная, стандартная философия марсианских ветеранов.
Собственно говоря, Констант и не обращался к своему семейству. Он говорил во весь голос, чтобы было слышно как можно дальше — и в густой чаще статуй, и за Морем Уинстона. Это было политическое кредо, которое он высказывал во всеуслышание, — пусть слышит Румфорд или еще кто, кому вздумалось подкрасться поближе.
— Мы в последний раз дали себя впутать, — заявил Констант во весь голос, — в эксперименты, и в сражения, и в празднества, которые нам противны и непонятны!
— Понятны, — откликнулось эхо, отраженное от стен дворца, стоявшего в двух сотнях ярдов от берега. Дворец, разумеется, — это «Конец Скитаниям», румфордовский Тадж-Махал. Констант нисколько не удивился, увидев вдалеке этот дворец. Он заметил его, высадившись из космического корабля, видел, как он сверкает, словно Град Господень, о котором писал святой Августин.
— Что дальше? — спросил Констант у эха. — Все статуи оживут?
— Живут? — отозвалось эхо.
— Это эхо. — сказала Беатриса.
— Знаю, что эхо, — сказал Констант.
— А я не знала, знаете ли вы, что это эхо, или нет, — сказала Беатриса. Она разговаривала с ним отчужденно и вежливо. Она проявила удивительное благородство по отношению к нему: ни в чем его не винила, ничего от него не ждала. Женщина, лишенная ее аристократизма, могла бы устроить ему не жизнь, а сущий ад, — винила бы его во всех несчастьях, требовала бы невозможного.
В дороге они любовью не занимались. Ни Констант, ни Беатриса этим не интересовались. Любовь не интересовала никого из марсианских ветеранов.
Долгое путешествие неизбежно должно было сблизить Константа с женой и сыном — они стали ближе, чем там, на золоченых подмостках, пандусах, лесенках, балкончиках, приступках и сценах — в Ньюпорте. Но если в этой семье была любовь, то только между юным Хроно и Беатрисой. Кроме этой любви матери и сына была лишь вежливость, хмурое сочувствие и скрытое недовольство тем, что их вообще заставили стать одной семьей.
— Боже ты мой, — сказал Констант, — смешная штука — жизнь, если призадуматься на минутку.
Юный Хроно не улыбнулся, когда его отец сказал, что жизнь — смешная штука.
Юному Хроно жизнь вовсе не казалась смешной — меньше, чем любому другому. Беатриса и Констант, по крайней мере, могли горько смеяться над теми дикими случайностями, которые их постигли. Но юный Хроно не имел права смеяться вместе с ними — он и сам был одной из диких случайностей.
Стоит ли удивляться, что у Хроно было всего два сокровища: талисман и нож с выскакивающим лезвием.
Юный Хроно вытащил нож, небрежно выпустил лезвие. Глаза у него сузились в щелочки. Он готовился убивать, если придется убивать. Он всматривался вдаль — от дворца на острове к ним плыла золоченая лодка.
На веслах сидело существо с кожей, как мандариновая кожура. Разумеется, это был Сэло. Он подгонял лодку к берегу, чтобы переправить семью Константа во дворец. Сэло греб из рук вон плохо — раньше ему грести не приходилось. Весла он держал своими ногами с присосками.
Единственным его преимуществом в гребле перед людьми было то, что у него на затылке был глаз.
Юный Хроно пустил ослепительный зайчик прямо в глаз Сэло зайчик, отраженный от блестящего лезвия ножа.
Затылочный глаз Сэло заморгал.
Хроно пускал зайчики вовсе не для развлечения. Это была военная хитрость обитателей джунглей, которая сбивала с толку любое зрячее существо. Это была одна из тысяч лесных уловок, которым юный Хроно и его мать научились за год скитаний по джунглям Амазонки.
Беатриса зажала в смуглой руке камень.
— Поддай-ка ему еще, — негромко сказала она. Юный Хроно снова пустил зайчик прямо в глаза старому Сэло.
— Туловище у нею мягкое, — сказала Беатриса, почти не шевеля губами. — Не попадешь в туловище, целься в глаз.
Хроно молча кивнул.
Константа мороз подрал по коже, когда он понял, что его жена и сын способны постоять за себя, и всерьез. Константа они в свою маленькую армию самозащиты не включили. Они в нем не нуждались.
— А мне что делать? шепотом спросил Констант.
— Т-ш-ш-ш! — резко выдохнула Беатриса.
Сэло причалил к берегу свое золотое суденышко. Он неумело привязал ею «бабушкиным узлом» к запястью статуи, стоявшей у самой воды. Статуя изображала обнаженную женщину, играющую на тромбоне. Ее загадочное название гласило: — «Эвелин и ее волшебный тамбурин».
Сэло был настолько убит собственным горем, что не боялся за свою жизнь, — он даже не мог понять, что кто-то его опасается. Он на минуту встал на кусок намертво затвердевшего титанического торфа. Его ноги, горестно всхлипывая, переминались по влажной поверхности камня. У него едва хватило сил отодрать присоски от камня.
Он двинулся вперед, ослепленный вспышками света, которые пускал Хроно.
— Прошу вас… — сказал он.
Из слепящего сверканья вылетел камень.
Сэло пригнулся.
Чья-то рука сжала его тонкое горло, швырнула на землю.
Юный Хроно поставил ноги по обе стороны поверженного Сэло и приставил нож к его груди. Беатриса стояла на коленях возле головы Сэло, подняв камень, чтобы сразу же размозжить его голову.
— Ну что же, убивайте меня, — сказал Сэло скрипучим голосом. — Окажите мне милость. Я хочу умереть. Хоть бы меня никогда не собирали, никогда не включали! Убейте, избавьте меня от мучений, а потом идите к нему. Он вас зовет.
— Кто зовет? — спросила Беатриса.
— Ваш несчастный муж — мой бывший друг, Уинстон Найлс Румфорд, — ответил Сэло.
— А где он? — спросила Беатриса.
— Во дворце на острове, — сказал Сэло. — Он умирает в полном одиночестве, с ним только его верный пес. Он зовет вас, — сказал Сэло, — он всех вас зовет. И он сказал, чтобы я не смел попадаться ему на глаза.
Малаки Констант смотрел на свинцовые губы, беззвучно целующие воздух. Язык, скрытый за ним, почти неслышно щелкнул. Губы внезапно раздвинулись, обнажая великолепные зубы Уинстона Найлса Румфорда.
Констант тоже оскалился, приготовившись заскрежетать зубами, как и подобало при виде человека, который причинил ему столько зла. Но так и не заскрежетал. Во-первых, никто на него не смотрит, никто не увидит и не поймет. А во-вторых, Констант не нашел в своем сердце ни капли ненависти.
Он готовился скрежетать зубами — а вместо этого разинул рот, как деревенский простак, — разинул рот, как деревенщина, при виде человека, больного ужасной, смертельной болезнью.
Уинстон Найлс Румфорд, полностью материализованный, лежал на спине в своем бледно-лиловом шезлонге на берегу бассейна. Его немигающие глаза глядели прямо в небо, они казались незрячими.
Тонкая рука свешивалась с кресла, а в слабых пальцах висела цепь-удавка Казака, космического пса.
Удавка была пустая.
Взрыв на Солнце разлучил человека с его собакой.
Если бы Вселенная была основана на милосердии, она позволила бы человеку и его собаке остаться вместе.
Но Вселенная, в которой жили Уинстон Найлс Румфорд и его пес, не была основана на милосердии. Казак отправился впереди своего хозяина выполнять великую миссию — в никуда и в ничто.
Казак с воем исчез в облаке озона и зловещем сверканье огненных языков, со звуком, похожим на гудение пчелиного роя.
Румфорд выпустил из пальцев пустую удавку. Эта цепочка воплощала мертвенность — она упала с невнятным звуком, легла неживыми бессмысленными изгибами — лишенная души рабыня силы тяжести, с хребтом, перебитым от рождения.
Свинцовые губы Румфорда дрогнули.
— Здравствуй, Беатриса, жена, — сказал он замогильные голосом.
— Здравствуйте, Звездный Странник, — сказал он. На этот раз он заставил свой голос звучать приветливо. — Вы смелый человек, Звездный Странник, — рискнули еще раз со мной повстречаться.
— Здравствуй, блистательный юный носитель блистательного имени — Хроно, — сказал Румфорд. — Привет тебе, о звезда немецкой лапты, — привет тебе, обладатель чудотворного талисмана.
Те, к кому он обращался, успели только войти за ограду. Бассейн отделял их от Румфорда.
Старый Сэло, которому было отказано даже в возможности умереть, сидел, пригорюнившись, на корме золоченой лодки, стоявшей у берега, за стеной.
— Я не умираю, — сказал Румфорд. — Просто настало время распрощаться с Солнечной системой. Нет, не навсегда. Если смотреть на вещи с точки зрения хроно-синкластического инфундибулума — всеобъемлюще, вневременно, — я всегда буду здесь. Я всегда буду везде, где побывал раньше.
— Я все еще праздную медовый месяц с тобой, Беатриса, — сказал он. — Все еще разговариваю с вами в маленькой комнатушке под лестницей в Ньюпорте, мистер Констант. Да-да — и еще играю в прятки с вами и Бозом в пещерах Меркурия. Хроно, — сказал он, — а я все еще смотрю, как здорово ты играешь в немецкую лапту там, на железной площадке для игр, на Марсе.
Он застонал. Стон был еле слышный, но такой горестный.
Сладостный, нежный воздух Титана унес стон вдаль.
— Мы все еще говорим то, что успели сказать, — так, как было, так, как есть, как будет, — сказал Румфорд.
Короткий, еле слышный стон снова вырвался на волю.
Румфорд посмотрел ему вслед, словно это было колечко дыма.
— Я должен сказать вам кое-что о смысле жизни в Солнечной системе — вам нужно это знать, — сказал он. — Попав в хроно-синкластический инфундибулум, я знал это с самого начала. И все же я старался думать об этом как можно меньше — уж очень это гнусная штука.
Вот какая гнусная штука:
Все, что каждый житель Земли когда-либо делал, было сделано под влиянием существ с планеты, которая находится на расстоянии ста пятидесяти тысяч световых лет от Земли.
Планета называется Тральфамадор.
Я не знаю, каким образом тральфамадорцы на нас влияли. Но я знаю, с какой целью они вмешивались в наши дела.
Они направляли все наши действия так, чтобы мы доставили запасную часть посланцу с Тральфамадора, который совершил вынужденную посадку здесь, на Титане.
Румфорд указал на юного Хроно.
— Она у вас, молодой человек, — сказал он. — Она у вас в кармане. Вы носите в кармане высший смысл всей истории Земли, ее завершение. В вашем кармане лежит вещь, которую, каждый землянин старался найти и доставить так самоотверженно, так истово, так отчаянно, путем проб и ошибок — не жалея жизни.
Из пальца Румфорда, укоризненно направленного на юного Хроно, с шипеньем вырос побег электрического разряда.
— Та штучка, которую вы называете своим талисманом, — сказал Румфорд, — и есть запасная часть, которой тральфамадорский гонец дожидается долгие годы!
— А гонец, — сказал Румфорд, — это то существо, похожее на мандарин, которое сейчас прячется за стеной. Его зовут Сэло. Я надеялся, что посланник позволит человечеству хоть краешком глаза взглянуть на послание, которое он несет, — ведь человечество только и делало, что старалось ему помочь, К сожалению, ему дан приказ никому не показывать послание. А так как он просто машина, то, будучи машиной, выполняет приказания буквально и нарушать их не может.
— Я вежливо попросил его показать мне послание, — сказал Румфорд. — И он категорически отказался.
Плюющаяся искрами веточка электричества, пробившаяся из пальца Румфорда, стала расти, обвила Румфорда спиралью. Румфорд пренебрежительно посмотрел на спираль.
— Кажется, начинается, — сказал он о спирали.
Так оно и было. Спираль слегка сдвинула витки, словно присела в реверансе. Потом она начала вращаться вокруг Румфорда, окружая его плотным коконом из зеленого света.
Вращаясь, она еле слышна потрескивала.
— Единственное, что мне остается сказать, — донесся из кокона голос Румфорда, — я по мере сил своих старался нести своей родной Земле только добро, хотя исполнял волю Тральфамадора, которой никто не в силах противиться.
— Может статься, что теперь, когда эта деталь доставлена тральфамадорскому гонцу, Тральфамадор наконец-то оставит Землю в покое. Может быть, род человеческий наконец-то сможет свободно развиваться, следуя собственным побуждениям, — ведь люди не знали свободы тысячелетиями. — Он чихнул. — Поразительно, как земляне ухитрились все-таки добиться таких успехов, — сказал он.
Зеленый кокон оторвался от каменных плит, завис над куполом.
— Вспоминайте меня как джентльмена из Ньюпорта, с Земли, из Солнечной системы, — сказал Румфорд. Он говорил с прежней безмятежностью, примирившись с собой и считая себя по меньшей мере равным любому существу, которое ему встретится где бы то ни было.
— Говоря пунктуально, — донесся из кокона певучий тенор Румфорда, — прощайте!
Кокон, в котором был Румфорд, исчез с легким хлопком — пфють!
Никто и никогда больше не видел ни Румфорда, ни его пса.
Старый Сэло ворвался во двор как раз в тот момент, когда Румфорд исчез вместе с коконом.
Маленький тральфамадорец был вне себя от горя. Он сорвал висевшее у него на шее послание со стальной ленты, превратив в присоску одну из своих ног. Одна нога у него до сих пор оставалась присоской, и в ней он держал послание.
Он взглянул вверх — туда, где только что висел кокон.
— Скип! — возопил он к небу. — Скип! Послание! Я прочту тебе послание! Послание! Скииииииииииииип!
Голова Сэло перекувыркнулась в кардановом подвесе.
— Его нет, — сказал он убитым голосом. И шепотом повторил: — Нет его…
— Машина? — сказал Сэло. Он говорил с запинкой, обращаясь не столько к Константу, Беатрисе и Хроно, сколько к самому себе. — Да, я машина, и весь мой народ — машины, — сказал он. — Меня спроектировали и собрали, не жалея затрат, с превеликим тщанием и мастерством, чтобы я стал надежной, абсолютно точной, вечной машиной. Я — лучшая машина, какую сумели сделать мои сородичи.
— А какая машина из меня вышла? — спросил Сэло.
— Надежная? — сказал он. — Они надеялись, что я донесу мое послание до места назначения запечатанным — а я сорвал все печати, я его вскрыл.
— Абсолютно точная? — сказал он. — Теперь, когда я потерял своего лучшего, единственного друга во всей Вселенной, я еле ноги таскаю, мне теперь через травинку переступить — все равно что прыгнуть через пик Румфорда.
— Отлично действующая? Да после того, как я двести тысяч лет кряду смотрел на то, что творится на Земле, я стал непостоянным и сентиментальным, как самая глупая школьница на земном шаре.
— Вечная? — мрачно сказал он. — Это мы еще посмотрим.
Он положил послание, которое так долго хранил, на пустой бледно-лиловый шезлонг Румфорда.
— Вот оно, друг, — сказал он Румфорду, оставшемуся только в его памяти, — пусть оно принесет тебе радость и утешение. Пусть твоя радость будет так же велика, как страдания твоего старого друга Сэло. Чтобы отдать тебе послание — пусть даже слишком поздно, — твой друг Сэло поднял бунт против самой сути своего существа, против своего естества — я ведь машина.
— Ты потребовал от машины невозможного, — сказал Сэло, — и машина совершила невозможное.
— Машина перестала быть машиной, — сказал Сэло. — Контакты съела ржавчина, ориентация нарушена, в контурах короткие замыкания, а механизмы вышли из строя. В голове у машины полная неразбериха, голова у нее лопается от мыслей — гудит и раскаляется от мыслей о любви, чести, достоинстве, правах, совершенствовании, чистоте, независимости…
Старый Сэло взял посланное кресла Румфорда. Послание было написано на тоненьком алюминиевом квадратике. Послание состояло из одной-единственной точки.
— Хотите узнать, как меня использовали, в жертву чему принесли всю мою жизнь? — сказал он. — Хотите услышать, в чем заключается послание, которое я нес почти полмиллиона земных лет — и которое я должен нести еще восемнадцать миллионов лет?
Он протянул к ним ногу — присоску, на которой лежал алюминиевый квадратик.
— Точка, — сказал он.
— Точка, — и больше ничего, — сказал он.
— Точка на тральфамадорском языке, — сказал старый Сэло, — означает…
— ПРИВЕТ!
Маленькая машина с Тральфамадора, доставив послание самому себе, Константу, Беатрисе и Хроно — на расстояние ста пятидесяти тысяч световых лет, — внезапно бросилась бежать вон со двора, к берегу моря.
Там Сэло покончил с собой. Он сам себя разобрал и расшвырял детали по всему берегу.
Хроно вышел на берег, в задумчивости принялся расхаживать среди разбросанных деталей Сэло. Хроно всегда знал, что его талисман обладает чудодейственной силой и сверхъестественным значением.
Он всегда догадывался, что когда-нибудь какое-нибудь высшее существо явится и предъявит права на талисман, как на свою собственность. Так уж устроены самые могущественные талисманы — человек всегда получает их только на время.
Люди просто берегут их, пользуются их силой, пока не приходят высшие существа, настоящие хозяева талисманов.
Хроно никогда не мучился ощущением тщетности и бестолковости всего происходящего.
Для него все и всегда было в полном порядке.
И сам мальчик был частью этого совершенного, полного порядка.
Он вынул из кармана свой талисман и без малейшего сожаления уронил его на песок, бросил его среди разбросанных по песку деталей Сэло.
Рано или поздно магические силы Вселенной снова соберут все, как надо, — Хроно в это верил.
Магические силы все всегда приводили в порядок.
Встреча со Стоуни
«Ты устал, ты смертельно устал, Звездный Странник, Малаки, Дядек. Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги».
Больше почти нечего рассказывать. Малаки Констант состарился на Титане. Беатриса Румфорд состарилась на Титане. Они скончались мирно и почти одновременно с разницей в одни сутки. Они умерли на семьдесят четвертом году жизни.
А что в конце концов стало с их сыном, Хроно, — про то знают только синие птицы Титана.
На семьдесят четвертом году жизни Малаки Констант был дряхлым, добродушным старичком на полусогнутых ногах. Он совершенно облысел и ходил почти всегда в чем мать родила, однако тщательно подстригал свою седую ван-дейковскую бородку.
Последние тридцать лет он жил в неисправном космическом корабле Сэло.
Констант и не пытался стартовать на космическом корабле. Он не посмел дотронуться ни до одной кнопки. На корабле Сэло пульт управления был куда сложнее, чем на марсианском корабле. На пульте корабля Сэло Константу представлялся выбор из двухсот семидесяти трех кнопок, тумблеров, рычажков, все надписи и отметки на которых были тральфамадорские. Вряд ли стоило развлекаться, играя на таком игровом автомате, во Вселенной, которая на одну триллионную состояла из материи, а на дектильон частей — из бархатно-черной пустоты.
Констант решился только осторожно попробовать приладить на место талисман Хроно — проверить, правду ли говорил Румфорд и подойдет ли талисман к энергоблоку корабля.
Во всяком случае, форма у него была как будто подходящая. В энергоблок корабля вела дверь, из которой, очевидно, когда-то просачивался дым. Констант ее открыл, увидел покрытую сажей комнату. Под слоем копоти виднелись обгорелые штырьки и валики, которые ни с чем не были соединены.
Константу удалось совместить дырочки на талисмане Хроно с этими штырьками, пристроить полоску между валиками. Талисман улегся в узкую ложбинку так ловко, что даже швейцарский часовщик остался бы доволен.
Констант обзавелся множеством хобби, которые помогали ему коротать время в целительном климате Титана.
Самое интересное его хобби заключалось в том, что он возился с останками Сэло, тральфамадорского гонца, который сам себя разобрал. Констант провел не одну тысячу часов, пытаясь снова собрать Сэло и пустить его в ход.
Пока что это ему не удавалось.
Констант вначале решил возродить маленького тральфамадорца, надеясь, что Сэло согласится переправить юного Хроно обратно на Землю.
Сам Констант на Землю не стремился, и его подруга, Беатриса, тоже об этом не мечтала. Но Констант и Беатриса считали, что их сын, у которого вся жизнь впереди, должен прожить эту жизнь среди деятельных и веселых людей на Земле.
Но к тому времени, как Константу стало семьдесят четыре, можно было уже не торопиться с отправкой юного Хроно на Землю. Юный Хроно стал немолодым человеком. Ему было уже сорок два. И он настолько хорошо, настолько тонко приспособился к жизни на Титане, что переправлять его в любое другое место было бы вопиющей жестокостью.
В семнадцать лет Хроно сбежал из своего домадворца и стал жить среди синих птиц — самых чудесных существ на Титане. Хроно и теперь жил в их гнездовье, неподалеку от Заводей Казака. Он носил накидку из их перьев, высиживал их птенцов и знал их язык.
Констант больше не видел Хроно. Иногда он слышал в сумерках крики Хроно. Констант не откликался на эти крики. Крики Хроно не предназначались ни для одушевленных, ни для неодушевленных обитателей Титана.
Хроно приветствовал криком Фебу, проплывающую в небе луну.
Временами, когда Констант собирал титаническую клубнику или пятнистые двухфунтовые яйца титанических ржанок, он натыкался на небольшой алтарик, сооруженный на открытом месте из палок и камней. Хроно соорудил сотни таких алтарей.
Алтари всегда были построены по одной схеме. В центре помещался один большой камень, символизировавший Сатурн. Вокруг лежала зеленая ветка, согнутая в кольцо, — это были кольца Сатурна. А за этим кольцом располагались девять камней — по числу лун Сатурна. Самый большой из этих камней-спутников представлял Титан. И под этим камнем всегда лежало перо синей птицы Титана.
По следам на земле было видно, что юный Хроно уже не первой молодости — проводил целые часы, передвигая планеты своего игрушечного мира.
Когда старый Малаки Констант находил один из таких алтарей в запущенном виде, он обязательно старался по мере сил навести в нем порядок. Он выпалывал сорняки и разравнивал землю, приносил свежую ветку, которая изображала кольца Сатурна. Он непременно клал новое перо синей птицы под камень, изображавший Титан.
Прибирая священные для сына алтари, Констант духовно сближался со своим сыном, насколько это было возможно.
К попыткам сына создать религию он относился с уважением.
Порой, глядя на возрожденный алтарь, Констант по-разному передвигал элементы собственной жизни — но только в голове, камней он не трогал. В такие минуты он с грустью размышлял о двух вещах: о том, что он убил Стоуни Стивенсона, своего лучшего, единственного друга, и о том, что на склоне лет он, наконец, заслужил любовь Беатрисы Румфорд.
Констант так и не узнал, догадался ли Хроно, кто обновляет его святилища. Может быть, он думал, что его Бог или боги об этом заботятся.
Все это было так печально. Но это было прекрасно.
Беатриса Румфорд жила одна в румфордовском Тадж-Махале.
Встречи с сыном беспокоили ее гораздо больше, чем Константа. В совершенно непредсказуемые дни, с неравными интервалами, Хроно переплывал пролив, являлся во дворец, облачался в какой-нибудь из костюмов Румфорда, объявлял матери, что сегодня ее день рождения, и весь день развлекал ее ленивой, неспешной, вполне цивилизованной беседой.
К концу дня Хроно надоедала н одежда, и мать, и цивилизация. Он с яростью срывал с себя костюм, издавал клич синих птиц н с размаху бросался в Море Уинстона.
Пережив празднование очередного «дня рождения», Беатриса обычно втыкала весло в песок в том месте, которое было видно с ближайшего берега, и поднимала на нем простыню — белый флаг.
Это был сигнал для Малаки Константа, означавший, что она очень просит его как можно скорее приплыть и помочь ей прийти в себя.
А когда Констант спешно являлся на этот зов отчаяния, Беатриса всегда встречала его одними и теми же словами, стараясь утешить себя:
— По крайней мере, — говорила она, — он не маменькин сынок. По крайней мере, у него хватило величия души, чтобы выбрать самые благородные, самые прекрасные существа из всех, какие здесь водятся.
И вот простыня — сигнал бедствия — развевалась на берегу.
Малаки Констант пустился в путь в долбленке. Золоченая лодка, доставшаяся им вместо с дворцом, давным-давно рассыпалась в прах.
Констант был одет в старый купальный халат из голубой шерсти, оставшейся от Румфорда. Он нашел его во дворце и взял, когда костюм Звездного Странника вконец износился. Халат был его единственным одеянием, да и надевал он его только когда навещал Беатрису.
В долбленке у Константа лежали шесть яиц ржанки, две кварты дикой титанической клубники, трехгаллонный торфяной горшок с перебродившим молочком маргариток, бушель семян титанических маргариток, восемь книг, которые он брал почитать из дворцовой библиотеки, насчитывавшей сорок тысяч томов, и самодельная метла с самодельным совком для мусора.
Констант вел натуральное хозяйство. Он выращивал. собирал и делал своими руками все, что ему было нужно. И необычайно этим гордился.
Беатриса не нуждалась в помощи Константа. Румфорд оставил в Тадж-Махале грандиозные запасы земной еды и земных напитков. У Беатрисы всего было вдоволь, и запасы были неистощимы.
Констант вез Беатрисе местные лакомства только потому, что гордился своим искусством лесного жителя и сельского хозяина. Он очень любил показать, какой он замечательный добытчик.
Это стало для него необходимостью.
Констант прихватил с собой щетку и совок по той причине, что во дворце у Беатрисы всегда накапливались кучи отбросов. Беатриса сама никогда не занималась уборкой, так что Констант пользовался случаем и убирал мусор, когда бывал у нее в гостях.
Беатриса Румфорд была жилистой, одноглазой, темнокожей старой леди с золотыми зубами — сухой и крепкой, как спинка стула. Но ни физический урон, ни пережитые страдания не могли скрыть благородства старой леди — сразу был виден высокий класс.
Каждому, кто понимал, что такое поэзия, смертность и чудо, гордая подруга Малаки Константа со своими высокими скулами показалась бы прекрасной, насколько это возможно для человеческого существа.
Не исключено, что она слегка повредилась в рассудке. На Луне, где кроме нее, жили только два человека, она писала книгу под названием «Истинный смысл жизни в Солнечной системе». Это было опровержение теории Румфорда, который утверждал, что цель существования человечества в Солнечной системе — помочь застрявшему на Титане гонцу с Тральфамадора снова отправиться в путь.
Беатриса начала писать книгу, когда сын покинул ее и ушел жить к синим птицам. Рукопись, написанная ее рукой, теперь занимала тридцать восемь кубических футов в комнатах Тадж-Махала.
Каждый раз, когда Констант ее навещал, она читала ему вслух новые главы.
Сейчас она как раз читала вслух, сидя в старом кресле Румфорда, а Констант бродил по двору. Беатриса была закутана в белое с розовым покрывало с кровати, которое тоже осталось во дворце. В пушистую ткань были вплетены буквы: «Богу все равно».
Это было собственное покрывало Румфорда.
Беатриса читала, не останавливаясь, словно пряла нить из доводов против воображаемого могущества Тральфамадора.
Констант не прислушивался. Он просто с удовольствием слушал голос Беатрисы — звучный, торжествующий. Он спустился в бассейн и отвинчивал крышку клапана, чтобы спустить воду. Вода превратилась в нечто похожее на гущу горохового супа — так в ней расплодились титанические водоросли. Каждый раз, приезжая к Беатрисе, Констант вступал в безнадежное единоборство с этой массой зеленой тины.
— Я не стану отрицать, — читала вслух Беатриса, — что воздействие Тральфамадора действительно ощущалось на Земле. И все же — те люди, которые служили исполнителями воли Тральфамадора, исполняли ее настолько в своем личном стиле, что можно смело сказать — Тральфамадор практически не имел к этому никакого отношения.
Констант, сидя в бассейне, приложил ухо к открытому клапану. Судя по звуку, вода едва просачивалась.
Констант выругался. Румфорд унес с собой важнейшую тайну, а вместе с Сэло она умерла — как им удавалось, пока они здесь жили, сохранять бассейн в такой кристальной чистоте С тех пор, как этим занимался Констант, водоросли постепенно заполонили бассейн Дно и стенки бассейна заросли покрывалом скользкой слизи, а три статуи на дне — три сирены Титана были погребены под студнеобразной зеленой массой.
Констант знал, какую роль сыграли три сирены в его жизни Он об этом читал — и в «Карманной истории Марса», и в «Авторизованной Библии под редакцией Уинстона Найлса Румфорда» Эти три невиданные красавицы теперь его не особенно трогали — разве что на поминали, что были времена, когда секс его еще тревожил.
Констант выбрался из бассейна.
— Каждый раз стекает все хуже, — сказал он Беатрисе. — Придется откапывать и чистить трубы.
— Вот как? — сказала Беатриса, отрывая глаза от рукописи.
— Да, вот так, — сказал Констант.
— Ладно, делай то, что нужно делать, — сказала Беатриса.
— В этом вся история моей жизни, — сказал Констант.
— Мне только что пришла мысль, которую непременно надо записать, — сказала Беатриса. — Непременно надо, пока она не ускользнула.
— Если она побежит в мою сторону, я стукну ее совком, — сказал Констант.
— Погоди, помолчи минутку, — сказала Беатриса. — Дай мне сосредоточиться, найти нужные слова.
Она встала и ушла во дворец, чтобы ее не отвлекал ни Констант, ни кольца Сатурна.
Она долго смотрела на громадный портрет ослепительно чистой девочки в белом, держащей в поводу собственного белоснежного пони.
Беатриса знала, кто это. На картине была прибита бронзовая дощечка с надписью: «Беатриса Румфорд в детстве».
Контраст был поразительный — контраст между маленькой девочкой в белом и старой женщиной, которая ее разглядывала.
Беатриса резко повернулась спиной к портрету, снова вышла во двор. Теперь мысль, которую она хотела записать для книги, четко оформилась у нее в голове.
— Самое худшее, что может случиться с человеком, — сказала она, — это если его никто и ни для чего не использует.
Эта мысль ее успокоила. Она прилегла на старый шезлонг Румфорда, посмотрела на фантастически красивые кольца Сатурна — Радугу Румфорда.
— Благодарю тебя за то, что ты мной воспользовался, — сказала она Константу. — Несмотря на то, что я не желала, чтобы кто-нибудь ко мне прикасался.
— Не стоит благодарности, — сказал Констант.
Он принялся подметать двор. Мусор, который он выметал, состоял из песка, принесенного ветром, кожуры семян маргариток, скорлупы земных арахисовых орехов, пустых банок из-под курятины без костей и скомканных листов писчей бумаги. Беатриса питалась главным образом семенами маргариток, арахисом и готовыми куриными консервами — их даже не надо было разогревать, так что она могла есть, не отрываясь от рукописи.
Она умела есть одной рукой и писать другой — а ей больше всего на свете хотелось успеть записать все, все.
Не закончив подметать, Констант на минуту остановился посмотреть — как там стекает вода из бассейна.
Вода стекала медленно. Студенистая куча водорослей, закрывавшая сирен Титана, едва показалась над зеркалом воды.
Констант наклонился над открытым стоком, вслушался в журчанье воды.
Он услышал, как вода певуче переливается в трубах. И он услышал еще что-то.
Он услышал тишину вместо знакомого, такого любимого звука.
Его подруга, Беатриса, перестала дышать.
Малаки Констант похоронил свою подругу в титаническом торфе, на берегу моря Уинстона Он выкопал могилу там, где не было ни одной статуи.
Когда Малаки Констант прощался с ней, в небе над ним тучами кружились синие птицы Титана. Там было не меньше десяти тысяч этих громадных благородных птиц.
Они превратили день в ночь, а воздух дрожал от взмахов их крыльев.
Но ни одна птица не издала ни звука.
И в этой ночи средь бела дня на круглой вершине холма, откуда была видна могила Беатрисы, появился Хроно, сын Беатрисы и Малаки. Он был в плаще из птичьих перьев, размахивал полами, как крыльями. Он был воплощением красоты и силы.
— Благодарю, Мать и Отец, за то, что вы подарили мне жизнь! Прощайте! — крикнул он.
Потом он исчез, и за ним улетели птицы.
Старый Малаки вернулся во дворец. Сердце у него было тяжелое, как пушечное ядро. Он вернулся во дворец только потому, что хотел оставить все в полном порядке.
Рано или поздно сюда придет еще кто-нибудь.
Дворец должен быть чистым, прибранным, подготовленным к их приходу. Дворец должен поминать добром прежнюю владелицу.
Вокруг старого, потертого кресла Румфорда лежали яйца ржанок, и дикая клубника, и корзинка с семенами маргариток, и горшочек с перебродившим молочком маргариток — все это Констант привез для Беатрисы Это скоропортящиеся продукты. Они не дождутся новых обитателей.
Констант отнес их обратно в свою долбленку. Ему-то они были не нужны. Они никому не были нужны.
А когда он выпрямил свою старую спину, то увидел. что Сэло, маленький посланец с Тральфамадора, идет к нему по воде.
— Здравствуйте, — сказал Констант.
— Здравствуйте, — сказал Сэло. — Благодарю вас за то, что вы меня собрали.
— Я не ожидал, что у меня получится, — сказал Констант. — Как ни бился, вы не подавали признаков жизни.
— Все у вас получилось, — сказал Сэло. — Просто я сам не знал, стоит подавать признаки жизни или не стоит. — Он со свистом выпустил воздух из своих ступней. — Пожалуй, пора двигаться, — сказал он.
— Вы все-таки хотите доставить послание? — спросил Констант.
— Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, — сказал Сэло, — должен хотя бы поддержать честь всех дураков и выполнить поручение до конца.
— Моя жена умерла сегодня, — сказал Констант.
— Очень жаль, — сказал Сэло. — Я бы еще сказал: «Чем я могу помочь?» — но Скип как-то заметил, что это самое идиотское и отвратительное выражение в английском языке.
Констант потер руки. Да, на Титане у него друзей не оставалось — разве что у правой руки есть левая, под пару — вот и вся компания.
— Плохо без нее, — сказал Констант.
— Значат, вы все же полюбили друг друга, — сказал Сэло.
— Всего год назад по земному счету, — сказал Констант. — Сколько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни — кто бы человеком ни управлял, — только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви.
— Если вы сами или ваш сын захотите вернуться на Землю, — сказал Сэло, — я вас подброшу по дороге.
— Мальчик ушел к синим птицам, — сказал Констант.
— Молодец! — сказал Сэло. — Я бы и сам к ним ушел, если бы они согласились меня принять.
— Земля… — задумчиво сказал Констант.
— Мы будем там через несколько часов, — сказал Сэло. — Корабль в полной исправности.
— Здесь очень одиноко, — сказал Констант. — Особенно теперь, когда… — И он покачал головой.
Еще дорогой Сэло испугался, что совершил роковую ошибку, предложив Константу вернуться на Землю. Эта мысль у него появилась, когда Констант потребовал, чтобы Сэло доставил его в Индианаполис, штат Индиана, США.
Это неожиданное требование испугало Сэло: Индианаполис — далеко не лучшее место для бездомного старика.
Сам Сэло собирался высадить его возле шахматного клуба в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США. Но Констант уперся на своем, как это свойственно старикам. Он хотел в Индианаполис, и все тут.
Сэло подумал, что у него в Индианаполисе родственники или старые деловые связи, но оказалось, что ничего подобного нет.
— Я никого в Индианаполисе не знаю, да и про сам город знаю только то, — сказал Констант, — что прочел в книжке.
— А что вы прочли в книжке? — спросил Сэло. Ему было очень не по себе.
— Индианаполис, в Индиане, — сказал Констант, — был первым американским городом, где белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить белого за убийство индейца, — сказал Констант, — этот город мне подходит.
Голова Сэло сделала сальто в кардановом подвесе. Ноги Сэло горестно зачмокали, переминаясь присосками по железному полу. Он отчетливо сознавал, что его пассажир практически ничего не знает о планете, к которой летит со скоростью, приближающейся к скорости света.
Но Констант, по крайней мере, имел при себе деньги. Это все же облегчало положение. У него было около трех тысяч долларов в самой разнообразной земной валюте — он их обнаружил в карманах костюмов Румфорда.
По крайней мере, он был обут и одет.
Одет он был в сидевший на нем мешком, но добротный твидовый костюм с плеча Румфорда, а вместе с костюмом захватил и ключ Фи Бета Каппа — он болтался на цепочке от часов, пущенной поперек жилета.
Сэло уговорил Константа взять ключ вместе с костюмом.
Констант был одет в хорошее пальто, он был в шляпе и даже в галошах.
До Земли оставалось не больше часа пути, и Сэло торопился придумать что-нибудь, чтобы у Константа была сносная жизнь, пусть даже в Индианаполисе.
И он задумал загипнотизировать Константа: пусть хоть самые последние секунды жизни Константа принесут старику несказанную радость. Жизнь Константа кончится хорошо.
Констант и без того находился почти в гипнотическом трансе — он, как завороженный, смотрел сквозь иллюминатор в открытый космос.
Сэло подошел к нему сзади и заговорил ласково и утешительно:
— Ты устал, ты смертельно устал, Звездный Странник, Малаки, Дядек, — сказал Сэло. — Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги.
— Тяжелеют, — повторил Констант.
— Когда-нибудь ты умрешь, Дядек, — сказал Сэло. — Это жаль, но это правда.
— Правда, — сказал Констант. — А жалеть меня не надо.
— Когда ты поймешь, что умираешь, Звездный Странник, — сказал Сэло ровным голосом гипнотизера, — с тобой случится чудо. — И он рассказал Константу про те чудесные вещи, которые он увидит в своем воображении перед самой смертью.
Это будет постгипнотическое внушение.
— Проснитесь! — сказал Сэло.
Констант передернул плечами, отвернулся от иллюминатора.
— Где я? — спросил он.
— На тральфамадорском космическом корабле, летящем с Титана на Землю, — сказал Сэло.
— А, — сказал Констант. — Ну да, — сказал он минуту спустя. — Кажется, я заснул.
— Вздремните немного, — сказал Сэло.
— Пожалуй, надо поспать, — сказал Констант. Он лег на койку. И быстро заснул.
Сэло пристегнул спящего Звездного Странника к койке. Потом он сам пристегнулся ремнями к своему креслу у пульта управления. Он поставил указатели на трех датчиках, несколько раз проверил цифры на каждом из них. Потом нажал ярко-красную кнопку.
Он откинулся в кресле. Больше делать было нечего. С этой минуты все взяла на себя автоматика. Через тридцать шесть минут корабль приземлится возле конечной остановки автобуса в пригороде Индианаполиса, Индиана, США, Земля, Солнечная система, Млечный Путь.
В это время там будет три часа утра.
И там будет зима.
Космический корабль опустился на четырехдюймовый слой только что выпавшего снега на пустыре, в южном предместье Индианаполиса. Все спали, и никто не видел, как села летающая тарелка.
Малаки Констант вышел из космического корабля.
— Вон там остановка вашего автобуса, старый солдат, — прошептал Сэло. Приходилось говорить шепотом — всего в тридцати футах стоял двухэтажный каркасный домик и окно спальни было открыто.
— Придется подождать десять минут, — шепотом сказал Сэло. — Автобус доставит вас прямо в центр. Попросите шофера, чтобы он вас высадил поближе к хорошей гостинице.
Констант кивнул.
— Со мной все будет в полном порядке, — сказал он шепотом.
— Как вы себя чувствуете? — прошептал Сэло.
— Тепло, как в духовке, — прошептал Констант. Из открытого окна домика донесся недовольный голос потревоженного во сне обитателя.
— Эй, кто там? — промямлил сонный жилец. — Эфо уа, ди-йя умммммммммммммм.
— Вы и вправду хорошо себя чувствуете? — прошептал Сэло.
— Да, отлично, — прошептал Констант. — Тепло, как в духовке.
— Желаю удачи, — прошептал Сэло.
— У нас здесь не принято так говорить, — прошептал Констант.
Сэло подмигнул.
— Да я-то не здешний, — прошептал он. Он посмотрел на чистейшую белизну снега, укрывшего землю, почувствовал влажные поцелуи снежных хлопьев, задумался о том, с какой таинственной целью горят бледно-желтые фонари в этом мире, спящем таким белоснежным сном.
— Какая красота! — прошептал он.
— Правда? — прошептал Констант.
— Сим-фоу! — угрожающе вскрикнул спящий, отпугивая всякого, кто дерзнул бы нарушить его сон. — Суу! Э-со! Что там ва-ва? Нф.
— Вам пора улетать, — прошептал Констант.
— Да, — шепнул Сэло.
— Прощайте, — прошептал Констант. — И спасибо вам.
— Не стоит благодарности, — прошептал Сэло. Он забрался в корабль, задраил люк. Корабль поднялся с земли со звуком, похожим на тот, который получается, если сильно подуть, прижав к нижней губе горлышко бутылки. Он скрылся в снежной замяти, исчез из глаз.
— У-лю-люлю, — сказал корабль на прощанье.
Снег скрипел под ногами Малаки Константа, пока он шел к скамейке у остановки. Он смел со скамейки снег и сел.
— Фроу! — крикнул спящий, как будто внезапно все понял.
— Броу! — крикнул он. Видно, ему не очень понравилось то, что он понял.
— Сап-фоу! — добавил он, ясно показывая, как он с этим разделается.
— Флууф! — рявкнул он.
Судя по всему, заговорщики в ужасе бежали.
А снег валил.
Автобус, которого дожидался Малаки Констант, в то утро опоздал на два часа — по причине снегопада А когда автобус подошел, было уже поздно — Малаки Констант был мертв.
Сэло внушил ему под гипнозом, что перед смертью он увидит своего лучшего, единственного друга — Стоуни Стивенсона.
Снежная вьюга кружила над Константом, а ему вдруг почудилось, что тучи разошлись и сквозь них пробился луч солнца — солнечный луч для него одного.
Золотой космический корабль, усеянный алмазами, плавно скользнул по солнечному лучу, опустился в нетронутый снег посередине улицы.
Из корабля вышел коренастый рыжий человек с толстой сигарой во рту. Он был очень молод. На нем была форма Марсианского штурмового пехотного корпуса — прежняя форма Дядька.
— Привет, Дядек, — сказал человек. — Влезай!
— Влезать? — сказал Констант. — А вы кто такой?
— Стоуни Стивенсон, Дядек. Разве ты меня не узнал?
— Стоуни? — сказал Констант. — Это ты, Стоуни?
— А кто же еще выдержит эти чертовы перегрузки? — сказал Стоуни. Он засмеялся. — Давай влезай, — сказал он.
— Куда полетим? — спросил Констант.
— В рай, — ответил Стоуни.
— А что там, в раю? — спросил Констант.
— Там все счастливы во веки веков, — сказал Стоуни, — или, по крайней мере, до тех пор, пока эта Вселенная не взорвется к чертям. Влезай, Дядек. Беатриса уже там, ждет тебя.
— Беатриса? — переспросил Дядек, забираясь в космический корабль.
Стоуни задраил люки, нажал кнопку с надписью «вкл.».
— А мы и вправду — вправду летим в рай? — сказал Дядек. — Я — я попаду в рай?
— Ты только меня не спрашивай, почему, старина, — сказал Стоуни, — но кто-то там, наверху, хорошо к тебе относится.
КОНЕЦ
Посвящается Мата Хари
Где тот мертвец из мертвецов,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»
В чьем сердце не забрезжит свет,
Кто не вздохнет мечте в ответ,
Вновь после странствий многих лет
На почву родины вступая?
Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная, просто случилось так, что я ее знаю: мы как раз то, чем хотим казаться, и потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться.
Мой опыт с нацистскими фокусами был ограничен. В моем родном городе Индианополисе в тридцатые годы было некоторое количество мерзких и активных местных американских фашистов, и кто-то подсунул мне «Протоколы сионских мудрецов», которые считаются тайным еврейским планом захвата мира. Кроме того, я помню, как смеялись над моей тетушкой, которая вышла замуж за немецкого немца и которой пришлось запросить из Индианополиса подтверждение, что в ней нет еврейской крови. Мэр Индианополиса, знавший ее по средней школе и школе танцев, с удовольствием так разукрасил документы, затребованные немцами, лентами и печатями, что они напоминали мирный договор восемнадцатого века.
Вскоре началась война, я участвовал в ней и попал в плен, так что смог немного узнать Германию изнутри, пока еще шла война. Я был рядовым, батальонным разведчиком, и по условиям Женевской конвенции должен был работать, чтобы содержать себя, что было скорее хорошо, чем плохо. Я не должен был все время находиться в тюрьме где-то за городом. Я отправлялся в город, это был Дрезден, и видел людей и что они делают.
В нашей рабочей бригаде нас было около сотни, мы работали по контракту на фабрике, изготовлявшей обогащенный витаминами сироп из солода для беременных. У него был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком. Он был очень вкусный. Мне даже и сейчас его хочется. А город был прекрасен, наряден, как Париж, и совершенно не тронут войной. Он считался как бы «открытым» городом и не должен был подвергаться бомбардировкам, потому что в нем не было ни скопления войск, ни военных заводов.
Но в ночь на 13 февраля 1945 года, примерно двадцать один год тому назад, на Дрезден посыпались фугасные бомбы с английских и американских самолетов. Их сбрасывали не на какие-то определенные цели. Расчет состоял в том, что они создадут много очагов пожара и загонят пожарных под землю.
А затем на пожарища посыпались сотни мелких зажигательных бомб, как зерна на свежевспаханную землю. Эти бомбы удерживали пожарников в укрытиях, и все маленькие очаги пожара разрастались, соединялись, превращались в апокалиптический огонь. Р-р-раз — и огненная буря! Это была, кстати, величайшая бойня в истории Европы. Ну и что?
Нам не пришлось увидеть это море огня. Мы сидели в холодильнике под скотобойней вместе с нашими шестью охранниками и бесконечными рядами разделанных коровьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Мы слышали, как наверху падали бомбы. Временами кое-где сыпалась штукатурка. Если бы мы высунулись наверх посмотреть, мы бы сами превратились в результат огненного шторма: в обугленные головешки длиной в два-три фута — смехотворно маленьких человечков или, если хотите, в больших неуклюжих жареных кузнечиков.
Фабрика солодового сиропа исчезла. Все исчезло, остались только подвалы, где, словно пряничные человечки, испеклись 135000 Гензель и Гретель. Нас отправили в убежища откапывать тела сгоревших и выносить их наверх. И я увидел много разных типов германцев в том виде, в каком их застала смерть, обычно с пожитками на коленях. Родственники иногда наблюдали, как мы копаем. На них тоже было интересно смотреть.
Вот и все о нацистах и обо мне.
Если б я родился в Германии, я думаю, я был бы нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя сапоги в сугробах и согреваясь своим тайно добродетельным нутром. Такие дела.
Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории: если вы мертвы — вы мертвы.
И еще одна мораль открылась мне теперь: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу.
Айова-Сити, 1966 год
При подготовке этого американского издания «Признаний Говарда У. Кемпбэлла-младшего» мне пришлось иметь дело с материалом, который следует рассматривать не только как простое изложение событий или, в зависимости от точки зрения, как попытку обмануть. Кемпбэлл был как лицом, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, так и писателем, в свое время драматургом средней руки. Сказать, что он был писателем, значит утверждать, будто одних только требований искусства достаточно, чтобы заставить его лгать, и лгать, не видя в этом ничего дурного. Сказать, что он был драматургом, значит сделать еще более жесткое предостережение читателю, ибо нет искусней лжеца, чем человек, который превращает жизни и страсти в нечто столь гротескно искусственное, как театр.
И теперь, когда я сказал это о лжи, рискну выразить мнение, что ложь ради художественного эффекта — например, в театре или в признаниях Кемпбэлла — в более высоком смысле может быть наиболее интригующей формой правды.
Я не собираюсь отстаивать эту точку зрения. Задача издателя — никоим образом не полемика. Она состоит лишь в том, чтобы надлежащим образом довести до читателя признания Кемпбэлла.
Что касается моих собственных поправок к тексту, то их немного. Я исправил кое-какие ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и ввел курсив.
В некоторых случаях я изменил имена, чтобы уберечь от смущения и неприятностей еще живых и ни в чем не повинных участников событий. Так, имена Бернарда Б. О’Хара, Гарольда Дж. Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Вымышлены также личный армейский номер Спэрроу и название поста Американского легиона[23]: в Бруклайне нет поста Американского легиона имени Френсиса X. Донована.
В одном месте Говард У. Кемпбэлл, наверное, точнее меня. Это место в главе двадцать второй, где Кемпбэлл цитирует три свои стихотворения по-английски и по-немецки. Английский вариант в его рукописи достаточно ясен. Немецкая же версия, которую Кемпбэлл воспроизвел по памяти, — неровная, местами неудобочитаемая из-за переделок. Кемпбэлл гордился тем, как он писал по-немецки, и был безразличен к своему английскому. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переделывал немецкие варианты стихотворений, но явно, так и остался ими неудовлетворен.
Чтобы показать в этом издании, как эти стихи выглядели по-немецки, пришлось проделать кропотливую работу по их восстановлению. Эту работу — так сказать, воссоздание вазы из черепков — выполнила миссис Теодора Роули (Котуит, штат Массачусетс) — блестящий лингвист и весьма уважаемая поэтесса.
Я сделал существенные сокращения только в двух местах. В главе тридцать девятой я сделал сокращение по настоянию адвоката издательства. В оригинале в этой главе у Кемпбэлла один из Железных Гвардейцев Белых Сынов Американской Конституции кричит агенту ФБР: «Я — больше американец, чем вы. Мой отец сочинил „Я — день Америки“». По утверждению свидетелей, заявление это действительно было сделано, но, видимо, без достаточных оснований. Поэтому адвокат считал, что воспроизведение этого высказывания может обидеть тех, кто действительно сочинил «Я — день Америки».
Вообще же, в той главе, как утверждают свидетели, Кемпбэлл чрезвычайно точен в воспроизведении сказанного. Так, все согласны, что предсмертные слова Рези Нот приведены слово в слово.
Другое сокращение я сделал в главе двадцать третьей, которая в оригинале порнографична. Я счел бы делом своей чести воспроизвести эту главу полностью, если бы не просьба Кемпбэлла прямо в тексте, чтобы редактор несколько выхолостил ее.
Название книги принадлежит Кемпбэллу. Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гете, который приводится ниже в прозаическом переводе:
Я часть части, которая вначале была всем, часть Тьмы, родившей свет, тот надменный свет, который теперь оспаривает у Матери Ночи ее давнее первенство и место, но, как ни старается, победить ее ему не удается, ибо, устремляясь вперед, он оседает на телах. Он струится с тел, он их украшает, но они преграждают ему путь, и, я надеюсь, недалек тот час, когда он рухнет вместе с этими телами.
Посвящение тоже принадлежит Кемпбэллу. Вот что написал Кемпбэлл о посвящении в главе, которую потом изъял:
Прежде чем вырисовывалась эта книга, я написал посвящение — «Мата Хари». Она проституировала в интересах шпионажа, тем же занимался и я. Теперь, когда книга уже видна, я предпочел бы посвятить ее кому-нибудь не столь экзотическому, не столь фантастическому и более современному — не столь похожему на персонаж немого кино. Я бы предпочел посвятить ее какому-нибудь знакомому лицу — мужчине или женщине, широко известному тем, что творил зло, говоря при этом себе: «Хороший я, настоящий я, я, созданный на небесах, — спрятан глубоко внутри».
Я вспоминаю много таких людей, мог бы протараторить их имена на манер песен-скороговорок Гилберта и Сюлливана[24]. Но нет более подходящего имени, которому я мог бы действительно посвятить эту книгу, чем мое собственное. Поэтому позвольте, мне оказать себе эту честь: Эта книга перепосвящается Говарду У. Кемпбэллу-младшему, который служил злу слишком явно, а добру слишком тайно, — преступление его эпохи.
Курт Воннегут-младший
Признания Говарда У. Кемпбэлла-младшего
Тиглатпаласар III…
Меня зовут Говард У. Кемпбэлл-младший.
Я американец по рождению, нацист по репутации, человек без национальности по склонностям.
Я пишу эту книгу в 1961 году.
Я адресую ее мистеру Товия Фридману, директору Института документации военных преступников в Хайфе, и всем тем, кого это может интересовать.
Почему эта книга может интересовать мистера Фридмана?
Потому, что ее пишет человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — специалист по таким людям. Он выразил страстное желание заполучить любые документы, которыми я мог бы пополнить его архивы нацистских злодеяний. Он так этого жаждал, что дал мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность использовать научных консультантов, которые смогут откопать любые сведения, необходимые для пополнения и уточнения моих материалов.
Я сижу за решеткой.
Я сижу за решеткой в прелестной новой тюрьме в старом Иерусалиме.
Я ожидаю справедливого суда государства Израиль за мои военные преступления.
Забавную пишущую машинку дал мне доктор Фридман, и подходящую к случаю. Машинка явно была сделана в Германии во время второй мировой войны. Откуда я это знаю? Очень просто: в ее клавиатуре есть символ, которого никогда не было до Третьего рейха и которого никогда не будет впредь. Этот символ — сдвоенная молния — употреблялся для обозначения СС — Schultzstaffeln[25], — наводившего на всех ужас наиболее фанатичного крыла нацизма.
Я пользовался такой машинкой в Германии во время войны. Всегда, когда я писал о Schultzstaffeln, а я это делал часто и с энтузиазмом, я никогда не использовал аббревиатуру СС, а ударял по клавише с гораздо более устрашающими и магическими сдвоенными молниями.
Древняя история.
Я окружен здесь древней историей. Хотя тюрьма, в которой я гнию, и новая, говорят, что некоторые камни в ее стенах вырублены еще во времена царя Соломона.
И порой, когда из окна своей камеры я смотрю на веселую и раскованную молодежь юной республики Израиль, мне кажется, что я и мои военные преступления такие же древние, как серые камни царя Соломона.
Как давно была эта война, эта вторая мировая война! Как давно были ее преступления!
Как это уже почти забыто даже евреями — то есть молодыми евреями.
Один из евреев, охраняющих меня здесь, ничего не знает об этой войне. Ему это не интересно. Его зовут Арнольд Маркс. У него очень рыжие волосы. Арнольду всего восемнадцать, а это значит, что ему было три года, когда умер Гитлер, и он еще на свет не родился, когда началась моя карьера военного преступника.
Он охраняет меня с шести утра до полудня.
Арнольд родился в Израиле. Он никогда не выезжал из Израиля. Его родители покинули Германию в начале тридцатых годов. Он рассказал мне, что его дед был награжден Железным крестом в первую мировую войну.
Арнольд учится на юриста. Арнольд и его отец-оружейник страстно увлекаются археологией. Отец и сын проводят все свободное время на раскопках руин Хазора. Они работают там под руководством Игаля Ядана, который был начальником штаба израильской армии во время войны с арабами.
Пусть будет так.
Хазор, по словам Арнольда, город ханаанитов в Северной Палестине, существовал, по меньшей мере, за девятнадцать столетий до Рождества Христова. Примерно за четырнадцать столетий до Рождества Христова, говорил Арнольд, армия израильтян захватила Хазор и сожгла его, уничтожив все сорок тысяч жителей.
— Соломон восстановил город, — сказал Арнольд — но в 732 году до нашей эры Тиглатпаласар III снова сжег его.
— Кто? — спросил я.
— Тиглатпаласар III, ассириец, — сказал он, пытаясь подтолкнуть мою память.
— А… — сказал я. — Тот Тиглатпаласар…
— Вы говорите так, словно никогда о нем не слышали, — сказал Арнольд.
— Никогда, — ответил я и скромно пожал плечами. — Это, наверное, ужасно.
— Однако, — сказал Арнольд с гримасой школьного учителя, — мне кажется, его следует знать каждому. Он, наверное, был самым выдающимся из ассирийцев.
— О… — произнес я.
— Если хотите, я принесу вам книгу о нем, — предложил Арнольд.
— Очень мило с вашей стороны, — ответил я. — Может быть, когда-нибудь я и доберусь до выдающихся ассирийцев, а сейчас мои мысли полностью заняты выдающимися немцами.
— Например? — спросил он.
— Я много думаю последнее время о моем прежнем шефе Пауле Иозефе Геббельсе, — отвечал я. Арнольд тупо посмотрел на меня.
— О ком? — переспросил он.
И я почувствовал, как подбирается и погребает меня под собой прах земли обетованной, и понял, какое толстое покрывало из пыли и камней в один прекрасный день навеки укроет меня. Я ощутил тридцати-сорокафутовые толщи разрушенных городов над собой, а под собой кучу древнего мусора, два-три храма и — Тиглатпаласар III.
Особая команда…
Охранник, сменяющий Арнольда Маркса каждый полдень, человек примерно моих лет, а мне сорок восемь. Он хорошо помнит войну, но не любит вспоминать о ней.
Его зовут Андор Гутман. Андор медлительный, не очень смышленый эстонский еврей. Он провел два года в лагере уничтожения в Освенциме. По его собственному неохотному признанию, он едва не вылетел дымом из трубы крематория: — Я как раз был назначен в Sonderkommando — рассказал он мне, — когда пришел приказ Гиммлера закрыть печи.
Sonderkommando означает — особая команда. В Освенциме это значило сверхособая команда — ее составляли из заключенных, обязанностью которых было загонять осужденных в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда их тела. Когда работа была окончена, уничтожались члены самой Sonderkommando. Их преемники начинали с удаления останков своих предшественников.
Гутман рассказывал, что многие добровольно вызывались служить в Sonderkommando.
— Почему? — спросил я.
— Если бы вы написали книгу об этом и дали ответ на это «почему?» — получилась бы великая книга!
— А вы знаете ответ? — спросил я.
— Нет, — ответил он, — вот почему я бы хорошо заплатил за книгу, которая ответила бы на этот вопрос.
— У вас есть предположения? — спросил я.
— Нет, — ответил он, глядя прямо в глаза, — хотя я был одним из добровольцев.
Признавшись в этом, он ненадолго ушел, думая об Освенциме, о котором меньше всего хотел думать. А затем вернулся и сказал:
— Всюду в лагере были громкоговорители, и они почти никогда не молчали. Было много музыки. Знатоки говорили, что это была хорошая музыка, иногда самая лучшая.
— Интересно, — сказал я.
— Только не было музыки, написанной евреями, это было запрещено.
— Естественно, — сказал я.
— Музыка обычно обрывалась в середине, и шло какое-нибудь объявление. И так весь день — музыка и объявления.
— Очень современно, — сказал я.
Он закрыл глаза, припоминая.
— Одно объявление всегда напевали наподобие детской песенки. Оно повторялось много раз в день. Это был вызов Sonderkommando.
— Да? — сказал я.
— Leichenträger zu Wache, — пропел он с закрытыми глазами. Перевод: «Уборщики трупов — на вахту». В заведении, целью которого было уничтожение человеческих существ миллионами, это звучало вполне естественно.
— Ну, а когда два года слушаешь по громкоговорителю этот призыв вперемежку с музыкой, вдруг начинает казаться, что положение уборщика трупов — совсем не плохая работа, — сказал мне Гутман.
— Я могу это понять, — сказал я.
— Можете? — Он покачал головой. — А я не могу. Мне всегда будет стыдно. Быть добровольцем Sonderkommando — это очень стыдно.
— Я так не думаю, — сказал я.
— А я думаю. Стыдно. И я больше никогда не хочу об этом говорить.
Брикеты…
Охранник, сменяющий Андора Гутмана в шесть вечера, — Арпад Ковач.
Арпад — человек-фейерверк, шумный и веселый.
Вчера, придя на смену, он захотел посмотреть, что я уже написал. Я дал ему несколько страниц, и Арпад ходил взад-вперед по коридору, размахивая листками и всячески их расхваливая.
Он их не читал. Он расхваливал их за то, что, по его мнению, в них должно было быть.
— Дай это прочесть услужливым ублюдкам, этим тупым брикетам! — сказал он вчера вечером.
Брикетами он называл тех, кто с приходом нацистов ничего не сделал для спасения себя и других, кто готов был покорно пройти весь путь до газовых камер, если этого хотели нацисты.
Брикет, вообще-то, — блок спрессованной угольной крошки, идеально приспособленный для транспортировки, хранения и сжигания.
Арпад, столкнувшись с проблемами еврея в нацистской Венгрии, не стал брикетом. Наоборот, Арпад добыл себе фальшивые документы и вступил в венгерскую СС.
Вот почему он симпатизировал мне.
— Объясни им, что должен делать человек, чтобы выжить. Что за честь быть брикетом? — сказал он мне вчера.
— Слышал ли ты когда-нибудь мои радиопередачи? — спросил я его. Сферой, где я совершал свои военные преступления, было радиовещание. Я был пропагандистом нацистского радио, хитрым и гнусным антисемитом.
— Нет, — ответил он.
Я показал ему текст одной из радиопередач, предоставленной мне институтом в Хайфе.
— Прочти, — сказал я.
— Мне незачем это читать, — ответил он. — Все говорили тогда одно и то же, снова, и снова, и снова.
— Все равно прочти, сделай одолжение.
Он стал читать, на его лице постепенно появлялась кислая мина. Возвращая мне текст, он сказал:
— Ты меня разочаровываешь.
— Да?
— Это так слабо! В этом нет ни основы, ни перца, ни изюминки. Я думал, ты мастер по части расовой брани.
— А разве нет?
— Если бы кто-нибудь из моей части СС так дружелюбно говорил о евреях, я приказал бы расстрелять его за измену! Геббельсу надо было уволить тебя и нанять меня как радиокарателя евреев. Я бы уж развернулся!
— Но ты ведь делал свое дело в своем отряде СС, — сказал я.
Арпад просиял, вспоминая свои дни в СС.
— Какого арийца я изображал! — сказал он.
— И никто тебя не заподозрил?
— Кто бы посмел? Я был таким чистым и устрашающим арийцем, что меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, откуда евреи всегда знают, что собирается предпринять СС. Где-то была утечка информации, и мы должны были пресечь ее. — Вспоминая это, он изображал на лице горечь и обиду, хотя именно он и был источником этой утечки.
— Справилось ли подразделение со своей задачей?
— Счастлив сказать, что четырнадцать эсэсовцев были расстреляны по нашему представлению. Сам Адольф Эйхман поздравлял нас.
— Ты с ним встречался?
— Да, но, к сожалению, я не знал тогда, какая он важная птица.
— Почему «к сожалению»?
— Я бы убил его.
Кожаные ремни…
Бернард Менгель, польский еврея, охраняющий меня с полуночи до шести утра, тоже моих лет. Однажды он спас себе жизнь во время второй мировой войны, притворившись мертвым так здорово, что немецкий солдат вырвал у него три зуба, не заподозрив даже, что это не труп.
Солдат хотел заполучить три его золотых коронки.
Он их заполучил.
Менгель говорит, что здесь, в тюрьме, я сплю очень беспокойно, мечусь и разговариваю всю ночь напролет.
— Вы — единственный известный мне человек, которого мучают угрызения совести за содеянное им во время войны. Все другие, независимо от того, на чьей стороне они были и что делали, уверены, что порядочный человек не мог действовать иначе, — сказал мне сегодня утром Менгель.
— Почему вы думаете, что у меня совесть нечиста?
— По тому, как вы спите, какие сны вы видите. Даже Гесс не спал так. Он до самого конца спал, как святой.
Менгель имел в виду Рудольфа Франца Гесса, коменданта лагеря уничтожения Освенцим. Благодаря его нежным заботам миллионы евреев были уничтожены в газовых камерах. Менгель кое-что знал о Гессе. Перед эмиграцией в Израиль в 1947 году он помог повесить Гесса.
И он сделал это не с помощью свидетельских показаний. Он сделал это своими собственными огромными руками.
— Когда Гесса вешали, — рассказывал он, — я связал ему ноги ремнями и накрепко стянул.
— Вы получили удовлетворение? — спросил я.
— Нет, — ответил он, — я был почти как все, прошедшие эту войну.
— Что вы имеете в виду?
— Мне так досталось, что я уже ничего не мог чувствовать, — сказал Менгель. — Всякую работу надо было делать, и любая работа была не хуже и не лучше другой. После того как мы повесили Гесса, — сказал Менгель, — я собрал свои вещи, чтобы ехать домой. У моего чемодана сломался замок, и я закрыл его, стянув большим кожаным ремнем. Дважды в течение часа я выполнил одну и ту же работу — один раз с Гессом, другой — с моим чемоданом. Ощущение было почти одинаковое.
Последняя полная мера…
Я тоже знал Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Мы познакомились в Варшаве на встрече Нового, 1944 года.
Гесс слышал, что я писатель. Он отвел меня в сторону я сказал, что тоже хотел бы писать.
— Как я завидую вам, творческим людям, — сказал он. — Способность к творчеству — дар Божий. — Гесс говорил, что мог бы рассказать потрясающие истории. Все они — чистая правда, но людям будет невозможно в них поверить.
Он не может мне их рассказать, говорил он, пока не выиграна война. После войны, сказал он, мы могли бы сотрудничать.
— Я умею рассказывать, но не умею писать. — Он посмотрел на меня, ожидая сочувствия. — Когда я сажусь писать, я просто леденею.
Что я делал в Варшаве?
Меня послал туда мой шеф, рейхслайтер доктор Пауль Иозеф Геббельс, глава германского министерства народного просвещения и пропаганды. Я имел некоторый опыт как драматург, и доктор Геббельс хотел, чтобы я это использовал. Доктор Геббельс хотел, чтобы я написал сценарий помпезного представления в честь немецких солдат, до конца продемонстрировавших полную меру своей преданности, то есть погибших при подавлении восстания евреев в варшавском гетто. Доктор Геббельс мечтал после войны ежегодно показывать это представление в Варшаве и навеки сохранить руины гетто как декорации для этого спектакля.
— А евреи будут участвовать в представлении? — спросил я его.
— Конечно, тысячи, — отвечал он.
— Позвольте спросить, где вы предполагаете найти каких-нибудь евреев после войны?
Он углядел в этом юмор.
— Очень хороший вопрос, — сказал он, хихикнув. — Это надо будет обсудить с Гессом.
— С кем? — спросил я. Я еще не бывал в Варшаве и еще не был знаком с братцем Гессом.
— В его ведении небольшой курорт для евреев в Польше. Надо попросить его сохранить для нас некоторое количество.
Можно ли сочинение этого жуткого сценария добавить к списку моих военных преступлений? Слава богу, нет. Оно не продвинулось дальше предварительного названия: «Последняя полная мера».
Я хочу, однако, признать, что я, вероятно, написал бы его, если бы имел достаточно времени и если бы мое начальство оказало на меня достаточное давление.
В сущности, я готов признать почти все что угодно.
Относительно этого сценария: он имел неожиданный результат. Он привлек внимание самого Геббельса, а затем и самого Гитлера к Геттисбергской речи Авраама Линкольна[26].
Геббельс спросил меня, откуда я взял предварительное название, и я сделал для него полный перевод Геттисбергской речи. Он читал, шевеля губами.
— Знаете, это блестящий пример пропаганды. Мы не так современны и не так далеко ушли от прошлого, как нам кажется.
— Это знаменитая речь в моей родной стране. Каждый школьник должен выучить ее наизусть, — сказал я.
— Вы скучаете по Америке? — спросил он.
— Я скучаю по ее горам, рекам, широким долинам и лесам, — сказал я. — Но я никогда не был бы счастлив там, где всем заправляют евреи.
— О них позаботятся в свое время, — сказал Геббельс.
— Я с нетерпением жду этого дня. Моя жена и я — мы с нетерпением ждем этого дня, — сказал я.
— Как поживает ваша жена? — спросил Геббельс.
— Благодарю вас, процветает, — сказал я.
— Красивая женщина, — сказал он.
— Я ей передам это, ей будет чрезвычайно приятно.
— Относительно речи Авраама Линкольна… — сказал он.
— Да?
— Там есть впечатляющие фразы, которые можно прекрасно использовать в надписях на могильных плитах на немецких военных кладбищах. Честно говоря, я совершенно не удовлетворен нашим надгробным красноречием, а это, кажется, как раз то, что я давно ищу. Я бы очень хотел послать эту речь Гитлеру.
— Как прикажете, — сказал я.
— Надеюсь, Линкольн не был евреем? — спросил Геббельс.
— Я уверен, что нет.
— Я попал бы в очень неловкое положение, если бы он оказался евреем.
— Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь это предполагал.
— Имя Авраам само по себе очень подозрительно, — сказал Геббельс.
— Его родители наверняка не сознавали, что это еврейское имя. Им, вероятно, просто понравилось его звучание. Это были простые люди из глуши. Если бы они знали, что это еврейское имя, они выбрали бы что-нибудь более американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фрэда.
Через две недели Геттисбергская речь вернулась от Гитлера. Наверху рукой самого der Fuehrer было начертано: «Некоторые места чуть не заставили меня плакать. Все северные народы едины в своих чувствах к своим солдатам. Это, очевидно, связывает нас крепче всего».
Странно, мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, ни Геринг, никто из других кошмарных деятелей мировой войны за номером два. Наоборот, мне снятся женщины.
Я спросил Бернарда Менгеля, моего ночного сторожа здесь, в Иерусалиме, что, по его мнению, я вижу в снах.
— Что вам снилось прошлой ночью? — спросил он.
— Все равно какой.
— Прошлой ночью это были женщины. Вы снова и снова повторяли два имени.
— Какие?
— Одно — Хельга.
— Это моя жена.
— Другое — Рези.
— Это младшая сестра моей жены. Только имена, и все?
— Вы сказали: «Прощайте».
— Прощайте, — отозвался я. — Это, конечно, имело смысл и во сне и наяву. И Хельга и Рези — обе ушли навсегда.
— Еще вы говорили о Нью-Йорке, — сказал Менгель. — Вы бормотали что-то, затем сказали: «Нью-Йорк», а потом снова забормотали.
Это тоже имело смысл, как и большая часть того, что я вижу во сне. Я долгое время жил в Нью-Йорке, прежде чем попал в Израиль.
— Нью-Йорк, должно быть, рай, — сказал Менгель.
— Для вас, может быть. Для меня он был адом, даже хуже ада.
— Что может быть хуже ада? — спросил он.
— Чистилище, — ответил я.
Чистилище…
О моем чистилище в Нью-Йорке: я пребывал там пятнадцать лет.
Я исчез из Германии в конце второй мировой войны. И возник неузнанный в Гринвич Вилледж. Я снял там унылую мансарду, в стенах которой скреблись и пищали крысы. Я продолжал жить в этой мансарде, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда.
Было одно достоинство у моей крысиной мансарда: ее заднее окно выходило в маленький уединенный садик, маленький рай, образованный соседними задними дворами. Этот садик, этот рай, был со всех сторон отгорожен от улицы домами. Он был достаточно велик, чтобы дети могли играть там в прятки.
Я часто слышал из этого маленького рая певучий детский голосок, который всегда заставлял меня остановиться и прислушаться. Это был мелодичный печальный зов, означавший, что игра кончилась, что те, кто еще прячется, могут вылезать, и пора расходиться по домам:
«Олле-олле-бык-на-воле».
И я, прячущийся от многих, тех, кто, возможно, хотел причинить мне неприятности или даже убить меня, часто мечтал, чтобы кто-нибудь прекратил эту мою бесконечную игру в прятки мелодичным и печальным зовом:
«Олле-олле-бык-на-воле».
Автобиография
Я, Говард У. Кемпбэлл-младший, родился в Скенектеди, штат Нью-Йорк, 16 февраля 1912 года. Мой отец, выросший в Теннесси, сын баптистского священника, был инженером в отделе обслуживания компании Дженерал электрик.
Задачей отдела был монтаж, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, которое Дженерал электрик продавала по всему миру. Мой отец, объекты которого были сначала только в Соединенных Штатах, редко бывал дома. Его работа требовала таких разнообразных технических знаний и смекалки, что у него не оставалось ни свободного времени, ни воображения ни для чего другого. Он был создан для работы, а работа для него.
Единственная не техническая книга, за которой я его видел, была иллюстрированная история первой мировой войны. Это была большая книга с иллюстрациями размером фут на полтора. Отцу, казалось, никогда не надоедало рассматривать ее, хотя он и не был на войне.
Он никогда не говорил мне, что эта книга значила для него, а я никогда не спрашивал. Он только сказал о ней, что она не для детей и я не должен заглядывать в нее.
Поэтому, конечно, всякий раз, оставаясь один, я в нее заглядывал. Здесь были изображения людей, повисших на колючей проволоке, искалеченных женщин, штабеля трупов — все обычные атрибуты мировых войн.
Моя мать, в девичестве Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианополиса. Она вела домашнее хозяйство и была виолончелисткой-любительницей. Она играла на виолончели в скенектедском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже играл на виолончели.
Из меня не вышло виолончелиста, мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.
У меня не было братьев и сестер, а отец редко бывал дома. Поэтому в течение многих лет я был единственным компаньоном матери. Она была красивой, одаренной, болезненной женщиной. Мне кажется, что она была постоянно пьяна. Я помню, как она однажды смешала в блюдце спирт для натирания с солью. Она поставила блюдце на кухонный стол, погасила свет и посадила меня напротив. Затем она коснулась смеси спичкой. Пламя было совершенно желтое, натриевое, в нем она выглядела как труп, и я тоже.
— Смотри, — сказала она, — как мы будем выглядеть, когда умрем.
Этот дикий спектакль испугал не только меня, но и ее. Она была напугана своей странной выходкой, с тех пор я перестал быть ее компаньоном. С тех пор она со мной почти не разговаривала и полностью меня избегала, очевидно, из боязни сказать или сделать что-нибудь еще более безумное.
Все это произошло в Скенектеди, когда мне еще не было десяти лет.
В 1923 году, когда мне было одиннадцать, отца перевели в Германию, в отделение Дженерал электрик в Берлине. С этого времени мое образование, мои друзья, мой основной язык были немецкими.
В конце концов я стал писать пьесы на немецком языке, женился на немке, актрисе Хельге Нот. Хельга Нот была старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции.
Мои родители покинули Германию в 1939-м, когда началась война.
Мы с женой остались.
Я зарабатывал на жизнь вплоть до окончания войны в 1945 году как автор и диктор нацистских пропагандистских передач на англоязычные страны. Я был ведушим эскпертом по Америке в министерстве народного просвещения и пропаганды.
В конце войны я оказался одним из первых в списке военных преступников, главным образом потому, что мои преступления совершались так бесстыдно открыто.
Меня взял в плен лейтенант Третьей американской армии Бернард О’Хара около Херсфельда 12 апреля 1945 года. Я был на мотоцикле, без оружия, и хотя я имел право носить форму, голубую с золотом, я не был в форме. Я был в штатском, в синем саржевом костюме и изъеденном молью пальто с меховым воротником.
Случилось так, что Третья армия как раз за два дня до этого захватила Ордруф, первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня привезли туда, заставили смотреть на все это: на засыпанные известью рвы, виселицы, столбы для порки, на горы обезображенных, покрытых струпьями трупов с вылезшими из орбит глазами.
Они хотели показать мне, к чему привела моя деятельность.
На виселицах в Ордруфе можно было повесить одновременно шестерых. Когда я увидел виселицы, на каждой веревке болталось по охраннику. Следовало ожидать, что и я скоро тоже буду повешен. Я сам этого ожидал и с интересом наблюдал, как мирно шесть охранников висят на своих веревках.
Они умерли быстро.
Когда я смотрел на виселицу, меня сфотографировали. Позади меня стоял лейтенант О’Хара, поджарый, как молодой волк, полный ненависти, как гремучая змея.
Фотография была помещена на обложке «Лайф» и чуть не получила Пулитцеровскую премию.
Auf Wiedersehen…
Я не был повешен.
Я совершил государственную измену, преступления против человечности и преступления против собственной совести, но до сего дня я оставался безнаказанным.
Я остался безнаказанным потому, что в течение всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии.
Код заключался в некоторой манерности речи, паузах, ударениях, в покашливании и даже в запинках в определенных ключевых предложениях. Люди, которых я никогда не видел, давали мне инструкции, сообщали, в каких фразах радиопередачи следует употреблять эти приемы. Я до сих пор не знаю, какая информация шла через меня. Судя по простоте большинства этих инструкций, я сделал вывод, что даю ответы «да» или «нет» на вопросы, поставленные перед шпионской службой. Иногда, как, например, во время подготовки к вторжению в Нормандию, инструкции усложнялись, и мои интонации и дикция звучали так, словно я на последней стадии двухсторонней пневмонии.
Такова была моя полезность в деле союзников.
И эта полезность спасла мне шею.
Меня обеспечили прикрытием. Я никогда не был официально признан американским агентом, просто дело против меня по обвинению в измене саботировали. Меня освободили на основании никогда не существовавших документов о моем гражданстве, и мне помогли исчезнуть.
Я приехал в Нью-Йорк под вымышленным именем. Я, как говорится, начал новую жизнь в моей крысиной мансарде с видом на уединенный садик.
Меня оставили в покое, настолько в покое, что через некоторое время я смог вернуть свое собственное имя, и почти никто не подозревал, что я — тот Говард У. Кемпбэлл-младший.
Время от времени в газетах и журналах я встречал свое имя, но не как сколько-нибудь важной персоны, а как одного из длинного списка исчезнувших военных преступников. Слухи обо мне появлялись то в Иране, то в Аргентине, то в Ирландии… Говорили, что израильские агенты рыскают в поисках меня повсюду.
Как бы то ни было, но ни один агент ни разу не постучал в мою дверь. Никто не постучал в мою дверь, хотя на моем почтовом ящике каждый мог прочесть Говард У. Кемпбэлл-младший.
Вплоть до самого конца моего пребывания в чистилище в Гринвич Вилледж меня чуть было не обнаружили один-единственный раз, когда я обратился за помощью к врачу-еврею в моем же доме. У меня нагноился палец.
Врача звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на третьем этаже. Они только что въехали в наш дом.
Я назвал свое имя. Оно ничего не говорило ему, но что-то напомнило его матери. Эпштейн был молод, он только что кончил медицинский факультет. Его мать была грузная, морщинистая, медлительная и печальная старуха с настороженным взглядом.
— Это очень известое имя, вы должны его знать, — сказала она.
— Простите? — сказал я.
— Вы не знаете кого-нибудь еще по имени Говард У. Кемпбэлл-младший? — спросила она.
— Я думаю, что таких немало, — ответил я.
— Сколько вам лет?
Я сказал.
— В таком случае, вы должны помнить войну.
— Забудь войну, — ласково, но достаточно твердо сказал ей сын. Он забинтовал мне палец.
— И вы никогда не слышали радиопередач Говарда У. Кемпбэлла-младшего из Берлина? — спросила она.
— Да, теперь я вспомнил. Я забыл. Это было так давно. Я никогда не слушал его, но припоминаю, что он передавал последние известия. Такие вещи забываются, — сказал я.
— Их надо забывать, — сказал молодой доктор Эпштейн. — Они относятся к тому безумному периоду, который нужно забыть как можно скорее.
— Освенцим, — сказала его мать.
— Забудь Освенцим, — сказал доктор Эпштейн.
— Вы знаете, что такое Освенцим? — спросила его мать.
— Да, — ответил я.
— Там я провела свои молодые годы, а мой сын, доктор, провел свое детство.
— Я никогда не думаю об этом, — сказал доктор Эпштейн резко. — Палец через несколько дней заживет. Держите его в тепле и сухим. — И он подтолкнул меня к двери.
— Sprechen Sie Deutsch? — спросила меня его мать, когда я уходил.
— Простите? — ответил я.
— Я спросила, не говорите ли вы по-немецки?
— О, — сказал я, — нет, боюсь, что нет. — Я неуверенно произнес: «Nein?» — Это значит «нет»? Не так ли?
— Очень хорошо, — сказала она.
— Auf Wiedersehen — это «до свиданья», да? — сказал я.
— До скорой встречи, — ответила она.
— О, в таком случае, Auf Wiedersehen, — сказал я.
— Auf Wiedersehen, — сказала она.
Те же и моя звездно-полосатая крестная…
Меня завербовали в качестве американского агента в 1939 году, за три года до вступления Америки в войну. Меня завербовали весенним днем в Тиргартене в Берлине.
Месяц назад я женился на Хельге Нот. Мне было двадцать шесть.
Я был весьма преуспевающим драматургом и писал на языке, на котором я пишу лучше всего, — на немецком. Одна моя пьеса, «Кубок», шла в Дрездене и в Берлине. Другая, «Снежная роза», готовилась к постановке в Берлине. Я как раз кончил третью — «Семьдесят раз по семь». Все три пьесы были в духе средневековых романов и имели такое же отношение к политике, как шоколадные éclairs.
В этот солнечный день я сидел в пустом парке на скамейке и думал о четвертой пьесе, которая начала складываться в моей голове. Само собой появилось название “Das Reich der Zwei” — «Государство двоих».
Это должна была быть пьеса о нашей с Хельгой любви. О том, что в безумном мире двое любящих могут выжить и сохранить свое чувство, только если они остаются верными государству, состоящему из них самих, — государству двоих.
На скамейку напротив сел американец средних лет. Он казался глуповатым болтуном. Он развязал шнурки ботинок, чтобы отдыхали ноги, и принялся читать чикагскую «Санди трибюн» месячной давности.
На аллее, разделявшей нас, появились три статных офицера СС.
Когда они прошли мимо, человек отложил газету и заговорил со мной на гнусавом чикагском диалекте.
— Красивые мужчины, — сказал он.
— Пожалуй, — ответил я.
— Вы понимаете по-английски? — спросил он.
— Да.
— Слава богу, нашелся человек, понимающий по-английски. А то я чуть было не спятил, пытаясь найти, с кем бы поговорить.
— Вот как?
— Что вы думаете обо всем этом? — спросил он. — Или считается, что надо обходить такие вопросы?
— О чем «об этом»? — спросил я.
— О том, что творится в Германии. Гитлер, евреи и все такое.
— Все это от меня не зависит, и я об этом не думаю, — ответил я.
— Это не ваш навар?
— Простите? — сказал я.
— Не ваше дело?
— Вот именно.
— Вы не поняли, когда я сказал навар вместо дело? — спросил он.
— Разве это обычное выражение? — спросил я.
— В Америке — да. Не возражаете, если я пересяду, чтобы не кричать,
— Если угодно, — сказал я.
— Если угодно, — повторил он, пересаживаясь на мою скамью. — Так мог бы сказать англичанин.
— Американец, — сказал я.
Он поднял брови.
— Неужели? Я пытался отгадать, не американец ли вы, но решил, что нет.
— Благодарю, — сказал я.
— Вы считаете, что это комплимент, и поэтому сказали «благодарю»? — сказал он.
— Не комплимент, но и не оскорбление. Просто мне это безразлично. Национальность просто не интересует меня, как, наверное, должна была бы интересовать.
Казалось, это его озадачило.
— Хоть это меня и не касается, но чем вы зарабатываете себе на жизнь? — сказал он.
— Я писатель, — сказал я.
— Неужели? Какое совпадение! Я как раз сидел здесь и думал: из того, что вертится у меня в голове, можно было бы написать неплохую шпионскую историю.
— Вот как? — сказал я.
— Я могу подарить ее вам, — сказал он. — Я никогда ее не напишу.
— Мне бы справиться с собственными планами, — сказал я.
— Да, но со временем вы можете истощиться, и тогда вам пригодится этот мой сюжет, — сказал он. — Понимаете; есть молодой американец, который так долго жил в Германии, что практически стал немцем. Он пишет пьесы на немецком, женат на прелестной актрисе-немке, знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые любят болтаться в театральных кругах. — И он пробубнил несколько имен нацистов — более значительных и помельче, которых мы с Хельгой прекрасно знали.
Не то чтобы мы с Хельгой были без ума от нацистов. Но и не могу сказать, что мы их ненавидели. Они были наиболее восторженной частью нашей публики, важными людьми общества, в котором мы жили.
Они были людьми.
Только ретроспективно я могу думать, что они оставили за собой страшный след.
Честно говоря, я и сейчас не могу так о них думать. Я слишком хорошо знал их и слишком много сил положил в свое время на то, чтобы завоевать их доверие и аплодисменты.
Слишком много.
Аминь.
Слишком много.
— Кто вы? — спросил я у человека в парке.
— Разрешите мне сначала кончить мой рассказ, — сказал он. — Этот молодой человек знает, что надвигается война, понимает, что немцы будут на одной стороне, а американцы на другой. И этот американец, который до сих пор был просто вежлив с нацистами, решает сделать вид, что он сам нацист, остается в Германии, когда начинается война, и становится очень полезным американским шпионом.
— Вы знаете, кто я? — спросил я.
— Конечно, — сказал он. Он вынул бумажник и показал мне удостоверение Военного ведомства Соединенных Штатов на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения.
— Вот кто я, — сказал Фрэнк Виртанен. — Я предлагаю вам стать агентом американской разведки, мистер Кемпбэлл.
— О боже, — сказал я с раздражением и обреченностью. Я весь поник. Потом я снова выпрямился и произнес: — Смешно. Нет, черт возьми, нет.
— Ладно, — сказал он. — Я не особенно огорчен, ведь вы дадите мне окончательный ответ не сегодня.
— Если вы воображаете, что я пойду сейчас домой, чтобы это обдумать, вы ошибаетесь. Домой я пойду, чтобы вкусно поесть с моей очаровательной женой, послушать музыку, заняться с женой любовью, а потом спать как убитый. Я не солдат, не политик. Я человек искусства. Если придет война, я ей не помощник. Если придет война, я буду продолжать заниматься своим мирным делом.
Он покачал головой.
— Я желаю вам всего самого лучшего, мистер Кемпбэлл, — сказал он, — но эта война вряд ли кого-нибудь оставит за мирным делом. И как ни грустно, но я должен сказать, что чем ужаснее будут дела нацистов, тем меньше у вас будет шансов спать по ночам как убитый.
— Посмотрим, — натянуто сказал я.
— Правильно, посмотрим, — сказал он. — Вот почему я сказал, что вы дадите мне окончательный ответ не сегодня. Вы должны дойти до него сами. Если вы решите ответить «да», вам надо будет действовать совершенно самостоятельно, сотрудничать с нацистами, стремясь добиться как можно более высокого положения.
— Прелестно! — сказал я.
— Да, в этом есть своя прелесть, — сказал он. — Вы должны стать настоящим героем, в сотни раз храбрее любого обыкновенного человека.
Тощий генерал вермахта и толстый штатский с портфелем шли мимо нас, возбужденно разговаривая.
— Здрасьте, — сказал им дружелюбно майор Виртанен. Они высокомерно фыркнули и прошли дальше.
— С началом войны вы добровольно пойдете на то, что вы конченый человек. Даже если вас не схватят во время войны, вы обнаружите, что ваша репутация погибла и вообще вам не осталось ради чего жить.
— Вы описали все это очень заманчиво, — сказал я.
— Я думаю, есть шанс сделать это заманчивым для вас, — сказал он. — Я видел пьесу, которую вы сейчас поставили, и читал другую, которую собираетесь ставить.
— Да? И что вы из них узнали?
Он улыбнулся.
— Что вы обожаете чистые сердца и героев, что вы любите добро, ненавидите зло и верите в романтику.
Он не назвал главной причины, по которой можно было ожидать, что я пойду по этому пути и стану шпионом. Главная причина в том, что я бездарный актер. А как шпион такого сорта, о котором шла речь, я имел бы великолепную возможность играть главные роли. Я должен был, блестяще играя нациста, одурачить всю Германию, и не только ее.
И я действительно всех одурачил. Я стал вести себя как человек из окружения Гитлера, и никто не знал, каков я на самом деле, что у меня глубоко внутри.
Могу ли я доказать, что я был американским шпионом? Главное свидетельство тому — моя невредимая лилейно-белая шея. И это единственное свидетельство, которое у меня есть. Те, кто обязан доказать мою виновность или невиновность в преступлениях против человечности, приглашаются тщательно ее обследовать.
Правительство Соединенных Штатов не подтверждает и не отрицает, что я был его агентом. Не так уж и много, что оно не отрицает такой возможности. Однако оно тут же отнимает у меня эту зацепку, отрицая, что человек по имени Фрэнк Виртанен вообще когда-нибудь служил в каком-нибудь правительственном учреждении. Никто, кроме меня, не верит в его существование. Поэтому я в дальнейшем часто буду называть его Моей Звездно-Полосатой Крестной. Среди многого, что поведала мне Моя Звездно-Полосатая Крестная, были пароль и ответ, по которым я мог опознать своих связных, а они меня, если начнется война.
Пароль был: «Ищи новых друзей».
Ответ: «Но старых не забудь».
Мой здешний адвокат — ученый-юрист господин Алвин Добровитц. Он, в отличие от меня, вырос в Америке. Мистер Добровитц сказал мне, что пароль и ответ — часть песни идеалистической организации американских девушек, которая из-за цвета своей формы называется «Коричневые».
Полностью этот куплет, по словам Добровитца, звучит так:
Ищи новых друзей,
Но старых не забудь.
Помни — старый друг
Лучше новых двух.
Романтика…
Моя жена никогда не знала, что я шпион.
Я бы ничего не потерял, рассказав ей об этом. Это не заставило бы ее любить меня меньше. И не грозило бы мне никакой опасностью. Просто божественный мир моей Хельги, эта Книга Откровений, стал бы казаться, обыденным.
Войны и без того было достаточно.
Хельга считала, что я верю в ту чепуху, которую говорю по радио и говорю на приемах. Мы постоянно бывали на приемах.
Мы были очень популярной парой, веселой и патриотичной. Люди обычно говорили, что мы их ободряем, вызываем желание действовать. И Хельга тоже не шла через войну просто разряженной дамочкой. Она выступала в частях, часто под грохот вражеских орудий.
Вражеских? Чьих-то орудий, во всяком случае.
Вот так я ее и потерял. Она выступала в частях в Крыму, а в это время русские отбили Крым, Хельга считалась погибшей.
После войны я заплатил круглую сумму частному детективному агентству в Западном Берлине, чтобы обнаружить хоть малейший ее след. Результат: ноль. Моим условием агентству был гонорар в десять тысяч долларов за неопровержимое доказательство того, что моя Хельга жива или погибла.
Ни черта.
Моя Хельга не сомневалась, что я верю в то, что говорю о человеческих расах и механизмах истории, и я был благодарен ей. Неважно, кем я был в действительности, неважно, что я действительно думал. Безоглядная любовь — вот что мне было нужно, и моя Хельга была ангелом, который мне ее дарил.
В изобилии.
Ни один молодой человек на свете не столь совершенен, чтобы не нуждаться в безоглядной любви. Боже мой! Молодые люди участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, а ведь единственное сокровище, которое им стоит искать, — это безоглядная любовь.
Das Reich der Zwei, государство двоих — Хельгино и мое, — его территория, территория, которую мы так ревниво оберегали, не намного выходило за пределы наше необъятной двухспальной кровати.
Ровная стеганая пружинистая маленькая страна, а мы с Хельгой — горы на ней.
И при том, что в моей жизни ничего не имело смысла, кроме любви, каким же исследователем географии я был! Какую карту я мог бы нарисовать для микроскопическою туриста, этакого субмикроскопического Wandervogel, колесящего на велосипеде между родинкой и курчавыми золотистыми волосками по обе стороны Хельгиного пупка. Если это образ дурного вкуса — прости меня, Боже. Для психического здоровья необходимы игры. Я просто описал наш собственный взрослый вариант детской игры «этот маленький поросеночек»…
О, как мы прижимались друг к другу, моя Хельга и я, как безумно мы прижимались! Мы не прислушивались к тому, что говорили друг другу. Мы слушали только мелодии наших голосов. В том, что мы слышали, было не больше смысла, чем в урчании и мурлыканье кошек.
Если бы мы больше вслушивались, искали в услышанном смысл, что за тошнотворной парой мы бы были! Вне суверенной территории нашего государства двоих мы разговаривали как все патриотичные психопаты вокруг нас.
Но это не шло в счет. Только одно шло в счет — государство двоих.
И когда это государство прекратило существование, я стал тем, кто я есть сейчас и буду всегда, — человеком без гражданства.
Я не могу сказать, что не был предупрежден. Человек, завербовавший меня тем давним весенним днем в Тиргартене, — тот человек предсказал мне мою судьбу достаточно хорошо.
— Чтобы как следует выполнять нашу работу, — говорила мне Моя Звездно-Полосатая Крестная, — вам придется совершить государственную измену, верно служить врагу. Вас никогда не простят за это, потому что нет юридического механизма, по которому вас можно простить.
Максимум, что для вас будет сделано, — сказал он, — ваша шея будет спасена. Но никогда не настанет то волшебное время, когда вы будете оправданы, когда Америка: вызовет вас из укрытия ободряющим: «Олле-олле-бык-на-воле».
Военные излишки…
Мать и отец мои умерли. Говорят, они умерли от разбитого сердца. Они умерли, когда им было за шестьдесят, в возрасте, когда сердца разбиваются особенное легко.
Они не только не увидели конца войны, но и никогда больше не увидели своего блистательного сыночка. Они не лишили меня наследства, хотя, вероятно, у них был большой соблазн это сделать. Они завещали Говарду У. Кемпбэллу-младшему, отъявленному антисемиту, перебежчику и радиозвезде, акции, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание было официально подтверждено, составляла сорок восемь тысяч долларов. Ценность всего этого барахла, пройдя через подъемы и инфляции, выросла к настоящему времени в четыре раза, обеспечивая мне ежегодную ренту в семь тысяч долларов.
Говорите обо мне что хотите, но я никогда не касался основного капитала.
В послевоенные годы, когда я жил чудаком и затворником в Гринвич Вилледж, я тратил примерно четыре доллара в день, включая квартирную плату, и у меня даже был телевизор. Вся моя новая обстановка, как и я сам, состояла из военных излишков — узкая железная койка, одеяла цвета хаки со штампом «USA», складные парусиновые стулья, военные котелки, служившие и кастрюлями, и тарелками. Даже моя библиотека была в основном из военных излишков, ибо досталась мне из развлекательного снаряжения для наших заокеанских частей.
В этом развлекательном снаряжении были и грампластинки, поэтому я раздобыл, тоже из излишков, портативный граммофон, способный играть в любом климате, от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая этот запечатанный развлекательный товар как кота в мешке, я стал обладателем двадцати шести пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби.
Мое пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье были тоже из военных излишков.
Купив за доллар пакет первой медицинской помощи из военных излишков, я стал обладателем и некоторого количества морфия. Стервятники, обожравшиеся падалью на продаже военных излишков, смотрели на это сквозь пальцы.
У меня было искушение поколоться морфием, и если бы это приносило мне радость, я смог бы, имея достаточно денег, поддерживать эту привычку. Но тут я понял, что я уже наркоман.
Я не чувствовал боли.
Наркотиком, который помог мне пройти через войну, была способность питать все свои эмоции только одним — моей любовью к Хельге. Эта концентрация эмоций в такой маленькой области, начавшаяся с иллюзии молодого счастливого влюбленного, развилась в нечто, помешавшее мне спятить во время войны, и наконец превратилась в постоянную ось, вокруг которой вращались все мои мысли.
И поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти истово, словно какой-то узколобый религиозный фанатик. Всегда один, я поднимал за Хельгу тосты, говорил ей доброе утро, спокойной ночи, ставил для нее пластинки и плевал на все остальное.
И вот однажды, в 1958 году, после тринадцати лет такой жизни, я купил из военных излишков набор для резьбы по дереву. Это были уже излишки не второй мировой войны, а корейской войны. Он стоил три доллара.
Принеся его домой, я начал без всякой цели пробовать вырезать на палке от швабры. Внезапно мне пришло в голову сделать шахматы. Я говорю о внезапности, потому что был поражен своим энтузиазмом. Энтузиазм был так велик, что я вырезал двенадцать часов подряд, десятки раз попадая острыми инструментами в ладонь левой руки, и все никак не мог остановиться. Я был в восторге и весь в крови, когда кончил. Результатом этой работы был прекрасны набор шахматных фигур.
И еще один странный импульс возник у меня.
Я почувствовал непреодолимое желание показать кому-нибудь, кому-нибудь из живых, великолепную вещь, которую я сделал.
Возбужденный творчеством и выпивкой, я спустился вниз и вежливо постучал в дверь соседа, не зная даже, кто он.
Моим соседом был хитрый, старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле старика звали полковник Иона Потапов. Этот древний сукин сын был русским агентом и работал в Америке непрерывно с 1935 года.
Я этого не знал.
И он поначалу тоже не знал, кто я. Нас свела слепая удача. Поначалу в этом не было никакой конспирации. Я постучал в его дверь, вторгся в его жизнь. Если бы я не вырезал этих шахмат, мы бы никогда не встретились.
У Крафта — я буду так называть его, потому что я так его воспринимаю, — было три или четыре замка на входной двери. Я заставил его открыть их все, спросив, не играет ли он в шахматы. Это опять была слепая удача. Ничто другое не заставило бы его открыть.
Люди, помогавшие мне в моих последующих изысканиях, между прочим, рассказали мне, что имя Иона Потапов было хорошо известно по европейским шахматным турнирам начала тридцатых годов. Он даже выиграл у гроссмейстера Тартаковера в Роттердаме в 1931 году.
Когда он открыл дверь, я увидел, что он художник. Посередине гостиной стоял мольберт с чистым холстом, а на всех стенах висели сногсшибательные картины, написанные им.
Когда я говорю о Крафте, он же Потапов, я чувствую себя более уютно, чем когда я говорю о Виртанене, он же бог знает кто. Виртанен оставил не больший след, чем червяк, проползший по бильярдному столу. Свидетельства существования Крафта есть повсюду. Сейчас, когда я об этом пишу, картины Крафта стоят в Нью-Йорке по десять тысяч долларов за штуку.
У меня есть вырезка из Нью-Йорк геральд Трибюн от третьего марта, примерно двухнедельной давности, в которой критик говорит о Крафте-художнике:
«Вот, наконец, способный и благодарный наследник фантастической изобретательности и экспериментаторства в живописи последнего столетия.
Говорят, что Аристотель был последним, кто до конца понимал культуру своего времени. Джордж Крафт безусловно первый, кто до конца понимает все современное искусство, понимает до мозга костей.
С необыкновенным изяществом и твердостью он соединяет способы восприятия множества течений в живописи прошлого и настоящего. Он приводит нас в трепет и смирение, гармонией как бы говоря: «Если вы жаждете нового Ренессанса — вот какова должна быть живопись, которая выразит его дух».
Джорджу Крафту, он же Иона Потапов, разрешено продолжать свою выдающуюся творческую деятельность в федеральной тюрьме форта Ливенворт. Мы все, вместе с самим Крафтом-Потаповым, можем себе представить, как была бы полностью подавлена его деятельность в тюрьме в его родной России».
Итак, когда Крафт открыл мне дверь, я понял, что его картины хороши. Но я не понял, что они настолько хороши. Я подозреваю, что процитированная выдержка написана педиком, нализавшимся коктейля «Александер».
— Я не знал, что подо мной живет художник, — сказал я.
— Может, я вовсе не художник, — ответил он.
— Удивительные картины. Где вы выставляетесь?
— А нигде.
— Вы бы сколотили состояние, если бы выставлялись, — сказал я.
— Приятно слышать, но я слишком поздно начал заниматься живописью.
И затем он рассказал мне то, что следовало принимать за историю его жизни, — ни слова правды.
Он сказал, что он вдовец из Индианополиса. В молодости, сказал он, он хотел быть художником, но вместо этого занялся бизнесом — продажей красок и обоев.
— Моя жена умерла два года тому назад, — сказал он и ухитрился выдавить влагу из глаз. У него и правда была жена, но не похороненная в Индианополисе. У него была совершенно живая жена Таня в Борисоглебске. И он не видел ее двадцать пять лет.
— Когда она умерла, — сказал он мне, — я понял, что душа моя может выбрать только между двумя возможностями — самоубийством или мечтами юности. И я, старый дурак, выбрал мечты юного дурака. Я купил холсты и краски и приехал в Гринвич Вилледж.
— Детей нет? — спросил я.
— Нет, — сказал он печально. В действительности у него было трое детей и девять внуков. Его старший сын Илья — известный специалист по ракетам.
— Единственный родственник, который у меня есть в этом мире, — сказал он, — искусство, и я беднейший из его родственников. — Он не имел в виду, что он нищий. Он имел в виду, то он плохой художник. У него много денег, сказал он. Он продал свое дело в Индианополисе за хорошие деньги.
— Шахматы, вы сказали что-то о шахматах? — спросил он.
Шахматы, которые я вырезал, лежали в коробке из-под ботинок. Я показал их ему.
— Я только что их вырезал, — сказал я, — и у меня страшное желание сыграть ими.
— Хорошо играете? — спросил он.
— Я не играл очень давно, — ответил я.
Почти все мои шахматные партии были сыграны с Вернером Нотом, моим тестем, шефом берлинской полиции. Я постоянно обыгрывал Нота, когда мы с Хельгой по воскресеньям наносили ему визит. Единственным турниром, в котором я играл, был матч в министерстве народного образования и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.
В пинг-понг я играл гораздо лучше. Я был чемпионом министерства в одиночных и парных играх четыре года подряд. Моим партнером был Хейнц Шильдкнехт, специалист по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Как-то мы с Хейнцем играли против пары Reichsleiter Геббельс и Oberdienstleiter Карл Хейдрих. Мы выиграли 21:2, 21:1, 21:0.
История часто идет рука об руку со спортом.
У Крафта была шахматная доска. Мы расставили фигуры и начали играть.
И непроницаемый, жесткий кокон цвета хаки, которым я себя окружил, начал трескаться, ослаб, впустив бледный проблеск света.
Я наслаждался игрой, мог интуитивно делать достаточно интересные ходы, чтобы доставить моему новому другу удовольствие обыграть меня.
Потом мы с Крафтом играли по меньшей мере три партии ежедневно в течение года. И мы создали себе некое трогательное подобие домашнего очага, в котором мы оба так нуждались. Мы снова почувствовали вкус еды, делали маленькие открытия в бакалейных лавочках, приносили находки домой, чтобы вместе ими насладиться. Помню, когда настал сезон клубники, мы приветствовали его воплями восторга, словно второе пришествие Христа.
Особая близость между нами возникла по части вина. Крафт понимал в винах гораздо лучше меня и часто приносил покрытые паутиной сокровища. И хотя всегда, когда мы садились за стол, перед Крафтом стоял наполненный стакан, все вино было для меня. Он не мог выпить и глотка, чтобы не впасть в запой, который мог продолжаться месяц.
Из всего, что он рассказал мне о себе, правдой было только одно. Он был членом Общества Анонимных Алкоголиков. Уже шестнадцать лет. Хотя он использовал собрания А. А. в шпионских целях, у него был и настоящий интерес к этим сборищам. Однажды он совершенно искренне сказал мне, что величайшее, что дала Америка миру, вклад, о котором будут помнить тысячелетия, — это изобретение Общества А. А.
Для этого шпиона-шизофреника было типично, что он использовал столь почитаемую им организацию в целях шпионажа.
Для этого шпиона-шизофреника было типично и то, что, будучи моим истинным другом, он в конце концов додумался, как изощреннее использовать меня в интересах России.
Странные вещи в моем почтовом ящике…
Поначалу я врал Крафту, кто я и чем занимался. Но вскоре наша дружба так углубилась, что я рассказал ему все.
— Это так несправедливо! — сказал он. — Это заставляет меня стыдиться, что я американец. Почему правительство не выступит и не скажет: «Послушайте! Этот человек, на которого вы плюете, — герой». — Он негодовал, и, судя по всему, его негодование было искренним.
— Никто не плюет на меня, — сказал я, — Никто даже не знает, что я еще жив.
Он горел желанием прочесть мои пьесы. Когда я сказал ему, что у меня нет текста ни одной из них, он заставил меня пересказать их ему сцена за сценой — сыграть их для него.
Он сказал, что считает их великолепными. Возможное он был искренен. Не знаю. Мои пьесы казались мне слабыми, но, возможно, ему они нравились. По-моему, его волновало искусство как таковое, а не то, что я сделал.
— Искусство, искусство, искусство, — сказал он мне однажды вечером. — Не знаю, почему мне понадобилось так много времени, чтобы осознать его важность. В юности я, как ни странно, его презирал. Теперь, когда я о нем думаю, мне хочется упасть на колени и плакать.
Была поздняя осень. Опять настал сезон устриц, и мы поглощали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом уже около года.
— Говард, — сказал он, — будущие цивилизации, цивилизации лучшие, чем наша, будут судить о людях по их принадлежности к искусству. Если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, твои и мои, судить о нас будут по их качеству. Ничто другое не будет иметь значения.
— Гм-м… — сказал я.
— Ты должен снова начать писать. Подобно тому, как маргаритки цветут маргаритками, а розы розами, ты должен цвести как писатель, а я как художник. Все остальное в нас неинтересно.
— Мертвецы вряд ли могут писать хорошо, — сказал я.
— Ты не мертвец, ты полон идей! Ты можешь рассказывать часами, — сказал он.
— Вздор! — сказал я.
— Не вздор! — горячо возразил он. — Все, что тебе нужно, чтобы снова Писать, писать даже лучше, чем прежде, — это женщина.
— Что?
— Женщина.
— Откуда у тебя эта странная идея? — спросил я. — От пожирания устриц? Сначала найди ты, а потом уж и я. Ну как?
— Я слишком стар, чтобы женщина принесла мне пользу, а ты — нет.
И снова, пытаясь отделить правду от лжи, я думаю, что это его утверждение — правда. Он действительно хотел, чтобы я снова начал писать, и был убежден, что для этого нужна женщина.
— Если ты найдешь женщину, — говорил он, — то и я почти готов на унижение попытаться быть мужчиной.
— У меня уже была одна.
— У тебя она была когда-то. Это большая разница, — сказал он.
— Не хочу говорить об этом, — сказал я.
— А я все равно хочу.
— Ну и говори, и разыгрывай свата, сколько твоей душе угодно, — сказал я, вставая из-за стола. — Спущусь вниз посмотреть, что там в сегодняшней почте.
Он надоел мне, и я спустился вниз к почтовому ящику, просто чтобы рассеять раздражение. Я вовсе не жаждал посмотреть почту. Я часто неделями не интересовался, пришло ли мне что-нибудь. Единственное, что я обычно находил в ящике, были чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, всякая чепуха, адресованная владельцам почтовых ящиков, и рекламные брошюрки о книгах и приборах, якобы полезных в области образования.
Почему я стал получать рекламы педагогических пособий? Однажды я попытался устроиться учителем немецкого языка в одну из частных школ в Нью-Йорке. Это было году в 1950-м.
Я не получил работы и даже не хотел этого. Думаю, я сделал это, просто желая показать самому себе, что я еще существую.
Анкета, которую я заполнил, естественно, была полна вранья, была таким нагромождением лжи, что школа даже не потрудилась уведомить меня об отказе. Тем не менее мое имя каким-то образом попало в список возможных преподавателей. Поэтому и приходили эти бесконечные рекламы.
Я открыл почтовый ящик, в котором было содержимое за три-четыре дня.
Там был чек от компании Кока-Кола, извещение о собрании акционеров Дженерал моторс, запрос от Стандарт ойл в Нью-Джерси по поводу ведения моих дел и рекламный предмет фунтов восемь весом, замаскированный под школьный учебник. Он предназначался для тренировки школьников в перерывах между занятиями. В рекламе говорилось, что физическая подготовка американских детей ниже, чем у детей почти всех стран мира.
Но реклама этого странного предмета не была самой странной вещью в моем почтовом ящике. Здесь были вещи гораздо более странные.
Одна — письмо в конверте обычного размера из поста Американского легиона им. Френсиса Донована в Бруклайне, штат Массачусетс.
Другая — туго свернутая маленькая газета, посланная с Центрального вокзала. Я сначала вскрыл газету. Оказалось, что это «Белый Христианский Минитмен»[27] — непристойный, безграмотный, антисемитский, антинегритянский, антикатолический злобный листок, издаваемый преподобным доктором Лайонелем Дж. Д. Джонсом, Д. С. X.
Самый крупный заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы Соеданенные Штаты стали страной метисов!» Второй по величине заголовок гласил: «Красный Крест вливает белым негритянскую кровь!» Эти заголовки, едва ли могли меня поразить. Ведь именно этим я зарабатывал себе на жизнь в Германии. Еще ближе к духу прежнего Говарда У. Кемпбэлла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «В выигрыше от второй мировой войны только международное еврейство».
Затем я открыл письмо из поста Американского легиона. В нем говорилось:
Дорогой Говард!
Я был очень удивлен и разочарован, узнав, что ты еще не умер. Когда я думаю обо всех хороших людях, погибших во время второй мировой войны, а затем вспоминаю, что ты еще жив и живешь в стране, которую предал, меня просто тошнит. Ты, наверное, будешь счастлив узнать, что наш пост вчера вечером решил, что тебя надо либо повесить, либо депортировать в Германию, страну, которую ты так любишь.
Теперь, когда я знаю, где ты, я скоро нанесу тебе визит.
Будет приятно вспомнить старые времена.
Когда ты сегодня ляжешь спать, вонючая крыса, я надеюсь, тебе приснится концентрационный лагерь Ордруф. Мне надо было бросить тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность.
Весьма, весьма искренне твой
Бернард О’Хара,
Председатель поста Американского легиона.
Копии:
Дж. Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия
Директору ЦРУ, Вашингтон, округ Колумбия
Редакции журнала «Тайм», Нью-Йорк
Редакции журнала «Ньюсуик», Нью-Йорк
Редакции «Инфантри джорнел», Вашингтон, округ Колумбия
Редакции журнала «Лиджи Мегезин», Индианополис, штат Индиана
Главному следователю Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, округ Колумбия
Редакции газеты «Белый Христианский Минитмен», 395, Бликер-стрит, Нью-Йорк.
Конечно, Бернард О’Хара был тот молодой человек, который взял меня в плен в конце войны, протащил по лагерю смерти Ордруф и запечатлен вместе со мной на достопамятной фотографии с обложки «Лайф».
Когда я нашел это письмо в своем почтовом ящике в Гринвич Вилледж, я удивился, каким образом он узнал, где я нахожусь.
Перелистав «Белый Христианский Минитмен», я увидел, что О’Хара не единственный, кто обнаружил Говарда У. Кемпбэлла-младшего. На третьей странице под простым заголовком «Американская трагедия!» была короткая заметка:
Говард У. Кемпбэлл-младший — знаменитый писатель и один из самых бесстрашных патриотов в американской истории, сейчас живет в бедности и одиночестве в мансарде на улице Бетьюн, 27. Такова судьба мыслящих людей, достаточно храбрых, чтобы сказать правду о тайном международном заговоре еврейских банкиров и международного еврейского коммунизма, которые не успокоятся, пока кровь каждого американца не будет безнадежно загажена негритянской и (или) восточной кровью.
Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д. С. Х., Д. Б. …
Я благодарен Институту документации военных преступников в Хайфе за материалы, которые позволили включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя «Белого Христианского Минитмена».
Хотя Джонс не был лицом, обвиняемым в военных преступлениях, на него имелось весьма внушительное досье. Вот что я выяснил, перелистывая эту сокровищницу сувениров.
Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д. С. X., Д. Б. родился в Хаверхилле, штат Массачусетс, в 1889 году в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Он сам собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета в 1910 году за то, что сейчас могло быть скорее всего диагностировано как паранойя. В 1910 году он был исключен просто за неуспеваемость.
Синдром его неудачи был далеко не прост. Его экзаменационные работы были, наверное, самыми длинным из когда-либо написанных в истории зубоврачебного образования и, вероятно, менее всего относящимися к делу. Они начинались достаточно разумно с рассмотрения вопроса, предлагавшегося на экзамене. Но, безотносительно к этому вопросу, Джонс ухитрялся перейти от него к собственной теории: зубы евреев и негров безусловно доказывают дегенеративность их обладателей.
Его зубоврачебные работы были высокого класса, и преподаватели надеялись, что со временем он избавится от своей политической интерпретации зубов. Но его болезнь прогрессировала, и в конце концов его экзаменационные работы стали безумными памфлетами, призывающими всех протестантов англосаксов объединиться против еврейско-негритянского засилия.
Когда Джонс начал обнаруживать по зубам доказательства вырождения у католиков и унитариев и когда у него под матрацем нашли пять заряженных пистолетов и штык, его в конце концов выкинули вон.
Родители Джонса отреклись от него, чего никогда не смогли сделать мои родители.
Оставшись без единого цента, Джонс нашел место ученика бальзамировщика в похоронном бюро братьев Шарф в Питтсбурге. За два года он стал управляющим. Еще через год он женился на овдовевшей владелице Хетти Шарф. Хетти тогда было пятьдесят восемь, а Джонсу двадцать четыре. Большинство исследователей жизни Джонса, почти все до единого настроенные к нему крайне недружелюбно, были вынуждены признать, что Джонс действительно любил свою Хетти. Брак, продолжавшийся до смерти Хетти в 1928 году, был счастливым.
Действительно, он был таким счастливым, таким совершенным, таким подлинным государством двоих, что Джонс все это время почти ничего не делал по части пробуждения бдительности англосаксов. Его, казалось, удовлетворяло ограничение расового вопроса профессиональными шуточками по поводу определенных трупов, шуточками, которые были привычными и в кругу самых либеральных бальзамировщиков. И это были его золотые годы не только с эмоциональной, финансовой, но и с творческой точки зрения. Работая с химиком доктором Ломаром Хорти, Джонс изобрел Виверин — бальзамирующую жидкость, и Гингива-тру, материал для зубных протезов, прекрасно имитирующий естественные зубы.
Когда умерла жена, Джонс почувствовал необходимость возродиться. Его возродило то, что все это время скрыто дремало в нем. Джонс стал таким проповедником расизма, про которых говорят, что он выполз из пещеры. Джонс выполз из своей пещеры в 1928 году. Он продал похоронное бюро за восемьдесят четыре тысячи долларов и основал газету «Белый Христианский Минитмен».
В 1929-м Джонс был разорен биржевым крахом 1929 года. Его газета прекратила существование после четырнадцатого выпуска. Все четырнадцать выпусков были бесплатно разосланы каждому, кто значился в справочнике Who’s Who. Единственными иллюстрациями были фотографии и схемы зубов, и каждая статья объясняла какое-нибудь текущее событие с точки зрения Джонсовой теории о стоматологии и расах.
В последнем номере газеты он отрекомендовал себя как доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, доктор стоматологической хирургии.
Опять без гроша, теперь уже сорокалетний Джонс откликнулся на объявление в профессиональном журнале похоронных работников. Школа бальзамировщиков в Литтл Роке, штат Арканзас, нуждалась в президенте. Объявление было подписано вдовой бывшего президента и владельца.
Джонс получил работу, равно как и вдову. Вдову звали Мэри Алиса Шоуп. Когда Джонс на ней женился, ей было шестьдесят восемь лет.
И Джонс снова стал преданным мужем, счастливым, цельным и уравновешенным человеком.
Школа, которую он возглавил, называлась достаточно прямолинейно: Литтлрокская школа бальзамирования. Ежегодно от терял на ней восемь тысяч долларов. Джонс продал недвижимость школы, прекратил обучение благородному искусству бальзамирования и превратил ее в Библейский университет Западного полушария. Университет не имел учебных помещений, ничему не обучал и все дела вел по почте. Он присуждал степени доктора богословия и высылал дипломы в застекленной рамке — и все за восемьдесят долларов.
Джонс и сам разжился степенью доктора богословия Б. У. З. П., так сказать, из подручных средств. Когда умерла его вторая жена, он снова начал выпускать своего «Минитмена» и в заголовке именовался уже — его преподобие доктор Дж. Д. Джонс, Д. С. X., Д. Б.
Кроме того, он написал и опубликовал на собственные деньги книгу, в которой стоматология и теология сочетались с изящными искусствами. Книга называлась «Христос — не еврей». Он доказывал свою точку зрения, приводя в книге пятьдесят знаменитых картин с изображением Иисуса. Все эти картины, по мнению Джонса, свидетельствовали, что зубы и челюсти у Христа не еврейские.
Первые выпуски нового «Белого Христианского Минитмена» была столь же нечитабельны, как и старые. Но затем случилось чудо: «Минитмен» подскочил с четырех страниц до восьми. Оформление, шрифт и бумага стали шикарными и красивыми. Вместо зубных схем газета была буквально нафарширована фотографиями различных скандальных историй, происходивших во всех странах мира.
Объяснение было простым и очевидным. Джонса наняли и финансировали как агента пропаганды новорожденного гитлеровского Третьего рейха. Последние известия, фотографии, карикатуры и редакционные статьи поступали к Джонсу прямо с фабрики нацистской пропаганды в Эрфурте, Германия.
Вполне возможно, кстати, что многие из его непристойных материалов были написаны мною.
Джонс оставался агентом германской пропаганды даже после вступления США во вторую мировую войну. Его арестовали только в июле 1942 года, когда ему вместе с двадцатью другими было предъявлено обвинение в:
заговоре с целью подрыва морального духа, веры и доверия военнослужащих сухопутных и морских сил, а также и народа Соединенных Штатов к государственным служащим и республиканской форме правления, в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати для распространения своих преступных взглядов, в расчете на то, что страны, где есть свобода слова, беззащитны перед внутренними врагами, маскирующимися под патриотов, в попытках подорвать, ослабить и затруднить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики; в заговоре с целью лишить правительство Соединенных Штатов веры и доверия со стороны военнослужащих сухопутных и морских сил, а также народа, и тем самым сделать его неспособным защитить страну и народ как от вооруженного нападения извне, так и от предательства изнутри.
Джонс был осужден и приговорен к четырнадцати годам, из коих отсидел восемь. Когда он был освобожден из тюрьмы в Атланте в 1950 году, он оказался богатым человеком. Изобретенные им бальзамирующая жидкость Виверин и Гингива-тру, материал для искусственных зубов, получили широкое признание на соответствующем рынке.
В 1955 году он возобновил публикацию «Минитмена».
Через пять лет этот энергичный пожилой общественный деятель семидесяти одного года от роду, лишенный всякого чувства вины, его преподобие доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. X., Д. Б. нанес мне визит.
Почему я удостоил его такой подробной биографии?
Для того, чтобы противопоставить себе этого невежественного полоумного расиста. Я — ни невежественный, ни полоумный.
Те, чьи приказы я выполнял в Германии, были так же невежественны и полоумны, как доктор Джонс. Я знал это.
Но, Боже правый, я все равно выполнял их инструкции.
Вид сверху в лестничный пролет…
Джонс нанес мне визит через неделю после того, как содержимое моего почтового ящика изменилось и стало выводить меня из равновесия. Сначала я сам попытался встретиться с ним. Он печатал свою грязную газетенку всего в нескольких кварталах от моей мансарды, и я пошел туда просить его прекратить всю эту историю.
Я не застал его.
Когда я вернулся домой, почтовый ящик был полон. Почти все письма были от подписчиков «Минитмена». Общей темой было то, что я не одинок, что у меня есть друзья. Женщина из Маунт Вернона, штат Нью-Йорк, писала, что мне уготован трон на небесах. Мужчина из Норфолка писал, что я новый Патрик Генри[28].
Женщина из Сент-Пола прислала мне два доллара, чтобы я продолжал свою полезную деятельность. Она извинялась: это все, что она имеет. Человек из Бартлесвилля, штат Оклахома, спрашивал меня, почему я до сих пор не выбрался из этого Жидо-Йорка и не поселился в каком-нибудь истинно американском месте.
Я не мог понять, как Джонс нашел меня.
Крафт утверждал, что он тоже озадачен. Но он вовсе не был озадачен. Это он от имени анонимного патриота послать экземпляр своей замечательной газеты Бернарду О’Хара в пост имени Френсиса X. Донована Американского легиона.
У Крафта были свои виды на меня.
И в то же время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мое «я», с такой симпатией, которые едва ли можно объяснить только желанием одурачить простачка.
Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. Крафт только что пролил бутылку разбавителя, и я открыл дверь, чтобы выветрился запах.
Странное монотонное песнопение вплывало из лестничной клетки в открытую дверь. Я вышел на площадку, заглянул в отделанный дубом и лепниной спиральный пролет. Единственное, что я увидел, это руки четверых людей, движущиеся вверх по перилам.
Это был Джонс с тремя друзьями.
Странное песнопение сопровождало движение рук. Руки продвигались фута на четыре по перилам, останавливались, и затем возникало пение.
Это был счет до двадцати на фоне одышки. У двоих товарищей Джонса, его телохранителя и его секретаря, были очень больные сердца. Чтобы их бедные старые сердца не лопнули, они останавливались через каждые несколько шагов, отмеряя отдых счетом до двадцати.
Телохранителем Джонса был Август Крапптауэр, бывший Vize-Bundesfuehrer организации Германо-Американский Bund. Крапптауэру было шестьдесят три года, одиннадцать лет он провел в тюрьме Атланта и там едва не отдал концы. Тем не менее он все еще выглядел вызывающе, по-мальчишески молодо, словно регулярно ходил к косметологу морга. Величайшим достижением его жизни была организация общего митинга Bund и ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 1940 году. На этом митинге он заявил, что папа римский — еврей и что евреи владеют закладной в пятнадцать миллионов долларов на недвижимость Ватикана. Смена папы и одиннадцать лет в тюремной прачечной не изменили его мнения.
Секретарь Джонса, Патрик Кили, был лишенный сана павликианский священник. «Отцу Кили», как называл его хозяин, было семьдесят три года. Он был алкоголиком. Перед второй мировой войной он служил капелланом детройтского оружейного клуба, который, как позже выяснилось, был организован агентами нацистской Германии. Мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одна из проповедей отца Кили на клубном собрании была записана газетным репортером и полностью напечатана на следующее утро. Это обращение к Богу было столь изуверским и фанатичным, что поразило папу Пия XI.
Кили был лишен сана, и папа Пий отправил длинное послание Американской Иерархии, в котором среди прочего говорилось: «Ни один истинный католик не должен участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям — это удар по всему роду человеческому».
Кили, в отличие от его многих близких друзей, никогда не был в тюрьме. Пока его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Кили трясся от холода, паршивел, голодал, допивался до бесчувствия в трущобах, скитаясь по стране. Он бы до сих пор пропадал в трущобах или покоился бы в могиле для нищих, если бы Джонс и Крапптауэр не разыскали и не выручили его.
Знаменитая проповедь Кили, между прочим, оказалась парафразой сатирической поэмы, сочиненной мною и переданной на коротких волнах. И сейчас, когда я увековечиваю свой вклад в литературу, я хотел бы подчеркнуть, что заявление вице-бундесфюрера Крапптауэра относительно папы и закладных на Ватикан тоже мои изобретения.
Итак, эти люди поднимались ко мне по лестнице, распевая: раз, два, три, четыре…
И медленно, как все их восхождение, двигался далеко позади четвертый член их компании.
Четвертой была женщина. Все, что я мог видеть, — это ее бледная, без колец рука.
Рука Джонса лидировала. Она сверкала кольцами, как рука византийского принца. В описи ювелирных изделий этой руки фигурировали бы два обручальных кольца, сапфировая звезда, дарованная ему в 1940 году группой матерей, входящих в Ассоциацию Воинствующих Неевреев имени Поля Ревера[29], алмазная свастика на ониксовой основе, подаренная ему в 1939 году бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, тогдашним генеральным консулом в Сан-Франциско, а также Американский орел[30], вырезанный из нефрита и оправленный в серебро, — образец японского искусства, подарок Роберта Стерлинга Вильсона. Вильсон — Черный Фюрер Гарлема — негр, который попал в тюрьму в 1942 году как японский шпион.
Разукрашенная драгоценностями рука Джонса покинула перила. Джонс сбежал по лестнице к женщине, сказал ей что-то, чего я не понял. Затем он снова появился, семидесятилетний мужчина, почти совершенно без одышки.
Он возник передо мной и осклабился, показывая ряд белоснежных зубов из Гингива-тру.
— Кемпбэлл? — спросил он, дыша почти ровно.
— Да, — ответил я.
— Я — доктор Джонс. У меня для вас сюрприз.
— Я уже видел вашу газету, — сказал я.
— Нет, не газета. Больший сюрприз.
Теперь в поле зрения появились отец Кили и вице-бундесфюрер Крапптауэр; они хрипели и прерывистым шепотом считали до двадцати.
— Еще больший сюрприз? — сказал я, приготовившись дать ему суровый отпор, чтобы он и подумать не смел, что мы с ним опять одного поля ягода.
— Женщина, которую я привел… — начал он.
— Что это за женщина?
— Это — ваша жена, — сказал он.
— Я связался с ней, — сказал Джонс, — и она умоляла меня ничего не говорить вам о ней. Она настояла, чтобы это было именно так, чтобы она просто появилась без всякого предупреждения.
— Чтобы я сама могла понять, есть ли место для меня в твоей жизни, — сказала Хельга. — Если нет, я просто попрощаюсь, исчезну и никогда больше не потревожу тебя снова.
Машина времени…
Если бледная, без колец рука внизу на перилах была рукой моей Хельги, это была рука сорокапятилетней женщины. Если это рука Хельги, это рука немолодой женщины, которая шестнадцать лет провела в плену у русских.
Непостижимо, чтобы моя Хельга все еще могла оставаться красивой и полной жизни.
Если Хельга пережила русское наступление на Крым, избежала всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, бряцающих игрушек войны, которые убивали быстро, ее все равно ожидала участь, которая убивает медленно, как проказа. Мне не надо было гадать, что это за участь. Эта участь была хорошо известна, она одинаково относилась ко всем пленным женщинам на русском фронте, она была частью ужасной повседневности любой вполне современной, вполне образованной, вполне асексуальной нации во вполне современной войне.
Если моя Хельга избежала гибели в бою, захватившие ее в плен, конечно, затолкали ее прикладами в команду каторжников. Ее, конечно, загнали в одно из стад хромающих, грязных, скособоченных, отчаявшихся оборванцев, без числа рассеянных по матушке-России, превратили ее в ломовую лошадь, питающуюся вырытыми на обледенелых полях кореньями, в безымянное бесполое косолапое существо, запряженное в громыхающую тачку.
— Моя жена? — спросил я у Джонса. — Я не верю вам.
— Легко проверить, лгу я или нет, — сказал он шутливо. — Посмотрите сами.
Я решительно и твердо пошел вниз.
И я увидел женщину.
Она снизу улыбалась мне, подняв подбородок так, что я видел ее черты ясно и четко.
Ее волосы были снежно-белые.
В остальном это была моя Хельга, не тронутая временем.
В остальном она была такой же цветущей и изящной, как в нашу первую брачную ночь.
Хорошо сохранившаяся женщина…
Мы плакали как дети, подталкивая друг друга вверх по лестнице в мою мансарду.
Проходя мимо отца Кили и вице-бундесфюрера Крапптауэра, я увидел, что Кили плачет. Крапптауэр стоял по стойке «смирно», отдавая честь англосаксонской семье. Джонс, выше по лестнице, сиял от удовольствия при виде чуда, которое он совершил. Он потирал и потирал свои покрытые драгоценностями руки.
— Моя — моя жена, — сказал я старому другу Крафту, когда мы с Хельгой вошли в мансарду. И Крафт, пытаясь удержать слезы, раскусил надвое мундштук своей погасшей трубки из кукурузного початка. Он никогда не плакал, но сейчас был близок к этому, мне кажется, очень близок.
Джонс, Крапптауэр и Кили вошли за нами.
— Как получилось, — сказал я Джонсу, — что вы возвращаете мне жену?
— Фантастическое совпадение, — ответил Джонс. — Однажды я узнал, что вы еще живы. Через месяц я узнал, что ваша жена тоже жива. Разве, такое совпадение — не рука Господня?
— Не знаю, — сказал я.
— Моя газета небольшим тиражом распространяется в Западной Германии. Один из моих подписчиков прочел о вас и прислал мне телеграмму. Он спрашивал, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин, — сказал он.
— Почему он не телеграфировал мне? — спросил я. Я повернулся к Хельге.
— Дорогая, — сказал я по-немецки, — почему ты не телеграфировала мне?
— Мы так долго были разлучены, я так долго была мертва, — сказала она по-английски. — Я думала, что ты, конечно, начал новую жизнь, в которой для меня нет места. Я надеялась на это.
— Моя жизнь — это только место для тебя, — сказал я. — Ее никогда не мог бы заполнить никто, кроме тебя.
— Так много надо рассказать, о многом поговорить, — сказала она, прижимаясь ко мне. Я смотрел на нее с изумлением. Ее кожа была такой нежной и чистой. Она поразительно хорошо сохранилась для женщины сорока пяти лет.
Что делало ее прекрасный вид еще более удивительным — это ее рассказ о том, как она провела последние пятнадцать лет.
Ее взяли в плен в Крыму и изнасиловали. В товарном вагоне отправили на Украину и приговорили к каторжным работам.
— Оборванные, спотыкающиеся, повенчанные с грязью суки, — говорила она, — вот кто мы были. Когда война кончилась, никто даже не позаботился сказать нам об этом. Наша трагедия была нескончаемой. Мы не значились ни в каких списках. Мы бесцельно брели по разрушенным деревням. Любому, у кого была какая-нибудь черная и бессмысленная работа, достаточно было поманить нас, и мы ее выполняли.
Она отодвинулась от меня, чтобы жестами сопровождать свой рассказ. Я подошел к окну, слушал и глядел сквозь пыльное стекло на голые ветви деревьев без листьев и птиц.
На трех пыльных оконных стеклах были грубо нарисованы свастика, серп и молот, звезды и полосы. Я нарисовал эти символы несколько недель назад, в конце нашего с Крафтом спора о патриотизме. Я усердно прокричал «ура» каждому символу, разъясняя Крафту смысл патриотизма, соответственно, нациста, коммуниста и американца.
— Ура, ура, ура! — прокричал я тогда.
А Хельга все пряла свою пряжу, ткала биографию на безумном ткацком станке истории. Она убежала с принудительных работ через два года и на следующий день была схвачена полоумными азиатами с автоматами и полицейскими собаками.
Три года провела она в тюрьме, рассказывала она, и затем ее отправили в Сибирь переводчицей и писарем в регистратуру огромного лагеря военнопленных. Хотя война давно уже кончилась, здесь в плену еще находились восемь тысяч эсэсовцев.
— Я пробыла там восемь лет, к счастью для себя, загипнотизированная этой несложной рутиной. У нас были подробные списки всех узников, этих бессмысленных жизней за колючей проволокой. Эти эсэсовцы, некогда такие молодые, сильные, наводившие страх, стали седыми, слабыми, жалкими, — говорила она. — Мужья без жен, отцы без детей, ремесленники без ремесла.
Говоря об этих сломленных эсэсовцах, Хельга задала загадку сфинкса: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух, вечером на трех?»
И сама себе ответила хрипло: «Человек».
А потом ее репатриировали, некоторым образом репатриировали. Ее вернули не в Берлин, а в Дрезден, в Восточную Германию. Заставили работать на сигаретной фабрике, которую она описывала в удручающих подробностях. Однажды она сбежала в Восточный Берлин, оттуда перешла в Западный. Вскоре она вылетела ко мне.
— Кто оплатил тебе дорогу? — спросил я.
— Ваши почитатели, — с жаром ответил Джонс. — Не думайте, что вы должны благодарить их. Они считают себя настолько обязанными вам, что никогда не смогут вам отплатить.
— За что? — спросил я.
— За то, что вы имели мужество говорить правду во время войны, когда все остальные лгали, — ответил Джонс.
Август Крапптауэр отправляется в Валгаллу…
Вице-бундесфюрер по собственной инициативе спустился с лестницы, чтобы принести багаж моей Хельги из лимузина Джонса. Наше с Хельгой воссоединение сделало его снова молодым и галантным. Никто не знал, что у него на уме, пока он не появился у меня на пороге с чемоданом в каждой руке. Джонс и Кили оцепенели от страха за его синкопирующее, почти остановившееся больное сердце.
Лицо вице-бундесфюрера было цвета томатного сока.
— Идиот! — сказал Джонс.
— Нет, нет, я в полном порядке, — сказал Крапптауэр улыбаясь.
— Почему ты не попросил Роберта сделать это? — сказал Джонс.
Роберт был его шофер, сидевший внизу в его лимузине. Роберт был негр семидесяти трех лет. Роберт был Робертом Стерлингом Вильсоном, бывшим рецидивистом, японским агентом и Черным Фюрером Гарлема.
— Надо было приказать Роберту принести вещи, — сказал Джонс. — Черт возьми, ты не должен так рисковать своей жизнью.
— Это честь для меня, — сказал Крапптауэр, — рисковать жизнью ради жены человека, служившего Адольфу Гитлеру так верно, как Говард Кемпбэлл.
И он упал замертво.
Мы пытались оживить его, но он был совершенно мертв, с отвалившейся челюстью, ну полное дерьмо.
Я побежал вниз, на третий этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн со своей матерью. Доктор был дома. Доктор Эпштейн обошелся с несчастным старым Крапптауэром весьма грубо, заставляя его продемонстрировать всем нам, что он действительно мертв.
Эпштейн был еврей, и я думал, что Джонс и Кили могут возмутиться тем, как он трясет и бьет по щекам Крапптауэра. Но эти древние фашисты были по-детски уважительны и доверчивы.
Пожалуй, единственное, что Джонс сказал Эпштейну после того, как тот объявил Крапптауэра окончательно мертвым, было: «Кстати, я дантист, доктор».
— Да? — сказал Эпштейн. Ему это было неинтересно. Он вернулся в свою квартиру вызвать «скорую помощь». Джонс накрыл Крапптауэра моим одеялом из военных излишков.
— Именно сейчас, когда дела его наконец пошли на лад, — сказал он об умершем.
— Каким образом? — спросил я.
— Он начал создавать небольшую действующую организацию, — сказал Джонс. — Небольшую, но верную, надежную, преданную делу.
— Как она называется? — спросил я.
— Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции, — сказал Джонс. — У него был несомненный талант сплачивать совершенно обычных парней в дисциплинированную, полную решимости силу. — Джонс печально покачал головой. — Он находил такой глубокий отклик у молодежи.
— Он любил молодежь, и молодежь любила его, — сказал отец Кили. Он все еще плакал.
— Это эпитафия, которую надо выбить на его могильной плите, — сказал Джонс. — Он обычно занимался с юношами в моем подвале. Вы бы посмотрели, как он его оборудовал для них, обычных подростков из разных слоев общества.
— Это были подростки, которые обычно болтались неприкаянными и без него могли бы попасть в беду, — сказал отец Кили.
— Он был одним из самых больших ваших почитателей, — сказал Джонс.
— Да? — сказал я.
— Раньше, когда вы выступали на радио, он никогда не пропускал ваших радиопередач. Когда его посадили в тюрьму, он первым делом собрал коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он просто захлебывался от того, что слышал от вас накануне ночью.
— Гм… — произнес я.
— Вы были маяком, мистер Кемпбэлл, — сказал Джонс с жаром. — Понимаете ли вы, каким маяком вы были все эти черные годы?
— Нет, — сказал я.
— Крапптауэр надеялся, что вы будете идейным наставником его Железной Гвардии, — сказал Кили.
— А я — капелланом, — сказал Кили.
— О, кто, кто, кто возглавит теперь Железную Гвардию? — сказал Джонс. — Кто выступит вперед и поднимет упавший светильник?
Раздался сильный стук в дверь. Я открыл дверь, там стоял шофер Джонса, морщинистый старый негр со злобными желтыми глазами. На нем были черная униформа с белым кантом, армейский ремень, никелированный свисток, фуражка Luftwaffe без кокарды и черные кожаные краги.
В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел артритной походкой, но большие пальцы его рук были заткнуты под ремень, подбородок выпячен вперед, фуражка на голове.
— Здесь все в порядке? — спросил он Джонса. — Вы что-то задержались.
— Не совсем, — сказал Джонс, — Август Крапптауэр умер.
Черный Фюрер Гарлема отнесся к этому спокойно.
— Все помирают, все помирают, — сказал он. — Кто поднимет светильник, когда помрут все?
— Я как раз сейчас задал тот же вопрос, — сказал Джонс. Он представил меня Роберту. Роберт не подал мне руки.
— Я слышал о вас, но никогда не слушал вас, — сказал он.
— Ну и что, нельзя же всем всегда делать только приятное, — заметил я.
— Мы были по разные стороны, — сказал Роберт.
— Понимаю, — сказал я. Я ничего не знал о нем и был согласен с его принадлежностью к любой из сторон, которая ему больше нравилась.
— Я был на стороне цветных, — сказал он, — я был с японцами.
— Вот как? — сказал я.
— Мы нуждались в вас, а вы в нас, — сказал он, имея в виду союз Германии и Японии во второй мировой войне. — Но с многим из того, что вы говорили, мы не могли согласиться.
— Наверное так, — сказал я.
— Я хочу сказать, что, судя по вашим передачам, вы не такого уж хорошего мнения о цветных, — сказал Роберт.
— Ну, ладно, ладно, — сказал Джонс примирительно. — Стоит ли нам пререкаться? Что надо, так это держаться вместе.
— Я только хочу сказать ему, что говорю вам, — сказал Роберт. — Его преподобию я каждое утро говорю то же, что говорю вам сейчас. Даю ему горячую кашу на завтрак и говорю: «Цветные поднимутся в праведном гневе и захватят мир. Белые в конце концов проиграют».
— Хорошо, хорошо, Роберт, — сказал терпеливо Джонс.
— Цветные будут иметь свою собственную водородную бомбу. Они уже работают над ней. Японцы скоро сбросят ее. Остальные цветные народы окажут им честь сбросить ее первыми.
— И на кого же они собираются сбросить ее? — спросил я.
— Скорее всего, на Китай, — сказал он.
— На другой цветной народ? — сказал я.
Он посмотрел на меня с сожалением.
— Кто сказал вам, что китайцы цветные? — спросил он.
Прекрасная голубая ваза Вернера Нота…
Наконец нас с Хельгой оставили вдвоем.
Мы были смущены.
Будучи весьма немолодым человеком и проживя столько лет холостяком, я был более чем смущен. Я боялся подвергнуть испытанию свои возможности любовника. И страх этот усиливался удивительной молодостью, которую каким-то чудом сохранила моя Хельга.
— Это… это, как говорится, начать знакомство заново, — сказал я. Мы говорили по-немецки.
— Да, — сказала она. Теперь она подошла к окну и рассматривала патриотические эмблемы, нарисованные мною на пыльном стекле. — Что же из этого теперь твое, Говард? — спросила она.
— Прости?..
— Серп и молот, свастика или звезды и полосы — что теперь тебе больше нравится?
— Спроси меня лучше о музыке, — сказал я.
— Что?
— Спроси меня лучше, какая музыка мне теперь нравится? — сказал я. — У меня есть некоторое мнение о музыке. И у меня нет никакого мнения о политике.
— Понятно, — сказала она. — Хорошо, какую музыку ты теперь любишь?
— «Белое Рождество», — сказал я, — «Белое Рождество» Бинга Кросби.
— Что-что? — сказала она.
— Это моя любимая вещь. Я так ее люблю, у меня двадцать шесть пластинок с ее исполнением.
Она взглянула на меня озадаченно.
— Правда? — сказала она.
— Это… это моя личная шутка, — сказал я, запинаясь.
— Вот как!
— Моя личная — я так долго жил один, что все у меня мое личное. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь смог понять, что я говорю.
— Я смогу, — с нежностью сказала она. — Дай мне немного времени, совсем немного, и я снова буду понимать все, что ты говоришь. — Она пожала плечами. — У меня тоже есть мои личные шутки.
— Вот теперь у нас снова все будет личное на двоих, — сказал я.
— Это будет прекрасно.
— Опять государство двоих.
— Да, — сказала она. — Скажи…
— Все, что угодно, — сказал я.
— Я знаю, как умер отец, но ничего не смогла выяснить о маме и Рези. Слышал ли ты хоть что-нибудь?
— Ничего, — ответил я.
— Когда ты их видел в последний раз? — спросила она.
Вспоминая прошлое, я мог назвать точную дату, когда последний раз видел отца Хельги, ее мать и хорошенькую маленькую фантазерку сестричку Рези Нот.
— Двенадцатого февраля 1945 года.
И я рассказал ей об этом дне. День был такой холодный, что у меня ныли кости. Я украл мотоцикл и заехал навестить родителей жены — семью Вернера Нота, шефа берлинской полиции. Вернер Нот жил в предместье Берлина, далеко от зоны бомбежки. Он жил с женой и дочерью в окруженном стеной белом доме, монолитном, прочном и величественном, как гробница римского патриция. За пять лет тотальной войны дом совсем не пострадал, не треснуло даже ни одно стекло. Сквозь высокие, глубоко посаженные южные окна, как в раме, был виден окруженный стенами фруктовый сад, а северные обрамляли вид на берлинские руины с торчащими из них памятниками.
Я был в военной форме. На ремне у меня был крошечный револьвер и большой нелепый парадный кинжал. Я обычно не носил формы, хотя имел право носить ее — синюю с золотом форму майора Свободного Американского Корпуса.
Свободный Американский Корпус был мечтой фашистов, мечтой о боевой части, сформированной в основном из американских военнопленных. Это должна была быть добровольная организация. Она должна была сражаться только на русском фронте. Это должна была быть военная машина с высочайшим боевым духом, движимая любовью к западной цивилизации и страхом перед монгольскими ордами.
Когда я говорю, что эта воинская часть была мечтой нацистов, у меня начинается приступ шизофрении, так как идея Свободного Американского Корпуса принадлежала мне. Я сам предложил создать этот корпус, придумал форму и знаки отличия, написал его кредо. Кредо начиналось словами: «Я, подобно моим славным американским предкам, верю в истинную свободу…»
Свободный Американский Корпус не имел шумного успеха. В него вступили всего трое американских военнопленных. Бог знает, что с ними сталось. Подозреваю, что их уже не было в живых, когда я приехал навестить Нотов, и что из всего корпуса остался в живых только я.
Когда я заехал к ним, русские были всего в двадцати милях от Берлина. Я решил, что война уже на исходе и самое время кончать мою шпионскую карьеру.
Я вырядился в форму, чтобы усыпить бдительность тех немцев, которые могли помешать мне выбраться из Берлина. К багажнику моего украденного мотоцикла был привязан сверток с гражданской одеждой. Я заехал к Нотам без всякой задней мысли. Я просто хотел попрощаться с ними и чтобы они попрощались со мной. Я беспокоился о них, жалел, по-своему любил их.
Железные ворота большого белого дома были открыты. В воротах, подбоченившись, стоял сам Вернер Нот. Он наблюдал за работой группы польских и русских женщин, угнанных в Германию. Они перетаскивали чемоданы и мебель из дома в три запряженных лошадьми фургона.
В упряжке были маленькие золотистые лошадки монгольской породы, ранние трофеи русской кампании.
Надсмотрщиком был толстый, средних лет голландец в поношенном костюме.
Охранял женщин высокий старик с одностволкой времен франко-прусской войны. На его чахлой груди болтался Железный крест.
Еле волоча ноги, из дома вышла женщина, несшая великолепную голубую вазу. Она была обута в деревянные башмаки с холщовыми завязками. Это было оборванное существо без имени, без возраста, без пола. У нее был потухший взгляд. Нос у нее был отморожен, в багровых и белах пятнах.
Казалось, она вот-вот уронит вазу, она так ушла в себя, что ваза просто могла выскользнуть у нее из рук.
Мой тесть, видя, что ваза может упасть, завопил, как полоумный. Он визжал, что Бог мог бы пожалеть его, посочувствовать ему хоть раз, дать ему более разумное и энергичное существо. Он вырвал вазу у оцепеневшей женщины. Чуть ли не в слезах он призывал нас всех полюбоваться голубой вазой, которая едва не исчезла с лица земли из-за тупости и лени.
Оборванный голландец-надсмотрщик подошел к женщине и, истошно крича, повторил ей слово в слово то, что сказал мой тесть. С ним был и старый солдат, являя собой ту силу, которая в случае необходимости будет применена к ней.
Что в конце концов сделали с ней, было смехотворно. Ее даже не тронули.
Ей просто было отказано в чести перетаскивать вещи Нота.
Ей велели стоять в стороне, тогда как остальным продолжали доверять эти сокровища. Наказание состояло в том, чтобы заставить ее почувствовать себя идиоткой. Ей была дана возможность приобщиться к цивилизации, а она проворонила этот шанс.
— Я пришел сказать до свидания, — сказал я Ноту.
— До свидания, — сказал он.
— Я отправляюсь на фронт.
— Вон туда, — сказал он, указывая на восток. — Это совсем близко. Вы сможете добраться туда за день, собирая лютики по дороге.
— Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова, — сказал я.
— Ну и что? — сказал он.
Я пожал плечами.
— Ну и ничего.
— Вот именно, — сказал он, — и ничего, и ничего, и ничего.
— Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?
— Я остаюсь здесь, — сказал он. — Жена и дочь собираются в дом моего брата под Кельном.
— Могу ли я чем-нибудь помочь?
— Да, — сказал он. — Вы можете пристрелить собаку Рези. Она не выдержит дороги. Мне она не нужна, да я и не могу обеспечить ее вниманием и общением, к которому ее приучила Рези. Застрелите ее, пожалуйста.
— Где она?
— Я думаю, что она с Рези в музыкальной комнате. Рези знает, что собаку надо пристрелить, и у вас не будет неприятностей.
— Хорошо, — сказал я.
— Какая прекрасная форма, — сказал он.
— Благодарю вас.
— Не будет ли с моей стороны грубостью спросить, что она олицетворяет?
Я никогда не носил форму в его присутствии.
Я объяснил ему ее значение, показал эмблему на рукоятке кинжала. Серебряная эмблема на ореховой рукоятке изображала американского орла, который зажал в правой лапе свастику, а левой лапой душил змею. Змея была, так сказать, символом международного еврейского коммунизма. Вокруг головы орла было тринадцать звезд, символизировавших тринадцать первых американских колоний. Я сам делал первоначальный набросок эмблемы, и так как я не очень хорошо рисую, нарисовал шестиконечные звезды Давида, а не пятиконечные звезды Соединенных Штатов. Серебряных дел мастер, основательно подправив орла, воспроизвел мои шестиконечные звезды в точности.
Именно эти звезды поразили воображение моего тестя.
— Это, наверное, тринадцать евреев в кабинете Франклина Рузвельта? — сказал он.
— Очень забавная идея, — сказал я.
— Обычно думают, что немцы лишены чувства юмора.
— Германия — самая непонятная страна в мире.
— Вы один из немногих иноземцев, которые действительно нас понимают, — сказал он.
— Надеюсь, я заслужил этот комплимент.
— Этот комплимент вам нелегко было заслужить. Вы разбили мое сердце, женившись на моей дочери. Я хотел иметь зятем немецкого солдата.
— Мне очень жаль, — сказал я.
— Вы сделали ее счастливой.
— Надеюсь.
— Это заставило меня ненавидеть вас еще больше. Счастью нет места на войне.
— Очень жаль, — сказал я.
— Я вас так ненавидел, что стал вас изучать. Я слушал все, что вы говорили. Я никогда не пропускал ваших радиопередач, — сказал он.
— Я этого не знал, — сказал я.
— Никто не может знать все, — сказал он. — Знаете ли вы, что почти до этого самого момента ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, чем доказать, что вы шпион, и увидеть, как вас расстреляют.
— Нет, не знаю, — сказал я.
— И знаете ли вы, почему мне теперь наплевать, шпион вы или нет? — сказал он. — Вы можете сказать мне сейчас, что вы шпион, и все равно мы будем разговаривать так же спокойно, как сейчас. И я позволю вам исчезнуть в любое место, куда обычно исчезают шпионы, когда кончается война. Знаете, почему? — сказал он.
— Нет.
— Потому, что вы никогда не могли бы служить нашему врагу так хорошо, как служили нам. Я понял, что почти все идеи, которые я теперь разделяю, которые позволяют мне не стыдиться моих чувств и поступков нациста, пришли не от Гитлера, не от Геббельса, не от Гиммлера, а от вас. — Он пожал мне руку. — Если бы не вы, я бы решил, что Германия сошла с ума.
Он резко отвернулся от меня. Он подошел к той женщине с потухшим взглядом, которая чуть не уронила вазу. Провинившаяся оцепенело и тупо стояла у стены, там, где ей приказали.
Вернер Нот слегка тряхнул ее, пытаясь пробудить в ней хоть каплю разума. Он показал на другую женщину, которая несла уродливую китайскую дубовую резную собаку, несла осторожно, как ребенка.
— Видишь? — сказал он тупице. Он не хотел обидеть ее. Он просто хотел превратить это тупое создание в более отесанное, более полезное человеческое существо.
— Видишь, — сказал он снова искренне, с желанием помочь, почти просительно. — Вот как надо обращаться с драгоценными вещами.
Маленькая Рези Нот…
Я вошел в музыкальную комнату опустевшего дома Вернера Нота и нашел там маленькую Рези и ее собачку.
Маленькой Рези было тогда десять лет. Она свернулась в кресле у окна. Перед ее взором были не развалины Берлина, а огороженный фруктовый сад, снежно-белое кружево деревьев.
Дом уже не обогревался. Рези была в толстых шерстяных носках, закутана в пальто и шарф. Около нее стоял маленький чемоданчик. Она уже была готова к отъезду. Она сняла перчатки, аккуратно положила их на ручку кресла. Она сняла их и ласкала собачку, лежащую у нее на коленях. Это была такса, потерявшая на военном пайке всю шерсть и почти неподвижная от водянки.
Собака была похожа на амфибию из доисторических болот. Коричневые глазки собачки безумели от экстаза, когда Рези ласкала ее. Каждая клеточка ее сознания следовала за кончиками пальцев, гладившими ее шкуру.
Я не очень хорошо знал Рези. Однажды в начале войны, еще лепечущей крошкой, она привела меня в дрожь, назвав американским шпионом. С тех пор я старался проводить как можно меньше времени под ее изучающим детским взглядом. Я вошел в музыкальную комнату и поразился, как Рези становится похожей на мою Хельгу.
— Рези? — сказал я. Она не взглянула на меня.
— Я знаю, что собаку пора убить, — сказала она.
— Мне вовсе не хочется этого делать, — сказал я.
— Вы сделаете это сами или поручите кому-нибудь?
— Твой отец просил меня сделать это.
Она повернулась и взглянула на меня.
— Вы теперь солдат. Вы надели форму только для того, чтобы убить собаку?
— Я иду на фронт, — сказал я. — И зашел попрощаться.
— На какой фронт?
— На русский.
— Вы умрете, — сказала она.
— Наверное, а может быть, и нет, — сказал я.
— Каждый, кто еще не умер, очень скоро умрет, — сказала она. Ее, казалось, это не очень волновало.
— Не каждый, — сказал я.
— А я умру, — сказала она.
— Надеюсь, что нет. Уверен, что с тобой все будет в порядке.
— Наверное, это не страшно, когда убивают. Просто вдруг меня не станет, — сказала она. Она сбросила собаку с колен. Та шлепнулась на пол, как кусок сырого мяса.
— Возьмите ее, — сказала она. — Я ее никогда не любила. Я просто жалела ее.
Я поднял собаку.
— Ей лучше умереть, — сказала она.
— Я думаю, ты права.
— Мне тоже лучше умереть, — сказала она.
— Ну зачем ты так…
— Хотите, я вам что-то скажу? — сказала она.
— Давай.
— Наверное, никто из нас долго не проживет, и поэтому я могу вам сказать, что люблю вас.
— Очень приятно, — сказал я.
— Я действительно вас люблю, — сказала она. — Когда была жива Хельга и вы приезжали сюда, я всегда ей завидовала. Когда Хельга умерла, я стала мечтать о том, как я вырасту, выйду за вас замуж, стану знаменитой актрисой и вы будете писать пьесы для меня.
— Это честь для меня, — сказал я.
— Но это не имеет значения. Ничего не имеет значения. Идите и пристрелите собаку.
Я раскланялся, унося собаку. Я отнес ее в сад, положил на снег и вынул мой крошечный пистолет.
Три человека наблюдали за мной. Первым была Рези, стоявшая у окна музыкальной комнаты. Вторым был древний солдат, охранявший польских и русских женщин.
Третьим была моя теща Ева Нот. Ева Нот стояла у окна второго этажа. Подобно собачке Рези, она отекла на военном пайке. Бедная женщина, раздувшаяся в эти недобрые времена, как сарделька, стояла по стойке «смирно», казалось, она рассматривает убиение собаки как некую важную церемонию.
Я выстрелил собаке в затылок. Звук от выстрела был короткий, негромкий, как металлический плевок пистолета с глушителем.
Собака умерла, даже не вздрогнув.
Подошел старый солдат, выказав профессиональный интерес к тому, какую рану мог нанести такой маленький пистолет. Он перевернул собаку ботинком, нашел на снегу пулю и глубокомысленно хмыкнул, словно я сделал что-то интересное и поучительное. Он стал говорить о разных ранах, которые он видел или о которых слышал, о разных дырах в некогда живых существах.
— Вы собираетесь закопать ее? — спросил он.
— Я думаю, так будет лучше.
— Если вы этого не сделаете, ее кто-нибудь съест.
Вешательницы берлинского вешателя…
Только недавно, в 1958 или в 1959 году, я узнал, как умер мой тесть. Я знал, что он умер. Детективное агентство, к которому я обращался в поисках Хельги, сообщило мне, что Вернер Нот умер.
Подробности его смерти стали мне известны случайно, в парикмахерской Гринвич Вилледж. Ожидая своей очереди, я перелистывал журнал для женщин и с восхищением Думал, что за удивительные создания женщины. История, рекламировавшаяся на журнальной обложке, называлась «Вешательницы берлинского вешателя». Я не мог предположить, что это статья о моем тесте. Вешанье было не его дело. Я обратился к самой статье.
И я довольно долго смотрел на потемневшую фотографию Вернера Нота, повешенного на яблоне, даже не подозревая, кто это. Я смотрел на лица людей, присутствовавших при повешении. Это были в основном женщины, безликие, бесформенные оборванки.
И я стал играть в игру — подсчитывать, сколько раз наврала обложка журнала. Во-первых, женщины никого не вешали. Это делали трое тощих мужчин в отрепьях. Во-вторых, женщины на фотографии были некрасивы, а вешательницы на обложке были красавицы. У вешательниц на обложке груди были, как дыни, бедра крутые, как лошадиные хомуты, а их отрепья — живописно растрепанное неглиже фирмы Шапарелли. Женщины на фотографии были хороши, как дохлые рыбины, завернутые в полосатые наматрасники.
И еще не начав читать о повешении, я с содроганием постепенно узнавал разрушенное здание на заднем плане фотографии. Позади повешенного, словно челюсть с выбитыми зубами, виднелось то, что осталось от дома Вернера Нота, дома, в котором в истинно германском духе была воспитана моя Хельга и где я сказал «прощай» десятилетней нигилистке по имени Рези.
Я прочел текст.
Он был написан человеком по имени Ян Вестлейк и был сделан очень хорошо. Вестлейк, англичанин, освобожденный военнопленный, видел это повешение вскоре после того, как его освободили русские. Фотографии делал тоже он.
Нот, писал он, был повешен на собственной яблоне рабынями, угнанными в основном из Польши и России, жившими неподалеку. Вестлейк не называл моего тестя «берлинским вешателем».
Вестлейк не без труда выяснил, в каких преступлениях обвинялся Вернер Нот, и заключил, что Нот был не хуже и не лучше любого шефа полиции крупного города.
«Террор и пытки входили в компетенцию других отделов германской полиции, — писал Вестлейк. — В компетенцию Вернера Нота входило то, что связано с поддержанием закона и порядка в каждом большом городе. Силы, которыми он руководил, боролись с пьяницами, ворами, убийцами, насильниками, грабителями, мошенниками, проститутками и другими возмутителями спокойствия, а также делали все возможное, чтобы поддержать в городе движение транспорта».
«Главная вина Нота была в том, — писал Вестлейк, — что он передавал подозреваемых в различных проступках и преступлениях в систему правосудия и наказания, которая была безумна. Нот делал все от него зависящее, чтобы отличить виновных от невиновных, используя наиболее современные полицейские методы, но те, кому он передавал своих арестованных, считали, что это различие не имеет значения. Любой задержанный считался преступником, судили его или нет. Все заключенные всячески унижались, доводились до крайности и уничтожались».
Вестлейк далее писал, что рабыни, повесившие Нота, точно не знали, кто он, но понимали, что он важная шишка. Они повесили его, потому что хотели получить удовлетворение от повешения какого-нибудь важного лица.
Дом Нота, по словам Вестлейка, был разрушен русской артиллерией, однако Нот продолжал жить в одной из уцелевших задних комнат. Вестлейк осмотрел эту комнату и обнаружил в ней кровать, стол и подсвечник. На столе Нота в рамках были фотографии Хельги, Рези и жены.
Он нашел там и книгу. Это был немецкий перевод сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой».
Не объяснялось, почему этот прекрасный материал напечатал такой второстепенный журнал. Редакция не сомневалась, что читательницам будет интересно само описание повешения.
Мой тесть стоял на маленькой табуретке высотой в четыре дюйма. Веревка была накинута на его шею и крепко закреплена за ветку яблони. Затем табуретку выбили из-под него. Он мог плясать на земле, пока задыхался.
Неплохо?
Его вешали девять раз: восемь раз он приходил в себя.
Только после восьмого повешения от потерял последние капли достоинства и мужества. Только после восьмого повешения он начал вести себя как ребенок, которого мучают.
«За этот спектакль он был награжден тем, чего желал более всего, — писал Вестлейк. — Он был награжден смертью. Он умер с эрекцией, и ноги его были босые».
Я перевернул страницу посмотреть, нет ли чего-нибудь еще. Там было кое-что, но совсем не об этом. Там во всю страницу была фотография красотки с широко раздвинутыми ногами и высунутым языком.
Мой лучший друг…
Я уже говорил, что украл тот мотоцикл, на котором в последний раз приехал к Вернеру Ноту. Я должен это объяснить.
В сущности, я его не крал. Я просто одолжил его навечно у Хейнца Шильдкнехта, моего партнера по парному пинг-понгу, моего ближайшего друга в Германии.
Мы частенько выпивали вместе, разговаривали до поздней ночи, особенно после того, как оба потеряли своих жен.
— Я чувствую, что могу рассказать тебе все, абсолютно все, — сказал он мне однажды вечером в конце войны.
— Я чувствую то же самое, Хейнц, по отношению к тебе, — сказал я.
— Все, что у меня есть, — твое.
— Все, что у меня есть, — твое, Хейнц.
Собственность наша тогда была минимальна. Ни один из нас не имел дома, наша недвижимость и мебель были разбиты вдребезги. У меня были часы, пишущая машинка и велосипед, и это почти все. Хейнц уже давно обменял на черном рынке свои часы, пишущую машинку и даже обручальное кольцо на сигареты. Все, что у него осталось в этой юдоли печали, кроме моей дружбы и того, что на нем было надето, был мотоцикл.
— Если когда-нибудь что-нибудь случится с мотоциклом, — сказал он мне, — я нищий. — Он оглянулся посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь. — Я скажу тебе что-то ужасное.
— Не говори, если не хочешь.
— Я хочу, — сказал он. — Тебе я могу рассказать. Я собираюсь рассказать тебе нечто страшное.
Обычно мы пили и разговаривали в доте недалеко от общежития, где мы ночевали. Он был построен совсем недавно для обороны Берлина, построен рабами. Он был еще не оборудован и не укомплектован солдатами. Русские были еще не так близко.
Мы с Хейнцем сидели здесь с бутылкой и свечой, и он говорил мне ужасные вещи. Он был пьян.
— Говард, я люблю свой мотоцикл больше, чем любил жену, — сказал он.
— Я хочу быть твоим другом и хочу верить всему, что ты говоришь, — сказал я ему, — но в это я отказываюсь поверить. Забудем, что ты это сказал, потому что это неправда.
— Нет, — сказал он. — Сейчас одна из тех минут, когда говорят правду, одна из тех редких минут. Люди почти никогда не говорят правду, но я сейчас говорю правду. Если ты мне друг, — а я надеюсь, что это так, — ты поверишь другу, который говорит правду.
— Ладно.
Слезы потекли по его щекам.
— Я продал ее драгоценности, ее любимую мебель, один раз даже ее карточки на мясо — все себе на сигареты.
— Мы все делаем вещи, которых потом стыдимся, — сказал я.
— Я не бросил курить ради нее, — сказал Хейнц.
— У нас у всех есть дурные привычки.
— Когда бомба попала в нашу квартиру и убила ее, у меня остался только мотоцикл, — сказал он. — На черном рынке мне предлагали четыре тысячи сигарет за мотоцикл.
— Я знаю, — сказал я. Он всегда рассказывал мне эту историю, когда напивался.
— И я сразу бросил курить, — сказал он, — потому что я так любил мотоцикл.
— Каждый из нас за что-то цепляется, — сказал я.
— Не за то, за что надо, и слишком поздно. Я скажу тебе единственную вещь, в которой я действительно убежден.
— Хорошо, — сказал я.
— Все люди — сумасшедшие. Они способны делать все, что угодно и когда угодно, и только Бог поможет тому, кто доискивается причин.
Что касается женщин типа жены Хейнца: я был знаком с ней только поверхностно, хотя видел довольно часто. Она безостановочно болтала, из-за чего ее было трудно узнать поближе, а тема была всегда одна и та же: преуспевающие люди, не упускающие своих возможностей, люди, в противоположность ее мужу, важные и богатые.
— Молодой Курт Эренс, — обычно говорила она, — всего двадцать шесть, а уже полковник СС! А его брат Хейнрих — ему не более тридцати четырех, а у него под началом восемнадцать тысяч иностранных рабочих, и все строят противотанковые рвы. Говорят, Хейнрих знает о противотанковых рвах больше всех на свете, а я всегда с ним танцевала.
Снова и снова она повторяла все это, а на заднем плане бедный Хейнц прокуривал свои мозги. Из-за нее я стал глух ко всем историям с преуспеваниями. Люди, которых она считала преуспевающими в этом прекрасном новом мире, вознаграждались в конце концов как специалисты по рабству, уничтожению и смерти. Я не склонен считать людей, работающих в этих областях, преуспевающими.
Когда война стала подходить к концу, мы с Хейнцем уже не могли выпивать в нашем доте. Там было установлено восьмидесятивосьмидюймовое орудие, команда которого была укомплектована мальчиками пятнадцати-шестнадцати лет. Это тоже подходящая история об успехе для покойной жены Хейнца — такие молоденькие мальчики, а уже во взрослой форме и со своей собственной вооруженной до зубов западней смерти.
И мы с Хейнцем пили и разговаривали там, где ночевали, — в манеже, набитом оставшимися при бомбежках без крова государственными рабочими, спавшими на соломенных матрацах. Мы прятали бутылку, так как не желали ни с кем ее делить.
— Хейнц, — сказал я ему как-то ночью. — Хотел бы я знать, насколько ты мне действительно друг.
Он обиделся.
— Почему ты меня об этом спрашиваешь?
— Я хотел бы попросить тебя об очень большом одолжении, но не знаю, могу ли, — сказал я.
— Я требую, чтобы ты сказал!
— Одолжи мне свой мотоцикл, чтобы я мог навестить завтра родственников моей жены, — сказал я.
Он не поколебался, не дрогнул.
— Возьми его! — сказал он.
И утром я взял мотоцикл.
Мы выехали утром бок о бок: Хейнц на моем велосипеде, я на его мотоцикле.
Я нажал на стартер, включил передачу и… припустил, оставив моего лучшего друга улыбающимся в облаке голубых выхлопных газов.
И я погнал, тр… тр… тр…
И он больше никогда не увидел ни своего мотоцикла, ни своего лучшего друга.
Я запрашивал Институт документации военных преступников в Хайфе, знают ли они что-нибудь о Хейнце, хотя, в сущности, он не был военным преступником. Институт порадовал меня сообщением, что Хейнц сейчас в Ирландии, он главный управляющий барона Ульриха Вертера фон Швефельбада. Фон Швефельбад после войны купил большое поместье в Ирландии.
Институт сообщил мне, что Хейнц давал показания по делу о смерти Гитлера, потому что случайно оказался в бункере Гитлера, когда облитое бензином тело горело, но было еще узнаваемо.
Привет отсюда, Хейнц, если ты это прочтешь.
Я действительно любил тебя, насколько я способен кого-нибудь любить.
Ты, я вижу, тоже хоть кого вокруг пальца обведешь!
Что ты делал в бункере Гитлера — искал свой мотоцикл и своего лучшего друга?
Содержимое старого чемодана…
— Послушай, — сказал я моей Хельге в Гринвич Вилледж после того, как рассказал ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре, — эта мансарда не может быть любовным гнездышком даже и на одну ночь. Мы возьмем такси. Поедем в какую-нибудь гостиницу. А завтра мы выкинем все это барахло и купим все совершенно новое. А потом поищем действительно приятное место для жилья.
— Я очень счастлива и тут, — сказала она.
— Завтра, — сказал я, — мы найдем кровать, такую же, как наша старая — две мили в длину и три в ширину и с изголовьем, прекрасным, как закат солнца в Италии. Помнишь? О боже, помнишь?
— Да, — сказала она.
— Сегодняшняя ночь в гостинице, а завтрашняя в такой постели.
— Мы едем сию минуту?
— Как скажешь.
— Можно я сначала покажу тебе мои подарки?
— Подарки?
— Подарки для тебя.
— Ты — мой подарок. Что мне еще надо?
— Это тебе, наверное, тоже надо, — сказала она, открывая замки чемодана. — Надеюсь, надо. — Она раскрыла чемодан. Он был набит рукописями. Ее подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти каждое искреннее слово, когда-либо написанное мною, прежним Говардом У. Кемпбэллом-младшим. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга — собрание сочинений жизнерадостного, свободного, молодого, очень молодого человека.
— Какое у меня странное чувство, — сказал я.
— Мне не надо было это привозить?
— Сам не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мною. — Я взял рукопись книги — причудливый эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы». — Это надо было сжечь, — сказал я.
— Я скорее сожгла бы свою правую руку.
Я отложил книгу, взял связку стихов.
— Что мог сказать о жизни этот юный незнакомец? — сказал я и прочел вслух стихи, немецкие стихи:
Kühl und hell der Sonnenaufgang,
leis und süss der Glocke Klang.
Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,
sitzt an des tiefen Brunnens Rand.
А в переводе? Примерно так:
Свежий ясный восход,
Колокол сладко звенит.
Юная дева с кувшином
В глубокий колодец глядит.
Я прочитал это стихотворение вслух, затем еще одно. Я был и остался очень плохим поэтом. Я привожу эти стихи не для того, чтобы мной восхищались. Второе стихотворение, которое я прочел, было, я думаю, предпоследнее из написанных мною. Оно датировалось 1937 годом и называлось: «Gedanken über unseren Abstand vom Zeitgeschehen», или, в переводе, «Размышления о неучастии в текущих событиях».
Оно звучало так:
Eine mächtige Damvfwalze naht und schwärzt der Sonne vfad,
rollt über geduckte Menschen dahin,
will keiner ihr entfliehn.
Mein Lieb und ich schaun starren Blickes das Rätsel dieses Blutgeschickes.
“Kommt mit herab”, die Menschheit schreit,
“Die Walze ist die Geschichte der Zeit!”
Mein Zieb und ich geht auf die Flucht,
wo keine Damvfwalze uns sucht,
und leben auf den Bergeshöhen,
getrennt vom schwarzen Zeitgeschehen.
Sollen wir bleiben mit den andern zu sterben?
Doch nein, wir zwei wollen nicht verderben!
Nun ist’s vorbei! — Wir sehn mit Erbleichen die Ovfer der Walze, verfaulte Leichen.
В переводе:
Мчит огромный паровой каток,
Закрывая солнца свет.
Все кидаются наземь, наземь,
Считая — спасенья нет.
Мы глядим потрясенно, я и любимая,
На кровавую эту мистерию.
«Наземь!» — все вокруг кричат. —
«Эта машина — история!»
Но мы убегаем в горы, прочь,
Я и любимая.
Нас катку не догнать.
Позади осталась история!
Мы не хотим умереть, как все,
Вернуться вниз, назад.
Нам сверху видно, что за катком
Смердящие трупы лежат.
— Каким образом все это оказалось у тебя? — спросил я у Хельги.
— Когда я приехала в Западный Берлин, — сказала она, — я пошла в театр узнать, сохранился ли он, остался ли кто-нибудь из знакомых и есть ли у кого-нибудь сведения о тебе. — Ей не надо было объяснять мне, какой театр она имела в виду. Она имела в виду маленький театр в Берлине, где шли мои пьесы и где Хельга часто играла ведущие роли.
— Я знаю, он просуществовал почти до конца войны, — сказал я. — Он еще существует?
— Да, — сказал она. — И когда я спросила о тебе, никто ничего не знал. А когда я рассказала им, кем ты когда-то был для этого театра, кто-то вспомнил, что на чердаке валяется чемодан, на котором написана твоя фамилия.
Я погладил рукописи.
— И в нем было это, — сказал я. — Теперь я вспомнил чемодан, вспомнил, как я закрыл его в начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что чемодан — это гроб, где похоронен молодой человек, которым я никогда больше не буду.
— У тебя есть копии этих вещей? — спросила она.
— Совершенно ничего, — сказал я.
— Ты больше не пишешь?
— Не было ничего, что я хотел бы сказать.
— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?
— Именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас ничего сказать. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же.
— Здесь было еще одно стихотворение, наверное, последнее, оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана, — сказала она.
— Неужели? — сказал я.
Она продекламировала его мне:
Hier liegt Howard Camvbells Geist geborgen,
frei von des Körvers quälenden Sorgen.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und kargen Lohn dafür erhält.
Triffst du die beiden getrennt allerwärts,
verbrenn den Leib, doch schone dies, sein Herz.
В переводе:
Вот сущность Говарда Кемпбэлла бедного,
Отделенная от тела его бренного.
Тело пустое по белому свету шныряет,
Что ему нужно для жизни, себе выбирает.
И раз уж у сущности с телом так разошелся путь,
Тело его сожгите, но пощадите суть.
Раздался стук в дверь.
Это Джордж Крафт стучал ко мне в дверь, и я его впустил.
Он был очень взбудоражен, потому что исчезла его кукурузная трубка. Я впервые видел его без трубки, впервые он продемонстрировал, как необходима трубка для его спокойствия. Он был так расстроен, что чуть не плакал.
— Кто-то взял ее или куда-то засунул. Не понимаю, кому она понадобилась, — скулил он. Он ожидал, что мы с Хельгой разделим его горе, видно, он считал исчезновение трубки главным событием дня.
Он был безутешен.
— Почему кто-то вообще трогал трубку? — сказал он. — Кому это было надо?
Он разводил руками, часто мигал, сопел, вел себя как наркоман с синдромом абстиненции, хотя никогда ничего не курил.
— Скажите мне, — повторял он, — почему кто-то взял мою трубку?
— Не знаю, Джордж, — сказал я раздраженно. — Если мы ее найдем, дадим тебе знать.
— Можно я поищу ее сам?
— Давай.
И он перевернул все вверх дном, гремя кастрюлями и сковородками, хлопая дверьми буфета, с лязгом шуруя кочергой под батареями.
Что сделал этот спектакль для нас с Хельгой, так это сблизил нас, привел нас к таким близким отношениям, к которым мы пришли бы еще не скоро.
Мы стояли бок о бок, возмущенные вторжением в наше государство двоих.
— Это ведь не очень ценная трубка? — спросил я.
— Очень ценная — для меня, — сказал он.
— Купи другую.
— Я хочу эту, я к ней привык. Я хочу именно эту. — Он открыл хлебницу, заглянул туда.
— Может, ее взяли санитары? — предположил я.
— Зачем она им? — сказал он.
— Может, они подумали, что она принадлежит умершему. Может, они сунули ее ему в карман? — сказал я.
— Вот именно! — заорал Крафт и выскочил в дверь.
Глава шестьсот сорок три…
Как я уже говорил, в чемодане Хельги среди прочего была моя книга. Это была рукопись. Я никогда не собирался ее публиковать. Я считал, что ее может напечатать разве только издатель порнографии.
Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как обладал сотнями женщин, которыми для меня была моя жена, моя единственная Хельга. В этом было что-то патологическое, болезненное, можно сказать, безумное. Это был дневник, запись день за днем нашей эротической жизни первых двух военных лет — и ничего больше. Там не было даже никаких указаний ни на век, ни на континент.
Там были только мужчина и только женщина в самых разных настроениях. Обстановка обрисовывалась весьма приблизительно и то лишь в самом начале, а затем и вовсе исчезла.
Хельга знала, что я веду этот странный дневник. Это был один из многих способов поддержать на накале наш секс. Книга была не только описанием эксперимента, но и частью самого эксперимента — неловкого эксперимента мужчины и женщины, безумно привязанных друг к другу сексуально.
И более того.
Являвшихся друг для друга целиком и полностью смыслом существования, достаточным, даже если бы не было никакой другой радости.
Эпиграф к книге, я думаю, попадал прямо в точку.
Это стихотворение Вильяма Блейка «Ответ на вопрос»:
Что в женщине мужчина ищет?
Лишь утоленное желанье.
В мужчине женщина что ищет?
Лишь утоленное желанье.
Здесь уместно добавить последнюю главу к «Мемуарам», главу 643, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как прожил столько лет без нее.
Я оставляю на усмотрение деликатного и искушенного издателя заменить невинными многоточиями все то, что может шокировать читателя.
Мемуары моногамного Казановы, глава 643
Мы были в разлуке шестнадцать лет. Вожделение мое этой ночью началось с кончиков пальцев. Постепенно оно охватило… другие части моего тела, и они были удовлетворены вечным способом, удовлетворены полностью, с… клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела и, я уверен, моей жены тоже не осталась неудовлетворенной, не могла пожаловаться ни на досадную поспешность, ни на тщетность усилий, ни на… непрочность постройки. И все же наибольшего совершенства достигли кончики моих пальцев…
Это вовсе не означает, что я оказался стариком, не способным дать женщине ничего, кроме радостей… любовной прелюдии. Напротив, я был не менее… проворным любовником, чем семнадцатилетний… юноша со своей… девушкой.
И так же полон жажды познавать.
И эта жажда жила в моих пальцах.
Дерзкие, изобретательные, умные, эти… труженики, эти… стратеги…, эти… разведчики, эти… меткие стрелки исследовали свою территорию.
И все, что они находили, было прекрасно…
Этой ночью моя жена была… рабыней в постели… императора, она, казалось, ничего не слышала и даже не могла произнести ни слова на моем языке. И тем не менее, как выразительна она была, все говорили ее глаза, ее… дыхание, она не могла, не хотела сдерживать их…
И как до каждой жилки было знакомо и просто то, что говорило ее… тело… Это был рассказ ветра о ветре, розового куста о розе…
После нежных умных благодарных моих пальцев вступили другие инструменты наслаждения, полные нетерпения, лишенные памяти и условностей. Их моя рабыня принимала с жадностью… пока Мать-Природа, повелевавшая нашими самыми непомерными желаниями, уже не могла требовать большего. Мать-Природа сама возвестила конец игры… Мы откатились друг от друга…
Мы заговорили членораздельно впервые после того, как легли.
— Привет, — сказала она.
— Привет, — сказал я.
— Добро пожаловать домой, — сказала она.
Конец главы 643
На следующее утро небо было чистое, высокое, ясное, словно волшебный купол, хрупкий и звенящий, словно огромный стеклянный колокол.
Мы с Хельгой бойко вышли из отеля. Я был неистощим в своей учтивости, а моя Хельга была не менее великолепна в своем внимании и благодарности. Мы провели фантастическую ночь.
Я был одет не в свои военные излишки. Я был в том, что надел, когда удрал из Берлина и сорвал с себя форму Свободного Американского Корпуса. На мне было пальто с меховым воротником, как у импресарио, и синий шерстяной костюм — то, в чем меня схватили.
Причуды ради я был с тростью. Я делал потрясающие штуки с этой тростью: демонстрировал затейливые ружейные приемы, вращал ее, как Чаплин, играл ею, как в поло, объедками в водосточных канавах.
И все это время маленькая ручка моей Хельги скользила в бесконечном эротическом исследовании чувственной зоны между локтем и тугим бицепсом моей левой руки.
Мы шли покупать кровать, такую, как была у нас в Берлине.
Но все магазины были закрыты. День не был воскресеньем и, как мне казалось, не был праздником. Когда мы дошли до Пятой авеню, там, насколько видел глаз, развевались американские флаги.
— Великий Боже! — воскликнул я в изумлении.
— Что это значит? — спросила Хельга.
— Может, ночью объявили войну? — сказал я. Она судорожно сжала пальцами мою руку.
— Ты ведь так не думаешь, правда? — сказала она. Она думала, что это возможно.
— Я шучу, — сказал я. — Наверное, какой-то праздник.
— Какой праздник? — спросила она.
Я был в недоумении.
— Как твой хозяин в этой чудесной стране я должен был бы объяснить тебе глубокое значение этого великого дня в нашей национальной жизни, но мне ничего не приходит в голову.
— Ничего?
— Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи.
Одетый в форму негр подметал тротуар перед жилым домом. Его синяя с золотом форма поражала удивительным сходством с формой Свободного Американского Корпуса вплоть до последнего штриха — бледно-лавандовых полос вдоль штанин. Название дома было вышито на нагрудном кармане. «Лесной дом» называлось это место, хотя единственным деревом поблизости был саженец, подвязанный и закрепленный железными оттяжками.
Я спросил негра, какой сегодня праздник.
Он сказал, что День ветеранов.
— Какое сегодня число? — спросил я.
— Одиннадцатое ноября, сэр, — ответил он.
— Одиннадцатое ноября — День перемирия, а не День ветеранов.
— Вы что, с луны свалились? Это изменено уже много лет назад.
— День ветеранов, — сказал я Хельге, когда мы пошли дальше. — Прежде это был День перемирия. Теперь День ветеранов.
— Это тебя расстроило? — спросила она.
— Это такая чертова дешевка, так чертовски типично для Америки, — сказал я. — Раньше это был день памяти жертв первой мировой войны, но живые не смогли удержаться, чтобы не заграбастать его, желая приписать себе славу погибших. Так типично, так типично. Как только в этой стране появляется что-то достойное, его рвут в клочья и бросают толпе.
— Ты ненавидишь Америку, да?
— Это так же глупо, как и любить ее, — сказал я. — Я не могу испытывать к ней никаких чувств, потому что недвижимость меня не интересует. Без сомнения, это мой большой минус, но я не могу мыслить в рамках государственных границ. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы и гномы. Я не могу представить себе, что эти границы определяют начало или конец чего-то действительно важного для человеческой души. Пороки и добродетели, радость и боль пересекают границы, как им заблагорассудится.
— Ты так изменился, — сказала она.
— Мировые войны меняют людей, иначе для чего же они? — сказал я.
— Может быть, ты так изменился, что больше меня не любишь? — сказала она. — Может быть, и я так изменилась…
— Как ты можешь это говорить после нашей ночи?
— Мы ведь еще ни о чем не поговорили, — сказала она.
— О чем говорить? Что бы ты ни сказала — это не заставит меня любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока, слова ничего не значат для нее. Это любовь душ.
Она вздохнула.
— Как это прекрасно, если это правда. — Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга. — Это наши любящие души.
— Любовь, которая может вынести все, — сказал я.
— Твоя душа чувствует сейчас любовь к моей душе?
— Безусловно, — сказал я.
— Ты не заблуждаешься? Ты не ошибаешься в своих чувствах?
— Ни в коем случае.
— И что бы я ни сказала, не сможет разрушить твою любовь?
— Ничто, — сказал я.
— Прекрасно. Я должна тебе сказать что-то, что боялась сказать раньше. Теперь я не боюсь.
— Говори, — сказал я с легкостью.
— Я не Хельга, — сказала она. — Я ее младшая сестра Рези.
Полигамный казанова…
Когда она огорошила меня этой новостью, я повел ее в ближайшее кафе, где мы могли посидеть. В кафе были высокие потолки, беспощадный свет и адский шум.
— Почему ты так поступила? — спросил я.
— Потому что я люблю тебя, — сказала она.
— Как ты можешь любить меня?
— Я всегда любила тебя, с самого детства, — сказала она.
Я обхватил голову руками.
— Это ужасно.
— Я… я думала, что это прекрасно.
— Что же дальше? — сказал я.
— Разве это не может продолжаться?
— О, господи, как все запутано, — сказал я,
— Выходит, я нашла слова, способные убить любовь, — сказала она, — любовь, которую убить невозможно?
— Не знаю, — сказал я. Я покачал головой. — Какое странное преступление я совершил.
— Это я совершила преступление, — сказала она. — Я, должно быть, сошла с ума. Когда я сбежала в Западный Берлин и там мне велели заполнить анкету, где спрашивалось, кто я, чем занималась, кто мои знакомые…
— Эта длинная, длинная история, которую ты уже рассказывала, — сказал я, — о России, о Дрездене — есть в ней хоть доля правды?
— Сигаретная фабрика в Дрездене — правда, — сказала она. — Мой побег в Берлин — правда. И больше почти ничего. Вот сигаретная фабрика — чистая правда — десять часов в день, шесть дней в неделю, десять лет.
— Прости, — сказал я.
— Ты меня прости. Жизнь была слишком тяжела для меня, чтобы испытывать чувство вины. Муки совести для меня слишком большая роскошь, недоступная, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, а я не имела на них права.
— Почему?
— Я все время мечтала быть не тем, кем я была.
— В этом нет ничего страшного, — сказал я.
— Есть, — сказала она. — Посмотри на себя. Посмотри на меня. Посмотри на нашу любовь. Я мечтала быть моей сестрой Хельгой. Хельга, Хельга, Хельга — вот кем я была. Прелестная актриса, жена красавца-драматурга — вот кем я была. А Рези — работница сигаретной фабрики, — она просто исчезла.
— Ты могла бы выбрать что-нибудь попроще, — сказал я.
Теперь она осмелела.
— А я и есть Хельга. Вот я кто! Хельга, Хельга, Хельга. Ты поверил в это. Что может быть лучшим доказательством? Ты ведь принял меня за Хельгу?
— Ну и вопрос, черт возьми, ты задаешь джентльмену, — сказал я.
— Имею я право на ответ?
— Ты имеешь право на ответ «да». Справедливость требует ответить «да», но я должен сказать, что и я оказался не на высоте. Мой разум, мои чувства, моя интуиция оказались не на высоте.
— Или, наоборот, на высоте, — сказала она, — и ты вовсе не был обманут.
— Скажи, что ты знаешь о Хельге? — спросил я.
— Она умерла.
— Ты уверена?
— А разве нет?
— Я не знаю.
— Я не слышала о ней ни слова, — сказала она. — А ты?
— Я тоже.
— Живые подают голос, верно? — сказала она. — Особенно если они кого-нибудь любят так сильно, как Хельга тебя.
— Наверное, ты права.
— Я люблю тебя не меньше, чем Хельга, — сказала она.
— Спасибо.
— И ты обо мне слышал, — сказала она. — Это было не легко, но ты слышал.
— Действительно, — сказал я.
— Когда я попала в Западный Берлин и мне велели заполнить анкету — имя, занятие, ближайшие живые родственники, — я сделала выбор. Я могла быть Рези Нот, работницей сигаретной фабрики, совсем без родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого обаятельного блестящего драматурга в США. — Она наклонилась вперед. — Скажи, что я должна была выбрать?
Прости меня. Боже, я снова принял Рези как мою Хельгу.
Получив это второе признание, она понемногу начал показывать, что ее сходство с Хельгой не столь уж полное. Она почувствовала, что может мало-помалу приучать меня к себе самой, к тому, что она отличается от Хельги.
Это постепенное раскрытие, отлучение от памяти Хельги началось, как только мы вышли из кафе. Она задала несколько покоробивший меня практический вопрос:
— Ты хочешь, чтобы я продолжала обесцвечивать волосы, или можно вернуть им настоящий цвет?
— А какие они на самом деле?
— Цвета меди.
— Прелестный цвет волос, — сказал я. — Хельгин цвет.
— Мои с рыжеватым оттенком.
— Интересно посмотреть.
Мы шли по Пятой авеню, и немного позже она спросила:
— Ты напишешь когда-нибудь пьесу для меня?
— Не знаю, смогу ли я еще писать.
— Разве Хельга не вдохновляла тебя?
— Вдохновляла, и не просто писать, а писать так, как я писал.
— Ты писал пьесы так, чтобы она могла в них играть.
— Верно, — сказал я. — Я писал для Хельги роли, в которых она играла квинтэссенцию Хельги.
— Я хочу, чтобы ты когда-нибудь сделал то же самое для меня, — сказала она.
— Может быть, я попытаюсь.
— Квинтэссенцию Рези. Рези Нот.
Мы смотрели на парад Дня ветеранов на Пятой авеню и я впервые услышал смех Рези. Он не имел ничего общего с тихим, шелестящим смехом Хельги. Смех Рези был радостным, мелодичным. Что ее особенно насмешило, так это барабанщицы, которые задирали высоко ноги, вихляли задами, жонглировали хромированными жезлами, напоминавшими фаллос.
— Я никогда ничего подобного не видела, — сказала она мне. — Для американцев война, должно быть, очень сексуальна. — Она захохотала и выпятила грудь, как будто хотела посмотреть, не получится ли из нее тоже хорошая барабанщица?
С каждой минутой она становилась все моложе, веселее, раскованнее. Ее снежно-белые волосы, которые ассоциировались сначала с преждевременной старостью, теперь напоминали о перекиси и девочках, удирающих в Голливуд.
Отвернувшись от парада, мы увидели витрину, где красовалась огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, которая когда-то была у нас с Хельгой.
В витрине была видна не только эта вагнерианская кровать, в ней как призраки отражались я и Рези с парадом призраков на заднем плане. Эти бледные духи и такая реальная кровать составляли волнующую композицию. Она казалась аллегорией в викторианском стиле, великолепной картиной для какого-нибудь бара, с проплывающими знаменами, золоченой кроватью и двумя призраками, мужского и женского пола.
Что означала эта аллегория, я не могу сказать. Но могу предположить несколько вариантов. Мужской призрак выглядел ужасно старым, истощенным, побитым молью. Женский выглядел так молодо, что годился ему в дочери, был гладкий, задорный, полный огня.
Ответ коммунизму…
Мы с Рези брели обратно в мою крысиную мансарду, рассматривая в витринах мебель, выпивая здесь и там. В одном из баров Рези пошла в дамскую комнату, оставив меня одного. Один из посетителей заговорил со мной.
— Вы знаете, чем отвечать коммунизму? — спросил он.
— Нет, — сказал я.
— Моральным перевооружением.
— Что это, черт возьми? — сказал я.
— Это движение.
— В каком направлении?
— Движение Морального Перевооружения предполагает абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.
— Я искренне желаю им всем всех благ, — сказал я.
В другом баре мы встретили человека, который утверждал, что может удовлетворить, полностью удовлетворить за ночь семь совершенно разных женщин.
— Я имею в виду действительно разных, — сказал он.
О Боже, что за жизнь люди пытаются вести.
О Боже, куда это их заведет!
В которой увековечены рядовой Ирвинг Буканон и некоторые другие…
Мы с Рези подошли к дому только после ужина, когда стемнело. Мы решили провести вторую ночь в отеле. Мы вернулись домой, потому что Рези хотелось помечтать о том, как мы преобразуем мансарду, поиграть в свой дом.
— Наконец у меня есть дом, — сказала она.
— Нужна куча средств, чтобы превратить это жилье в дом, — сказал я. Я увидел, что мой почтовый ящик снова полон. Я не стал вынимать почту.
— Кто это сделал? — сказала Рези.
— Что?
— Это, — сказала она, указывая на табличку с моей фамилией на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику.
— Это что-то новенькое, — сказал я беспокойно. — Может быть, нам лучше не подниматься. Может быть, тот, кто сделал это, там, наверху.
— Не понимаю, — сказала она.
— Ты приехала ко мне в неудачное время. У меня была уютная маленькая нора, которая бы нас так устроила.
— Нора?
— Дырка в земле, секретная и уютная. Но боже мой, — сказал я в отчаянии, — как раз перед твоим появлением некто обнаружил мою нору. — Я рассказал ей, как возродилась моя дурная слава. — Теперь хищники, вынюхавшие недавно вскрытую нору, окружают ее.
— Уезжай в другую страну, — сказала она.
— В какую другую?
— В любую, какая тебе нравится, — сказала она. — У тебя есть деньги, чтобы поехать, куда ты захочешь.
— Куда захочу, — повторил я.
И тут вошел лысый небритый толстяк с хозяйственной сумкой. Он оттолкнул плечом меня и Рези от почтового ящика, извинившись с неизвинительной грубостью.
— Звиняюсь, — сказал он. Он читал фамилии на почтовых ящиках, как первоклассник, водя пальцем по каждой, долго-долго изучая каждую фамилию.
— Кемпбэлл! — сказал он в конце концов с явным удовлетворением. — Говард У. Кемпбэлл. — Он повернулся ко мне обвиняюще. — Вы его знаете?
— Нет, — сказал я.
— Нет, — повторил он, излучая злорадство. — Вы очень на него похожи. — Он вытащил из хозяйственной сумки «Дейли ньюс», раскрыл и сунул Рези. — Не правда ли, похож на джентльмена, который с вами?
— Дайте посмотреть, — сказал я. Я взял газету из ослабевших пальцев Рези и увидел ту давнюю фотографию, где я с лейтенантом О’Хара стою перед виселицами в Ордруфе.
В заметке под фотографией говорилось, что правительство Израиля после пятнадцатилетних поисков определило мое местонахождение.
Это правительство сейчас требует, чтобы Соединенные Штаты выдали меня Израилю для суда. В чем они хотят меня обвинить? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.
Человек ударил меня прямо через газету, прежде чем я успел что-нибудь сказать.
Я упал, ударившись головой о мусорный ящик.
Человек стоял надо мной.
— Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке, или что еще они там захотят с тобой сделать, — сказал он, — я хочу сам с тобой немножечко поиграть.
Я тряс головой, пытаясь очухаться.
— Прочувствовал этот удар? — сказал он.
— Да.
— Это за рядового Ирвинга Буканона.
— Это вы?
— Буканон мертв, — сказал он. — Он был моим лучшим другом. В пяти милях от Омаха Бич. Немцы оторвали у него яйца и повесили его на телефонном столбе.
Он ударил меня ногой по ребрам, удерживая Рези рукой: «Это за Анзела Бруэра, раздавленного танком „Тигр“ в Аахене».
Он ударил меня снова: «Это за Эдди Маккарти, он был разорван на части снарядом в Арденнах. Эдди собирался стать доктором».
Он отвел назад свою огромную ногу, чтобы ударить меня по голове. «А это за…» — сказал он, и это было последнее, что я услышал. Удар был за кого-то, тоже убитого на войне. Я был избит до бесчувствия.
Потом Рези рассказала мне, что за подарок был для меня в его сумке и что он сказал напоследок.
«Я — единственный, кто не забыл эту войну, — сказал он мне, хотя я не мог его услышать. — Другие, как я понимаю, забыли, но только не я. Я принес тебе это, чтобы ты избавил других от забот».
И он ушел.
Рези сунула веревочную петлю в мусорный ящик, где на следующее утро ее нашел мусорщик по имени Ласло Сомбати. Сомбати и в самом деле повесился на ней, но это уже другая история.
А теперь о моей истории.
Я пришел в себя на ломаной тахте в захламленной, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Там был картонный камин, грошовый символ счастливого Рождества. В нем были картонные березовые поленья, красный электрический свет и целлофановые языки вечного огня.
Над камином висела цветная литография Адольфа Гитлера. Она была обрамлена черным шелком.
Я был раздет до своего оливкового нижнего белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Я застонал, сел, и огненные ракеты впились мне в голову. Я посмотрел на леопардовую шкуру и что-то промычал.
— Что ты сказал, дорогой? — спросила Рези. Она сидела совсем рядом с тахтой, но я не заметил ее, пока она не заговорила.
— Не говори мне, — сказал я, заворачиваясь плотнее в леопардовую шкуру, — что я снова с готтентотами.
Спасители — хранители…
Мои консультанты здесь, в тюрьме, — живые энергичные молодые люди — снабдили меня фотокопией статьи из нью-йоркской «Таймс», рассказывающей о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне.
Значит, мне это не приснилось.
Сомбати отмочил эту шутку на следующую ночь после того, как меня избили.
Согласно «Таймс», он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах Борцов за Свободу боролся против русских. Таймс сообщала, что он был братоубийцей, то есть убил своего брата Миклоша, помощника министра образования Венгрии.
Перед тем как уснуть навсегда, Сомбати написал записку и приколол ее к штанине. В записке не было ни слова о том, что он убил своего брата.
Он жаловался, что был уважаемым ветеринаром в Венгрии, а в Америке ему не разрешили практиковать. Он с горечью высказывался о свободе в Америке. Он считает, что она иллюзорна.
В финальном фанданго паранойи и мазохизма Сомбати закончил записку намеком, будто он знает, как лечить рак. Американские врачи, писал он, смеялись над ним, когда он пытался им об этом рассказать.
Ну, хватит о Сомбати.
Что касается комнаты, где я очнулся после того, как меня избили: это был подвал, оборудованный для Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции покойным Августом Крапптауэром, подвал доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Д. С. X., Д. Б. Где-то выше работала печатная машина, выпускавшая листовки «Белого Христианского Минитмена».
Из какой-то другой комнаты в подвале, которая частично поглощала звук, доносился идиотски-монотонный треск учебной стрельбы.
После моего избиения первую помощь оказал мне молодой доктор Абрахам Эпштейн, который констатировал смерть Крапптауэра. Из квартиры Эпштейнов Рези позвонила доктору Джонсу и попросила совета и помощи.
— Почему Джонсу? — спросил я.
— Он — единственный человек в этой стране, которому я могу доверять, — сказала она. — Он — единственный человек, который, я уверена, на твоей стороне.
— Чего стоит жизнь без друзей? — сказал я.
Я ничего не мог вспомнить, но Рези рассказала мне, что я пришел в себя в квартире Эпштейнов. Джонс посадил нас с Рези в свой лимузин, привез в больницу, где мне сделали рентген. Три ребра были сломаны, и меня забинтовали. Потом меня перевезли в подвал Джонса и уложили в постель.
— Почему сюда? — спросил я.
— Ты здесь в большей безопасности.
— От кого?
— От евреев.
Появился Черный Фюрер Гарлема, шофер Джонса, с подносом, на котором были яичница, тосты и горячий кофе. Он поставил поднос на столик возле меня.
— Болит голова? — спросил он.
— Да.
— Примите аспирин.
— Спасибо за совет.
— Мало что на этом свете действует, а вот аспирин действует, — сказал он.
— Республика — республика Израиль — хочет заполучить меня, — сказал я Рези с оттенком неуверенности, — чтобы… чтобы судить за… что там говорится в газете?
— Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст, — сказала Рези, — но евреи могут послать людей и выкрасть тебя, как они сделали с Адольфом Эйхманом.
— Такой ничтожный арестант, — пробормотал я.
— Дело не в том, что какие-то евреи будут просто гоняться за вами туда-сюда, — сказал Черный Фюрер.
— Что?
— Я хочу сказать, что у них теперь есть своя страна. Я имею в виду, что у них есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. У них есть все еврейское, чтобы захватить вас, кроме еврейской водородной бомбы.
— Боже, кто это стреляет? — спросил я. — Нельзя ли прекратить, пока моей голове не станет легче?
— Это твой друг, — сказала Рези.
— Доктор Джонс?
— Джордж Крафт.
— Крафт? Что он здесь делает?
— Он отправляется с нами.
— Куда?
— Все решено, — сказала Рези. — Все считают, дорогой, что лучше всего для нас убраться из этой страны. Доктор Джонс все устроил.
— Что устроил?
— У него есть друг с самолетом. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь прекрасное место, где тебя не знают, и начнем новую жизнь.
Мишень…
И я отправился повидать Крафта здесь, в подвале Джонса. Я нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был забит мешками с песком. К мешкам была прикреплена мишень в виде человека.
Мишень была карикатурой на курящего сигару еврея. Еврей стоял на разломанных крестах и маленьких обнаженных женщинах. В одной руке он держал мешок с деньгами, на котором была наклейка «Международное банкирство». В другой руке был русский флаг. Из карманов его костюма торчали маленькие, размером с обнаженных женщин под его ногами, отцы, матери и дети, которые молили о пощаде.
Все эти детали были не очень четко видны из дальнего конца тира, но мне не надо было подходить ближе, чтобы понять, что там изображено.
Я нарисовал эту мишень примерно в 1941 году.
Миллионы копий этой мишени были распространены по всей Германии. Она так восхитила моих начальников, что мне выдали премию в виде десяти фунтов ветчины, тридцати галлонов бензина и недельного оплаченного пребывания для меня и жены в Schreibenhaus[31] в Ризенгебирге. Я должен признать, что эта мишень была результатом моего особого рвения, так как вообще я не работал на нацистов в качестве художника-графика. Я предлагаю это как улику против себя. Я думаю, что мое авторство — новость даже для Института документации военных преступников в Хайфе. Я, однако, подчеркиваю, что нарисовал этого монстра, чтобы еще больше упрочить свою репутацию нациста. Я так утрировал его, что он был бы смехотворен всюду, кроме Германии или подвала Джонса, и я нарисовал его гораздо более по-дилетантски, чем мог бы.
И тем не менее он имел успех.
Я был поражен его успехом. Гитлерюгенд и новобранцы СС не стреляли больше ни в какие другие мишени, и я даже получил письмо с благодарностью за них от Генриха Гиммлера.
«Это увеличило меткость моей стрельбы на сто процентов, — написал он. — Какой чистый ариец, глядя на эту великолепную мишень, не будет стараться убить?»
Наблюдая за пальбой Крафта по этой мишени, я впервые понял причину ее популярности. Дилетантство делало ее похожей на рисунки на стенах общественной уборной; вызывало в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды и отвратительное уединение стойла в общественной уборной — в точности отражало состояние человеческой души на войне.
Я даже не понимал тогда, как хорошо я это нарисовал. Крафт, не обращая внимания на меня в моей леопардовой шкуре, выстрелил снова. Он стрелял из люгера, огромного, как осадная гаубица. Люгер был рассверлен до двадцать второго калибра, однако стрелял с легким свистом и без отдачи. Крафт выстрелил опять, и из мешка в двух футах левее мишени посыпался песок.
— Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз, — сказал я.
— А, — сказал он, опуская пистолет, — ты уже встал.
— Да.
— Как ужасно получилось.
— Да уж.
— Правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло.
— Почему?
— Это выбило нас из колеи.
— Это уж точно.
— Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в десять раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения!
— У меня сейчас очень болит голова.
— Она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающе ясным пониманием самого себя и мира.
— Ммм… мм, — промычал я.
— Как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков — этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной.
— При чем тут тропики? — спросил я.
— Я думал, мы поедем именно туда. И Рези тоже хочет туда.
— Ты тоже поедешь?
— Ты возражаешь?
— Вы тут развили бурную деятельность, пока я спал.
— Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит?
— Джордж, — сказал я. — Почему ты хочешь связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джордж, и ты приобретешь всех моих врагов.
Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза.
— Говард, — сказал он, — с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал, — что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя Судьба.
— Да, это действительно дружба, — сказал я.
— Надеюсь, — отозвался он.
Адольф Эйхман и я…
Два дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем.
Когда меня избивали, одежда моя порвалась. И из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Кили, серебристого оттенка рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно — «Серебряные рубашки». А Черный Фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку шарманщика.
И Рези Нот и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию — не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем и все планировали за меня. Главная мечта была — как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько… Минорка… Родос… даже долины Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.
Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Кили несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня радио.
Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки и фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение — показать, что пропагандист такого калибра, как я, — такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев.
Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне.
Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры я считаю, что она ужасна и отвратительна.
Западная Германия вежливо запросила Соединеные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я — гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда.
Если я — гражданин Германии, заявляли они, то они стыдятся такого немца.
Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана.
Но что действительно смердило внезапной смертью, так это гнев моих соотечественников. В наиболее злобных газетах без комментариев публиковались письма, в которых предлагалось в железной клетке провезти меня через всю страну: письма героев, добровольно желавших принять участие в моем расстреле, как будто владение стрелковым оружием — искусство, доступное лишь избранным; письма от людей, которые сами не собирались ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и потому считали, что есть более молодые, более решительные граждане, которые знают, как надо действовать.
И эти последние были правы. Сомневаюсь, что на свете когда-либо существовало общество, в котором не было бы сильных молодых людей, жаждущих экспериментировать с убийством, если это не влечет за собой жестокого наказания.
Судя по газетам и радио, справедливо разгневанные граждане сделали свое дело — ворвались в мою крысиную мансарду, разбивая окна, круша и расшвыривая мои вещи. Ненавистная мансарда была теперь под круглосуточным надзором полиции.
В редакционной статье нью-йоркской «Пост» подчеркивалось, что полиция едва ли сможет защитить меня, так как мои враги столь многочисленны и их озлобленность столь естественна. Что необходимо, безнадежно говорилось в Пост, так это батальон морской пехоты, который будет защищать меня до конца моих дней.
Нью-йоркская «Дейли ньюс» считала моим тягчайшим военным преступлением, что я не покончил с собой как джентльмен. Выходило, что Гитлер был джентльменом.
«Ньюс» напечатала письмо Бернарда О’Хара, человека, который взял меня в плен в Германии и недавно написал мне письмо, размноженное под копирку.
«Я хочу сам расправиться с ним, — писал О’Хара. — Я заслужил это. Это я схватил его в Германии. Если бы я знал, что он удерет, я бы размозжил ему голову там, на месте. Если кто-нибудь встретит Кемпбэлла раньше, чем я, пусть передаст ему, что Берни О’Хара летит к нему беспосадочным рейсом из Бостона».
Нью-йоркская «Таймс» писала, что терпеть и даже защищать такое дерьмо, как я, — парадоксальная неизбежность истинно свободного общества.
Правительство Соединенных Штатов, сказала мне Рези, не намерено выдать меня Израилю. Это не предусмотрено законом.
Правительство Соединенных Штатов, однако, обещало произвести полное и открытое расследование моего запутанного случая, чтобы точно выяснить мой гражданский статус и выяснить, почему я даже никогда не привлекался к суду.
Правительство выразило вызвавшее у меня тошноту удивление по поводу того, что я вообще нахожусь в стране.
Нью-йоркская «Таймс» опубликовала мою фотографию в молодые годы, официальную фотографию тех лет, когда я был нацистом и кумиром международного радиовещания. Я могу только догадываться, когда был сделан этот снимок, думаю, в 1941-м.
Арндт Клопфер, сфотографировавший меня, приложил все силы, чтобы сделать меня похожим на напомаженного Иисуса с картин Максфилда Перриша[32]. Он даже снабдил меня неким подобием нимба, умело расположив позади меня размытое световое пятно. Такой нимб был не только у меня. Таким нимбом снабжался каждый клиент Клопфера, включая Адольфа Эйхмана.
Про Эйхмана я это знаю точно, даже без подтверждения Института в Хайфе, так как он фотографировался в ателье Клопфера как раз передо мной. Это был единственный случай, когда я встретился с Эйхманом в Германии. Второй раз я его встретил здесь, в Израиле, всего две недели назад, в тот короткий период, когда я сидел в тюрьме в Тель-Авиве.
Об этой встрече старых друзей: я был уже двадцать четыре часа в заключении в Тель-Авиве. По дороге в мою камеру охранники остановили меня перед камерой Эйхмана, чтобы послушать, о чем мы будем разговаривать, если заговорим.
Мы не узнали друг друга, и охранники нас представили.
Эйхман писал историю своей жизни, как я сейчас пишу историю своей. Этот старый ощипанный стервятник с лицом без подбородка, который оправдывал убийство шести миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Он проявлял искренний интерес к своей работе, ко мне, к охранникам, ко всем.
Он улыбнулся мне и сказал:
— Я ни на кого не сержусь.
— Так и должно быть, — сказал я.
— Я дам вам совет.
— Буду рад.
— Расслабьтесь, — сказал он, сияя, сияя, сияя. — Просто расслабьтесь.
— Именно так я и попал сюда, — сказал я.
— Жизнь разделена на фазы, — поучал он, — они резко отличаются друг от друга, и вы должны понимать, что требуется от вас в каждой фазе. В этом секрет удавшейся жизни.
— Как мило, что вы хотите поделиться этим секретом со мной, — сказал я.
— Я теперь пишу, — сказал он. — Никогда не думал, что смогу стать писателем.
— Позвольте задать вам нескромный вопрос? — спросил я.
— Конечно, — сказал он доброжелательно. — Я сейчас в соответствующей фазе. Спрашивайте что хотите, сейчас как раз время раздумывать и отвечать.
— Чувствуете ли вы вину за убийство шести миллионов евреев?
— Нисколько, — ответил создатель Освенцима, изобретатель конвейера в крематории, крупнейший в мире потребитель газа под названием Циклон-Б.
Недостаточно хорошо зная этого человека, я попытался придать разговору несколько гротескный тон, как мне казалось, гротескный.
— Вы ведь были просто солдатом, — сказал я, — не правда ли? И получали приказы свыше, как все солдаты в мире.
Эйхман повернулся к охраннику и выстрелил в него пулеметной очередью негодующего идиш. Если бы он говорил медленнее, я бы понял его, но он говорил слишком быстро.
— Что он сказал? — спросил я у охранника.
— Он спрашивает, не показывали ли мы вам его официальное заявление, — сказал охранник. — Он просил нас не посвящать никого в его содержание, пока он сам этого не сделает.
— Я его не видел, — сказал я Эйхману.
— Откуда же вы знаете, на чем построена моя защита? — спросил он.
Этот человек действительно верил в то, что сам изобрел этот банальный способ защиты, хотя целый народ, более чем девяносто миллионов, уже защищался так же. Так примитивно понимал он божественный дар изобретательства.
Чем больше я думаю об Эйхмане и о себе, тем яснее понимаю, что он скорее пациент психушки, а я как раз из тех, для которых создано справедливое возмездие.
Я, чтобы помочь суду, который будет судить Эйхмана, хочу высказать мнение, что он не способен отличить добро от зла и что не только добро и зло, но и правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию его сознание воспринимает не различая, как одинаковые звуки рожка.
Мой случай другой. Я всегда знаю, когда говорю ложь, я способен предсказать жестокие последствия веры других в мою ложь, знаю, что жестокость — это зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как не могу не заметить, когда выходит почечный камень.
Если бы нам после этой жизни было суждено прожить еще одну, я бы хотел в ней быть человеком, о котором можно сказать: «Простите его, он не ведает, что творит».
Сейчас обо мне этого сказать нельзя.
Единственное преимущество, которое дает мне умение различать добро и зло, насколько я понимаю, это иногда посмеяться там, где эйхманы не видят ничего смешного.
— Вы еще пишете? — спросил меня Эйхман там, в Тель-Авиве.
— Последний проект, — сказал я, — сценарий торжественного представления для архивной полки.
— Вы ведь профессиональный писатель?
— Можно сказать, да.
— Скажите, вы отводите для работы какое-то определенное время дня, независимо от настроения, или ждете вдохновения, не важно, днем или ночью?
— По расписанию, — ответил я, вспоминая далекое прошлое.
Я почувствовал, что он проникся ко мне уважением.
— Да, да, — сказал он, кивая, — расписание. Я тоже пришел к этому. Иногда я просто сижу, уставившись на чистый лист бумаги, сижу все то время, что отведено для работы. А алкоголь помогает?
— Я думаю, это только кажется, а если и помогает, то примерно на полчаса, — сказал я. Это тоже было воспоминание молодости.
Тут Эйхман пошутил.
— Послушайте, — сказал он, — насчет этих шести миллионов.
— Да?
— Я могу уступить вам несколько для вашей книги, — сказал он. — Я думаю, мне так много не нужно.
Я предлагаю эту шутку истории, полагая, что поблизости не было магнитофона. Это одна из незабвенных острот Чингисхана-бюрократа.
Возможно, Эйхман хотел напомнить мне, что я тоже убил множество людей упражнениями своих красноречивых уст. Но я сомневаюсь, что он был настолько тонким человеком, хотя и был человеком неоднозначным. Возвращаясь к шести миллионам убитых им — я думаю, он не уступил бы мне ни одного. Если бы он начал раздавать все свои жертвы, он перестал бы быть Эйхманом в его эйхмановском понимании Эйхмана.
Охранники увели меня, и еще одна, последняя, встреча с этим человеком века была в виде записки, загадочно проникшей из его тюрьмы в Тель-Авиве ко мне в Иерусалим. Записка была подброшена мне неизвестным в прогулочном дворе. Я поднял ее, прочел, и вот что там было: «Как вы думаете, необходим ли литературный агент?» Записка была подписана Эйхманом.
Вот мой ответ: «Для клуба книголюбов и кинопродюсеров в Соединенных Штатах — абсолютно необходим».
Дон Кихот…
Мы должны были лететь в Мехико-сити — Крафт, Рези и я. Таков был план. Доктор Джонс должен был не только обеспечить наш перелет, но и наш прием там.
Оттуда мы должны были выехать на автомобиле, разыскать какую-нибудь затерянную деревушку, где и оставаться до конца своих дней.
Этот план был прекрасен, как давнишняя мечта. И определенно казалось, что я снова смогу писать.
Я робко говорил это Рези.
Она плакала от радости. Действительно от радости? Кто знает? Могу только заверить, что слезы были мокрые и соленые.
— Я имею хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному божественному чуду? — сказала она.
— Прямое, — крепко обнимая ее, сказал я.
— Нет-нет, очень небольшое, но, слава богу, имею. Это великое чудо — талант, с которым ты родился.
— Великое чудо — это твоя способность воскрешать из мертвых, — сказал я.
— Это делает любовь. Она воскресила и меня. Неужели ты думаешь, что я раньше была жива?
— Не об этом ли я должен писать? В нашей деревушке там, в Мексике, на Тихом океане, не об этом ли я должен писать прежде всего?
— Да, да, конечно, дорогой, о, дорогой! Я буду так заботиться о тебе. А у тебя, у тебя будет ли время для меня?
— Время после полудня, вечера и ночи твои. Все это время я смогу отдать тебе.
— Ты уже подумал об имени?
— Об имени?
— Да, о новом имени — имени нового писателя, чьи прекрасные произведения таинственно появятся из Мексики. Я буду миссис…
— Señora, — сказал я.
— Señora кто? Señora и Señora кто? — сказала она.
— Окрести нас, — сказал я.
— Это слишком важно, чтобы сразу принять решение, — сказала она. Тут вошел Крафт.
Рези попросила его предложить псевдоним для меня.
— Как насчет Дон Кихота? — сказал он. — Тогда ты была бы Дульцинеей Тобосской, а я бы подписывал свои картины Санчо Панса.
Вошел доктор Джонс с отцом Кили.
— Самолет будет готов завтра утром. Будете ли вы себя достаточно хорошо чувствовать для отъезда? — спросил он.
— Я уже сейчас хорошо себя чувствую.
— В Мехико-сити вас встретит Арндт Клопфер, — сказал Джонс. — Вы запомните?
— Фотограф? — спросил я.
— Вы его знаете?
— Он делал мою официальную фотографию в Берлине, — сказал я.
— Сейчас он лучший пивовар в Мексике, — сказал Джонс.
— Слава богу, — сказал я, — последнее, что я о нем слышал, что в его ателье попала пятисотфунтовая бомба.
— Хорошего человека просто так не уложишь, — сказал Джонс. — А теперь у нас с отцом Кили к вам особая просьба.
— Да?
— Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции. Мы с отцом Кили хотели устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крапптауэру.
— Понятно.
— Мы с отцом Кили думаем, что нам будет не под силу произнести панегирик, это было бы ужасным эмоциональным испытанием для каждого из нас, — сказал Джонс. — Мы хотим, чтобы вы, знаменитый оратор, можно сказать, человек с золотым горлом, оказали честь произнести несколько слов.
Я не мог отказаться.
— Благодарю вас, джентльмены. Это должен быть панегирик?
— Отец Кили придумал главную тему, если вам это поможет.
— Это мне очень поможет, я бы охотно использовал ее.
Отец Кили прочистил глотку.
— Я думаю, темой может быть «Дело его живет», — сказал этот протухший старый служитель культа.
Дело его живет…
В котельной в подвале доктора Джонса расселась рядами на складных стульях Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции. Гвардейцев было двадцать в возрасте от шестнадцати до двадцати. Все блондины. Все выше шести футов ростом.
Одеты они были аккуратно, в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На принадлежность к Гвардии указывала только маленькая золотая ленточка в петлице правого лацкана.
Я бы не заметил этой странной детали — петлицы на правом лацкане, ведь на нем обычно нет петлицы, если бы доктор Джонс не указал мне на нее.
— Вот по ней-то они и отличают друг друга, даже когда не носят ленточку, — сказал он. — Они могут видеть, как растут их ряды, тогда как другие этого не замечают.
— И каждый должен нести пиджак к портному и просить сделать петлицу на правом лацкане? — спросил я.
— Ее делают их матери, — сказал отец Кили.
Кили, Джонс, Рези и я сидели на возвышении лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рези была на возвышении, так как согласилась сказать парням несколько слов о своем опыте общения с коммунизмом за железным занавесом.
— Большинство портных — евреи, — сказал доктор Джонс. — Мы не хотим пачкать руки.
— И вообще хорошо, что в этом участвуют матери, — сказал отец Кили.
Шофер Джонса, Черный Фюрер Гарлема, с большим полотняным транспарантом поднялся вместе с нами на возвышение и привязал транспарант к трубам парового отопления. Вот что на нем было:
«Прилежно учитесь. Будьте во всем первыми. Держите тело в чистоте и в силе. Держите свое мнение при себе».
— Все эти подростки местные? — спросил я Джонса.
— Нет, что вы, — сказал Джонс, — только восемь вообще из Нью-Йорка. Девять из Нью-Джерси, двое из Пиксхилла — двойняшки, а один даже приезжает из Филадельфии.
— И он каждую неделю приезжает из Филадельфии? — спросил я.
— Где еще он мог получить все то, что давал им Август Крапптауэр?
— Как вы их завербовали?
— Через мою газету, — сказал Джонс. — Вернее, они сами завербовались. Обеспокоенные честные родители все время писали в «Христианский Белый Минитмен», спрашивая меня, нет ли какого-нибудь молодежного объединения, желающего сохранить чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем, которое я когда-либо видел, было от женщины из Бернардсвилля, Нью-Джерси. Она позволила своему сыну вступить в организацию Бойскауты Америки, не понимая, что истинное название БСА должно было бы быть Бестии и Семиты Америки. Там парень за успехи получил звание бойскаута первой степени, потом пошел в армию, попал в Японию и вернулся домой с женой-японкой.
— Когда Август Крапптауэр читал это письмо, он плакал, — сказал отец Кили. — Вот почему он, несмотря на переутомление, стал снова работать с молодежью.
Отец Кили призвал собравшихся к порядку и предложил помолиться.
Это была обычная молитва, призывавшая к мужеству перед лицом враждебных сил.
Одна деталь была, однако, необычна, деталь, которой я никогда не встречал раньше, даже в Германии. Черный Фюрер стоял в глубине комнаты у литавр. Литавры были приглушены — покрыты, как оказалось, искусственной леопардовой шкурой, которую я уже использовал как халат. В конце каждого изречения Черный Фюрер извлекал из литавр приглушенный звук.
Рези рассказывала об ужасах жизни за железным занавесом скомканно, скучно и на таком низком для воспитания уровне, что Джонс даже пытался ей подсказывать.
— Правда ведь, что большинство убежденных коммунистов — это евреи или выходцы с Востока? — спросил он ее.
— Что? — переспросила она.
— Конечно, — сказал Джонс. — Это и так ясно. — И довольно резко прервал ее.
А где был Джордж Крафт? Он сидел среди зрителей в самом последнем ряду, недалеко от прикрытых литавр.
Затем Джонс представил меня, представил как человека, не нуждающегося в рекомендации. Но он просил меня подождать, потому что у него есть для меня сюрприз.
Сюрприз у него действительно был.
Пока Джонс говорил, Черный Фюрер оставил свои литавры, подошел к реостату возле выключателя и стал постепенно уменьшать свет.
В сгущающейся темноте Джонс говорил об интеллектуальном и моральном климате Америки во время второй мировой войны. Он говорил о том, как патриотичных и мыслящих белых преследовали за их идеалы и как почти все американские патриоты гнили в федеральных тюрьмах.
— Американец нигде не мог найти правду, — сказал он.
Теперь комната погрузилась в полную темноту.
— Почти нигде, — сказал Джонс в темноте. — Найти ее мог только счастливчик, имевший коротковолновый приемник. Вот где был единственный оставшийся источник правды. Единственный.
А затем в полной темноте — шум и треск приемника, обрывки немецкой, французской речи, кусок Первой симфонии Брамса… и затем громко и отчетливо:
Говорит Говард У. Кемпбэлл-младший, один из немногих свободных американцев. Я веду передачу из свободного Берлина. Я приветствую моих соотечественников, а именно: чистокровных белых американцев-неевреев сто шестой дивизии, занимающих сейчас позиции перед Сен-Витом. Родителям парней из этой необстрелянной дивизии могу сообщить, что в настоящее время в районе спокойно, 442-й и 444-й полки — на передовой, 423-й — в резерве.
В последнем номере «Ридерс Дайджест» помещена прекрасная статья под названием «Неверующих в окопах нет». Мне бы хотелось немного расширить эту тему и сказать, что хотя война инспирирована евреями и война на руку только евреям, однако в окопах евреев нет. Рядовые 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи так заняты учетом вещевого довольствия в интендантской службе, или денег в финансовой службе, или спекуляцией сигаретами и нейлоновыми чулками в Париже, что не приближаются к фронту ближе, чем на сто миль.
Вы там, дома, вы, родные и близкие парней на фронте, — вспомните всех евреев, которых вы знаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько о них подумали.
И теперь скажите: делает их война беднее или богаче? Питаются они хуже или лучше, чем вы? Меньше у них бензина, чем у вас, или больше?
Я знаю ответы на эти вопросы, и вы тоже узнаете, если откроете глаза пошире и подумаете покрепче.
А теперь я хочу спросить вас: знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона — некогда столицы свободного народа, — знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начинается словами: «По поручению военного министра с глубоким прискорбием сообщаю Вам, что ваш сын…»
И так далее.
Пятнадцать минут Говарда У. Кемпбэлла-младшего, свободного американца, здесь, в темноте подвала. Я не имел в виду скрыть свой позор за тривиальным «и так далее».
Записи всех без исключения передач Говарда У. Кемпбэлла-младшего имеются в Институте документации военных преступников в Хайфе. Если кто-то хочет прослушать эти передачи, выбрать из них самое мерзкое, что я говорил, — не возражаю, пусть это будет добавлено к моим запискам как приложение.
Я едва ли могу отрицать, что говорил это. Могу лишь подчеркнуть, что сам я в это не верил, я понимал, какие невежественные, разрушительные, непристойные, абсурдные вещи я говорю.
Все, что происходило в этом темном подвале, ужасные вещи, которые я говорил когда-то, не шокировали меня. Было бы, наверное, полезнее сказать в свою защиту, что я весь покрылся холодным потом или другую подобную чепуху. Но я всегда хорошо знал, что делал. И спокойно уживался с тем, что делал. Как? Благодаря такой широко распространенной благодати современного человечества, как шизофрения.
Тут в темноте произошло нечто, заслуживающее упоминания. Кто-то с нарочитой неловкостью, чтобы я это заметил, сунул мне в карман записку.
Когда зажегся свет, я даже не мог предположить, кто это сделал.
Я произнес свой панегирик Августу Крапптауэру, сказав, между прочим, то, во что действительно верю: крапптауэровская правда, вероятно, будет жить вечно, во всяком случае, пока есть люди, которые прислушиваются скорее к зову сердца, чем к разуму.
Я был награжден аплодисментами публики и барабанным боем Черного Фюрера.
Я пошел в клозет прочитать записку.
Записка была написана печатными буквами на маленьком листике в линейку, вырванном из блокнота. Вот что в ней говорилось:
«Черный ход открыт. Немедленно выходите. Я жду вас в пустой лавке прямо напротив через улицу. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте».
Записка была подписана Моей Звездно-Полосатой Крестной — полковником Фрэнком Виртаненом.
Розенфельд…
Мой адвокат здесь, в Иерусалиме, мистер Алвин Добровитц сказал мне, что я непременно выиграю дело, если хотя бы один свидетель подтвердит, что видел меня в обществе человека, которого я знаю как полковника Фрэнка Виртанена.
Я встречался с Виртаненом три раза: перед войной, сразу после войны и, наконец, в пустующей лавке напротив резиденции его преподобия доктора Дж. Д. Джонса, Д. С. X., Д. Б. Только во время первой встречи, встречи на скамейке в парке, нас могли видеть вместе. Но те, кто видел нас, зафиксировали нас в своей памяти не больше, чем белок или птиц.
Во второй раз я встретил его в Висбадене, в Германии, в столовой того, что когда-то было школой подготовки офицеров инженерного корпуса вермахта. Одна из стен столовой была расписана — танк, движущийся по живописной извилистой сельской дороге под сияющим на ясном небе солнцем. Вся эта буколическая сцена, казалось, вот-вот рухнет.
В роще на переднем плане картины была изображена небольшая группа саперов, эдаких веселеньких Робин Гудов в стальных шлемах, которые забавлялись минированием этой дороги и установкой противотанкового орудия и пулемета.
Они были так счастливы.
Как я попал в Висбаден?
Меня увезли из Ордруфа, где я находился в лагере для военнопленных Третьей армии, 15 апреля, через три дня после того, как меня взял в плен лейтенант Бернард О’Хара.
Меня в джипе перевезли в Висбаден под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. Мы с ним почти не разговаривали. Он мной не интересовался. Всю дорогу он был в глухой ярости по поводу чего-то, не имевшего ко мне отношения. Надули его, оклеветали, оскорбили? Неправильно поняли? Не знаю.
В любом случае он не мог бы стать свидетелем. Он выполнял наскучившие ему приказы. Он спросил дорогу к лагерю, а затем в столовую. Он высадил меня у двери столовой и приказал войти и подождать внутри. А сам уехал, оставив меня без охраны.
Я вошел в столовую, хотя мог вообще спокойно уйти.
В этой унылой конюшне в полном одиночестве на столе у расписанной стены сидела Моя Звездно-Полосатая Крестная.
Виртанен был в форме американского солдата — куртка на молнии, штаны цвета хаки, рубашка, расстегнутая у ворота, и походные ботинки. При нем не было оружия. И никаких знаков отличия.
Он был коротконог. Он сидел на столе, болтая ногами, которые не доставали до пола. Ему тогда, наверное, было лет пятьдесят, на семь лет больше, чем когда мы виделись в первый раз. Он облысел и потолстел.
У полковника Фрэнка Виртанена был вид нахального розовощекого младенца, какой тогда часто придавали пожилым мужчинам победа и американская походная форма.
Он улыбнулся, пожал дружески мне руку и сказал:
— Ну и что же вы думаете о такой войне, Кемпбэлл?
— Я бы предпочел вообще в ней не участвовать.
— Поздравляю, — сказал он. — Вы, во всяком случае, выкарабкались из нее живым. А многие, знаете, нет.
— Знаю. Например, моя жена.
— Очень жаль, — сказал он. — Я узнал, что она исчезла, одновременно с вами.
— От кого вы это узнали?
— От вас. Это содержалось в информации, которую вы передали той ночью.
Новость о том, что я передал закодированное сообщение об исчезновении Хельги, передал, даже не подозревая, что я передаю, почему-то ужасно меня расстроила. Это расстраивает меня до сих пор. Сам не знаю, почему.
Это, наверное, демонстрирует такое глубокое раздвоение моего «я», которое даже мне трудно представить.
В тот критический момент моей жизни, когда я должен был осознать, что Хельги уже нет, моей израненной душе следовало бы безраздельно скорбеть. Но нет. Одна часть моего «я» в закодированной форме сообщала миру об этой трагедии. А другая даже не осознавала, что об этом сообщает.
— Это что, была такая важная военная информация? Ради выхода ее за пределы Германии я должен был рисковать своей головой? — спросил я Виртанена.
— Конечно. Как только мы ее получили, мы сразу начали действовать.
— Действовать? Как действовать? — сказал я заинтригованно.
— Искать вам замену. Мы думали, вы тут же покончите с собой.
— Надо было бы.
— Я чертовски рад, что вы этого не сделали, — сказал он.
— А я чертовски сожалею, — сказал я. — Знаете, человек, который так долго был связан с театром, как я, должен точно знать, когда герою следует уйти со сцены, если он действительно герой. — Я хрустнул пальцами. — Так провалилась вся пьеса «Государство двоих», обо мне и Хельге. Я не включил в нее великолепную сцену самоубийства.
— Я не люблю самоубийств, — сказал Виртанен.
— Я люблю форму. Я люблю, когда в пьесе есть начало, середина и конец, и если возможно, и мораль тоже.
— Мне кажется, есть шанс, что она все-таки жива, — сказал Виртанен.
— Пустое. Неуместные слова, — сказал я. — Пьеса окончена.
— Вы что-то сказали о морали?
— Если бы я покончил с собой, как вы ожидали, до вас, возможно, дошла бы мораль.
— Надо подумать, — сказал он.
— Ну и думайте на здоровье.
— Я не привык ни к форме, ни к морали, — сказал он. — Если бы вы умерли, я бы сказал, наверное: «Черт возьми, что же нам делать?» Мораль? Огромная работа даже просто похоронить мертвых, не пытаясь извлечь мораль из каждой отдельной смерти. Мы даже не знаем имен и половины погибших. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом.
— Разве?
— Из всех агентов, моих, так сказать, чад, только вы один благополучно прошли через войну, оправдали надежды и остались живы. Прошлой ночью я сделал ужасный подсчет, Кемпбэлл, вычислил, что из сорока двух вы оказались единственным, кто не только был на высоте, но и остался жив.
— А что с теми, от кого я получал информацию?
— Погибли, все погибли, — сказал он. — Кстати, все это были женщины. Их было семеро, и каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передавать вам информацию. Подумайте, Кемпбэлл, семь женщин вы делали счастливыми снова, снова и снова, и все они в конце концов умерли за это счастье. И ни одна не предала вас, даже после того, как ее схватили. И об этом подумайте.
— У меня и так хватает, над чем подумать. Я не собираюсь приуменьшать вашей роли учителя и философа, но и до этого нашего счастливого воссоединения мне было о чем подумать. Ну и что же со мной будет дальше?
— Вас уже нет. Третья армия избавилась от вас, и никаких документов о том, что вы прибыли сюда, не будет. — Он развел руками. — Куда вы хотите отправиться отсюда и кем вы хотите стать?
— Не думаю, что меня где-нибудь ожидает торжественная встреча.
— Да, едва ли.
— Известно ли что-нибудь о моих родителях?
— К сожалению, должен сказать, что они умерли четыре месяца назад.
— Оба?
— Сначала отец, а через двадцать четыре часа и мать, оба от сердца.
Я всплакнул, слегка покачал головой.
— Никто не рассказал им, чем я на самом деле занимаюсь?
— Наша радиостанция в центре Берлина стоила дороже, чем душевный покой двух стариков, — сказал он.
— Странно.
— Для вас это странно, а для меня нет.
— Сколько человек знали, что я делал?
— Хорошего или плохого?
— Хорошего.
— Трое, — сказал он.
— Всего?
— Это много, даже слишком много. Это я, генерал Донован и еще один человек.
— Всего три человека в мире знали, кто я на самом деле, а все остальные… — Я пожал плечами.
— И остальные тоже знали, кто вы на самом деле, — сказал он резко.
— Но ведь это был не я, — сказал я, пораженный его резкостью.
— Кто бы это ни был, это был один из самых больших подонков, которых знала земля.
Я был поражен. Виртанен был искренне возмущен.
— И это говорите мне вы, вы же знали, на что меня толкаете. Как еще я мог уцелеть?
— Это ваша проблема. И очень немногие могли бы решить ее так успешно, как вы.
— Вы думаете, я был нацистом?
— Конечно, были. Как еще мог бы оценить вас достойный доверия историк? Позвольте задать вам вопрос?
— Давайте.
— Если бы Германия победила, завоевала весь мир… — Он замолчал, вскинув голову. — Вы ведь лучше меня должны знать, что я хочу спросить.
— Как бы я жил? Что бы я чувствовал? Как бы я поступал?
— Вот именно, — сказал он. — Вы, с вашим-то воображением, должны были думать об этом.
— Мое воображение уже не то, что было раньше. Первое, что я понял, став шпионом, это что воображение — слишком большая роскошь для меня.
— Не отвечаете на мой вопрос?
— Теперь самое время узнать, осталось ли что-нибудь от моего воображения, — сказал я. — Дайте мне одну-две минуты.
— Сколько угодно, — сказал он.
Я мысленно поставил себя в ситуацию, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало разъедающе циничный ответ.
— Есть все шансы, что я стал бы чем-то вроде нацистского Эдгара Геста[33], поставляющего ежедневный столбец оптимистической рифмованной чуши для газет всего мира. И когда наступил бы старческий маразм — закат жизни, как говорят, я бы даже, наверное, пришел к убеждению, что «все к лучшему», как писал в своих куплетах. — Я пожал плечами. — Убил бы я кого-нибудь? Вряд ли. Организовал бы вооруженный заговор? Это более вероятно: но бомбы никогда не казались мне хорошим способом решать дела, хотя они, я слышал, часто взрывались в мое время. Одно могу сказать точно: я больше никогда не написал бы ни единой пьесы. Я потерял этот дар.
Я мог бы сделать что-нибудь действительно жестокое ради правды, или справедливости, или чего-то там еще, — сказал я своей Звездно-Полосатой Крестной, — только в состоянии безумия. Это могло случиться. Представьте себе, что в один прекрасный день я мог бы в трансе выскочить на мирную улицу со смертоносным оружием в руках. Но пошло бы это убийство на пользу миру или нет — вопрос слепой удачи.
Достаточно ли честно ответил я на ваш вопрос? — спросил я его.
— Да, спасибо.
— Считайте меня нацистом, — устало сказал я, — считайте меня кем угодно. Повесьте меня, если вы думаете, что это поднимет общий уровень морали. Моя жизнь не такое уж большое счастье. У меня нет никаких послевоенных планов.
— Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать. Я вижу, вы поняли.
— Что же вы можете?
— Достать фальшивые документы, отвлечь внимание, переправить в такое место, где вы сможете начать новую жизнь, — сказал он. — Какие-то деньги, немного, но все-таки.
— Деньги? И как оценивается моя служба в деньгах?
— Это вопрос традиции, — сказал он. — Традиция восходит по меньшей мере к временам Гражданской войны.
— Вот как?
— Жалованье рядового. Я считаю, что оно причитается вам со дня нашей встречи в Тиргартене до настоящего момента.
— Как щедро! — сказал я.
— Щедрость не имеет большого значения в этом деле. Настоящие агенты вовсе не заинтересованы в деньгах. Была бы разница, если бы вам заплатили как бригадному генералу?
— Нет, — сказал я.
— Или не заплатили бы совсем?
— Никакой разницы, — ответил я.
— Дело здесь чаще всего не в деньгах и даже не в патриотизме, — сказал он.
— А в чем же?
— Каждый решает этот вопрос сам для себя, — сказал Виртанен. — Вообще говоря, шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума самым притягательным для него способом.
— Интересно, — заметил я сухо.
Он хлопнул в ладоши, чтобы рассеять неприятный осадок от разговора.
— А теперь — куда вас отправить?
— Таити? — сказал я.
— Если угодно, — сказал он. — Я предлагаю Нью-Йорк.
Там вы сможете затеряться без всяких затруднений, и там достаточно работы, если захотите.
— Хорошо, Нью-Йорк, — сказал я.
— Сфотографируйтесь для паспорта. Вы улетите отсюда в течение трех часов.
Мы пересекли пустынный плац, по которому крутились пыльные вихри. Мое воображение превратило их в призраки погибших на войне бывших курсантов этого училища, которые вернулись сюда и весело пляшут на плацу совсем не по-военному.
— Когда я говорил вам, что только три человека знали о ваших закодированных передачах… — начал Виртанен.
— И что?
— Вы даже не спросили меня, кто был третий?
— Это был кто-то, о ком я мог слышать?
— Да. Он, к сожалению, умер. Вы регулярно нападали на него в своих передачах.
— Да? — сказал я.
— Вы называли его Франклин Делано Розенфельд. Он каждую ночь с удовольствием слушал ваши передачи.
Коммунизм поднимает голову…
Третий и, по всему, последний раз я встретился с Моей Звездно-Полосатой Крестной в заброшенной лавке против дома Джонса, в котором прятались Рези, Джордж Крафт и я.
Я не торопился входить в это темное помещение, резонно ожидая, что могу там встретить все что угодно, от караульных Американского цветного легиона до взвода израильских парашютистов, готовых меня схватить.
У меня был пистолет, люгер Железных Гвардейцев, рассверленный до двадцать второго калибра. Я держал его не в кармане, а открыто, наготове, заряженным и взведенным. Я разведал фасад лавки, не обнаруживая себя. Фасад был не освещен. Тогда я добрался до черного хода, продвигаясь короткими перебежками между контейнерами с мусором.
Любой, кто попытался бы схватить меня, Говарда У. Кепмбэлла, был бы изрешечен, прошит, как швейной машинкой. И я должен сказать, что за все эти короткие перебежки между укрытиями я полюбил пехоту, чью бы то ни было пехоту.
Человек, думается мне, вообще пехотное животное.
В задней комнате лавки горел свет. Я посмотрел, в окно и увидел полную безмятежности сцену. Полковник Фрэнк Виртанен, Моя Звездно-Полосатая Крестная, опять сидел на столе, опять ожидал меня.
Теперь это был совсем пожилой человек, совершенно лысый, как будда.
Я вошел.
— Я был уверен, что вы уже ушли в отставку, — сказал я.
— Я и ушел — восемь лет назад. Построил дом на озере в штате Мэн, топором, рубанком и этими двумя руками. Меня отозвали как специалиста.
— По какому вопросу?
— По вопросу о вас, — ответил он.
— Откуда этот внезапный интерес ко мне?
— Именно это и я должен выяснить.
— Нет ничего загадочного в том, что израильтяне охотятся за мной.
— Согласен, — сказал он. — Но весьма загадочно, почему это русские считают вас такой ценной добычей.
— Русские? — сказал я. — Какие русские?
— Это девица — Рези Нот и этот старик, художник, именуемый Джордж Крафт, — сказал Виртанен. — Они оба — коммунистические агенты. Мы наблюдаем за человеком, называющим себя Крафтом, с 1941 года. Мы облегчили въезд в страну этой девице только для того, чтобы выяснить, что она собирается делать.
Alles kaput
Я с жалким видом сел на упаковочный ящик.
— Несколькими удачно выбранными словами вы уничтожили меня, — сказал я. — Насколько я был богаче еще минуту назад! Друг, мечты и любовница, — сказал я. — Alles kaput.
— Почему? Друг ведь у вас остался, — сказал Виртанен.
— Как это? — сказал я.
— Он ведь вроде вас. Он может быть в разных обличьях — и все искренне. — Он улыбнулся. — Это большой дар.
— Какие же у него были планы относительно меня?
— Он хотел вырвать вас из этой страны и отправить туда, откуда вас можно будет выкрасть с меньшими международными осложнениями. Для этого он выудил у Джонса, кто вы и что вы, и натравил на вас О’Хара и других патриотов. Все — чтобы вырвать вас отсюда.
— Мехико — вот мечта, которую он внушил мне.
— Знаю, — сказал Виртанен. — А в Мехико-сити вас уже ждет другой самолет. Если вы прилетите туда, вы проведете там не более двух минут. Вас сразу же перебросят в Москву на самом современном реактивном самолете, и все расходы уже оплачены.
— И доктор Джонс тоже в этом участвует? — спросил я.
— Нет, он искренне желает вам добра. Он один из немногих, кому вы можете доверять.
— Зачем я им в Москве? Зачем русским этот старый заплесневелый отброс второй мировой войны?
— Они хотят продемонстрировать всему миру, каких фашистских военных преступников укрывают Соединенные Штаты. Они также рассчитывают, что вы расскажете обо всех тайных соглашениях между Соединенными Штатами и нацистами в период становления фашистского режима.
— Как они собираются заставить меня сделать такие признания? Чем они могут меня запугать?
— Это просто, — сказал Виртанен, — даже очевидно.
— Пытками?
— Вероятно, нет. Просто смертью.
— Я не боюсь ее.
— Не вашей смертью.
— Чьей же?
— Девушки, которую вы любите и которая любит вас. Смертью — в случае, если вы откажетесь сотрудничать, — маленькой Рези Нот.
На сорок рублей дороже…
— Ее задачей было заставить меня полюбить ее? — спросил я.
— Да.
— Она прекрасно с этим справилась, — с грустью сказал я. — Правда, это было и несложно.
— Жаль, что я вынужден вам это сказать, — сказал Виртанен.
— Теперь проясняются некоторые загадочные вещи, хотя я и не стремился их прояснить. Знаете, что было в ее чемодане?
— Собрание ваших сочинений?
— Вы и это знаете? Подумать только, каких усилий стоило им раздобыть ей такой реквизит! Откуда они знали, где искать мои рукописи?
— Они были не в Берлине. Они были надежно упрятаны в Москве, — сказал Виртанен.
— Как они туда попали?
— Они были главным вещественным доказательством в деле Степана Бодовскова.
— Кого?
— Сержант Степан Бодовсков был переводчиком в одной из первых русских частей, вошедших в Берлин. Он нашел чемодан с вашими рукописями на чердаке театра. И взял его в качестве трофея.
— Ну и трофей!
— Это оказался на редкость ценный трофей! — сказал Виртанен. — Бодовсков хорошо знал немецкий. Он просмотрел содержимое чемодана и понял, что это — мгновенная карьера.
— Он начал скромно, перевел несколько ваших стихотворений на русский и послал их в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Затем он взялся за пьесу, — сказал Виртанен.
— За какую? — спросил я.
— «Кубок». Бодовсков перевел ее на русский и заработал на ней виллу на Черном море даже раньше, чем были убраны мешки с песком, защищавшие от бомбежек окна Кремля.
— Она была поставлена?
— Не только поставлена, она и сейчас идет по всей России как на любительской сцене, так и на профессиональной. «Кубок» — это «Тетка Черлея» современного русского театра. Вы более живы, чем даже можете себе представить, Кемпбэлл.
— Дело мое живет, — пробормотал я.
— Что?
— Знаете, я даже не могу вспомнить сюжет этого «Кубка», — сказал я.
И тут Виртанен рассказал мне его.
— Небесной чистоты девушка охраняет Священный Грааль. Она должна передать Грааль только такому же чистому, как и она сама, рыцарю. Появляется рыцарь, достойный Грааля.
Но тут рыцарь и девушка влюбляются друг в друга. Надо ли мне рассказывать вам, автору, чем все это кончилось?
— Я как будто впервые слышу это, — сказал я, — как будто это действительно написал Бодовсков.
— У рыцаря и девушки, — продолжал историю Виртанен, — появляются греховные мысли, несовместимые с обладанием Граалем. Героиня начинает упрашивать рыцаря убежать с Граалем пока не поздно. Рыцарь клянется уйти без Грааля, оставив героиню достойно охранять его. Так решает герой, — говорил Виртанен, — когда у них появляются греховные мысли. Но Священный Грааль исчезает. И, ошеломленные таким неопровержимым доказательством своего грехопадения, двое любящих действительно его совершают, решившись на ночь страстной любви.
На следующее утро, уверенные, что их ждет адский огонь, они клянутся так любить друг друга при жизни, чтобы даже адский огонь казался ничтожной ценой за это счастье. Тут перед ними появляется священный Грааль в знак того, что небеса не осуждают такую любовь. А потом Грааль снова навсегда исчезает, а герои живут долго и счастливо.
— Боже, неужели я действительно написал это?
— Сталин был без ума от нее, — сказал Виртанен. — А другие пьесы?
— Все поставлены, и с успехом, — сказал Виртанен.
— Но вершиной Бодовскова был «Кубок»? — спросил я.
— Нет, вершиной была книга.
— Бодовсков написал книгу?
— Это вы написали книгу.
— Я никогда не писал.
— «Мемуары моногамного Казановы»?
— Но это же невозможно напечатать!
— Издательство в Будапеште было бы удивлено, услышав это, — сказал Виртанен. — Кажется, они издали их тиражом около полумиллиона.
— И коммунисты разрешили открыто издать такую книгу?
— «Мемуары моногамного Казановы» — курьезная главка русской истории. Едва ли они могли быть официально одобрены и напечатаны в России, однако это такой привлекательный, удивительно высоконравственный образец порнографии, такой идеальный для страны, испытывающей недостаток во всем, кроме мужчин и женщин, что типографии в Будапеште каким-то образом осмелились начать их печатать, и каким-то образом никто их не остановил. — Виртанен подмигнул мне. — Один из немногих игривых безобидных проступков, который может позволить себе русский без риска для себя, это протащить через границу домой экземпляр «Мемуаров моногамного Казановы». И для кого он это протаскивает? Кому собирается он показать эту пикантность? Своему закадычному другу — старой карге — собственной жене.
— В течение многих лет, — сказал Виртанен, — существовало только русское издание, но теперь есть переводы на венгерский, румынский, латышский, эстонский и, что самое забавное, — обратно на немецкий.
— Бодовсков считается автором? — спросил я.
— Хотя все знают, что автор — Бодовсков, на книге не указаны ни автор, ни издатель, ни художник — они якобы неизвестны.
— Художник? — сказал я в ужасе, представив себе, что нас с Хельгой изобразили кувыркающимися нагишом.
— Четырнадцать цветных иллюстраций, как живые, — сказал Виртанен, — и на сорок рублей дороже.
Все, кроме визга…
— Хоть бы не было иллюстраций! — сердито сказал я Виртанену.
— Вам не все равно? — сказал он.
— Это все портит! Иллюстрации только искажают слова. Эти слова не предполагают иллюстраций! С иллюстрациями это уже не те слова.
Он пожал плечами.
— Боюсь, это уже не в вашей власти. Разве что вы объявите войну России.
Я поморщился и закрыл глаза.
— Что говорят о чикагских бойнях, про то, как они поступают со свиньями?
— Не знаю, — сказал Виртанен.
— Они хвастаются тем, что используют в свинье все, кроме визга, — сказал я.
— Да? — сказал Виртанен.
— Вот так я сейчас себя чувствую — как разделанная свинья, каждой части которой специалисты нашли применение. О господи, они нашли применение даже моему визгу! Та моя часть, которая хотела сказать правду, обернулась отъявленным лжецом. Страстно влюбленный во мне обернулся любителем порнографии. Художник во мне обернулся редкостным безобразием. Даже самые святые мои воспоминания они превратили в кошачьи консервы, клей и ливерную колбасу, — сказал я.
— Что за воспоминания? — спросил Виртанен.
— О Хельге — моей Хельге, — сказал я и заплакал. — Рези убила их в интересах Советского Союза. Она заставила меня предать их, и теперь с ними покончено. — Я открыл глаза. — Г… все это, — сказал я спокойно. — Думаю, что и свинья, и я можем гордиться тем, что нашу полезность так здорово доказали. Одному я рад, — сказал я.
— Чему же?
— Я рад за Бодовскова. Я рад, что кто-то смог пожить артистической жизнью благодаря тому, что я сделал когда-то. Вы сказали, что его арестовали и судили?
— И расстреляли.
— За плагиат?
— За оригинальность. Плагиат — одно из самых безобидных преступлений. Какой вред от переписывания того, что уже было написано? Истинная оригинальность — вот вплоть до coup de grace[34].
— Не понимаю.
— Ваш друг Крафт-Потапов понял, что большая часть того, что Бодовсков приписывает себе, написана вами, — сказал Виртанен. — Он сообщил об этом в Москву. На вилле Бодовскова произвели обыск. Волшебный чемодан с вашими произведениями был обнаружен под соломой на чердаке его конюшни.
— Вот как?
— Каждое ваше слово из этого чемодана было опубликовано.
— И…?
— Бодовсков начал постепенно наполнять чемодан волшебством собственного производства, — сказал Виртанен. — Милиция нашла две тысячи страниц сатиры на Красную Армию, написанных определенно не в стиле Бодовскова. За эту небодовскую манеру он и был расстрелян. Но хватит о прошлом! — продолжал Виртанен. — Поговорим о будущем. Примерно через полчаса в доме Джонса начнется облава. Он уже окружен. Чтобы не усложнять дело, я хочу, чтобы вас там не было.
— Куда же, по-вашему, мне деваться?
— Не возвращайтесь в свою квартиру. Патриоты уже ее разгромили. Они, наверное, растерзали бы и вас, окажись вы там.
— Что же будет с Рези?
— Только высылка из страны. Она не замешана ни в каких преступлениях.
— А с Крафтом?
— Большой тюремный срок. Это не позор. Я думаю, он предпочтет отправиться в тюрьму, чем вернуться на родину. Почетный доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. X., Д. Б., — сказал Виртанен, — снова попадет в тюрьму за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за всякие другие преступления, которые ему можно пришить. Для отца Кили, по-видимому, ничего не запланировано, и я полагаю, что он опять вернется к бродяжничеству. И Черный Фюрер тоже.
— А железные гвардейцы? — спросил я.
— Железной Гвардии Белых Сынов Американской Конституции, — сказал Виртанен, — будет прочитана внушительная лекция о незаконности в нашей стране частных армий, убийств, нанесения, увечий, мятежей, государственной измены и насильственного ниспровержения правительства. Их отправят домой просвещать своих родителей, если это возможно. — Он снова взглянул на часы. — Вам пора уходить, выбирайтесь отсюда немедленно.
— Могу я спросить, кто ваш человек у Джонса? — сказал я. — Кто сунул мне в карман записку?
— Спросить вы можете, — сказал Виртанен. — Но вы же понимаете, что я не отвечу.
— Вы до такой степени мне не доверяете? — сказал я.
— Могу ли я доверять человеку, который был таким прекрасным шпионом? А?
Это старое золотое правило…
Я ушел от Виртанена.
Не успев сделать и нескольких шагов, я понял, что единственное место, куда я хочу пойти, — это в подвал Джонса, к моей любовнице и к моему лучшему другу.
Я уже знал, чего они стоят, но факт остается фактом: они — все, что у меня оставалось.
Я вернулся в подвал Джонса тем же путем, как и исчез, — через черный ход.
Когда я вернулся. Рези, отец Кили и Черный Фюрер играли в карты.
Никто меня не хватился.
В котельной шли занятия Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции, отрабатывались почести, воздаваемые флагу. Занятия вел один из гвардейцев.
Джонс ушел наверх писать, творить.
Крафт, этот Русский Супершпион, читал «Лайф» с портретом Вернера фон Брауна на обложке. Журнал был раскрыт на центральном развороте с панорамой доисторического болота эпохи рептилий.
Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название ее запечатлелось в моей памяти. Нет ничего удивительного в том, что я его запомнил. Название как раз подходило к тому моменту, впрочем, к любому моменту. Название было: «Это старое золотое правило: что посеешь, то пожнешь».
По моей просьбе Институт документации военных преступников в Хайфе нашел мне слова этой песни. Вот они:
О, бэби, бэби, бэби,
Зачем ты мне сердце разбила?
Говорила, что будешь верна мне,
А сама давно изменила.
Я так огорчен,
Но не удивлен,
Ты меня в дурака превратила,
Ты плакать меня заставила,
Ты смеялась надо мной и лукавила,
Почему ты не знала, девушка, золотого
Старого правила.
— Во что играете? — спросил я игроков.
— В ведьму, — ответил отец Кили.
Он относился к игре серьезно. Он хотел выиграть, я увидел, что у него на руках дама пик, ведьма.
Я, наверное, показался бы более человечным, вызвал бы больше сочувствия, если бы сказал, что в тот момент у меня голова пошла кругом от ощущения нереальности происходящего.
Извините.
Ничего подобного.
Должен признаться в ужасном своем недостатке. Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую, нюхаю, — для меня реально. Я настолько доверчивая игрушка своих ощущений, что для меня нет ничего нереального. Эта доверчивость, стойкая, как броня, сохранялась даже тогда, когда меня били по голове, или я был пьян, или был втянут в странные приключения, о которых не стоит распространяться, или даже под влиянием кокаина.
В подвале Джонса Крафт показал мне фотографию фон Брауна на обложке «Лайф» и спросил, знал ли я его.
— Фон Брауна? — спросил я. — Этого Томаса Джефферсона космического века? Естественно. Барон танцевал однажды в Гамбурге с моей женой на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.
— Хороший танцор? — спросил Крафт.
— Что-то вроде танцующего Микки Мауса, — сказал я. — Так танцевали все крупные нацистские деятели, когда им приходилось это делать.
— Как ты думаешь, он бы сейчас тебя узнал? — спросил Крафт.
— Уверен, что узнал бы, — сказал я. — С месяц назад я наскочил на него на Пятьдесят второй улице, и он окликнул меня по имени. Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе, и предложил подыскать мне работу.
— Ты бы в этом преуспел.
— Вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами, — ответил я.
Игра в карты кончилась, проиграл отец Кили, он так и не смог отделаться от жалкой старой ведьмы — пиковой дамы.
— Ну и ладно, — сказал отец Кили, как будто он много выигрывал в прошлом и собирается и дальше выигрывать. — Всего не выиграешь.
Вместе с Черным Фюрером он поднялся наверх, останавливаясь через каждые несколько ступенек и считая до двадцати.
И теперь Рези, Крафт-Потапов и я остались одни.
Рези подошла ко мне, обняла меня за талию, прижалась щекой к моей груди.
— Только представь, дорогой, — сказала она.
— Что? — сказал я.
— Завтра мы будем в Мексике.
— Гм.
— Ты чем-то обеспокоен.
— Обеспокоен.
— Озабочен, — сказала она.
— Тебе тоже кажется, что я озабочен? — сказал я Крафту. Он все еще изучал панораму доисторического болота в журнале.
— Нет, — сказал он.
— Я в обычном, нормальном состоянии, — сказал я.
Крафт показал на птеродактиля, летающего над болотом.
— Кто бы мог подумать, что такое чудовище может летать? — сказал он.
— А кто бы мог подумать, что такая старая развалина, как я, может покорить сердце такой прелестной девушки и, кроме того, иметь такого талантливого верного друга?
— Мне так легко тебя любить, — сказала Рези. — Я всегда тебя любила.
— Я как раз подумал… — сказал я.
— Расскажи мне, о чем ты подумал, — попросила Рези.
— Может быть, Мексика не совсем то, что нам нужно, — сказал я.
— Мы всегда сможем оттуда уехать, — сказал Крафт.
— Может быть, в аэропорту Мехико-сити мы можем сразу пересесть на реактивный самолет.
Крафт опустил журнал.
— И куда дальше? — спросил он.
— Не знаю, — сказал я. — Просто быстро куда-то отправиться. Я думаю, меня возбуждает сама мысль о передвижении, я так долго сидел на месте.
— Гм, — сказал Крафт.
— Может быть, в Москву? — сказал я.
— Что? — сказал Крафт недоверчиво.
— В Москву, — сказал я. — Мне очень хочется увидеть Москву.
— Это что-то новое, — сказал Крафт.
— Тебе не нравится?
— Я… я должен подумать.
Рези стала отодвигаться от меня, но я держал ее крепко.
— Ты тоже об этом подумай, — сказал я ей.
— Если ты хочешь, — сказала она едва слышно.
— Господи! — сказал я и как следует тряхнул ее. — Чем больше я об этом думаю, тем это становится привлекательнее. Мне бы в Мехико-сити и двух минут между самолетами хватило.
Крафт встал, старательно сгибая и разгибая пальцы.
— Ты шутишь? — спросил он.
— Разве? Такой старый друг, как ты, должен понимать, шучу я или нет.
— Конечно, шутишь. — сказал он. — Что тебя может интересовать в Москве?
— Я бы попытался найти одного старого друга, — сказал я.
— Я не знал, что у тебя есть друг в Москве.
— Я не знаю, в Москве ли он, но где-то в России, — сказал я. — Я бы навел справки.
— Кто же он? — спросил Крафт.
— Степан Бодовсков, писатель.
— А… — сказал Крафт. Он сел и снова взял журнал.
— Ты о нем слышал? — спросил я.
— Нет.
— А о полковнике Ионе Потапове?
Рези отскочила от меня к дальней стене и прижалась к ней спиной.
— Ты знаешь Потапова? — спросил я ее.
— Нет.
— А ты? — спросил я Крафта.
— Нет, — сказал он. — Расскажи мне о нем.
— Он — коммунистический агент, — сказал я. — Он хочет увезти меня в Мехико-сити, где меня схватят и отправят в Москву для суда.
— Нет! — сказала Рези.
— Заткнись! — сказал ей Крафт.
Он вскочил, отбросив журнал, и пытался вытащить из кармана маленький пистолет, но я навел на него свой люгер.
Я заставил его бросить пистолет на пол.
— Глянь-ка, — сделав удивленный вид, сказал он, словно был здесь ни при чем. — Прямо ковбои и индейцы.
— Говард, — сказала Рези.
— Молчи! — предупредил ее Крафт.
— Дорогой, — сказала Рези плача, — мечта о Мексике — я надеялась — она станет реальностью. Нас всех ждало избавление! — Она раскрыла объятия. — Завтра, — сказала она тихо. — Завтра, — прошептала она снова.
И тут она бросилась к Крафту, как будто хотела вцепиться в него. Но руки ее ослабли и бессильно повисли.
— Мы все должны были родиться заново, — сказала она ему хрипло. — И ты — ты тоже. Разве… разве ты сам этого не хотел? Как же ты мог с такой нежностью говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?
Крафт не ответил.
Рези повернулась ко мне.
— Да, я — коммунистический агент. И он тоже. Он действительно — полковник Иона Потапов. У нас действительно было задание доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя; потому что любовь, которую ты дал мне, — единственная моя любовь, другой у меня не было и не будет. Я же тебе говорила, что не желаю этого делать, правда? — сказала она Крафту.
— Она мне говорила, — сказал Крафт.
— И он согласился со мной, — сказала Рези, — и тоже мечтал о Мексике, где все мы выскочим из западни и заживем счастливо.
— Как ты узнал? — спросил меня Крафт.
— Американские агенты все время следили за вашими действиями, — сказал я. — Это место сейчас окружено. Вы погорели.
О, сладкое таинство жизни…
Об облаве —
О Рези Нот —
О том, как она умерла —
О том, как она умерла на моих руках, там, в подвале преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса. Д. С. X., Д. Б.
Это было совершенно неожиданно.
Казалось, Рези так любила жизнь, была создана для жизни, что мне в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.
Я — человек, достаточно умудренный опытом или недостаточно одаренный воображением, — уж решайте сами, — чтобы представить себе, что такая молодая, красивая, умная девушка даже при самых тяжелых ударах судьбы и политики будет думать о смерти. Притом я говорил ей, что самое худшее, что ее ожидает, это депортация.
— И ничего более страшного? — сказала она.
— Ничего. И я сомневаюсь, что тебе даже придется оплачивать обратный проезд.
— И тебе не жалко будет, если я уеду?
— Конечно, жалко. Но я ничего не могу сделать, чтобы ты осталась со мной. С минуты на минуту сюда могут войти и арестовать тебя. Не думаешь же ты, что я буду драться с ними?
— А ты не будешь с ними драться?
— Конечно, нет. Какой у меня шанс?
— А это имеет значение?
— Ты хочешь знать, — сказал я, — почему я не умираю за любовь, как рыцарь в пьесе Говарда У. Кемпбэлла-младшего?
— Именно это я и хочу знать, — сказала она. — Почему бы нам не умереть вместе, прямо здесь, сейчас?
Я рассмеялся.
— Рези, дорогая, у тебя вся жизнь впереди.
— У меня вся жизнь позади, — сказала она, — вся в этих нескольких счастливых часах с тобой.
— Это звучит как строка, которую я мог бы написать, когда был молодым человеком.
— Это и есть строка, которую ты написал, когда был молодым человеком.
— Глупым молодым человеком, — сказал я.
— Я обожаю того молодого человека, — сказала она.
— Когда же ты полюбила его? Еще девочкой?
— Маленькой девочкой, а потом уже женщиной, — сказала она. — Когда они дали мне все, что ты написал, и велели изучить, я полюбила тебя уже женщиной.
— Извини, но я не могу одобрить твои литературный вкус.
— Ты уже не веришь, что любовь — единственное, ради чего стоит жить?
— Нет.
— Тогда скажи, ради чего стоит жить вообще? — сказала она умоляюще. — Если не ради любви, то ради чего же? Ради всего этого? — Она жестом обвела убогую обстановку комнаты, еще резче усилив и мое собственное ощущение, что мир — это лавка старьевщика. — Я что, должна жить ради этого стула, этой картины, ради этой печной трубы, этой кушетки, этой трещины в стене? Вели мне жить ради этого, и я буду! — кричала она.
Теперь ее ослабевшие руки вцепились в меня. Она закрыла глаза и заплакала.
— Значит, не ради любви, — шептала она, — ради чего же, скажи.
— Рези, — сказал я нежно.
— Скажи мне! — требовала она.
Сила вернулась в ее руки, и она с нежным неистовством теребила мою одежду.
— Я старик, — беспомощно сказал я. Это была трусливая ложь. Я не старик.
— Хорошо, старик, скажи мне, ради чего жить, — сказала она. — Скажи, ради чего ты живешь, чтобы и я могла жить ради того же — здесь или за десять тысяч километров отсюда! Объясни, почему ты хочешь остаться в живых, и тогда я тоже захочу жить!
И тут началась облава.
Силы закона и порядка ворвались через все двери, они размахивали оружием, свистели в свистки, светили яркими фонарями, хотя света и так было достаточно.
Это была целая небольшая армия, и они шумно веселились по поводу мелодраматично-зловещего реквизита нашего подвала. Они веселились, как дети вокруг рождественской елки.
Целая дюжина их, молодых, розовощеких, добродетельных, окружили Рези, Крафт-Потапова и меня, отобрали мой люгер и обращались с нами, как с тряпичными куклами, в поисках еще какого-нибудь оружия.
Другие спускались по лестнице, толкая перед собой преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Черного Фюрера и отца Кили.
Доктор Джонс остановился на середине лестницы и повернулся к своим мучителям:
— Все, что я делал, — сказал он величественно, — должны были делать вы.
— Что мы должны были делать? — сказал агент ФБР, который явно был здесь главным.
— Защищать республику, — сказал Джонс. — Что вам от нас надо? Мы делаем все, чтобы сделать нашу страну сильнее! Присоединяйтесь к нам, и пойдем вместе против тех, кто пытается ее ослабить!
— Кто же это? — спросил агент ФБР.
— Я должен вам объяснить? — сказал Джонс. — Вы еще не поняли этого за время вашей работы? Евреи! Католики! Черномазые! Желтые! Унитарии! Эмигранты, которые ничего не понимают в демократии, которые играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, нехристям и евреям!
— К вашему сведению, — сказал агент с холодным Торжеством, — я — еврей.
— Это только подтверждает то, что я сказал!
— То есть? — сказал агент.
— Евреи проникли всюду! — сказал Джонс, улыбаясь, как логик, которого никогда нельзя сбить с толку.
— Вы говорите о католиках и неграх, но один из ваших лучших друзей — католик, другой — негр.
— Что тут удивительного? — сказал Джонс.
— У вас нет к ним ненависти? — спросил агент ФБР.
— Конечно, нет. Мы все исповедуем одну основную истину.
— Какую же?
— Наша страна, которой мы когда-то гордились, сейчас оказалась не в тех руках, — сказал Джонс. Он кивнул, а вслед за ним отец Кили и Черный Фюрер. — И, чтобы она снова вернулась на путь истинный, кое-кому надо свернуть голову.
Я никогда не встречал такого наглядного примера тоталитарного мышления, мышления, которое можно уподобить системе шестеренок с беспорядочно отпиленными зубьями. Такая кривозубая мыслящая машина, приводимая в движение стандартными или нестандартными внутренними по-буждениями, вращается толчками, с диким бессмысленным скрежетом, как какие-то адские часы с кукушкой.
Босс из ФБР ошибался, думая, что на шестернях в голове Джонса нет зубьев.
— Вы законченный псих, — сказал он.
Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом тоталитарном мышлении то, что каждая из таких шестеренок, сколько бы зубьев у нее ни было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно обработаны.
Поэтому адские часы с кукушкой идут правильно в течение восьми минут и тридцати трех секунд, потом убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на две секунды, правильно идут два часа и одну секунду, а затем убегают на год вперед.
Недостающие зубья — это простые очевидные истины, в большинстве случаев доступные и понятные даже десятилетнему ребенку. Умышленно отпилены некоторые зубья — система умышленно действует без некоторых очевидных кусков информации.
Вот почему такая противоречивая семейка, состоящая из Джонса, отца Кили, вицебундесфюрера Крапптауэра и Черного Фюрера, могла существовать в относительной гармонии…
Вот почему мой тесть мог совмещать безразличие к рабыням и любовь к голубой вазе…
Вот почему Рудольф Гесе, комендант Освенцима, мог чередовать по громкоговорителю произведения великих композиторов с вызовами уборщиков трупов…
Вот почему нацистская Германия не чувствовала существенной разницы между цивилизацией и бешенством…
Так я ближе всего могу подойти к объяснению тех легионов, тех наций сумасшедших, которые я видел в свое время. И моя попытка такого механистического объяснения — это, наверное, отражение отца, сыном которого я был. И есть. Ведь если остановиться и подумать, что бывает не часто, я, в конце концов, сын инженера.
И поскольку меня некому похвалить, я похвалю себя сам — скажу, что я никогда не прикасался ни к одному зубу своей думающей машины, она такая, как есть. У нее не хватает зубьев, бог знает почему, — без некоторых я родился, и они уже никогда не вырастут. А другие сточились под влиянием превратностей Истории.
Но никогда я умышленно не ломал ни единого зуба на шестеренках моей думающей машины. Никогда я не говорил себе: «Я могу обойтись без этого факта».
Говард У. Кемпбэлл-младший поздравляет себя! В тебе еще есть жизнь, старина!
А где есть жизнь…
Там есть жизнь.
Рези Нот откланивается…
— Единственное, о чем я жалею, — сказал доктор Джонс боссу фебеэровцев на лестнице в подвал, — что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать отечеству.
— Посмотрим, не удастся ли нам откопать еще что-нибудь, о чем вы будете жалеть, — сказал босс.
Теперь Железная Гвардия Сынов Американской Конституции толпой вываливалась из котельной. Некоторые из них были в истерике. Паранойя, которую родители годами вбивали в них, внезапно реализовалась. Вот теперь их действительно преследовали!
Один из парней вцепился в древко американского флага. Он так размахивал им, что орел на древке цеплялся за трубы под потолком.
— Это флаг вашей страны! — кричал он.
— Мы это уже знаем, — сказал босс. — Отберите у него флаг!
— Этот день войдет в историю, — сказал Джонс.
— Каждый день входит в историю, — сказал босс. — Ладно, где человек, называющий себя Джорджем Крафтом?
Крафт поднял руку. Он сделал это почти что весело.
— Это флаг и вашей страны? — сказал босс с издевкой.
— Мне нужно рассмотреть его повнимательнее, — сказал Крафт.
— Как чувствует себя человек, когда такая долгая и блестящая карьера приходит к концу? — спросил босс Крафта.
— Все карьеры когда-нибудь кончаются, — сказал Крафт. — Я это понял уже давно.
— Может, о вашей жизни сделают фильм, — сказал босс.
Крафт улыбнулся.
— Возможно. Я бы запросил немало денег за право снимать этот фильм.
— Есть только один актер, который действительно бы сыграть вашу роль, — сказал босс. — Но его будет нелегко заполучить.
— Да? — сказал Крафт. — Кто же это?
— Чарли Чаплин, — сказал босс. — Кто еще смог бы сыграть шпиона, который был постоянно пьян, с 1941 по 1948 год? Кто еще мог бы сыграть русского шпиона, который создал агентуру, состоящую почти сплошь из американских шпионов?
Весь лоск сошел с Крафта, и он превратился в бледного морщинистого старика.
— Это неправда! — сказал он.
— Спросите ваше начальство, если не верите мне, — сказал босс.
— А они знают? — спросил Крафт.
— Они наконец поняли. Вы были на пути домой, а там вас ожидала пуля в затылок.
— Почему вы спасли меня?
— Считайте это сентиментальностью, — сказал босс.
Крафт обдумал ситуацию и укрылся за спасительной шизофренией.
— Все это не имеет ко мне отношения, — сказал он и вновь обрел свой прежний лоск.
— Почему?
— Потому, что я художник. И это главное мое дело.
— Непременно возьмите в тюрьму этюдник, — сказал босс и переключил внимание на Рези. — Вы, конечно, Рези Нот.
— Да, — сказала она.
— Доставило ли вам удовольствие ваше короткое пребывание в нашей стране?
— Какого ответа вы от меня ожидаете?
— Любого. Если у вас есть жалобы, я передам их в соответствующие инстанции. Знаете, мы пытаемся увеличить приток туристов из Европы.
— Вы говорите очень забавные вещи, — сказала она без тени улыбки. — Простите, я не могу ответить в том же духе. Сейчас не самое забавное время для меня.
— Жаль, — сказал босс небрежно.
— Вам не жаль, — сказала Рези. — Жаль только мне. Мне жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, это любовь к одному человеку, а этот человек меня не любит. Жизнь его так поизносила, что он не может больше любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. Я не могу сказать вам ничего забавного, — сказала Рези. — Но я могу показать вам кое-что интересное.
Рези как будто прикоснулась пальцами к губам. На самом деле она сунула в рот капсулу с цианистым калием.
— Я покажу вам женщину, которая умирает за любовь.
И Рези Нот тут же упала мертвой мне на руки.
Снова свобода…
Я был арестован вместе со всеми, кто находился в доме. Меня освободили в течение часа, я думаю, благодаря вмешательству Моей Звездно-Полосатой Крестной. Место, где меня содержали в течение этого короткого времени, была контора без вывески в Эмпайр Стейт Билдинг. Агент спустил меня на лифте и вывел на улицу, возвратив в поток жизни. Не успел я сделать и пятидесяти шагов, как остановился.
Я оцепенел.
Я оцепенел не от чувства вины. Я приучил себя никогда не испытывать чувства вины.
Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я приучил себя ничего страстно не желать.
Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я приучил себя рассматривать смерть как друга.
Я оцепенел не от разрывающего сердце возмущения несправедливостью. Я приучил себя к тому, что ожидать справедливых наград и наказаний так же бесполезно, как искать жемчужину в навозе.
Я оцепенел не от того, что я так не любим. Я приучил себя обходиться без любви.
Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я приучил себя никогда ничего от Него не ждать.
Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые бессмысленные годы, было любопытство.
Теперь даже оно угасло.
Как долго я стоял в оцепенении — не знаю. Чтобы я вновь начал двигаться, надо было, чтобы кто-то другой придумал для этого причину.
И этот кто-то нашелся. Полицейский на улице наблюдал за мной некоторое время, затем подошел и спросил:
— У вас все в порядке?
— Да, — сказал я.
— Вы стоите здесь уже давно.
— Знаю.
— Вы ждете кого-нибудь?
— Нет.
— Тогда лучше идите.
— Да, сэр.
И я пошел.
Химикалии…
От Эмпайр Стейт Билдинг я пошел к центру. Я шел пешком в Гринвич Вилледж, туда, где некогда был мой дом, наш с Рези и Крафтом дом.
Всю дорогу я курил сигареты и стал воображать себя светлячком.
Я встречал много других таких же светлячков. Иногда я первым подавал им приветственный красный сигнал, иногда они. Я все дальше и дальше уходил от подобного морскому прибою рокота и северного сияния огней сердца города.
Время было позднее. Теперь я ловил сигналы светлячков-сотоварищей, захваченных в ловушки верхних этажей.
Где-то, как наемный плакальщик, выла сирена.
Когда я наконец подошел к зданию, к своему дому, все окна были темны, кроме одного — окна в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна.
Он тоже был светлячком. Он просигналил, и я просигналил в ответ.
Где-то завели мотоцикл, будто разорвалась хлопушка.
Черная кошка перебежала мне дорогу перед входной дверью.
В парадном тоже было темно. Выключатель был испорчен. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны.
В темноте в неверном свете спички погнутые и пробитые дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сожженном городе. Моя спичка привлекла внимание дежурного полицейского. Он был молодой и унылый.
— Что вы тут делаете? — спросил он.
— Я здесь живу, это мой дом.
— У вас есть документы?
Я показал ему какой-то документ и сказал, что живу в мансарде.
— Так это из-за вас все эти неприятности? — Он не упрекал меня, ему было просто интересно.
— Если хотите.
— Удивляюсь, что вы вернулись сюда.
— Я скоро снова уйду.
— Я не могу приказать вам уйти. Я просто удивляюсь, что вы вернулись.
— Я могу подняться к себе?
— Это ваш дом. Никто не может вам запретить.
— Благодарю вас.
— Не благодарите меня. У нас свободная страна, и все одинаково находятся под защитой. — Он сказал это доброжелательно. Он давал мне урок гражданского права.
— Вот так и нужно управлять страной, — сказал я.
— Не знаю, смеетесь ли вы надо мной или нет, но это правда, — сказал полицейский.
— Я не смеюсь над вами, клянусь, что нет. — Мое клятвенное уверение удовлетворило его.
— Мой отец был убит на Иводзима[35].
— Сочувствую.
— Полагаю, что там погибли хорошие люди и с той, и с другой стороны.
— Думаю, что правда.
— Думаете, будет еще одна? — Что — еще одна?
— Еще одна война.
— Да, — сказал я.
— Я тоже так думаю, — сказал он. — Разве это не ад?
— Вы нашли верное слово, — сказал я.
— Что может сделать один человек?
— Каждый делает какую-то малость, — сказал я. — Вот и все.
Он тяжело вздохнул.
— И все это складывается. Люди не понимают. — Он покачал головой. — Что люди должны делать?
— Подчиняться законам, — сказал я.
— Они не хотят даже и этого делать, половина, во всяком случае. Я такое вижу, люди такое мне рассказывают. Иногда я просто падаю духом.
— Это с каждым бывает, — сказал я.
— Я думаю, это частично от химии, — сказал он.
— Что — это?
— Плохое настроение. Разве не обнаружено, что это часто бывает из-за химических препаратов?
— Не знаю.
— Я об этом читал. Это одно из открытий.
— Очень интересно.
— Человеку дают какие-то химикалии, и он сходит с ума. Вот над чем они работают. Может быть, все из-за химии.
— Вполне возможно.
— Может быть, это разные химикалии, которые люди едят в разных странах, заставляют их в разное время действовать по-разному.
— Я никогда раньше об этом не думал, — сказал я.
— Иначе почему люди так меняются? Мой брат был там, в Японии, и говорит, что японцы — приятнейшие люди, каких он когда-либо встречал, а ведь это японцы убили нашего отца! Вдумайтесь в это.
— Ладно.
— Это точно химикалии, верно ведь?
— Наверное, вы правы.
— Я уверен. Подумайте об этом хорошенько.
— Ладно.
— Я все время думаю о химикалиях. Иногда мне кажется, что мне снова надо пойти в школу и выяснить досконально все, что открыли насчет химикалиев.
— Думаю, вам так и надо поступить.
— Может быть, когда о химикалиях узнают еще больше — не будет ни полицейских, ни войн, ни сумасшедших домов, ни разводов, ни малолетних преступников, ни пьяниц, ни падших женщин, ничего такого.
— Это было бы прекрасно, — сказал я.
— Я думаю, это возможно.
— Я вам верю.
— На этом пути сейчас нет ничего невозможного, надо только работать — найти деньги, найти самых способных людей, создать четкую программу — и работать.
— Я — за, — сказал я.
— Посмотрите, как некоторые женщины просто сходят с ума каждый месяц. Выделяются какие-то химические вещества, и женщина уже не может вести себя иначе. Иногда после родов начинает выделяться какое-то химическое вещество, и женщина даже может убить ребенка. Это случилось в одном из соседних домов как раз на прошлой неделе.
— Какой ужас, — сказал я. — Я и не слышал.
— Самое противоестественное, что может сделать женщина, это убить собственного ребенка, но она это сделала. Какая-то химия в крови заставила ее поступить так, хотя она вовсе этого не хотела.
— Гм… гм, — сказал я.
— Хотите знать, что случилось с миром, — сказал он. — Химия — вот в чем собака зарыта.
Ни голубя, ни завета…
Я поднялся в свою крысиную мансарду вверх по отделанной дубом и грубой лепкой спирали лестницы.
Обычно воздух на лестнице сохранял тоскливые запахи кухни, угольной пыли, испарений клозета, а сейчас он был свежим и холодным. Все окна в моей мансарде были разбиты. Все теплые газы с запахами жилья поднялись по лестничной клетке наверх и высвистали через мои окна, как сквозь вентиляционную трубу.
Воздух был чист.
Это ощущение, когда провонявшее старое здание внезапно оказывается открытым и зараженная атмосфера очищается, было мне хорошо знакомо. Я достаточно часто испытывал это в Берлине. Нас с Хельгой дважды разбомбили. Оба раза лестница осталась, и можно было вскарабкаться наверх.
Первый раз мы карабкались по ступенькам в свое жилье без крыши и окон, но тем не менее чудом уцелевшее внутри. В другой раз, поднимаясь по лестнице, мы внезапно оказались на холодном свежем воздухе двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры.
Оба раза это было незабываемое ощущение — на верхней площадке разбитой лестницы под открытым небом.
Правда, это ощущение быстро пропадало, ведь, как всякая семья, мы любили наше жилье и нуждались в нем. Но все равно мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат.
Нет чувства приятней этого.
А затем снова начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы осознавали, что мы обычные люди без голубя и без завета и что потоп далеко еще не кончился, а только начинается.
Я вспоминаю, как однажды мы с Хельгой спускались с разбитой лестничной площадки под открытым небом в бомбоубежище глубоко под землей, а наверху вокруг падали тяжелые бомбы. Они падали и падали, и казалось, это никогда не кончится.
И убежище было длинным и узким, как железнодорожный вагон, и было переполнено.
И там на скамье против нас с Хельгой сидели мужчина и женщина с тремя детьми. И женщина начала причитать, обращаясь к потолку, к бомбам, самолетам, к небу и к самому Господу Богу там, наверху.
Она начала тихо, не обращаясь ни к кому в убежище.
— Ну хорошо, — говорила она, — вот мы тут. Мы тут внизу. Слышим тебя над нами. Мы слышим, как ты гневаешься. — Голос ее вдруг перешел в крик. — Великий Боже, как ты гневаешься! — кричала она.
Ее муж — изможденный штатский с повязкой на глазу, со значком нацистского Союза учителей на лацкане, попытался ее предостеречь.
Но она не слышала его.
— Чего ты хочешь от нас? — обращалась она к потолку и ко всему, что было над ним. — Что мы должны делать? Скажи, и мы сделаем все, что ты хочешь!
Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась штукатурка, женщина с криком вскочила, и ее муж тоже.
— Мы сдаемся! Сдаемся! — завопила она. И чувство великого облегчения и радости отразилось на ее лице. — Остановись же! — вскричала она. Она рассмеялась. — С нас хватит! Все кончилось! — Она повернулась к детям с радостной вестью.
Муж ударил ее так, что она потеряла сознание.
Этот одноглазый учитель усадил ее на скамейку, прислонил к стене. Потом он обратился к находившемуся в убежище высокопоставленному лицу, как оказалось, вице-адмиралу.
— Она — женщина… истеричка, они все стали истеричками… Она так не думает… Она имеет Золотой орден материнства… — говорил он вице-адмиралу.
Вице-адмирал не удивился и не рассердился. Он не счел, что ему отвели неподходящую роль. Преисполненный чувства собственного достоинства, он дал этому человеку отпущение грехов.
— Все в порядке, — сказал он. — Это понятно. Не беспокойтесь.
Учитель пришел в восторг от системы, которая может простить слабость.
— Heil Hitler! — сказал он, кланяясь и пятясь назад.
— Heil Hitler! — ответил вице-адмирал.
Теперь учитель начал приводить в чувство жену. У него были хорошие вести — что она прощена, что все до одного поняли.
А тем временем бомбы падали и падали у них над головой, а трое детишек школьного учителя и глазом не моргнули.
Они, подумалось мне, вообще никогда глазом не моргнут.
И я, подумалось мне, тоже.
Больше никогда.
Святой Георгий и дракон…
Дверь моей крысиной мансарды была сорвана с петель и исчезла. Вместо нее привратник прибил мою походную палатку, а поверх нее — доски крест-накрест. На досках золотой краской для батарей, блеснувшей в свете моей спички, он написал:
«Внутри никого и ничего».
Как бы то ни было, кто-то с тех пор отодрал нижний угол холстины, и у моей крысиной мансарды образовалась небольшая треугольная дверца вроде входа в вигвам.
Я пролез вовнутрь.
Выключатель в мансарде тоже не работал. Свет проникал сюда только через несколько оставшихся целыми оконных стекол. Разбитые стекла были заменены кусками газет, тряпками, одеждой и одеялами. Ночной ветер со свистом врывался через это рванье. Свет был каким-то синим.
Я выглянул через заднее окно около плиты, посмотрел вниз в уменьшенное перспективой очарование маленького садика, маленького рая, образованного примыкающими друг к другу задними дворами. Никто там сейчас не играл.
И никто не мог закричать оттуда, как мне хотелось бы.
«Олле-Олле-бык-на воле-еееееее…»
Что-то зашевелилось, зашуршало в темноте мансарды. Я подумал, что это крыса.
Я ошибся.
Шорох исходил от Бернарда О’Хара, человека, взявшего меня в плен так много лет назад. Это шевелился мой злой рок, человек, главной целью которого было травить и преследовать меня.
Я не собираюсь порочить его, сравнивая звук, который он производил, со звуком, производимым крысой. Я не сравнивал О’Хара с крысой, хотя его действия были так же раздражающе неуместны, как ярость крыс, скребущихся в стенах моей мансарды. Я, в сущности, не знаю О’Хара и знать не хочу. Тот факт, что в плен в Германии взял меня именно он, имеет для меня субмикроскопическое значение. Он не был моим карающим мечом. Моя игра была кончена задолго до того, как О’Хара взял меня в плен. Для меня О’Хара был не более чем сборщиком мусора, развеянного ветром по дорогам войны.
О’Хара придерживался другой, более возвышенной точки зрения насчет того, кем мы были друг для друга. Во всяком случае, напившись, он вообразил себя Святым Георгием, а меня — драконом. Когда я увидел его в темноте моей мансарды, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма Американского легиона. Перед ним стояла бутылка виски. Он, очевидно, уже давно ожидал меня, прикладываясь к бутылке и покуривая. Он был пьян, но его форма была в полном порядке. Галстук был на месте, фуражка надета под должным углом. Форма много значила для него, и предполагалось, что для меня тоже.
— Знаешь, кто я? — сказал он.
— Да, — сказал я.
— Я уже не так молод, как тогда. Я здорово изменился?
— Нет, — ответил я. Я уже писал, что раньше он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде он выглядел нездоровым, бледным, одутловатым, с воспаленными глазами. Я подумал, что теперь он больше похож на койота, чем на волка. Его послевоенные годы были не слишком лучезарными.
— Ждал меня? — сказал он.
— Вы же меня предупреждали, — сказал я. Мне следовало вести себя с ним вежливо и осторожно. Я, конечно, ничего хорошего от него не ждал. То, что он был в полной форме, и то, что он ниже меня ростом и легче весом, наводило меня на мысль, что у него есть оружие, скорее всего пистолет.
Он неловко поднялся с ведра, и стало видно, насколько он пьян. При этом он опрокинул ведро.
Он ухмыльнулся.
— Являлся я тебе когда-нибудь в кошмарных снах, Кемпбэлл? — спросил он.
— Часто, — сказал я. Это была, конечно, ложь.
— Удивляешься, что я пришел один?
— Да.
— Многие хотели прийти со мной. Целая компания хотела приехать со мной из Бостона. А когда я прибыл в Нью-Йорк сегодня днем, пошел в бар и разговорился с незнакомыми людьми, они тоже захотели пойти со мной.
— Угу, — сказал я.
— А знаешь, что я им ответил?
— Нет.
— Я сказал им: «Извините, ребята, но эта встреча только для нас с Кемпбэллом. Так это должно быть — только мы двое, с глазу на глаз».
— Угу.
— «Эта встреча была предопределена давно», — сказал я им, — сказал О’Хара. — «Сама судьба решила, что мы с Говардом Кемпбэллом должны встретиться через много лет». Ты не чувствуешь этого?
— Чего именно?
— Что это судьба. Мы должны были встретиться так, именно здесь, в этой комнате, и ни один из нас не мог этого избежать, как бы мы ни старались.
— Возможно, — сказал я.
— Как раз тогда, когда думаешь, что жить больше незачем, внезапно осознаешь, что у тебя есть цель.
— Я понимая, что вы имеете в виду.
Он покачнулся, но удержался.
— Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?
— Нет.
— Я диспетчер грузовиков для замороженного крема.
— Простите? — сказал я.
— Целый парк грузовиков объезжает заводы, пляжи, стадионы — все места, где собирается народ. — О’Хара, казалось, на несколько секунд совсем забыл обо мне, мрачно размышляя о назначении грузовиков, которые он отправлял. — Машина, производящая крем, стоит прямо на грузовике, — бормотал он. — Всего два сорта — шоколадный и ванильный. — Теперь он был в таком же состоянии, как бедная Рези, когда она рассказывала мне об ужасающей бессмысленности своей работы на сигаретной машине в Дрездене. — Когда кончилась война, я рассчитывал добиться многого и не думал, что через пятнадцать лет окажусь диспетчером грузовиков для замороженного крема.
— Я думаю, у каждого из нас были разочарования, — сказал я.
Он не ответил на эту слабую попытку братания. Его беспокоили только собственные дела.
— Я собирался стать врачом, юристом, писателем, архитектором, инженером, газетным репортером, — сказал он. — Я мог бы стать кем угодно.
Но я женился, и жена сразу начала рожать детей, и тогда мы с приятелем открыли чертово заведение по производству пеленок, но приятель удрал с деньгами, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, а когда и это дело прогорело, появился замороженный крем. А жена все продолжала рожать, и чертова машина ломалась, и нас осаждали кредиторы, и термиты кишмя кишели в плинтусах каждую весну и осень.
— Как печально, — сказал я.
— И я спросил себя, — сказал О’Хара. — Что все это значит? Для чего я живу? В чем смысл всего этого?
— Правильные вопросы, — сказал я миролюбиво и пододвинулся ближе к тяжелым каминным щипцам.
— И тут кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты еще жив, — сказал О’Хара, и его снова охватило страшное возбуждение, которое вызвала в нем та заметка. — И вдруг меня осенило, зачем я живу и что в этой жизни я должен сделать.
Он шагнул ко мне, глаза его расширились.
— Вот я и пришел, Кемпбэлл, прямо из прошлого!
— Здравствуйте, — сказал я.
— Ты знаешь, что ты для меня, Кемпбэлл?
— Нет.
— Ты зло, зло в чистом виде.
— Благодарю.
— Ты прав, это почти комплимент, — сказал он. — Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее, в нем смешано почти поровну добро и зло. Но ты — чистейшее зло. Даже если в тебе есть что-то хорошее, все равно ты — сущий дьявол.
— Может быть, я и в самом деле дьявол.
— Не сомневайся, я обдумал это.
— Ну и что же вы собираетесь со мной сделать?
— Разорвать тебя на куски, — сказал он, раскачиваясь на пятках и расправляя плечи. — Когда я услышал, что ты жив, я понял, что я должен сделать. Другого выхода нет. Это должно было кончиться так.
— Не понимаю, почему?
— Тогда, ей-богу, я тебе покажу, почему. Я тебе покажу, ей-богу. Я родился, чтобы разорвать тебя на куски как раз здесь и сейчас. — Он обозвал меня подлым трусом. Он обозвал меня нацистом. Затем он обругал меня самым непристойным словосочетанием в английском языке.
И тут я сломал ему каминными щипцами правую руку.
Это был единственный акт насилия, когда-либо совершенный в моей, кажущейся теперь такой долгой, долгой жизни. Я встретился с О’Хара в поединке и победил его. Победить его было просто. О’Хара был так одурманен выпивкой и фантазиями о торжестве добра над злом, что даже не ожидал, что я буду защищаться. Когда он понял, что побит, что дракон намерен сразиться со Святым Георгием, он страшно удивился.
— Ах, вот ты как, — сказал он.
Но тут боль от множественного перелома окончательно доконала его нервы, и слезы брызнули у него из глаз.
— Убирайся, — сказал я. — Или ты хочешь, чтобы я сломал тебе другую руку и вдобавок проломил череп? — Я ткнул его щипцами в правый висок и сказал: — Прежде чем ты уйдешь, ты отдашь мне пистолет, нож или что там у тебя есть.
Он покачал головой. Боль была так ужасна, что он не мог говорить.
— У тебя нет оружия?
Он снова покачал головой.
— Честная борьба, — хрипло сказал он, — честная.
Я обшарил его карманы. У него не было оружия. Святой Георгий хотел взять дракона голыми руками!
— Ах ты, полоумный ничтожный пьяный однорукий сукин сын! — сказал я. Я сорвал тент с дверного проема, отодрал доски. Я вышвырнул О’Хара на площадку.
О’Хара наткнулся на перила и, потрясенный, уставился вниз в лестничный пролет, вдоль манящей спирали, туда, где его ждала бы верная смерть.
— Я не твоя судьба и не дьявол, — сказал я. — Посмотри на себя. Пришел убить дьявола голыми руками, а теперь убираешься бесславно, как человек, сбитый междугородным автобусом! И большей славы ты не заслуживаешь. Это все, чего заслуживает каждый, кто вступает в борьбу с чистым злом, — продолжал я. — Есть достаточно много причин для борьбы, но нет причин безгранично ненавидеть, воображая, будто сам Господь Бог разделяет такую ненависть. Что есть зло? Это та большая часть каждого из нас, которая жаждет ненавидеть без предела, ненавидеть с Божьего благословения. Это та часть каждого из нас, которая находит любое уродство таким привлекательным. Это та часть слабоумного, которая с радостью унижает, причиняет страдания и развязывает войны, — сказал я.
От моих ли слов, от унижения ли, опьянения или от шока из-за перелома О’Хара вырвало, не знаю, но его вырвало. Содержимое его желудка изверглось с четвертого этажа в лестничный пролет.
— Убери за собой! — крикнул я.
Он взглянул на меня, глаза его все еще были полны концентрированной ненависти.
— Я еще доберусь до тебя, братец, — сказал он.
— Может быть, но это все равно не изменит твоего удела: банкротств, мороженого крема, кучи детишек, термитов и нищеты. И если ты так уж хочешь быть солдатом в легионах Господа Бога, вступи в Армию Спасения.
И О’Хара убрался.
«Кэм-буу»…
Общеизвестно, что арестанты, придя в себя, пытаются понять, как они попали в тюрьму. Теория, которую я предлагаю для себя по этому поводу, сводится к тому, что я попал в тюрьму, так как не смог перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О’Хара в вестибюле у лестницы.
Я вышел из мансарды вскоре после ухода О’Хара. Ничто меня там не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир. Выходя из мансарды, я ногой поддал что-то на лестничную площадку. Я поднял этот предмет, и он оказался шахматной пешкой, из тех, что я вырезал из палки от швабры.
Я положил ее в карман. Она и сейчас со мной. Когда я опускал ее в карман, то почувствовал вонь от нарушения общественного порядка, которое учинил О’Хара.
По мере того, как я спускался по лестнице, вонь усиливалась.
Когда я дошел до площадки, где жил молодой доктор Абрахам Эпштейн, человек, который провел свое детство в Освенциме, вонь остановила меня.
И тут я понял, что стучусь в дверь доктора Эпштейна.
Доктор подошел к двери в халате и пижаме. Он очень удивился, увидев меня.
— В чем дело? — спросил он.
— Можно войти? — спросил я.
— По медицинскому делу? — спросил он. Дверь была на цепочке.
— Нет. По личному — политическому.
— Это очень срочно?
— Думаю, что да.
— Объясните вкратце, в чем дело?
— Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом.
— Что-что?
— Я хочу, чтобы меня судили за преступления против человечности, — сказал я. — Я хочу поехать туда. — Почему вы пришли ко мне?
— Я думаю, вы должны знать кого-нибудь — кого-нибудь, кого надо поставить в известность.
— Я не представитель Израиля, — сказал он. — Я американец. Завтра утром вы сможете найти всех тех израильтян, которые вам нужны.
— Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима.
Он взбесился.
— Тогда ищите одного из тех, кто только и думает об Освенциме! Есть много таких, кто только о нем и думает. Я никогда о нем не думаю! — И он захлопнул дверь.
Я оцепенел, потерпев неудачу в достижении единственной цели, которую я смог себе придумать. Эпштейн был прав — утром я смогу найти израильтян.
Но надо было еще пережить целую ночь, а у меня уже не было сил двигаться. За дверью Эпштейн разговаривал со своей матерью. Они говорили по-немецки.
Я слышал только обрывки их разговора. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло.
Из того, что я услышал, меня поразило, как они произносят мою фамилию, поразило ее звучание.
«Кэм-буу», — повторяли они снова и снова. Это для них был Кемпбэлл.
Это было концентрированное зло, зло, которое воздействовало на миллионы, отвратительное существо, которое добрые люди хотели уничтожить, зарыть в землю…
«Кэм-буу».
Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэм-буу и того, что он затевает, что подошла к двери. Я уверен, что она не ожидала увидеть самого Кэм-буу. Она хотела только испытать отвращение и подивиться на воздух, который он только что вытеснил.
Она открыла дверь, а сын, стоящий сзади, уговаривал ее не делать этого. Она едва не потеряла сознание от вида самого Кэм-буу, Кэм-буу в состоянии каталепсии.
Эпштейн оттолкнул ее и вышел, как будто собираясь напасть на меня.
— Что вы тут делаете? Убирайтесь к черту отсюда! — сказал он.
Так как я не двигался, не отвечал, даже не мигал, даже, казалось, не дышал, он начал понимать, что я прежде всего нуждаюсь в медицинской помощи.
— О, Господи, — простонал он.
Как покорный робот, я позволил ему ввести себя в квартиру. Он привел меня в кухню и усадил там за белый столик.
— Вы слышите меня? — сказал он.
— Да, — ответил я.
— Вы знаете, кто я и где вы находитесь?
— Да.
— С вами такое уже бывало?
— Нет.
— Вам нужен психиатр, — сказал он. — Я не психиатр.
— Я уже сказал вам, что мне надо, — сказал я. — Позовите кого-нибудь, не психиатра. Позовите кого-нибудь, кто хочет предать меня суду.
Эпштейн и его мать, очень старая женщина, спорили, что со мной делать. Его мать сразу поняла причину моего болезненного состояния, поняла, что болен не я сам, а скорее весь мой мир болен.
— Ты не впервые видишь такие глаза, — сказала она своему сыну по-немецки, — и не впервые видишь человека, который не может двигаться, пока кто-то не скажет ему куда, который ждет, чтобы кто-то сказал ему, что делать дальше, который готов делать все, что ему скажут. Ты видел тысячи таких людей в Освенциме.
— Я не помню, — сказал Эпштейн натянуто.
— Хорошо, — сказала мать. — Тогда уж позволь мне помнить. Я могу вспомнить все. В любую минуту. И как одна из тех, кто помнит, я хочу сказать — надо сделать то, что он просит. Позови кого-нибудь.
— Кого я могу позвать? Я не сионист. Я антисионист. Да я даже не антисионист. Я просто никогда об этом не думаю. Я врач. Я не знаю никого, кто еще думает о возмездии. Я к ним испытываю только презрение. Уходите. Вы не туда пришли.
— Позови кого-нибудь, — повторила мать.
— Ты все еще хочешь возмездия? — спросил он ее.
— Да, — отвечала она.
Он подошел ко мне вплотную.
— И вы действительно хотите наказания?
— Я хочу, чтобы меня судили, — сказал я.
— Это все — игра, — сказал он в ярости от нас обоих. — Это ничего не доказывает.
— Позови кого-нибудь, — сказала мать.
Эпштейн поднял руки.
— Хорошо! Хорошо! Я позвоню Сэму. Я скажу ему, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда хотел быть великим сионистским героем.
Фамилии Сэма я так никогда и не узнал. Доктор Эпштейн позвонил ему из комнаты, а я и его старуха-мать оставались на кухне.
Его мать сидела за столом напротив меня и, положив руки на стол, изучала мое лицо с меланхолическим любопытством и удовлетворением.
— Они вывинтили все лампочки, — сказала она по-немецки.
— Что? — спросил я.
— Люди, которые ворвались в вашу квартиру, — они вывинтили все лампочки на лестнице.
— М… м…
— В Германии было то же.
— Простите?
— Они всегда это делали. Когда СС или гестапо приходили брать кого-нибудь, — сказала она.
— Я не понимаю, — сказал я.
— Даже когда в дом приходили люди, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, они всегда начинали с этого. Кто-то обязательно вывинтит лампочки. — Она покачала головой. — Казалось бы, странно, но они всегда это делают.
Доктор Эпштейн вернулся в кухню, отряхивая руки.
— Все в порядке, — сказал он. — Сейчас прибудут три героя: портной, часовщик и педиатр — все трое в восторге от роли израильских коммандос.
— Благодарю, — сказал я.
Эти трое пришли за мной минут через двадцать. У них не было оружия, и они не были официальными агентами Израиля или какой-нибудь другой страны, они были сами по себе. Их статус определяла моя виновность и мое страстное желание сдаться кому-нибудь, все равно кому.
Так случилось, что этот арест обернулся для меня возможностью провести остаток ночи в постели в квартире портного. Наутро, с моего согласия, они передали меня официальным израильским представителям.
Когда эти трое пришли за мной к доктору Эпштейну, они громко постучали во входную дверь.
Услышав этот стук, я в момент совершенно успокоился.
Я был счастлив.
— Ну как, все в порядке? — спросил Эпштейн, прежде чем впустить их.
— Да, спасибо, доктор.
— Вы еще хотите ехать?
— Да, — ответил я.
— Он должен ехать, — сказала его мать. И тут она наклонилась ко мне через кухонный стол и пропела по-немецки нечто, прозвучавшее как кусочек полузабытой песенки из счастливого детства.
То, что она пропела, была команда, которую она слышала по громкоговорителю в Освенциме, — слышала годами много раз в день.
— Leichenträger zu Wache, — пропела она.
Прекрасный язык, не правда ли?
Перевод?
Уборщики трупов — на вахту.
Вот что спела мне эта старая женщина.
Черепаха и заяц…
Итак, я здесь, в Израиле, по своей собственной воле, хоть моя камера заперта и находится под вооруженной охраной.
Мой рассказ окончен, и как раз вовремя — завтра начинается процесс. Заяц истории в очередной раз догнал черепаху литературы. Больше не будет времени писать. Приключения мои продолжаются.
Против меня будут свидетельствовать многие. За меня — никто.
Обвинение, как мне сказали, намерены начать с прослушивания записей наиболее страшных моих радиопередач, так что самым безжалостным свидетелем против меня буду я сам.
Бернард О’Хара приехал сюда за свой счет и надоедает обвинителю лихорадочной бессвязностью своих слов.
Так же ведет себя и Хейнц Шильдкнехт, некогда мой лучший друг и партнер по пинг-понгу, мотоцикл которого я украл. Мой адвокат говорит, что Хейнц полон злобы и, к моему удивлению, собирается дать существенные показания. Откуда взялась эта респектабельность у Хейнца, ведь он работал за соседним со мной столом в министерстве пропаганды и народного просвещения?
Потрясающе: Хейнц — еврей, член антифашистского подполья во время войны, израильский агент после войны и до настоящего времени.
И он может это доказать.
Браво, Хейнц!
Доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. X., Д. Б. и Иона Потапов, он же Джордж Крафт, не смогли прибыть на процесс, они оба отбывают сроки в Федеральной тюрьме Соединенных Штатов.
Однако они прислали письменные показания, данные под присягой.
Их показания не очень помогут, скорее наоборот. Доктор Джонс под присягой показал, что я святой и мученик за святое дело нацизма. Он также заявил, что у меня самые арийские зубы, какие он когда-либо видел, если не считать зубов на фотографиях Гитлера.
Крафт-Потапов показал под присягой, что русская разведка никогда не могла доказать, что я был американским агентом. Он выразил мнение, что я — ярый нацист, но не могу нести ответственности за свои поступки, ибо я политический кретин, человек искусства, не способный отличить действительность от вымысла.
Те трое, которые взяли меня в квартире доктора Эпштейна — портной, часовщик и педиатр, — тоже участвуют в процессе, и проку от них не больше, чем от О’Хара.
Говард У. Кемпбэлл-младший, вот твоя жизнь!
Мой израильский адвокат, мистер Алвин Добровитц перевел сюда всю мою почту, без всяких оснований надеясь найти в ней какие-нибудь доказательства моей невиновности.
Ни черта.
Сегодня пришли три письма.
Я распечатаю их сейчас и по порядку расскажу их содержание.
Говорят, надежда вечно живет в человеческой душе. Она вечно живет, во всяком случае, в душе Добровитца, и потому, наверное, он так дорого мне обходится.
Чтобы выйти на свободу, мне необходимо хоть какое-нибудь доказательство существования Фрэнка Виртанена и того, что он сделал меня американским шпионом, считает Добровитц.
Ну, а теперь о сегодняшних письмах.
Первое начинается достаточно тепло: «Дорогой друг», — называют меня, несмотря на все приписываемые мне дьявольские деяния. Авторы письма предполагают, что я учитель. Мне кажется, я уже упоминал в одной из предыдущих глав, как мое имя попало в список предполагаемых работников на ниве просвещения, как я стал получателем корреспонденции, предназначенной для тех, кто занимается обучением молодежи. Это письмо было от фирмы «Творческие игры».
Дорогой друг (обращается фирма ко мне, сидящему в иерусалимской тюрьме), не хотите ли вы создать творческую атмосферу вашим ученикам у них дома? Очень важно, что происходит с ними вне школы. Ребенок находится под вашим наблюдением в среднем 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит 45 часов. Влияние родителей может усложнить или облегчить ваши усилия.
Мы полагаем, что игрушки, созданные компанией «Творческие игры», будут прекрасно стимулировать дома ту творческую атмосферу, которую вы как наставник пытаетесь пробудить в ваших маленьких воспитанниках.
Как «Творческие игры» могут это сделать?
Наши игрушки должны обеспечивать физические потребности растущих детей.
Эти игрушки помогают ребенку открывать и разыгрывать разные жизненные ситуации дома и в обществе. Эти игры способствуют выражению индивидуальности, что затруднено при групповом воспитании в школе.
Эти игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности…
На что я ответил:
«Дорогие друзья! Как человек, имеющий большой опыт в индивидуальной и общественной жизни, и используя опыт реальных людей в реальных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие-либо игры могут подготовить ребенка даже на одну миллионную к тем зуботычинам, которые ждут его в жизни. Я убежден, что ребенок должен начинать знакомиться с реальными людьми и с реальным обществом по возможности с момента рождения. И только в случае, если по каким-то причинам это невозможно, стоит использовать игрушки.
Но не такие спокойные, приятные, приглаженные, простые в обращении, как в вашей брошюре, друзья. В этих игрушках не должно быть ничего гармоничного, чтобы дети не выросли в ожидании спокойствия и порядка и не были потом съедены заживо.
Что касается подавления детской агрессивности, то я против этого. Им понадобится вся их агрессивность, которую они могут накопить, чтобы полностью высвободить ее во взрослом состоянии. Назовите хоть одного великого человека в истории, который бы не бурлил и не кипел в детстве, как котел с закрытым предохранительным клапаном.
Позвольте мне сказать, что дети, вверенные моему попечению в среднем 25 часов в неделю, вовсе не расслабляются за те 45 часов, которые они проводят с родителями. Они не играют в Ноев Ковчег с вырезанными из дерева животными, уж поверьте мне. Они все время шпионят за реальными взрослыми, пытаясь понять, за что они борются, чего они алчут и как они удовлетворяют свою алчность, почему и как они лгут, что сводит их с ума, каковы их безумства и так далее.
Не могу предсказать, в какой именно области эти мои воспитанники преуспеют, но гарантирую им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе.
Ваш сторонник реалистической педагогики,
Говард У. Кемпбэлл-младший».
Второе письмо?
Оно тоже обращается к Говарду У. Кемпбэллу-младшему как к «Дорогому другу», доказывая, что по крайней мере двое из трех авторов сегодняшних писем не имеют никаких претензий к Говарду У. Кемпбэллу-младшему. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно взывает к моим капиталистическим чувствам.
Мне предлагается купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я сделаю это, я должен более подробно познакомиться с этой компанией. В частности, я должен знать, что она имеет способных управляющих с хорошей репутацией.
Я ведь не вчера родился.
Третье письмо?
Оно адресовано прямо мне сюда, в тюрьму.
И это действительно любопытное письмо. Позвольте мне привести его целиком.
Дорогой Говард!
Порядок всей человеческой жизни рушится сейчас, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иешуа и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я знать. Музыка, которая произвела такие разрушения в таких старых стенах, негромкая. Она расплывчатая, тихая, необычная.
Это могла бы быть музыка моей совести. В этом я сомневаюсь.
Я не сделал вам ничего плохого.
Я думаю, что эта музыка, скорее всего, — непреодолимое желание бывшего солдата совершить небольшую измену. И измена — это письмо.
В этот момент я нарушаю прямые и точные приказы, которые были мне даны, даны в интересах Соединенных Штатов Америки.
Я заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена, и сообщаю вам свое настоящее имя.
Мое имя Гарольд Дж. Спэрроу.
Я ушел в отставку из армии Соединенных Штатов в чине полковника. Мой личный номер 0—61134.
Я существую. Меня можно увидеть, услышать, потрогать почти каждый день внутри или возле единственного дома в Коггинс Понд, в шести милях к западу от Хинкливилла, штат Мэн.
Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как американского агента и что вы, ценой невероятных жертв, стали одним из наиболее полезных агентов второй мировой войны.
И если над Говардом У. Кемпбэллом-младшим состоится суд, затеваемый фарисействующими националистами, пусть это письмо будет решающим свидетелем.
Искренне ваш,
«Фрэнк».
Итак, я скоро снова буду свободным человеком и смогу отправляться куда захочу.
Эта перспектива вызывает у меня тошноту.
Я думаю, что сегодня ночью я должен повесить Говарда У. Кемпбэлла-младшего за преступления против самого себя.
Я знаю, что сегодня та самая ночь.
Говорят, что человек, которого вешают, слышит великолепную музыку. К сожалению, у меня, как и у моего отца, в отличие от моей музыкальной матери, совершенно нет слуха. Все-таки я надеюсь, что мелодия, которую я услышу, не будет «Белым Рождеством» Бинга Кросби.
Прощай, жестокий мир!
Auf Wiedersehen?
Бойня номер пять, или Крестовый поход детей
Автор Курт Воннегут,
американец немецкого происхождения (четвертое поколение), который сейчас живет в прекрасных условиях на мысе Код (и слишком много курит), очень давно он был американским пехотинцем (нестроевой службы) и, попав в плен, стал свидетелем бомбардировки немецкого города Дрездена («Флоренции на Эльбе») и может об этом рассказать, потому что выжил. Этот роман отчасти написан в слегка телеграфически-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор, откуда появляются летающие блюдца. Мир.
Посвящается Мэри О’Хэйр и Герхарду Мюллеру
Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.
Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.
Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхеймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.
Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О’Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.
Он послал О’Хэйру открытку к рождеству, и в ней было написано так — «Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».
Мне очень нравится фраза «если захочет случай».
Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказывать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.
Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.
И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:
Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»
И вспоминаю я еще одну песенку:
Зовусь я Ион Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Ион Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин…
И так далее, до бесконечности.
Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене.
Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:
— Книга антивоенная?
— Да, — сказал я, — похоже на то.
— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?
— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?
— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?
Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.
И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.
Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О’Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.
Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.
Так я отыскал и О’Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.
— Слушай, — сказал я. — Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.
Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.
— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, — сказал я. — Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форме и расстреливают.
— Гм-мм, — сказал О’Хэйр.
— Ты согласен, что это должно стать развязкой?
— Ничего я в этом не понимаю, — сказал он, — это твоя специальность, а не моя.
Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.
Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.
Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.
А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О’Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О’Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.
Дурак-англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стукал меня мешком по ногам.
Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.
— Видал красоту? — сказал он.
И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.
И мы завели ребят.
А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Ион Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.
Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.
— Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.
— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.
— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.
И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.
— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.
Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.
Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:
— Кто его знает…
Иногда я раздумываю о своем образовании. После второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.
И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мои отец мне сказал:
— Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.
Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.
Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествии в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты, и АП, и ЮП[36], и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.
Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.
И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.
Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал быстро спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.
Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:
— А жена его что сказала?
— Она еще ничего не знает, — сказал я. — Это только что случилось.
— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.
— Что-о-о?
— Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.
Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще…
Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.
Я ей рассказал.
— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».
— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видел кой-чего и похуже.
Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке не многие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.
Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.
Я мог только повторять одно и то же:
— Знаю. Знаю. Знаю.
Конечно, вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.
Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.
Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему.
Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.
Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:
— Господи ты боже мой, совершенно секретны — да от кого же?
Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае, я, особенно по ночам.
Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О’Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Ион Йонсен… Какой-то ученый доцент…
Я взял с собой двух девчурок: мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.
Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда — пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.
— Пора ехать, девочки, — говорил я. И мы уезжали. И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О’Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.
Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О’Хэйр — медицинская сестра; чудесное занятие для женщины.
Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.
— Славный у вас дом, уютный, — сказал я, и это была правда.
— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает, — сказала она.
— Отлично, — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.
Мы сели за стол. О’Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сказал.
Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.
Я спросил О’Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.
— Ничего, ничего, — сказал он. — Не беспокойся. — Ты тут ни при чем.
Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.
Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О’Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.
Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.
Потом повернулась ко мне, — чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.
— Да вы же были тогда совсем детьми! — сказала она.
— Что? — переспросил я.
— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.
Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне девами неразумными, едва расставшимися с детством.
— Но вы же так не напишите, верно? — сказала она. Это был не вопрос — это было обвинение.
— Я… я сам не знаю, — сказал я.
— Зато я знаю — сказала она. — Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.
И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась.
Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.
И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.
— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».
После этого она стала моим другом.
Мы с О’Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О’Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.
Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О’Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:
Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.
А дальше О’Хэйр прочел вот что:
Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка драчливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто.
Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.
Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на все.
Папа Иннокентий Третий тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.
Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.
По какому-то недоразумению часть детей сочла местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.
— Да здравствуют добрые жители Генуи, — сказала Мэри О’Хэйр.
В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О’Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:
Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают в Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.
Я еще немножко почитал историю города:
В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов, особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой, день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца — средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он.
Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гете, юным студентом, посетил город, он еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служка стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: „Дело рук врага“».
На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную: выставку в Нью-Йорк, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее — с точки зрения компании «Дженерал моторс»…
А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?
В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене. А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:
— Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден…
Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:
— Сэм, вот она, эта книга.
Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать, и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.
А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне — «пьюти-фьют».
Я сказал своим сыновьям, чтобы, они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.
И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.
Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О’Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидал настоящую обстановку для тех выдуманных истории, которые я когда-нибудь напишу: Одна будет называться «Русское барокко», другая «Целоваться воспрещается» и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» — и так далее.
Да, и так далее.
Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О’Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и — в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажиром в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку.
Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала — и проходил год, и потом она прыгала снова.
Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.
У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Ретке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:
Проснусь — и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.
Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.
Истина — в смерти, — писал он. — Я старательно боролся со смертью, пока мог… я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе… украшал лентами… щекотал ее…
Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг:
«Остановите их… не давайте им двигаться… Скорей, заморозьте их… навеки… Пусть так и стоят…»
Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.
Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.
Такие дела.
В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.
И она превратилась в соляной столб. Такие дела.
Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.
А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб.
Начинается она так:
«Послушайте:
Билли Пилигрим отключился от времени».
А кончается так:
«Пьюти-фьют?»
Послушайте:
Билли Пилигрим отключился от времени.
Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1964 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.
Так говорил Билли.
Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен, над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.
Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом — высоким и слабым, — похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.
Билли воевал в пехоте в Европе — и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.
Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Плэсида, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.
Оправы — самое денежное дело.
Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.
В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.
Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окисью углерода. Такие дела.
После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.
И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек…
Какие-то бессонные граждане в Илиуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.
Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.
В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие, стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.
Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:
«Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, — это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.
Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: „Такие дела“».
И так далее.
Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка… Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.
Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.
Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. Наконец она отперла дверь своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.
Билли не откликался, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.
— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.
— А я тебя не слышал, — сказал Билли.
Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым, хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы, И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.
Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что земляне не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья тральфамадорцы.
— Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.
Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.
— Ах, отец, отец, отец, — сказала Барбара, — ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?
Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Сосновом бору, на окраине Илиума.
— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.
— Но это сплошной бред! Там все неправда.
— Нет, все правда. — Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.
— Нет такой планеты — Тральфамадор!
— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. — А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.
— Откуда ты взял такое дурацкие название — Тральфамадор?
— Так ее называют существа, живущие там.
— О господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью. — Разреши задать тебе простой вопрос.
— Конечно, пожалуйста.
— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?
— Считал, что время еще не приспело.
Ну и так далее. Билли говорил, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.
Билли заблудился во времени, когда еще шла вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.
Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали — Vox humana и Vox celesta[37]. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест и Библия.
И алтарь и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.
Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш господь» — музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.
Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.
Вспоминая этот случай много позднее. Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.
К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.
Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.
Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.
Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не такие обалделые, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.
Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож.
Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, — шесть футов три дюйма, грудь и плечи как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах, у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.
На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Но он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.
Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго.
Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй — стрелку, которого звали Роланд Вири.
А третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность.
У него были путаные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок.
Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.
Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли; «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.
«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца.
Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.
А целью был танк «тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела.
Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.
Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и изобьет до полусмерти.
И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.
Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами… Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.
Вот такие дела.
Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».
Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.
Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Например, сверлить кому-нибудь ухо зубоврачебной бормашиной. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтобы смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».
Такие дела.
Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вири просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.
Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:
— Хочешь — ударю, хочешь? М-ммм? Мммм-мммм?
— Нет, не хочу, — сказал Билли.
— А знаешь, почему лезвие трехгранное?
— Нет, не знаю.
— От него рана не закрывается.
— А-аа.
— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?
— Понял.
— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах ваших!
— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.
— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.
Билли пожал плечами.
— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.
На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение — сказать, что и ему кое-что известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа — рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.
Такие дела.
Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквах города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, какая из них самая правильная.
Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад во время великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров.
И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.
Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.
Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев: шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.
— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый как шар.
На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра — «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как-то: «Где находится ваш штаб?» или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.
Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.
Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колони стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж.М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра. может быть проявлено при воздействии ртутных паров.
В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.
Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а пони — один из богов.
Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.
Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал как печка под всеми своими шерстями и одежками.
В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.
Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны — хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.
У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку, Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».
Но тут к ним попросился этот несчастный студентишка, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже пилотки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентишке несчастному.
А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам:
— Подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом.
Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к Бронзовой звезде.
«Могу я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер.
«Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал „трех мушкетеров“?»
Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.
Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.
А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ[38]. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.
Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом «плыви или тони». Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!
Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.
Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что ей не выжить. Но она прожила еще много лет.
Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.
— Как… — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.
Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.
— Что «как», мама? — подсказал он ей.
Она глотнула воздух, слезы покатились по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:
— Как это я так состарилась?
Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе самолета, — перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени.
Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась, «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, 36896415, — единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость.
Такие дела.
Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:
Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.
Такие дела.
Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь команды Молодежной лиги, в которой играл его сын Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.
— Клянусь богом, говорил он, — я считал бы честью подавать воду этим ребятам
Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.
Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.
Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.
— А что вы мне хотели сказать — спросила она.
— Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дамы он вспомнить не мог.
— Почему вас называют Билли, а не Вильям?
— Деловые соображения, сказал Билли.
И это была правда. Тесть Билли, владелец Илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.
Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль.
Теперь было важнее всего найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так, что руль от него никак не мог спрятаться — он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на шесть дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.
Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.
Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся, Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул, назад и толкнул туда, куда надо было идти.
Билли остановился, потряс головой.
— Идите сами! — сказал он.
— Что?
— Идите, без меня, ребята. Я в порядке.
— Ты что?
— Все в порядке…
— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему все представлялось что-то вроде жабы в аквариуме.
С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь.
Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея.
— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».
Разведчики впервые услыхали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».
Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое, хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам, деревьев.
Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга и страшно испугал Билли.
Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками.
— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?
У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег.
Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а сшитым мозгом.
Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать, кому сдаться. Ждать их разведчики не желали.
И они бросили Вири и Билли в русле речки.
Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немыслима, но он кружился, тормозил на пятачке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо, галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.
Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Илиуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены Клуба львов. Он только что был избран председателем, этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его высокий срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все раскраснелись, заулыбались.
Билли открыл рот — и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.
А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.
Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и трехгранное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю у берега.
Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно мычал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные, какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.
Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.
— Тебя к армии и подпускать нельзя! — сказал Вири. У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.
— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задрались на спине у Билли почти до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.
Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.
Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины и почему жертва смеется?
Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».
Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее Принцесса.
Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта.
Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.
Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».
Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но, лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидал Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.
Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, пятнадцатилетнего мальчугана.
Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.
Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.
Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тыла. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».
Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири небось хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.
— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?
Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири, Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуха Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.
Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.
В кармане брюк у Вири, капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.
— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-ммм? Тебе бы на его место, а? — Он передал картинку другому старику: — Военный трофей! Твой будет, твой, счастливчик ты этакий!
Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось милю за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.
— Извини, — говорил тогда Билли или же: — Прошу прощения.
Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двадцать американцев; они сидели на полу, прислонись к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.
Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.
Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.
Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.
— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.
— М-ммм? — сказал он.
— Вы вдруг замолчали.
— Простите.
— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.
— М-мм.
— Вы увидали что-нибудь страшное?
— Страшное?
— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?
— Нет, нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. — Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения.
И он велел ей пройти в другой кабинет, в конце коридора: там был большой выбор оправ.
Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там, на дворе. Окно закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага.
Прямо под окном стоял собственный «кадиллак» Билли «Эльдорадо Купэ дэ Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озейбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бэрча. На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли, было сорок, четыре года и он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»
Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут да передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на пятьдесят! — читал Билли. — С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике».
Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.
Вдруг взвизгнула сирена, напутав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.
Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить, — пора было двигаться дальше.
Американцы, и вместе с ними Билли, шли шутовским парадом по дороге.
Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с «лейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.
Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.
Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Моны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «кадиллак» в 1967 году.
Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напоминал Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и бронетранспортеры национальной гвардии.
«Брат по крови», — гласила надпись, сделанная красноватой, краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.
Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.
Билли, проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административныи центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих жилых домов.
Билли Пилигрим не возражал.
Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама — пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.
Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.
На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала.
Звучала молитва так:
ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ
ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ,
ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ
ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ
ИЗМЕНИТЬ,
МУЖЕСТВО —
ИЗМЕНЯТЬ ТО, ЧТО МОГУ,
И МУДРОСТЬ —
ВСЕГДА ОТЛИЧАТЬ
ОДНО ОТ ДРУГОГО.
К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.
А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший его, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во Вьетнаме.
Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.
— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!
Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.
В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат как Крез, хотя раньше считал, что богатства ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших «холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.
Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбирать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали: желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.
Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.
Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась «электровибратор» — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.
Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил штору, задернул занавески и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.
Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал, он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам.
Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.
Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.
Билли еще раз выглянул на улицу, увидал новый шикарный «бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный, он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.
С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.
Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.
— Прошу прощения, — сказал он.
У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровяной пудинг.
На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе в долине. По долине, как Миссисипи, потекли рекой униженные американцы. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали.
Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих, германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля.
Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях.
Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевок шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.
Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просинью. Такие дела.
Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха.
Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:
— Не толкайся! Не толкайся!
Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.
На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась.
Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.
Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию.
Лучи прожекторов метались как безумные.
Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двухстороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.
Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:
— Из моих ребят?
Этот человек потерял свой полк — около четырех тысяч пятисот человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.
— Из какой части? — опросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага.
Билли не мог вспомнить номер своей части.
— Из пятьдесят четвертого?
— Пятьдесят четвертого чего? — спросил Билли.
Наступило молчание.
— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.
— А-аа, — сказал Билли.
Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:
— Это я, ребята! Бешеный Боб!
Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».
Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.
Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.
И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.
— Храни вас бог, ребятки! — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал: — Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба.
Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О’Хэйр тоже.
Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.
По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше, на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав, ярдах в десяти от них.
Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.
Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет сорока.
— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. — И бывал кой-где похуже. Не так уж тут плохо.
Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.
— Йа-йа, — сказал один, задумчиво кивая головой. — Йа, йа-аа…
Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.
На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.
Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: веди, мол, себя хорошо.
Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и один мертвый.
Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.
Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.
Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря. А в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.
Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.
— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.
Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке: «Здрасьте!»
Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.
Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушины, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.
Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю — она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.
А потом поезд двинулся на восток.
Где-то на земле было рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце с Тральфамадора.
В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.
Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двухспальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из компаньонов Билли, совладельцев гостиницы «Отдых».
Светила полная луна.
Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.
Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдце. Коридор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие. Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.
Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены в кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса», Он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.
Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутыль лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ.
Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все, что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка.
Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела.
Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюдца. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.
Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися о землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.
Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом пламя съеживалось, собиралось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.
Когда бомбы возвращались на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили.
Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. «А Гитлер, наверно, стал младенцем», — подумал Билли. Но этого в фильме не было. Билли экстраполировал события назад. «Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, должно быть Адама и Еву», — думал Билли.
Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдце. И он вышел, топча иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зеленую лужайку. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, — скоро, очень скоро.
Над головой послышался звук — словно певуче ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдце с Тральфамадора, летело и во времени, и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.
Блюдце было сто футов в диаметре, с иллюминаторами по борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуи, — это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.
Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк, механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.
Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.
— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы?
Билли облизнул губы, подумал и наконец спросил:
— Почему именно я?
— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы. А почему мы? Почему вообще все? Просто потому, что этот миг таков. Видели вы когда-нибудь насекомое, застьшшее в янтаре?
— Да.
Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками.
— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига, никаких «почему» тут нет.
В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит крадеными вещами для меблировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.
От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну.
Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюдце. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии.
В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи — та же темнота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.
Поезд часто останавливался, пропускал действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по нескольку вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.
И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что, прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.
— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?
Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза.
— А, черт тебя дери, — сказал человек. — Ты это или не ты? — Он сел и грубо нашарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!
Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.
— Убирайся! Я спать хочу!
— Заткнись, — сказал кто-то.
— Заткнусь, когда Пилигрим уберется.
И Билли опять встал, вцепился в поперечину.
— А где же мне спать? — спросил он тихо.
— Только не рядом со мной.
— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. — Ты со сна орешь и брыкаешься.
— Правда?
— Правда, черт подери. И стонешь.
— Правда?
— Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?
И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.
И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее.
На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:
— Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.
— Правда? — спросил Билли.
На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами были:
— Да разве это плохо? Бывает куда хуже.
Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.
Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.
— Кто меня убил? — спрашивал Вири.
И все знали ответ. А ответ был «Билли Пилигрим».
Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери отворились. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой кости с просинью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное пo силе и противоположное по направлению.
Этот закон применяется в ракетостроении.
Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.
Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, но общую характеристику такого груза они конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собою вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.
Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.
Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.
Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.
Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.
У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.
Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели, смерзлись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащии воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.
Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съежилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или скисшего клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок.
Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.
Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков.
Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга.
Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.
Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно, хорошая весть — всегда радость.
Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.
Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Трафальмадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.
Немец указательным и большим пальцами стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.
Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, школьному учителю из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте, на тихоокеанском театре войны.
Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле.
Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.
Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицеро, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом.
Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.
Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер продолжение рода человеческого никак не стояло на повестке дня.
Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из душей брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.
Он щекотал и колол кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.
В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, и бактерии, и блохи дохли миллионами. Такие дела.
А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику.
Билли пускал пузыри и агукал.
А потом. Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.
Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.
Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летящего блюдца, которое направлялось на Тральфамадор.
— Где я? — спросил Билли.
— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где мы и должны сейчас быть, — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.
— Но как — как я попал сюда?
— Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняют, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть все время… Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.
— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.
— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной, и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».
Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.
По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сюзанн.
Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил: пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку.
— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал динамик на стенке.
— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.
Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.
Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.
— Точно, — сказал голос.
— Значит, это действительно телеграммы?
— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.
В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт-Эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной.
— М-да-аа, — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. — Вот оно как…
Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.
— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли. — И еще как стоило, боже мой!
Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.
Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз.
— Да, сэр, — ответил лесник, — человека три в год.
Такие дела.
Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.
Лесник объяснил, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.
И свет потух, Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.
Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.
Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А это новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.
Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще за всю вторую мировую войну немцы не видали такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.
Немцы велели всем построиться по пять в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитым. Такие дела.
Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику: охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног.
Американец удивился. Он встал шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет.
— За что меня? — спросил он охранника.
Охранник втолкнул его в строй.
— Са што тепя? — спросил он по-английски. — Са што тепя? А са што всех труких?
После того как имя Билли записали в толстый гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.
Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой.
Когда беднягу Эдгара Дарби, школьного учителя, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела.
Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.
Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.
За Лаззаро шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби, и американские немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень где-то у чехословацкой границы.
— Стой! — скомандовал охранник.
Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.
Один из охранников постучал в двери.
Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»: «Ура! Ура! Явились все друзья!»
Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года с лишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали.
Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незыблемый островок в мире умирающих русских.
Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере был барак на шесть коек в самом английском блоке.
Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.
Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.
Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахару, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколаду, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.
Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.
Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.
Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.
И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.
Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы ребята», обещали, что «Джерри скоро будет драпать».
Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой «Джерри».
Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.
На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.
На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.
Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов, фашистского государства.
Такие дела.
Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.
А в дальнем конце барака Билли увидел розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.
Билли Пилиграмм вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.
А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.
Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит.
— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.
И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:
— Вы можете говорить? Вы меня слышите?
Билли кивнул.
Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:
— Бог мои, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сломанная игрушка!
— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.
— Да, — сказал Билли.
— А ваше звание?
— Рядовой.
— Где же ваши сапоги, приятель?
— Не помню.
— А пальто для смеху, что ли?
— Сэр?
— Где вы его выкопали?
Билли сначала подумал, потом сказал:
— Выдали мне.
— Джерри вам его выдал?
— Кто?
— Ну немцы. Выдали вам эту штуку?
— Да.
Билли надоели расспросы. Он от них устал.
— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление!
— Сэр?
— Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.
Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.
Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.
Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:
Бьют часы, ядрена мать,
Надо с бала мне бежать!
Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.
Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.
Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай.
От морфия Билли видел сон: жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обиженно истекая соком.
Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топленых сливок и лимонада. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные.
Почему?
Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсида, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.
Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят, уйти совсем домой, да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.
Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся.
Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что отец, когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.
Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.
Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых, истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.
Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.
Розуотер был вдвое умней Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.
И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.
Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.
— Но теперь и этого мало, — сказал Розуотер.
В другой раз Билли услыхал, как Розуотер говорил психиатру:
— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму-тьмущую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.
На столике у Билли был целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.
Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.
И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее пахло плохо, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая темноволосая белая женщина с высшим образованием.
Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе.
Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказывали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина.
И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В порядке опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В порядке опыта он всех называл «дорогими».
— Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?
— Что же он скажет, дорогая?
— Он скажет: «Здравствуй, мамочка» — и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»
— Да, могло бы так быть и сегодня.
— Каждый вечер молюсь за него.
— Как это прекрасно!
— Люди, наверно, удивились бы, если им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.
— Ваша правда, дорогая, ваша правда.
— А ваша матушка часто вас навещает?
— Моя мать умерла, — сказал Розуотер.
Такие дела.
— О, простите!
— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.
— Да, это, конечно, утешение.
— Да.
— Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли.
Такие дела.
— Мальчику отец необходим.
И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался как ласковое эхо.
— Он был первым учеником, когда это с ним случилось, — сказала мать Билли.
— Может быть, он переутомился, — сказал Розуотер.
В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.
Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.
— Он обручен с очень-очень богатой девушкой, — сказала мать Билли.
— Это хорошо, — сказал Розуотер. — Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.
— Конечно, могут.
— Да, вот именно, могут.
— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, прямо до судороги.
— Да, всегда хочется жить посвободней.
— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли, еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж.
— Очень красивое озеро.
Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свете «Алый знак доблести».
Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон.
Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.
— Ну, как наш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.
— Лежит как мертвый.
— Но на самом деле он не умер?
— Нет.
— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.
Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».
— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.
Но Дарби остался стоять.
— Вы с виду старше остальных, — заметил офицер.
Дарби сказал, что ему сорок пять лет, оказалось, что он на два года старше полковника. Полковник сказал, что все американцы уже побрились и только у Билли и у Дарби остались бороды. И он еще сказал:
— Знаете, нам тут приходилось воображать — какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются немолодые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидал эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я. — Да это же крестовый поход детей!»
Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки.
Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на Земле. Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.
И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.
Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока всех не убьют.
И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.
Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежиему был с головой укрыт одеялом.
— Моя мать ушла? — спросил Билли.
— Да.
Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца Илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей.
Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни.
Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:
— Нет, спасибо.
Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:
— Спасибо. Гораздо лучше.
Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:
— Увидишь их, передай им привет.
Она обещала передать им привет.
Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:
— Нет, у меня есть все, что мне нужно.
— А книжки? — сказала Валенсия.
— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Элиота Розуотера.
Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.
Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати очень похожего на тральфамадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.
Но на самом деле Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни? Такие дела.
Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали, так что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали… тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:
— «О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо».
А эта мысль рождала следующую: значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни.
Пришелец из космоса подарил землянам новое Еванелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних евангелиях.
Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду без племени.
И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния. Глас божий раскатился над землей. И бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом сына творца Вселенной. И Господь изрек: отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!
Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».
— К черту книжки, — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.
— А книжка, кажется, интересная, — сказала Валенсия.
— О черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать! — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килогра Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.
— По-моему, он никогда и не выезжал из Америки, — добавил Розуотер. — Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.
— А где он живет? — спросила Валенсия.
— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.
И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.
— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.
— И в войне есть свои приятности, — сказал Розуотер. — Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.
Кстати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.
— Билли… — сказала Валенсия Мербл.
— М-мм?
— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?
— Пожалуйста.
— Я остановилась на двух образцах: либо «Датский король», либо «Шток-роза».
— «Шток-роза», — сказал Билли.
— Собственно говоря, спешить не стоит, — сказала она. — Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить.
Билли еще раз посмотрел картинки.
— Ну, «Датский король», — сказал он наконец.
— «Лунный свет» тоже очень мило.
— Мило, — согласился Билли.
И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.
О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446120000000000000 миль.
Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.
Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прилеплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.
Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.
Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверце холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девяностых годов, на двойном велосипеде.
Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего.
Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии: прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.
После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне, на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он передавал Билли вопросы из публики.
Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:
— Вам тут хорошо?
— Не хуже, чем на Земле, — сказал Билли Пилигрим, и это была правда.
Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.
Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Западе. Они сказали, что команды их летающих блюдец обнаружили не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.
Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождаться не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.
Для Билли все это было сплошным бредом.
Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.
Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.
И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена шестифутовая трубка.
И это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.
А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала; ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».
Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне, с их жестокостью и мощным вооружением, не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.
Но никаких разговором о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:
— Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечкой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?
Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста: видно, он опять наговорил глупостей.
— Вы… Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?
— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод, — и Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет.
— А как — а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.
— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюдец. Летчик-истребитель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.
— Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?
— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента.
— Но тогда… — Билли замялся, — значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?
— Конечно.
— Но у вас-то на планете мир?
— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?
— Да.
— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимание на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах.
— Гм, — сказал Билли.
Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил Илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи учащихся своего выпуска.
И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Анн, в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых «зеленых беретов».
Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой Первой, а Билли как будто был Христофором Колумбом.
Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.
Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.
Как сказала его мать: «Пилигримы пошли в гору».
Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтичной — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.
Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.
— Спасибо, — сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.
— На здоровье.
— Мне так хорошо.
— Очень рад.
И тут она заплакала.
— Что с тобой?
— Я так счастлива.
— Прекрасно.
— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.
— Гм-ммм, — сказал Билли Пилигрим.
— Буду ради тебя худеть, — сказала она.
— Что?
— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой — для тебя.
— А ты мне и так нравишься.
— Правда?
— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.
Громадная моторная яхта под названием «Шехерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели.
Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайаннисе, штат Массачусетс.
Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфоддом, официальным историком военно-воздушных сил США.
Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.
— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.
— Иногда, — сказал Билли Пилигрим.
— А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн.
— Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамадоре и так далее.
— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.
— Нет.
— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?
— Прекрасно.
— Плохо там было?
— Всякое бывало. — У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хорошая была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.
— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».
— Будет похоже на сон, — сказал Билли. — А чужие сны обычно слушать не очень интересно.
— Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.
— Угу.
— И тебе пришлось его хоронить?
— Да.
— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?
— Да.
— А он что-нибудь сказал?
— Нет.
— Он боялся?
— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.
— А они прилепили к нему мишень?
— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.
Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.
Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли пытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.
Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.
А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски:
— Счастливо!
Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?
Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе?
Сам того не зная. Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.
Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал.
Вот что было написано на объявлении:
ПРОСЬБА
СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ
И НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА
Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.
Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал:
— Ох, и они выходят, и они.
«Они» были его мозги.
Это был я. Лично я. Автор этой книги.
Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.
— Застегнитесь как следует, — сказал один из них, когда Билли проходил мимо.
И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.
— Мне без тебя скучно, — сказала Валенсия.
— А мне без тебя, — сказал Билли.
Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы.
Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.
Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.
— Что, выспался? — спросил проводник.
— Да, — сказал Билли.
— Ну, братец, — сказал проводник, — видно было, что тебе снилось…
В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста.
Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицеро, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и едва не вышиб из него дух.
Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.
— Весу в нем, как в цыпленке, — сказал он.
Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.
Голубая Фея был ужасно смущен, хотя и очень зол.
— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче, — сказал он.
— Угу.
Голубая Фея не стал скрывать свое отвращение к американцам.
— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну просто сопливое, грязное, гнусное ворье, — сказал он. — Куда хуже этих русских, черт подери.
— Да, погань порядочная, — согласился полковник.
Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.
Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.
Такие дела.
Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так:
Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «бедность не позор, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы.
Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шепектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.
Американцы, как и все люди во всех странах, — говорилось дальше в монографии, — верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, — это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они своим беднякам могли оказывать, как частным, так и государственным путем, меньше помощи, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона.
Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным.
Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во второй мировой войне:
Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы, они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в продезинфицированном, но неглаженом виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб.
И когда одетый с иголочки офицер обращается к выряженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.
Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть.
Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы не назначили старшим, отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается.
Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.
— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Был опять 1968 год.
— Конечно. — Но он дремал.
— Если ты будешь вести себя как ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким.
— Нет, дальше все будет по-другому.
— Посмотрим, что будет дальше. — Толстая Барбара обхватила себя руками. — Тут страшный холод. Тепло идет?
— Тепло?
— Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.
— Все возможно.
— Разве тебе не холодно?
— Как-то не заметил.
— О боже, ты и вправду ребенок. Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду.
И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.
Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он полежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.
Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили с Земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.
Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.
На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.
Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.
— Где я? — спросила она.
— Все в порядке, — ласково сказал Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь.
Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.
Тут она повернула голову и увидала мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки.
И Монтана завизжала. Она визжала не умолкая.
Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.
Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки.
Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет.
Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было упоительно.
И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.
Кто-то постучал в дверь его спальни.
— Да? — сказал Билли.
— Я истопник.
— Да?
— Работает отлично. Тепло пошло хорошо.
— Прекрасно.
— Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.
— Да ну? Вот чертовщина!
Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.
Утром, после соблазнительного сна, Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.
Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.
Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты и мальчик тогда его увидит.
— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.
А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:
— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?
Послушайте.
Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лаззаро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой. Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете. Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры.
Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир.
Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и, чего доброго, выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио, с меховым воротником. Оно висело на гвоздике.
Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации.
Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину. Другой по форме напоминал крошечную подковку. Через радиацию, исходившую от этих комков. Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад.
Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе, — сильные люди копали ямы для столбов в твердой как камень земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром — тем бараком, где устраивали праздничную встречу.
Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы.
Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной, Голубой Феи, тот, кто избил маленького Поля Лаззаро. Он остановился у койки Лаззаро и спросил, как он себя чувствует.
Лаззаро сказал, что после войны он его убьет.
— Да ну?
— Большую ошибку допустили, — сказал Лаззаро. — Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью.
Голубая Фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лаззаро.
— Но я еще успею тебя убить, — сказал он, — если ты мне докажешь, что так будет правильнее.
— Иди ты знаешь куда!
— Напрасно думаешь, что я и там не побывал! — сказал Голубая Фея.
Голубая Фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лаззаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка.
— Слаще ничего на свете нет, — сказал Лаззаро. — Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать! Пожалеют, мать их, а я только захохочу во всю глотку! Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом.
— С каким псом? — спросил Билли.
— Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс — в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня — укусить хочет. А я ему говорю:
«Брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться! Я на тебя не сержусь!» Он и поверил.
— Поверил?
— Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. — Глазки Лаззаро заморгали. — У него сразу кровь из пасти пошла. Как взвоет, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю: «Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя в нутре сижу, с ножичками, понял?»
Такие дела.
— Спросят вас, что самое приятное на свете, — сказал Лаззаро, — вы так и говорите: месть.
Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лаззаро совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лаззаро не тронет человека, ежели тот его не обидел».
Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лаззаро, не собирается ли он и англичанину, Голубой Фее, скормить бифштекс с пружинами?
— Дерьма, — сказал Лаззаро.
— А он роста немалого, — сказал Дарби, который и сам был немалого роста.
— Рост тут ни при чем, — сказал Лаззаро.
— Пристрелишь его, что ли?
— Его за меня пристрелят, — сказал Лаззаро. — Вернется он домой с войны. Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день — стучат! Открывает он дверь — а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» — «Да, скажет, я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лаззаро». И вытащит револьвер, и прямо ему в пах выстрелит. И даст ему минутку подумать: кто такой Лаззаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот.
Такие дела.
Лаззаро сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен.
Дарби спросил его, кто же там, в этом списке, и Лаззаро сказал:
— Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все. — И, помолчав, Лаззаро добавил: — И дружков моих не трогай.
— А у тебя есть дружки? — поинтересовался Дарби.
— Тут, на войне? — сказал Лаззаро. — Да, был у меня и на войне друг. Был, да помер.
Такие дела.
— Это плохо.
Лаззаро сверкнул глазами:
— Да. Он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири. — Тут он ткнул в Билли здоровой рукой: — А помер он из-за дурака этого, мать его. Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу.
Лаззаро отмахнулся от Билли: никаких слов не надо.
— Забудь про это, малый, — сказал он. — Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и пятнадцать, двадцать. Только я тебя предупреждаю: услышищь звонок — пошли кого другого открывать.
Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и другими ценностями в его сейфе, в Илиумском торгово-промышленном банке:
Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года.
В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме; чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международные границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств: их разделят на двадцать малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново.
Билли выступает перед полным залом, на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развевается за его спиной. На зелелом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику — пусть смеются вместе с ним.
— Мне давным-давно пора умереть, — говорит он. — Много лет назад, — говорит Билли, — один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу.
Толпа в зале шумно протестует.
Билли Пилигрим с укором говорит:
— Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил. — И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления: «Прощайте-здравствуйте, прощайте-здравствуйте!»
Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове.
— Нет, нет, — безмятежно говорит Билли. — Вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить.
В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг — и Билли Пилигрим мертв. Такие дела.
И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет.
А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лаззаро погрозился убить его, — в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лаззаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего — тайным голосованием.
Билли, Лаззаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину «Герои 76-го года».
Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров и пусть она не волнуется: война почти что кончилась и скоро он вернется домой.
Лаззаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить — бешеный он или нет. Такие дела.
Когда они подходили к театру, они увидали, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секцией блока. И Билли, и Лаззаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства.
Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытьи. Сухая судорога сводила их кишки.
— Закрой двери, мать твою… — сказал кто-то. — В сарае ты родился, что ли?
Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная как лед. На сцене все еще стояли декорации к «Золушке». Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки — на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, — валялись под золотым троном.
Когда англичане раздавали тюфяки и одеяла, Билли, и бедный старый Эдгар Дарби, и Лаззаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда.
Свернувшись в своем лазоревом гнезде. Билли вдруг увидал серебряные Золушкины сапоги под троном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему необходимы. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их.
Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом.
Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина американцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком:
— Господа, господа, господа, прошу внимания! — И так далее.
В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить:
— Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете. — Он еще сказал, что видел, как люди умирали: — Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту: уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно.
Такие дела.
Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться.
Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги.
— Я завидую вам, господа, — сказал англичанин.
Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного.
— Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть взаперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверно, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление: уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника.
Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт.
— Единогласно?
Послышалось два-три голоса:
— Да-а…
И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой.
— Попробуй уконтрапупь бублик на лету, — пробормотал Лаззаро в своем лазоревом гнезде, — а заодно и луну в небе.
Ко всеобщему удивлению, температура назавтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках — их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе, и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло.
Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги, и муфта, и кусок лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами:
«Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся. Бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы, и угадай, кого…»
И так далее.
Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах. Теперь они отправлялись куда комфортабельнее — в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он умостился средь угольной пыли, в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела.
Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В сморщенных желудках было полно пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева.
Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город — такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами, сказочный, неправдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе — «Царствие небесное».
Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз»[39]. Это был я. Лично я. До тех пор я видел один-единственный город — Инднаиаполис, штат Индиана.
Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.
Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи. Свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.
В это время люди шли домой с работы. Они устали.
Восемь дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, и пожилые люди, и два инвалида, жутко израненные в России. Им было предписано охранять сто американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором.
Все восемь, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких, нахальных разбойников — американцев, убийц, только что явившихся с фронта.
И тут они увидали бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах, с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лаззаро, кипя от бешенства. Рядом с Лаззаро стоял бедный старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости. Ну и так далее.
Восемь нелепейших дрезденцев наконец удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку.
И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улицы Дрездена. Билли Пилигрим был главной опереточной примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие — в течение двух лет люди ели почти что одну картошку. Они шли, не ожидая никаких радостей, кроме мягкой погоды. И вдруг — такое развлечение.
Билли не замечал, что на него смотрят во все глаза, забавляясь его видом. Он был восхищен архитектурой города. Веселые амурчики обвивали гирляндами окна. Лукавые фавны и нагие нимфы глазели с разукрашенных карнизов. Каменные мартышки резвились меж свитков, раковин и стеблей бамбука.
Уже помня будущее, Билли знал, что город будет разбит вдребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела.
И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки: один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом.
На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутом.
Хирург говорил по-английски и сказал Билли:
— Очевидно, война вам кажется забавной шуткой?
Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила Судьба. Судьба и слабое желание выжить.
— Вы хотите нас рассмешить? — спросил хирург.
Хирурга надо было как-то ублаготворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу.
— Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое издевательство? — сказал хирург. — Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?
Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался.
Шествие, хромая, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела.
Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник-дощатый заборчик, за ним ведра.
На двери здания стояла огромная цифра. Это был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой: «Шлахтхоф фюнф». «Шлахтхоф» значило «бойня». «Фюнф» была попросту добрая старая пятерка.
Двадцать пять лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел: зачем зря трепаться? Самолет вез Билли с двадцатью восемью другими оптометристами на конференцию в Монреаль.
Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни.
Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами.
На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком.
Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей — тоже оптометристов. Они называли себя «чэпы», что означало «четырехглазые подонки».
Когда самолет уже был в воздухе, машина-тесть Билли попросил квартет спеть его любимую песенку. Они знали, что он просил, и спели ему такие куплетики:
Снова я сижу в тюрьме,
Снова по уши в дерьме,
И болят, болят различные места.
Я кляну свою судьбу,
Ох, увидеть бы в гробу
Эту стерву, что кусалась неспроста.
И тесть Билли гоготал как сумасшедший и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков:
Вместе в шахте, Майк и я,
Закадычные друзья,
Уголек загребай,
Раз в неделю погуляй!
Кстати, о поляках: дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела.
Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с «тремя мушкетерами». Роланд Вири тряс его, стукал его головой о дерево.
— Идите без меня, ребята, — говорил Билли Пилигрим.
Квартет на самолете пел: «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш, в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела.
Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы — инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми.
Билли был ранен в голову, но сознания не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними.
Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес:
«Шлахтхоф фюнф».
Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножия тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь, в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично.
Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и три часа оперировал Билли. После операции Билли два дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени.
Правдивым событием был и первый вечер на территории боен. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню, за ужином для всех. Их охранял шестнадцатилетний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела.
Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем, у праздных боен. Город был в затемнении — вдруг начнется налет, — в Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины — как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки.
А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба.
Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли, даже мог сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось.
Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось тридцать с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами.
Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони. А в дверях как вкопанные остановились Глюк, и Дарби, и Билли Пилигрим: мальчишка-солдат, и бедный старый школьный учитель, и шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее и стали еще прекрасней.
Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.
Когда эти три дурака наконец нашли кухню — раньше там готовили еду для рабочих бойни, — все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела. Такие дела. На ней уже было и пальто и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойке.
Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груду черного хлеба.
Она спросила Глюка: не слишком ли он молод для армии? Он согласился: да.
Она спросила Эдгара Дарби: не слишком ли он стар для армии? Он сказал: да.
Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал: не знаю. Просто стараюсь согреться.
— Все настоящие солдаты погибли, — сказала она. И это была правда. Такие дела.
Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину — себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам.
У сиропа был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа. А другие американцы ели.
Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду — за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением.
На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынущим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка. И сунул ложку в рот.
И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности.
В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу.
Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.
За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмбл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмбл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмбл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте.
Внешность у Кэмбла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле. Нарукавная повязка была ярко-красного цвета, с синей свастикой в белом круге.
И сейчас, в цементном загоне для свиней, он объяснял значение этой нарукавной повязки.
Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмбла.
— Синий цвет — это небо Америки, — объяснял Кэмбл, — белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубила леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие годы.
Сон сморил слушателей Кэмбла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало и витаминов, и минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли.
Кэмбл стал предлагать американцам всякую еду: бифштексы с картофельным пюре с подливкой, мясные пироги — все будет, как только они согласятся вступить в «Свободный американский корпус».
— А как только разобьем русских, вас репатриируют через Швейцарию.
Все молчали.
— Все равно, раньше или позже вам придется драться с коммунистами, — сказал Кэмбл. — Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?
И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром не пройдут — Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги — и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце концов разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем.
Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмбла гадюкой. Тут же поправился: гадюки, сказал он, никак не могли не родиться гадюками, а Кэмбл, который мог не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки, или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.
Кэмбл только усмехнулся.
И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу, и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы.
Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозится заразить весь мир.
И тут жалобно завыли дрезденские сирены.
Американцы вместе со своей охраной и с Кэмблом ушли в убежище — в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале, под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу.
Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще тысячи туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку.
Говард У. Кэмбл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норт. Она была убита в гастрольном турне — развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела.
В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно сто тридцать тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ.
«Отец, — говорила она, — что нам с тобой делать?» И так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута».
Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого.
Траут снимал подвал в Илиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал — наверное, штук семьдесят пять. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Илиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков: он их и запугивал, и подлизывался к этим ребятишкам.
Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем «кадиллаке» по переулку Илиума и увидал, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было шестьдесят два года.
Он говорил ребятам, что — тут шли нецензурные слова — нечего просиживать штаны зря, надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение. Он говорил: кто за два месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас-Винъярд.
И так далее.
Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов.
Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой — он видал ее на обложке стольких книжек… Но, увидев это лицо случайно в переулке родного города. Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал: а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене. Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных.
Тут девчонка-газетчик подняла руку.
— Мистер Траут — сказала она, — а если я выиграю, можно мне взять с собой сестренку?
— Черта с два, — сказал Траут. — Думаешь, деньги растут на деревьях?
Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли двадцатидолларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами.
Такие дела.
Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу — и трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился: если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик.
— Ты кто такой? — спросил Траут презрительно. — Тоже мне, чудо без кишок.
Кстати, так называлась одна книжка Траута — «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газолина для сжигания человеческих существ.
Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле.
Ведущий робот Траута выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды.
Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил:
— Начать-то они начали, да, наверно, через неделю бросили: больно уж вшивая работка!
И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак.
Где-то лаял огромный пес.
Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли:
— Мистер Траут?
— Да?
— Вы… Вы — Килгор Траут?
— Да. — Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого.
— Вы… Вы — тот писатель?
— Кто?
Билли был уверен, что ошибся.
— Есть такой писатель — Килгор Траут.
— Такой писатель? — Лицо у Траута было растерянное, глупое.
— Вы никогда о нем не слыхали?
Траут покачал головой:
— Никто никогда о нем не слыхал.
Билли помог Трауту развезти газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем «кадиллаке». Все делал Билли — находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником.
Траут рассказал ему, что никогда не видел своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы.
— А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви.
— Но вы, наверно, получали письма? — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать.
Траут поднял палец:
— Одно!
— Наверно, очень восторженное?
— Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось, что я должен стать Президентом земного шара.
Оказалось, что автором письма был Элиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Плэсида. Билли рассказал Трауту про Розуотера.
— Бог мой, а я решил, что ему лет четырнадцать, — сказал Траут.
— Нет, он взрослый, был капитаном на войне.
— А пишет как четырнадцатилетний, — сказал Килгор Траут.
Через два дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал восемнадцатилетие со дня своей свадьбы. И сейчас веселье было в самом разгаре.
В столовой у Билли Траут поглощал один сандвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей — настоящий писатель, хотя книг его никто не читал.
Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго».
Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, — белая атласная коробочка, в ней — кольцо с сапфиром. Кольцо стоило восемьсот долларов.
Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги, оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.
— Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо, — сказала Мэгги.
— Все мы чего-нибудь боимся, — ответил Траут. — Я, например, боюсь рака, крыс и доберман-пинчеров.
— Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша книжка самая знаменитая?
— Роман про похороны прославленного французского шеф-повара, — ответил Траут.
— Как интересно!
— Его хоронили все самые знаменитые шеф-повара мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.
— А это действительно было? — спросила Мэгги Уайт. Женщина она была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн — делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее — и ему немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.
— Ну конечно, было, — уверил ее Траут. — Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же мошенничество.
Мэгги ему поверила.
— Вот уж никак не думала, — сказала она.
— А вы подумайте!
— И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности.
— Точно. Тот же параграф закона.
— Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке нас всех?
— Все, что со мной бывает, я описываю в книжках.
— Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь.
— Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас, и в Судный день он вам напомнит все, что вы говорили, и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет очень плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне. А гореть очень больно, и конца этому нет.
Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и этому поверила и просто окаменела.
Килгор Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.
Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии, в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, «чэпы», пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки».
«Где вы, где вы, старые друзья, — пелось в песне, — за встречу с вам все отдал бы я» — и так далее. А под конец там пелось: «Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя, храни их господь…» — и так далее.
Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды — сначала нарочито унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты — сладкий до удушья аккорд, и снова — несколько аккордов, кислых до оскомины. И на душу и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекосилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе.
Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло.
Все умолкли.
— Боже мой! — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. — Билли, тебе плохо?
— Нет.
— Ты ужасно выглядишь.
— Ничего, ничего, я вполне здоров. — Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца. И вдруг оказалось, что где-то внутри в нем скрыто что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.
Гости оставили Билли в покое, увидев, что бледность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоявший поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством посмотрел на него.
— У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение, — сказала Валенсия.
— Нет, — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске извлекающих то кислые, то сладкие звуки.
— Можно высказать предположение? — спросил Килгор Траут. — Вы заглянули в окно времени.
— Куда, куда? — спросила Валенсия.
— Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?
— Нет, — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда кончится пенье и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут.
— Это мне? — сказала Валенсия.
— Да.
— Ах, боже мой! — сказала она. И еще громче: — Ах, боже мой! — так, что услышали все гости.
Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.
— О боже! — повторила она. И крепко поцеловала Билли. — Спасибо тебе, спасибо! Большое спасибо! — сказала она.
Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за все эти годы.
— Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь. — Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны.
Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше ста долларов. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые и в самом деле крутились. А в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на другой — настоящий компас…
Билли обходил гостей, и вид у него был совершенно нормальный. Килгор Траут шел за ним как тень — ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения.
— Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку? — спросил Траут у Билли.
— Нет.
— Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе. И как отскочит назад — чуть ли не на милю!
— Неужели?
— Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе.
Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри:
Хлопок десять центов,
мясо — сорок шесть,
человеку бедному
нечего есть.
Просишь солнца с неба,
а с неба хлещет дождь,
от такой погодки
и впрямь с ума сойдешь.
Выстроил хороший
новый амбар,
выкрасил славно,
да съел его пожар.
Хлопок десять центов,
а чем платить налог?
Спину сломаешь,
собьешься с ног…
Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома.
Килгор Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: не надо. Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.
— Папа? — спросил сын в темноте. Роберту, будущему «зеленому берету», было тогда семнадцать лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего.
Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо, на ленте, у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета.
— Привет, сынок, — сказал Билли Пилигрим.
Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил «волшебные пальцы». Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу.
Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал, и наконец установил, какие ассоциации с очень, давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что.
Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка с потолка осыпалась известка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника, еще до налета, разошлись по домам, в семейный уют. Сейчас их убивали вместе с их семьями.
Такие дела.
Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище, в другом конце боен.
Такие дела.
Один из охранников то и дело поднимался по лестнице — посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть.
До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на Луну — одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть.
Такие дела.
Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов. «Прощайте навек, дорогие друзья, — словно пели они, — прощай навеки, подруга моя, храни их господь…»
— Расскажи мне что-нибудь, — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на седьмом месяце, большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое короткое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет.
Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как сейчас:
— Расскажи мне что-нибудь. Билли, миленький.
— Дрезден был разрушен в ночь на тринадцатое февраля 1945 года, — начал свой рассказ Билли Пилигрим. — На следующий день мы вышли из нашего убежища. — Он рассказал Монтане про четырех охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении боен, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна, он рассказал ей, как везде валялось что-то, похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела.
Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались, словно утесы, вокруг боен. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и наконец застыли живописной грядой.
— Совсем как на Луне, — сказал Билли Пилигрим.
Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности.
Так они и сделали.
Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидали, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось.
И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть — не движется ли что-нибудь внизу. Они увидали Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, но пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.
Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война.
Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там, в ожидании гостей, стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели.
Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним.
Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и сто американских военнопленных.
Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли.
— Да.
— А еще кто-нибудь придет?
И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа.
Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац-кофеем и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать.
— Доброй ночи, американцы! — сказал он по-немецки. — Спите спокойно.
Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так.
Он лежал без сознания в вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Щугарбуш, а Валенсия, услыхав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их «кадиллаке». Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение.
Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот с шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался «мерседес». Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу. У «мерседеса» была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова «кадиллака» стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Ригана!» — гласила нашлепка на бампере. Заднее стекло было изрезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле.
Водитель «мерседеса» подошел к Валенсии — справиться, все ли в порядке… Она что-то залопотала в истерике — про Билли, про катастрофу — и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле.
Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. «Кадиллак», потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета.
Час спустя она скончалась. Такие дела.
Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд время от времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой.
У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже семьдесят лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было двадцать три года.
Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было.
— Идите без меня, ребята, — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была о-го-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего.
— Я его боюсь! — шепнула она мужу про Билли Пилигрима.
— А мне он надоел до чертиков, — басом сказал Рэмфорд. — Только и знает, что спросонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали. — Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором двадцати шести книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше шестидесяти пяти лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож:
— Я мог бы вырезать из банана человека получше.
Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумэна, в которой он объявлял всему миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.
— Нет. — Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы.
Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумэна. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало: она была главным образом еще одним явным доказательством для всего света, что он — супермен.
Лили села и сделала вид, что читает трумэновское заявление, звучавшее так:
Шестнадцать часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью 20000 тонн Т.Н.Т., она в две тысячи раз превышала взрывную силу британской бомбы «большой шлем» — самой мощной бомбы в военной истории.
Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте.
Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке.
До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Нo они просчитались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход «ФАУ-1» и «ФАУ-2», притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.
Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море, но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах.
Теперь мы готовы окончательно и без промедления изничтожить любую промышленность Японии, в любом их городе на поверхности земли, — говорил далее Гарри Трумэн. — Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения. Пусть никто не заблуждается: мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь…
Ну и так далее.
Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена», автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустило книгу американское издательство «Холт, Райнгарт и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями — Айрой Икером, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей.
Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, — писал, между прочим, друг Рэмфорда генерал Икер. — Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что и «ФАУ-1» и «ФАУ-2» в это время падали на Англию, без разбору убивая граждан — мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри.
Предисловие Икера кончалось так:
Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма.
Такие дела.
Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее:
Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года.
Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло сто тридцать пять тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 379 человек.
Такие дела.
— Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите Бешеного Боба, — сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой.
Лили Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумэна.
К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился.
Такие дела.
С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме.
— Папочка… — позвала она нерешительно. — Папочка.
Но Билли ушел на десять лет назад — в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика.
— Сколько точек вы видите? — спрашивал Билли Пилигрим.
И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше: ему было шестнадцать лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец. Кроме него, приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал.
— Извините, — сказал он Билли. И снова икнул. — О господи! — сказал он. — Я знал, что старость скверная штука. — Он покачал головой. — Но что будет так скверно, я не знал.
Билли Пилигрим открыл глаза в палате вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын, Роберт. На Роберте была форма знаменитых «зеленых беретов». Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена — Алое сердце, Серебряная звезда и Бронзовая звезда с двумя лучами.
И это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в шестнадцать лет, шлялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей.
— Папа?
Но Билли снова закрыл глаза.
Билли не пришлось поехать на похороны жены — он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю, в Илиуме. Однако, даже придя в сознание Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу.
А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о несущественности смерти и об истинной природе времени.
Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные веши про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает.
— Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лили.
— Не знаю, — сказала она.
— Ведь он уже не человек. А доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику. Они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него! По их медицинским понятиям, это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?
— Не знаю, — сказала Лили.
Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал.
У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его однотомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ двадцатисемитомной официальной истории военно-воздушных сил во второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех двадцати семи томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне — в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны.
— Американцы в конце концов услыхали о Дрездене, — сказал Рэмфорд через двадцать три года после налета. — Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы. Так что придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые.
— А почему этот налет так долго держали в тайне? — спросила Лили.
— Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой.
И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно.
— Я там был, — сказал он.
Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.
— Что он сказал? — спросил Рэмфорд.
Лили взялась за роль переводчика.
— Сказал, что он там был, — объяснила она.
— Где это там?
— Не знаю, — сказала Лили. — Где вы были? — спросила она у Билли.
— В Дрездене, — сказал Билли.
— В Дрездене, — сказала Лили Рэмфорду.
— Да он просто, как эхо, повторяет наши слова, — сказал Рэмфорд.
— Правда? — сказала Лили.
— У него эхолалия.
— Правда?
Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть, из практических соображений, казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью.
Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхолалия. И врачам и сестрам он повторял: у него началась эхолалия. Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука.
— Сейчас не отзывается, — раздраженно говорил Рэмфорд, — а как только вы уйдете, он опять примется за свое.
Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что, так или иначе, слабые люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать чем только можно и что никто умирать не должен.
Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди: он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду:
— Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену.
Рэмфорд нетерпеливо крякнул.
— Честное слово, — сказал Билли Пилигрим. — Вы мне верите?
— Разве непременно надо об этом говорить сейчас? — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил.
— Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтобы вы знали: я там был.
В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через два дня после окончания второй мировой войны в Европе. Билли с пятью другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб фургоне — они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь, под цоканье копыт, они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности, среди развалин. Они ехали на бойню — искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним утром в Илиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника.
Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было тепло. В фургоне была еда, и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей.
Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов.
Но русские не пришли даже через два дня после окончания войны… В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидал только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути.
Когда фургон остановился у боен, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфамадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он, наверно, выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне.
Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился: одному богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности — бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.
За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет — реликвия первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны — любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне.
Внезапно его сон был нарушен: он услышал голоса — женский и мужской, они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли, открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверно, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела.
Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, — что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «шевроле».
Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него — на Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба — и муж и жена — были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом.
Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках со стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще.
Они оба говорили на девяти языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во второй мировой войне.
Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бранить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, а каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал.
Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос.
Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко и хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна:
Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.
Билли снова пропутешествовал во времени в вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне.
Конец у этого рассказа был такой: Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.
Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Лукреция А. Мотт». Лукреция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела.
— Но это надо было сделать, — сказал Рэмфорд: речь шла о разрушении Дрездена.
— Знаю, — сказал Билли.
— Это война.
— Знаю. Я не жалуюсь.
— Наверно, там был сущий ад.
— Да.
— Пожалейте тех, кто вынужден был это сделать.
— Жалею.
— Наверно, у вас там, внизу, было смешанное чувство?
— Ничего, — сказал Билли, — вообще все ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамадоре.
Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила «волшебные пальцы». При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением.
Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать миру о том, чему он выучился на Тральфамадоре.
В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Ройалтон», на Сорок четвертой улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорскнм понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда.
Номер был небольшой, просто обставленный, помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над Сорок четвертой улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз, на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные.
Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Анн тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери.
Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около восьми часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийства.
Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной лавчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство, и содомию, и убийства, а рядом — путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи Свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли — Килгора Траута.
Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела.
Билли зашел в книжную лавку.
В лавке висело объявление: несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещался. Там можно было посмотреть в глазок фильм — молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой. Фотографии были очень тральфамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время и они не менялись. И через двадцать лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться, или пылать страстью, — или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.
Но та часть лавки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидал в витрине романы Килгора Траута. Их названия он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». — Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там описывалось, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212.
У этих выдуманных героев романа на одной стене их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акции, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми.
Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка — вскакивали, метались, кричали «ура», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери.
Земляне отлично записывали курс акций. И это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы.
И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили.
В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидал Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу.
Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.
Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.
И возмутителя черни распяли.
Такие дела.
В книжной лавке хозяйничало пять человек, похожих как пять близнецов, — маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались.
У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка — все про любовь да про младенцев.
Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь — покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на дружку.
Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.
— Это не то, что вам надо, черт возьми, — сказал он Билли. — То, что надо, там, дальше.
И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута — ту, где рассказывалось о Христе.
Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи: действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить? Герой книги захватил с собой стетоскоп.
Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу — он был одет как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто не увидел его стетоскоп, и стал выслушивать его.
В исхудалой груди все молчало. Сын божий был совершенно мертв.
Такие дела.
Путешественнику во времени — его звали Лэнс Корвин — удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.
К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал, да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения, от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.
— Фу ты черт, да где вы ее откопали? — ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.
Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидал вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»
И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфамадоре, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полуночницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.
Такие дела.
Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения одиноких мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.
Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок — а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотелось смотреть, что будет дальше, а тут еще к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки — их особо прятали для любителей и знатоков.
Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография — женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.
В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии — жив роман или же он умер. Такие дела.
Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».
Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» — сказал он себе.
В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда один вирджинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мэйлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах».
Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану — словом, про все.
Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свои номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.
— Опять летал во времени? — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.
— М-мм? — спросил Билли.
— Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.
— Угу.
— А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.
— В Нью-Йорк.
— А-а, Большое Яблоко!
— А?
— Так когда-то называли Нью-Йорк.
— Ммм-мм…
— Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?
— Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.
— Тоже мне счастливчик! — Монтана никак не разделяла его восхищение Килгором Траутом.
Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский — никакой вины она не чувствовала.
— Ну и что? — сказала она. — А я слыхала, каким шутом ты был на войне. И еще слышала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие — такой расстрел. — Она приложила младенца к другой груди, потому что структура этого мгновения была такова, что она должна была так сделать.
Наступила тишина.
— Опять они возятся с часами, — сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян.
На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее матери-алкоголички — грубая фактура: сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:
Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.
Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.
И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.
Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.
На Тральфамадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарлз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.
Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута. Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о гольфе.
Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, — истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.
В последнее время одним из самых приятных событии была моя поездка в Дрезден с О’Хэйром, старым приятелем еще с войны.
В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу[40]. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.
Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик.
Кроме нас, было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.
Ни я, ни О’Хэйр никогда не думали разбогатеть — и однако, мы стали очень состоятельными.
— Попадете в город Коди, в Вайоминге, — лениво сказал я ему, — спросите Бешеного Боба.
У О’Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:
В среднем на свете ежедневно рождается 324000 младенцев. В то же время около 10000 человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. Кроме того, 123000 умирают от разных других причин. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется 191000 человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до 2000 года население Земли увеличится вдвое и дойдет до 7000000000 человек.
— И наверно, все они захотят жить достойно, — сказал я.
— Наверно, — сказал О’Хэйр.
Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О’Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.
На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.
А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.
Билли оказался в паре с другим копачом — маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.
Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.
Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто.
Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.
Такие дела.
Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.
Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа..
Такие дела.
Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.
Такие дела.
Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.
Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.
Такие дела.
А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе окончилась.
Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.
Разговаривали птицы.
Одна птичка спросила Билли Пилигрима:
«Пьюти-фьют?»
Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер,
или
Не мечите бисер перед свиньями
Элвину Дэвису, телепату, другу всякого сброда
Окончилась вторая мировая война, и вот я в полдень иду через Таймс-сквер и на груди у меня орден Алого Сердца.
Хотя это — повесть о людях, главный герой в ней — накопленный ими капитал, так же, как в повести о пчелах главным героем мог бы стать накопленный ими мед.
К 1 июня 1964 года этот капитал выражался в сумме 87 миллионов 472 тысячи 33 доллара и 61 цент. Берем этот день, потому что именно тогда эта сумма предстала перед задумчивым взором жуликоватого юнца по имени Норман Мушари. Прибыль с этой весьма привлекательной суммы равнялась трем с половиной миллионам в год, то есть примерно десяти тысячам долларов в день, считая и воскресенья.
В 1947 году, когда Норману Мушари было всего шесть лет, этот капитал лег в основу некоего благотворительного и культурного фонда. До этого весь капитал принадлежал семейству Розуотеров и занимал четырнадцатое место в ряду крупнейших состояний Америки. Деньги эти были помещены в особый Фонд, с той целью, чтобы налоговая инспекция и всякие другие хищники, не из породы Розуотеров, не могли наложить на них лапу. Весь устав фонда был составлен весьма замысловато и хитроумно: он гласил, что место Президента Фонда переходит по наследству, как королевский престол Великобритании. Оно неизменно, во все времена, закреплялось за самым старшим из прямых наследников основателя Фонда Листера Эймса Розуотера, сенатора от штата Индиана.
Родные братья и сестры Президента Фонда по достижении совершеннолетия тоже получали пожизненные места в правлении фонда, если только закон не признавал кого-нибудь из них психически неполноценным. За свою деятельность они имели право широко пользоваться деньгами Фонда, но лишь из дивидендов фонда.
Как того требовал устав, наследникам сенатора строго воспрещалось трогать основной капитал Фонда. Ответственность за капитал была возложена на другую организацию, созданную одновременно с Фондом, она носила весьма выразительное название Корпорации Розуотера. Как большинство корпораций, она стремилась к постоянному и не зависящему от любых колебаний наращиванию капитала. Служащим корпорации платили большие деньги. Вследствие этого они были чрезвычайно изворотливы, энергичны и довольны жизнью. Главным их занятием было подрывать акции и шеры других корпораций, второстепенным же занятием было управление деревообделочным заводом, спортивным комплексом, мотелем, банком, пивоваренным заводом, огромными фермами в округе Розуотер в штате Индиана и несколькими угольными шахтами на севере штата Кентукки.
Розуотеровская корпорация занимала два этажа в доме номер 500, на Пятой авеню, в Нью-Йорке и, кроме того, имела филиалы в Лондоне, Токио, Буэнос-Айресе и в округе Розуотер. Ни один из членов фонда Розуотера не имел право давать розуотеровской Корпорации советы относительно помещения основного капитала. А Корпорация, с другой стороны, не имела права указывать Фонду, что делать с огромными прибылями, которые Корпорация зарабатывала для Фонда.
Все эти данные дошли до сведения молодого Нормана Мушари, когда, окончив одним из первых юридический факультет Корнельского университета, он поступил на работу а адвокатскую контору в Вашингтоне, которая выработала уставы Фонда и Корпорации, в фирму Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари был ливанцем по происхождению, сыном бруклинского торговца коврами. Ростом он не вышел, всего пять футов с лишним, зато задница у него была огромная, и так и лоснилась, когда он раздевался. Он был самым низкорослым, самым молодым и, что ни говори, наименее англосаксонским служащим в своей конторе.
Работал он под началом старейшего партнера фирмы, Тэрмонда Мак-Алистера, кроткого милого старичка семидесяти шести лет. Нормана никогда не взяли бы на службу, если бы остальные компаньоны не решили, что хорошо бы помочь Мак-Алистеру взять в делах более жесткий курс.
Никто никогда не приглашал Мушари позавтракать вместе. Он питался в одиночку, в дешевых кафе, упорно думая, как бы сокрушить Фонд Розуотера. Знакомых среди Розуотеров у него не было. Волновало его только то, что капитал Розуотеров был самым крупным кушем, которым ведала фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари хорошо понимал, что ему однажды внушал его любимый профессор Ленард Лич[41]. Объясняя ему, как сделать карьеру на юридическом поприще, Лич говорил, что совершенно так же, как хороший пилот все время должен высматривать место для посадки самолета, хороший адвокат должен ловить случай, когда большие капиталы переходят из рук в руки.
— При всякой крупной сделке, — говорил Лич, — наступает магический момент, когда один человек уже выпустил капитал из рук, а тот, к кому должны перейти деньги, еще их не взял. Ловкий юрист должен воспользоваться этим моментом и завладеть капиталом, хотя бы на одну чудодейственную микросекунду, и оторвать хотя бы малую колику, передавая капитал другому владельцу. И если тот, кому причитается это богатство, не привык к большим деньгам, да еще страдает комплексом неполноценности и смутным чувством вины, как это бывает со многими людьми, адвокат вполне может присвоить чуть ли не половину куша, причем наследник еще будет слезно благодарить его за это.
Чем дольше Мушари рылся в секретной документации фонда Розуотера, тем больше его охватывало волнение. Самой потрясающей ему казалась та графа устава, по которой любой член Правления Фонда, признанный ненормальным, немедленно выводился из состава Правления. В их конторе давно поговаривали, что сам президент фонда, Элиот Розуотер, сын теперешнего сенатора, — форменный псих. Правда, его так называли как бы в шутку, но Мушари отлично знал, что шуточки до суда не доходят. Как только не называли Элиота сослуживцы — и «придурком», и «святым», и «трясуном», «чокнутым», а то и «Иоанном-Крестителем», словом, по-всякому.
«Хорошо бы устроить этому типу судебную экспертизу», — рассуждал сам с собой Мушари.
По всем сведениям, следующий кандидат на пост Президента Фонда, какой-то кузен с Род-Айленда, был полным ничтожеством. И когда настанет магический момент, Мушари собирался представлять интересы этого кузена.
Мушари был начисто лишен музыкального слуха, а потому и не знал, что его сослуживцы по контре дали ему кличку. Когда он входил или выходил, кто-нибуд начинал насвистывать всем известную песенку «Скок-поскок-молодой хорек!».
Элиот Розуотер стал Президентом Фонда в 1947 году. Когда Мушари занялся им, Элиоту было сорок шесть лет. Мушари был вдвое моложе Элиота и воображал себя этаким маленьким Давидом, который решил прикончить Голиафа. Выходило, что чуть ли не сам Творец был на стороне маленького Давида, так как вскоре в контору, один за другим, стали поступать совершенно секретные документы, подтверждающие, что Элиот совершенно свихнулся.
В сейфе конторы под замком хранился, например, конверт за тремя печатями с распоряжением передать его в нераспечатанном виде тому, кто станет Президентом Фонда после смерти Элиота.
В конверте находилось письмо Элиота, и вот что там говорилось:
«Дорогой кузен или кто вы есть, поздравляю вас с выпавшей на вашу долю огромной удачей. Живите весело. Может быть, перед вами откроются новые перспективы, если вы будете знать, кто до вас распоряжался и пользовался вашими несметными богатствами. Как и многие крупные американские состояния, капитал Розуотеров был накоплен унылым, страдавшим запорами молодым фермером, верующим христианином, который с самого начала Гражданской войны стал закоренелым спекулянтом и взяточником. Звали этого молодого фермера Ной Розуотер, родом он был из округа Розуотер и приходился мне прадедушкой.
Ной и его брат Джордж унаследовали от своего отца, переселенца-пионера, шестьсот акров пахотной земли, плодородной и жирной, как шоколадный торт, и маленький захудалый пилозавод. Началась Гражданская война. Джордж собрал роту стрелков и пошел с ней на фронт. Ной нанял деревенского дурачка, чтобы тот пошел воевать вместо него, а сам перестроил пилозавод и стал делать штыки и сабли, а на ферме начал откармливать свиней. Так как Авраам Линкольн заявил, что нельзя жалеть никаких затрат, когда речь идет о восстановлении Союза, Ной стал взвинчивать цены на свои товары тем выше, чем больше разрастались народные бедствия. И вот какое он сделал открытие: любой протест правительства — будь то по поводу цен или качества поставок, — можно с легкостью отвести, путем до смешного ничтожных взяток. Он женился на Клеоте Херрик, самой уродливой женщине во всем штате Индиана, потому что у нее было четыреста тысяч долларов. На ее деньги он расширил завод и скупил много ферм все в том же округе Розуотер. Он сделался самым крупным свиноводом на всем Севере. Для того, чтобы не стать жертвой мясников, он купил контрольный пакет акций бойни в Индианаполисе. Опять-таки, чтобы не стать жертвой сталелитейщиков, он купил контрольный пакет акций сталелитейной компании в Питтсбурге. А чтобы не стать жертвой поставщиков угля, он скупил акции множества угольных шахт. И, чтобы не стать жертвой ростовщиков, он учредил собственный банк.
Эта его маниакальная боязнь — стать чьей-то жертвой — заставляла его все больше и больше заниматься ценными бумагами — акциями и шерами — и все меньше и меньше — поставками свинины и оружия. Проделав несколько мелких экспериментов с обесцененными бумагами, он убедился, что их тоже можно выгодно сбывать с рук. Он все еще продолжал подкупать государственных чиновников, благодаря которым он получал право владения национальными богатствами и сокровищами. Его основным увлечением стала перепродажа ценных бумаг.
Когда Соединенные Штаты Америки, которые должны были стать настоящей Утопией для всех граждан, готовились праздновать свое столетие, то на примере Ноя Розуотера и нескольких других можно было ясно видеть, какую глупость сделали отцы-основатели в одном отношении: эти предки, жившие, к сожалению, совсем недавно, позабыли издать закон, по которому богатство любого гражданина Утопии, этой Земли Обетованной, должно было иметь свой предел. Вышел этот недосмотр потому, что многие питали сентиментальную симпатию к людям, любящим дорогие вещи, и при этом считали, что этот континент настолько велик и обилен, а население в нем хоть и небольшое, но весьма предприимчивое, что, сколько бы ни разворовывали страну ловкие воры, все равно особых неприятностей от этого никому не будет.
Ной и ему подобные раскусили, что на самом деле ресурсы страны ограничены, но что любого корыстного чиновника, особенно из законодательных органов, можно было легко уговорить, чтобы он расшвыривал изрядные куски земли — лови, держи! — и швырял их именно так, чтобы они попадали в руки таких же ловкачей, как он.
Так кучка жадюг во всей Америке стала распоряжаться всем, что того стоило. Так была создана в Америке дичайшая, глупейшая, абсолютно нелепая, ненужная и бездарная классовая система. Честных, трудолюбивых, мирных людей обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы им платили за работу хотя бы прожиточный минимум. И они понимали, что похвал заслуживают только те, кто придумывает способы зарабатывать огромные деньги путем всяких преступных махинаций, не запрещенных никакими законами. Так мечта об американской Утопии перевернулась брюхом кверху, позеленела, всплыла на поверхность в мутной воде безграничных преступлений, раздулась от газов и с треском лопнула под полуденным солнцем.
Нет большей насмешки, чем писать на ассигнациях этой лопнувшей Утопии “E pluribus unum”, потому что каждый до нелепости богатый американец есть воплощение той роскоши, тех привилегий и удовольствий, которые недоступны большинству. В свете истории гораздо более поучительным был бы лозунг, созданный всеми Ноями Розуотерами „Загребай сколько влезет, не то получишь шиш!“
И Ной родил Сэмюэла, который взял в жены Джеральдину Эймс Рокфеллер. Сэмюэл интересовался политикой куда больше, чем его отец, неутомимо служил республиканской партии, создавая некоронованных королей, подбивал эту партию назначать на посты людей, умевших вертеться как дервиши, бегло вещать по-вавилонски и приказывать полиции стрелять в толпу, если какой-нибудь бедняк вообразит, что он и Розуотер равны перед законом.
И Сэмюэл стал скупать не только газеты, но и проповедников. Он приказывал учить людей одной простой истине, и они хорошо всем внушали: „Тот, кто воображает, что Соединенные Штаты Америки должны стать Утопией — скотина, лентяй, безмозглый болван“.
Сэмюэл орал, что ни один фабричный рабочий в Америке не стоит больше восьмидесяти центов в день. Но сам он был счастлив, что ему удалось выложить сто тысяч долларов, а то и больше, за картину итальянского художника, умершего лет триста тому назад. Еще оскорбительнее было то, что он жертвовал эти картины в музеи, чтобы способствовать духовному росту бедняков.
А музеи по воскресеньям были закрыты.
И Сэмюэл родил Листера Эймса Розуотера, который взял в жены Юнис Элиот Морган. Надо сказать, что Листер и Юнис — не то, что Ной с Клеотой или Сэмюэл с Джеральдиной. Они умели при случае и посмеяться, и как будто вполне искренне. Кстати, как примечание к семейной хронике, можно добавить, что Юнис стала чемпионом Америки по шахматам среди женщин в 1927 году и снова — в 1933 году.
Кроме того, Юнис написала исторический роман про женщину-гладиатора „Рамба из Македонии“, и книга стала бестселлером в 1936 году. В 1937 году она трагически погибла в Котьюте, штат Массачусетс, когда ее яхта шла под парусом по заливу. Она была очень интересная, умная женщина и вполне искренне беспокоилась о судьбе бедняков. Юнис была моей матерью.
Ее муж, Листер, никогда не был дельцом. Со дня своего рождения до сегодняшнего дня, когда я пишу вам это послание, он всецело предоставил управление своими капиталами адвокатам и банкам. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Конгрессе Соединенных Штатов, проповедуя мораль сначала как представитель области, центром которой является город Розуотер, затем — как сенатор от штата Индиана. Разговоры о том, будто он и есть истинный „хужер“ — коренной житель Индианы, — были просто нехитрой политической басней. И Листер родил Элиота.
Об унаследованном им состоянии, о тех обязанностях, той ответственности, которые на него возлагало его богатство, Листер думал примерно столько же, сколько любой человек думает о большом пальце на своей левой ноге. Этот капитал его и не трогал, и не интересовал, и не беспокоил. Он с легкостью отдал девяносто пять процентов этого капитала Фонду, которым Вы в настоящее время должны будете управлять.
Элиот женился на Сильвии Дюврэ-Зеттерлинг, красавице-парижанке, которая в конце концов возненавидела его. Мать Сильвии была меценатом, покровительницей художников. Ее отец был величайшим виолончелистом современности. Дед и бабка с материнской стороны были из семейства Ротшильдов и Дюпонов.
А из Элиота вышел алкоголик, утопист-мечтатель, балаганный праведник, бестолковый глупец.
И родить он никого не родил.
Bon voyage Вам, дорогой кузен или кто вы там есть. Будьте щедрым, будьте добрым. Можете благополучно забыть про искусство и науки. Никогда они еще никому не помогали. Будьте искренним, внимательным другом бедняков».
Подпись стояла такая:
Покойный Элиот Розуотер.
Сердце у Нормана Мушари забило тревогу. Он, обзаведясь специальным сейфом, вложил туда письмо Элиота. Недолго пролежит тут в одиночестве эта первая серьезная улика.
Сидя в своем закутке в конторе, Мушари вспомнил, что Сильвия сейчас подала на развод с Элиотом и что старый Мак-Алистер представляет интересы ответчика. Сильвия жила в Париже, и Мушари написал ей письмо, в котором напоминал, что обычно, когда стороны разводятся по обоюдному согласию, полагается возвращать друг другу письма. Он просил ее переслать письма Элиота, если они у нее сохранились.
Обратной почтой он получил пятьдесят три таких письма.
Элиот Розуотер родился в 1918 году в Вашингтоне. Как и его отец, который якобы был коренным «хужером», Элиот рос, и воспитывался, и развлекался на Восточном побережье Штатов и в Европе. Каждый год все семейство ненадолго приезжало в свои родные края, округ Розуотер, ровно настолько, чтобы как-то оправдать враки, что тут их «родной дом». Элиот окончил колледж без особых успехов в науке и поступил в Гарвардский университет. Он стал опытным яхтсменом, лето проводил в Котьюте, на мысе Код, а во время зимних каникул катался на лыжах в Швейцарии.
Восьмого декабря 1941 года он бросил юридический факультет Гарвардского университета и ушел добровольцем в пехотную часть армии США. Он отличился во многих боях. В чине капитана командовал ротой. Под конец войны в Европе Элиот заболел. Определили его болезнь как переутомление в связи с военной службой. Его отправили в Париж, в военный госпиталь. Там он познакомился с Сильвией и покорил ее сердце. После войны он вернулся в Гарвард со своей очаровательной женой, окончил юридический факультет, выбрал своей специальностью международное право, мечтал заняться полезной деятельностью в Организации Объединенных Наций. Он получил докторскую степень и одновременно стал президентом недавно учрежденного Фонда Розуотера. Согласно Уставу Фонда, он мог по своему усмотрению взять на себя и совершенно пустячные, и весьма значительные обязанности. Элиот решил подойти к делу со всей серьезностью. Он купил особняк в Нью-Йорке, с фонтаном в холле. В гараж поставили машины — «бентли» и «ягуар». Он снял целый этаж под контору в Эмпайр-Стейт-Билдинг. Стены его кабинетов были окрашены в лимонный, оранжевый и светло-серый цвет. Он объявил, что это учреждение станет генеральным штабом для претворения в жизнь его прекрасных благотворительных и научных планов.
Он много пил, но это никого не беспокоило. Выпить он мог сколько угодно, но никогда не пьянел.
С 1948 по 1953 год Фонд Розуотера израсходовал четырнадцать миллионов долларов. В благодеяния Элиота входила и постройка клиники для контроля рождаемости в Детройте, и покупка полотна Эль Греко для музея города Тампа, штат Флорида. Розуотеровские доллары шли на борьбу с раком, с психическими заболеваниями, с расовой дискриминацией, произволом полиции и другими бесчисленными бедами. Фонд помогал университетским профессорам искать истину и покупал все прекрасное, не стесняясь в цене.
По иронии судьбы, одна из проблем, за изучение которой платил Элиот, была борьба с алкоголизмом в Сан-Диего. Но когда ему был представлен об этом доклад, Элиот был так пьян, что прочесть ничего не мог. Сильвии пришлось заехать за ним в его контору и отвезти домой. Человек сто наблюдало, как она вела его по тротуару к машине, а Элиот декламировал им куплетик, который он сочинял все утро:
Много-много доброго я купил,
Много-много скверного сокрушил.
Два дня после этого Элиот провел в полном раскаянии и трезвости, после чего исчез на целую неделю. Между прочим, он ворвался без приглашения на конференцию авторов книг по научной фантастике, в милфордском мотеле штата Пенсильвания. Норман Мушари узнал об этом случае из доклада, хранившегося в делах фирмы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, и сделанного частным сыщиком. Сыщик был нанят старым мистером Мак-Алистером и следовал за Элиотом, проверяя, не сделает ли он чего-нибудь незаконного, такого, что может потом вредно отразиться на делах Фонда.
В отчете было дословно приведено выступление Элиота перед писателями-фантастами. Вся конференция, включая и пьяную речь Элиота, была записана на пленку.
— Люблю я вас, чертовы дети, — сказал Элиот в Милфорде. — Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех реальных чудовищных процессах, которые с нами происходят, только вы одни, в своем безумии, способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе и что жизнь вовсе не коротка, а длится биллионы лет. Только у вас одних хватает мужества по-настоящему болеть за будущее, по-настоящему понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающее непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничной одержимости, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными тайнами, над тем фактом, что именно сейчас мы должны решить — будет ли наше путешествие во вселенной адом или раем.
Потом Элиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные перемены, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. «К черту этих талантливых пердунчиков, которые так изысканно изображают какой-нибудь мизерный кусочек чьей-то одной куцей жизнишки, когда решается судьба галактики, эонов и миллиардов еще не рожденных душ».
«Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгор Траут, — продолжал Элиот, — и я мог бы пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не смог приехать, потому что ему нельзя бросить работу! И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку? Элиот даже задохнулся, у него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту: — Он занимается гашением премиальных талончиков!!!»
Это была правда. Траут, автор восьмидесяти семи романов, вышедших в дешевых изданиях, был очень бедный человек, и никто, кроме любителей научной фантастики, о нем не знал. Когда Элиот так тепло о нем отозвался, ему уже пошел шестьдесят седьмой год.
— Через десять тысяч лет, — вещал на конгрессе Элиот, — имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени — автор романа «Бы-Тиль-Небыть».
Так называлась одна из книг Траута. И это название, при ближайшем рассмотрении, оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета.
Мушари добросовестно стал искать эту книгу, чтобы ее включить в составленную им на Элиота документацию. Ни один уважающий себя книготорговец об этом Трауте никогда не слыхал.
Мушари сделал последнюю попытку: стал рыться среди порнографических книжонок у продавца порнолитературы в подворотне. И там, среди всякого пакостного чтива, он нашел истрепанные книжки Траута — всё, что тот написал. За «Бы-Тиль-Небыть», номинально стоившую двадцать пять центов, он заплатил пять долларов и столько же отдал за «Кама-Сутру».
Мушари перелистал «Кама-Сутру», издавна запрещенное восточное руководство по искусству и технике любви, и прочитал там следующее:
«Ежели мужчина сварит некое подобие студня из растений кассия фистула и эвгения джамболина, и разотрет в порошок растения вероника антиглистата, эклипса простата, лоджопия прыгата, и смесь эту возложит на лобок женщины, с коей он вознамерился вступить в сношение, он незамедлительно перестанет испытывать к ней страсть».
Ничего смешного Мушари в этих наставлениях не увидал. Он вообще был лишен чувства юмора, так как его всецело поглощали вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Да и умишко у него был настолько куцый, что он вообразил, будто произведения Траута — очень-очень неприличная штука, раз их так дорого продают таким странным людям в таком странном месте. Он не мог Понять, что с порнороманами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-то фантастическом мире, где все тебе открыто.
Перелистывая страницы сногсшибательной прозы, Мушари чувствовал, что его обманули, он жадно выискивал что-нибудь насчет секса, а ему рассказывали про автоматику. Любимый прием Траута состоял в том, чтобы описывать совершенно гнусный общественный строй, довольно похожий на современное общество, а под самый конец предлагать способы, как улучшить эту жизнь. В романе «Бы-Тиль-Небыть» он рисовал гипотетическую Америку, в которой почти всю работу делали машины, и единственные люди, которые могли поступить хоть на какую-то службу, имели три докторских степени. Кроме того, страна была очень перенаселена. Никаких серьезных болезней уже не осталось, так что надо было умирать добровольно, и правительство для поощрения добровольцев-самоубийц воздвигало на каждом углу Салоны Самоубийств «Этика», крытые красной черепицей, и рядом, под оранжевыми крышами, ресторанчики фирмы Говард Джонсон. В салоне хозяйничали прехорошенькие девушки, там царил уют, комфорт, и посетителям предлагалось на выбор четырнадцать способов легкой смерти. Салоны Самоубийств работали бесперебойно, потому что очень многим жизнь казалась глупой и бесцельной, а добровольная смерть считалась поступком самоотверженным и патриотическим. Перед самоубийством каждый получал бесплатное угощение в соседнем ресторанчике.
И так далее. Воображение у Траута было богатейшее. Один из клиентов спросил хозяйку салона, попадет ли он в рай, и она ответила, что он непременно попадет. Он спросил, увидит ли он Господа Бога, и она сказала: — Ну конечно, миленький!
— Очень надеюсь, — сказал клиент, — уж очень мне охота спросить Его кое о чем. Тут, на земле, ничего нельзя было узнать.
— А чего это вы хочете узнать? — спросила она, затягивая на нем ремешки.
— На кой черт нужны люди?
На конференции писателей-фантастов в Милфорде Элиот сказал, что им было бы невредно побольше знать и про секс, и про экономику, и про стилистику, но тут же добавил, что людям, которые по-настоящему занимаются серьезными проблемами, на такие мелочи времени не хватает. И тут он высказал предположение, что еще никто не написал настоящей, хорошей, серьезной, научно-фантастической книги про деньги.
— Вы только подумайте, как дико и бессмысленно распределяются деньги по всей Земле, — сказал он. — И вам вовсе не надо отправляться в антимиры, скажем, в галактику 508-Г на планету Тральфамадор, и там искать каких-то сверхчудищ, облеченных невероятной властью! Посмотрите, какой властью обладает обыкновенный землянин-миллионер! Посмотрите на меня! Ведь я родился голым, как и все вы, но, Боже правый, друзья мои и ближние, ведь теперь я могу тратить тысячи долларов в день!
Он перевел дух и тут же на деле подтвердил свои слова, выписав каждому участнику съезда из грязноватой чековой книжки чек на двести долларов.
— Вот вам фантастика! — сказал он. — А завтра вы пойдете в банк, и все окажется реальностью. Разве это не безумие, что я могу так швыряться деньгами!
На секунду он потерял равновесие, пошатнулся, потом выпрямился и чуть не заснул стоя. С трудом открыв глаза, он проговорил:
— Я предоставляю вам, друзья мои и ближние, и особенно бессмертному Килгору Трауту вникнуть в те глупости, которые люди делают с деньгами, и потом придумать, как разумно распределять их.
Элиот пошатываясь ушел из Милфорда, доехал на попутных машинах до Суортмора, в штате Пенсильвания. Зайдя в небольшой бар, он объявил, что каждый, у кого есть значок добровольной пожарной дружины, может выпить за его счет. Потом он отчего-то расстроился, прослезился и стал жаловаться, что его мучает мысль о том, что возле густонаселенной планеты атмосфера все время пытается сожрать все, что дорого жителям этой планеты. Он, конечно, подразумевал нашу Землю и атмосферный кислород.
— Вы только подумайте, ребята, — сказал он, всхлипывая, — нас с вами это ближе всего касается. А тут еще земное тяготение всех нас связывает. И мы с вами, мы, немногие счастливцы, мы входим в одно братство, мы-то и объединены общим важным делом — не дать этому проклятому кислороду соединиться с нашей пищей, нашим кровом, нашей одежей, погубить наших любимых. Понимаете, ребята, ведь я тоже был членом добровольной пожарной бригады, и я сейчас вступил бы в ее ряды, если бы в этом Нью-Йорке существовала такая гуманная, такая человечная организация.
Конечно, все это была чепуха — никогда Элиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильные владения. Подхалимы-сограждане, желая подольститься к маленькому Элиоту, сделали его как бы «талисманом» добровольной пожарной бригады. Ни одного пожара он не тушил.
— Я вам говорю, ребятки, — продолжал Элиот, — если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах и остановить мы их не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков «с распростертыми объятиями», на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах, с охотничьими ножами и винтовками, кто будет драться до последнего конца, клянусь Богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады, вот кто!
В Суортморе Элиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвым виде. Когда, он проспался на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой.
Но через месяц он опять удрал, целую ночь бражничал с пожарными в Кловерлике, в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником, отдал ему свой костюм ценой в четыреста долларов за двубортный пиджак образца 1939 года, синий в белую полосочку, с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой.
— Спятил ты, вот что, — сказал Элиоту этот пожарник.
— Не хочу быть таким, как я, — ответил Элиот, — хочу быть таким, как ты. Ты — соль земли, клянусь честью! В тебе все то, чем славится Америка. Все вы, на ком такая одежа, — душа американской пехоты.
Так Элиот постепенно обменял свой гардероб, кроме фрака, смокинга родного серого фланелевого костюма. Его шестнадцатифутовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаек, старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубах и так далее. Сильвия хотела все это сжечь, но Элиот сказал:
— Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже.
Уже тогда Элиот явно был тяжело болен, но никто не подумал заставить его лечиться, и никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Элиота сумасшедшим.
Маленькому Норману Мушари тогда было всего двенадцать лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался онанизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенатора Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Элиоте Розуотере он и слыхом не слыхал.
Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Элиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни — политической борьбой — и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Элиота, он заявил, что его это не беспокоит, потому что его сын — человек, хорошо воспитанный.
— У него основа крепкая, стержень в нем есть, — сказал сенатор. — Занимается экспериментами, и всё. Одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов.
Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о Золотом веке Римской империи; в этой речи, получившей довольно широкую известность, он, в частности, сказал следующее:
— Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, а он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборты, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. Как и сейчас, в Америке, чернь открыто нападала на защитников закона и порядка, дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было, даже среди бела дня! И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырливые иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились честные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римский империи.
Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек, и говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы, после того как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сибаритство и полиглотство: «Лучшей жизни никогда не бывало! Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсюда изгнали сексуальное ханжество. Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило ему только подумать о насилии, о прелюбодеянии! А теперь делай что хочешь и радуйся!»
Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники даровщины, те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров, и варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие — дорогу варварам!
Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков — Антония и Клеопатру — в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих, на сегодняшний день.
Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие.
«Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом разваленном доме? А сделал он то, что, как нам вечно твердят, никак и никогда делать нельзя, и ничего из этого выйти не может: он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестоким полицейским насилием, и его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи. И римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам, словом, применяли к ним те меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. Что же, помогало это или нет? Готов заложить последнюю пару башмаков — еще как помогало! Всех этих скотов как ветром сдуло. А как теперь мы называем годы, наступившие после этих, немыслимых в наше время насилий? Не более и не менее, друзья мои и ближние, как „Золотой век Римской империи“!»
Что же, неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жестокому примеру! Да, конечно! Дня не проходит без того, чтобы я, в тех или иных словах, не говорил: «Давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть». Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов скармливать львам? Могу доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю: да, стою. Твердо, безоговорочно. Скормить сегодня же к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков: конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие и необычные способы наказания. Отнюдь! Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу человечеству».
И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей, но что всякие благодетели рода человеческого, считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости.
— Подводя итоги, — сказал сенатор, — я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить Кодекс моральных законов и силой навязывать эти законы, или мы можем вернуться к Системе Свободного Предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа: «Тони или выплывай». Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов, и пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории. Но на тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. «Золотой век Римской империи», друзья мои и ближние, «Золотой век Римской империи»!
Быть может, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния, но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно, а своих приятелей-художников уверял, что только толстозадые болваны-богачи, для которых это — единственный вид спорта, интересуются их искусством. А своих ученых друзей он спрашивал:
— По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слушать ваши нудные лекции? — Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать.
Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова проявил горячий интерес к искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями.
Сильвия была счастлива как никогда. Но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался.
— Но ведь вы его уже вылечили!
— Дорогая моя, если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу. Но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз, такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в чем природа этого невроза. За целый долгий год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь.
— Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении!
— А вы знали, о чем мы разговариваем?
— Я считала, что лучше его не расспрашивать.
— Об американской истории! Элиот — тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него — настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания? Об истории Америки!
Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было девятнадцать лет, он пошел с матерью на яхте, по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут бимс сбил Юнис Розуотер с палубы, и она камнем пошла ко дну.
— Спрашиваю его, кого он видит во сне, — продолжал доктор, — а он мне отвечает: «Сэмюэла Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона!» Спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне отца? Нет, говорит, зато Торстейн Веблен[42] мне снится очень часто. Миссис Розуотер, я сдаюсь. Я отказываюсь его лечить.
Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора.
— Он не понимает этот мой способ лечения и потому отказывается принять его, — заметил Элиот вскользь.
В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-Опера на премьеру новой постановки «Аиды», Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы.
Элиот был изумительно элегантен — высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком порозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытое помещение, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох, Элиот крикнул им:
— Только не пытайтесь петь, дольше продержитесь!
Элиот встал, перегнулся через барьер ложи и начал уговаривать певца и певицу:
— Вы же про кислород ничего не знаете. А я знаю. Поверьте, вам сейчас нельзя петь!
Лицо Элиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав. Он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления — казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.
Норман Мушари узнал, что в тот вечер, когда давали «Аиду», Элиот снова исчез, выскочив из машины на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню, когда они ехали домой.
Десять дней спустя Сильвия получила следующее письмо, написанное на почтовой бумаге со штампом Добровольной пожарной бригады города Эльсинор, штат Калифорния. Очевидно, название городка повлияло на его раздумья о себе, потому что он в чем-то отождествлял себя с шекспировским Гамлетом:
«Милая Офелия!
Эльсинор оказался вовсе не таким, как я ожидал, а может быть, их несколько, и я попал не в тот Эльсинор. Правда, школьная команда футболистов назвалась „Смелые датчане“. Но вся округа зовет их „Унылые датчане“. За три последних года они выиграли один раз, сделали ничью тоже один раз и проиграли двадцать четыре матча. Впрочем, проигрыш неизбежен, когда в полузащиту становится Гамлет.
Когда мы ехали в машине, ты мне сказала напоследок, что нам, по-видимому, надо развестись. Я до сих пор не понимал, что жизнь со мной стала для тебя настолько тягостной. Зато понимаю, что я ничего не понимаю: например, я все еще никак не могу понять, что я и вправду алкоголик, хотя первый встречный сразу все видит.
Может быть, я льщу себе, думая, что у меня много общего с Гамлетом, что и у меня есть важная миссия в жизни, хотя пока что я еще не знаю, как к ней подступиться. У Гамлета было большое преимущество передо мной: тень его отца точно объяснила ему, что надо делать, а я действую безо всяких инструкций. Но что-то мне подсказывает, куда идти, что там делать и зачем это нужно. Не пугайся, никаких голосов я не слышу. Просто чувствую, что есть у меня какое-то предназначение, далекое от той пустой и показной жизни, которую мы ведем в Нью-Йорке. Вот я и брожу.
Брожу…
Для Нормана Мушари было большим разочарованием, когда он прочитал, что Элиот никаких „голосов“ не слышит. Но в конце письма определенно чувствовалось безумие: Элиот подробно описывал все пожарные машины Эльсинора, как будто Сильвии только это и было интересно:
…Здешние машины выкрашены в черную и оранжевую полосы, как тигры. Вид потрясающий. В воду они подбавляют химикалии, чтобы струя легче проникала сквозь деревянные стены в пламя пожара. Это, конечно, имеет смысл, если только от химикалий не портятся насосы и шланги. Эти средства стали применять не так давно, и пока их действие проверить трудно. Здешним пожарником предложил посоветоваться с фирмой, изготовляющей, насосы и шланги, и они обещали сделать запрос. Меня они считают очень знаменитым пожарным из столичных мест. Чудесные люди. Они ничуть не похожи на тех пердунчиков и попрыгунчиков, которые стучатся в двери Фонда Розуотера. Они такие, как те американцы, с которыми я встречался на войне.
Наберись терпения, Офелия.
Любящий тебя
Гамлет».
Из Эльсинора Элиот отправился в Вашти, штат Техас, где его сразу арестовали. Он приплелся к пожарному депо, небритый, немытый, и стал объяснять каким-то шалопаям, что правительство обязано разделить поровну все богатство страны, вместо того чтобы одни люди не знали, куда девать деньги, а другие нищенствовали. Он без умолку болтал что попало:
— Знаете, что должны были бы в первую очередь сделать наши вооруженные силы — наша армия, наш флот, наша авиация? Им следовало бы всех бедных американцев переодеть в чистую одежду, без заплаток, хорошо отглаженную, чтобы богатым американцам не стыдно было на них смотреть.
Он и про революцию говорил. Сказал, что наступит она лет через двадцать, и все пойдет отлично, если только во главе станут ветераны-пехотинцы и добровольные пожарные бригады.
Его посадили в тюрьму — подозрительная личность! Выпустили его после допроса, причем никто ничего не понял. Но с него взяли обещание — никогда больше в городе Вашти не появляться.
Через неделю он оказался в городе Новая Вена, в штате Айова. Оттуда он снова написал Сильвии на почтовом листке со штампом тамошней добровольной пожарной бригады. Он называл ее «самой терпеливой женщиной на свете» и обещал, что теперь ей недолго осталось ждать.
«Теперь мне ясно, — писал он, — куда я должен идти. И я отправлюсь туда как можно скорее! Оттуда я тебе позвоню! Быть может, я останусь там навсегда! Мне еще неясно, что я там должен делать, но я уверен, что и это скоро прояснится.
Пелена спадает с моих глаз!
Кстати, я сообщил здешней пожарной бригаде, что им надо бы тоже добавлять в воду химикалии, но сначала хорошо бы написать фирме, делающей насосы. В бригаде это предложение нашло отклик. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем собрании. А я уже шестнадцать часов не пью. И ничуть не страдаю без этой отравы! Привет!»
Получив это письмо, Сильвия тут же велела присоединить к своему телефону записывающее устройство (еще один козырь для Мушари). Сильвия пошла на это, решив, что Элиот окончательно спятил. Она хотела записать каждое слово, когда он позвонит, чтобы узнать, где он находится и в каком состоянии, тогда можно будет за ним приехать.
Вскоре он позвонил:
— Офелия?
— Элиот, Элиот! Милый, где ты?
— В Америке, среди рахитичных сынов и внуков первопоселенцев-пионеров.
— Но где же ты? Где же?
— Да где-то тут, в телефонной будке, алюминиевой, застекленной, и стоит где-то в Америке, а на серой полочке лежат американские монетки — всякая мелочь. На этой же серенькой полочке еще написано одно сообщение — вечным пером.
— О чем это?
— «Шейла Тэйлор — зануда — подразнит — и не даст!» Похоже на правду!
В трубке послышался нахальный гудок.
— Внимание! — сказал Элиот. — Автобус «Борзой» протрубил римскую зорю у автобусной станции, она же бакалейная лавочка. Ого! Старичок-американец отозвался, вот он ковыляет к остановке. И никто его не провожает. А он и не оглянулся, видно, и не ждет, что кто-нибудь пожелает ему доброго пути. В руке у него пакет в оберточной бумаге, перевязан веревочкой, и едет он куда-то, а там, наверное, помрет. Прощается, как видно, с этим городком, другого он никогда не видал, и с этой жизнью, другой он не знал. Впрочем, ему не до того. Зачем ему прощаться со своей вселенной, ему бы только не рассердить могучего водителя автобуса. А тот восседает на своем синем кожаном троне, смотрит сверху вниз, кипит от злости. Беда! Ну вот, влез старичок наконец, справился, а теперь никак не найдет билет! Ага, копался, копался и нашел. А водитель бесится. Дернул автобус так, что все заскрежетало. Вот какая-то старушка переходит дорогу, и гудок взревел на нее так, что стекла зазвенели. Злоба, злоба, злоба!
— Элиот, а там… там есть река?
— Моя телефонная будка стоит в широкой долине, где проходит открытая канава под названием река Огайо. Сама река отсюда милях в тридцати. В ней водятся огромные карпы, величиной с атомную подлодку, жиреют на помоях, которые выливают сыны и внуки первопоселенцев-пионеров. За рекой видны некогда зеленые холмы штата Кентукки, обетованная земля Дэниэла Буна[43], ныне искромсанная и изрезанная открытыми шахтами, а владеет многими из этих шахт некий благотворительный и культурный Фонд, основанный интереснейшим старым американским семейством по имени Розуотеры.
На противоположном берегу реки владения Фонда несколько разбросаны. Зато миль на пятнадцать вокруг моей телефонной будки, куда ни пойдешь, почти все принадлежит Фонду Розуотера. Впрочем, одной чрезвычайно прибыльной торговли Фонд не коснулся: тут на каждом доме объявление: «Продаются дождевые черви-выползки». Главная здешняя промышленность — не считая свиней и дождевых червей — это производство пил. И разумеется, пилозавод тоже принадлежит Фонду. А так как пилы играют такую важную роль в здешней жизни, то спортивную команду средней школы имени Ноя Розуотера назвали — «Бойцы-пильщики». Но, в сущности, на пилозаводе людей уже осталось совсем мало, потому что завод почти полностью автоматизирован. Всякий, кто умеет нажать кнопку, может управлять заводом и делать двенадцать тысяч пил в день.
Мимо моей телефонной будки прогуливается сейчас молодой человек из команды «Пильщиков». Ему, вероятно лет восемнадцать, одет в традиционные сине-белые цвета. С виду он довольно грозен, но, по-моему, и мухи не обидит. Самые лучшие отметки в школе он получал по гражданскому праву и по истории современной американской демократии, а преподавал у них эти предметы тренер по баскетболу. Ему хорошо известно, что, если он совершит какое-либо насильственное действие, он не только повредит всей Американской республике, но и окончательно погубит свою жизнь. Никакой работы для него в Розуотеровских краях нет. Да и вообще ему везде чертовски трудно найти хоть какую-то работу. Он часто носит с собой в кармане презервативы, что очень многие считают предосудительным и гадким. Впрочем, тем же людям кажется и предосудительным и гадким, что отец этого мальчика никаких предохранительных средств не употреблял. И вот растет еще один мальчишка, до мозга костей испорченный сытой послевоенной жизнью, еще один красавчик с жадными глазищами. Вот он встретил свою девочку, ей лет четырнадцать, не больше, этакая Клеопатра из мелочной лавчонки, тут бы — непечатное слово. По той стороне улицы — пожарное депо, четыре грузовика, три алкоголика, шестнадцать псов и один веселый трезвый малый с банкой полироля.
— Ах, Элиот, Элиот, вернись домой!
— Неужели ты ничего не поняла, Сильвия? Я же дома! Теперь я понял: мой дом всегда был тут, в городе Розуотере, в округе Розуотер, в штате Индиана.
— Но что ты там собираешься делать?
— Хочу пригреть этих людей.
— Как… как это мило! — беспомощно сказала Сильвия. Она была такая бледная, тоненькая, очень холеная и хрупкая. Она играла на арфе, прелестно болтала на шести языках. В детстве и юности она встречала в родительском доме самых знаменитых людей своего времени — Пикассо, Швейцера, Хемингуэя, Тосканини, Черчилля, Де Голля. Она никогда не бывала в Розуотере, понятия не имела, что такое «выползки», не знала, что на свете существует такой смертельно унылый край, что где-то живут такие смертельно скучные люди.
— Вот я и смотрю на этих людей, на этих американцев, — продолжал Элиот, — и вижу, что они ничего для себя сделать не могут, потому что они никому не нужны. И завод, и фермы, и шахты на том берегу — все полностью автоматизировано. Америка в них не нуждается, даже для войны — теперь прошло это время. Сильвия! Я хочу заняться искусством.
— Каким искусством?
— Да искусством любить этих выкинутых из жизни американцев. Хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные. Вот это и станет моим искусством.
Холст, на котором Элиот задумал создать картину братской любви и взаимопонимания, то есть округ Розуотер, уже послужил полотном для других Розуотеров, которые смело расчертили этот прямоугольный кусок земли вдоль и поперек. Предшественники Элиота опередили даже самого Мондриана[44]. Половина дорог шла с востока на запад, другая половина — с севера на юг. По самой середине округа, до его границы, проходил загнивающий канал, длиной четырнадцать миль. Его прорыл прадед Элиота, и канал так и остался единственной реальной попыткой осуществить мечту пайщиков — соединить таким каналом Чикаго, Индианаполис, Розуотер и реку Огайо. Теперь в канале развелись карпы, красноперки, окуни и толстолобики. Охотникам до рыбной ловли и продавали червей для наживки.
Предки тех, кто теперь торговал выползками, были когда-то пайщиками акционерного общества «Розуотеровский судоходный канал», соединявший Чикаго, Индианаполис и Огайо. Когда планы общества окончательно потерпели крах, разорившимся пайщикам пришлось продать свои фермы. Их скупил Ной Розуотер. Так разорилась целая община на юго-западе округа под названием Новая Амброзия. Эти утописты вложили все свое состояние в постройку канала и все потеряли. Когда-то жители Амброзии, выходцы из Германии, жили коммуной, проповедовали атеизм, многобрачие, абсолютную честность, абсолютную чистоплотность и абсолютную любовь к ближнему. Теперь их развеяло по всему свету, как те обесцененные бумажки, их акции, вложенные в строительство канала. Никто об этих людях и не помнил. Единственный их вклад в жизнь всего округа остался и при Элиоте: выстроенная когда-то этими поселенцами пивоварня, на основе которой вырос знаменитый пивоваренный завод Розуотера «Золотая Амброзия». На этикетке был изображен сказочный город — земной рай, о котором мечтали первые поселенцы Новой Амброзии. Высокие шпили украшали город их мечты. На шпилях высились громоотводы. В небе над шпилями парили херувимы.
Городок Розуотер находился в самом центре округа, а в самом центре городка стоял Парфенон. Весь он, вместе с колоннами, был сложен из честного красного кирпича. Крыт он был зеленой жестью. По городу проходил канал, и когда жизнь тут кипела, пролегали пути Нью-Йоркской железной дороги и узкоколейка Мононовской никелевой компании. Когда Элиот и Сильвия решили переехать на жительство в Розуотер, остался только канал и рельсы Мононовской дороги, но компания эта давно обанкротилась, а рельсы давно заржавели.
К западу от Парфенона стоял старый Розуотеровский пилозавод — тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Сверху крыша была продавлена, стекла в окнах выбиты. Ласточки и летучие мыши жили тут коммуной, так сказать, Новой Амброзией. У всех часов, со всех четырех сторон башни, стрелок не было. Медный заводской гудок был забит птичьими гнездами.
К востоку от Парфенона стояло здание окружного суда, тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Башня с часами была копией заводской башни, только тут, на трех часах из четырех, стрелки еще сохранились, но часы все равно не шли. Как гранулема под гнилым зубом, в подвальчике старого здания примостилось некое частное заведение. Над ним светились алые неоновые буквы: «Салон красоты Беллы», Хозяйка салона, Белла, весила триста четырнадцать фунтов.
К востоку от окружного суда простирался Мемориальный парк памяти ветеранов войны имени Сэмюэла Розуотера. Там стоял флагшток и рядом — Мемориальная доска. Под Мемориальную доску взяли лист фанеры размером четыре на восемь футов, выкрашенный в черный цвет. Лист повесили на металлическую трубку и приделали защитный козырек всего дюйма в два шириной. На Доске были написаны имена всех уроженцев Розуотеровского округа, отдавших жизнь за родную страну.
В городе было еще два каменных здания — особняк Розуотеров с гаражом, который стоял в глубине парка, на искусственном насыпном холме, окруженный изгородью из острых металлических прутьев, а к югу от особняка стоял дом, где помещалась средняя школа имени Ноя Розуотера, где учились «Пильщики» из футбольной команды. С северной стороны к парку примыкал старый Розуотеровский оперный театр — нелепейшее, похожее на свадебный торт, деревянное сооружение, где в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Наверно, потому в нем теперь и было устроено пожарное депо. Кроме того, в городе было множество лачуг и общественных уборных, в нем процветали алкоголизм, невежество, тупоумие, разврат и просто глупость, потому что все здоровые, умные и работящие жители Розуотеровского округа старались устроиться подальше от этого «центра».
Новое помещение Розуотеровского пилозавода, желтое кирпичное здание без окон, стояло между городком и Новой Амброзией. К нему были проложены сверкающие рельсы новой ветки Нью-Йоркской железной дороги и шуршащее шинами шоссе, проходившее в одиннадцати милях от города. Вблизи находился Розуотеровский мотель и Розуотеровский кегельбан. И тут же стояли огромные элеваторы и загоны для скота, куда свозили зерно и свиней с Розуотеровских ферм. Весь немногочисленный обслуживающий персонал — высокооплачиваемые агрономы, инженеры, пивовары — словом, все, кто ворочал делами, — жили в обособленных, удобных домиках, среди поля, неподалеку от Новой Амброзии, причем этот поселок, неизвестно почему, назывался Эвондейл[45]. При каждом доме был внутренний дворик, с газовыми фонарями, обнесенный и выстланный шпалами с заброшенной старой Нью-Йоркской железной дороги.
У чистой публики, жившей в Эвондейле, Элиот считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими Розуотеровской компании, хозяйство, которым они управляли, принадлежало Фонду Розуотера. Отдавать им приказания Элиот не мог, но все равно он был их королем, и эвондейлцы это отлично понимали.
И когда король Элиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвондейла — приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Элиот попросил Сильвию принимать этих нуворишей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвондейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно-обиженным видом, будто им, как сострил Элиот, засунули в задницу соленый огурец.
Интересно, что эвондейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с которой их встречали у Розуотеров, можно было объяснить тем, что Розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение Розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами, и они считали, что Сильвия с Элиотом подают им пример, как надо себя вести.
Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотеровского Областного Народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им лучше не жить на свете. Элиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться, как равные с равными. Элиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом Женского Вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда.
Все подлипалы и подхалимы из Эвондейла стали посматривать на королевскую чету сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, пьянство, разврат, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубовным, словно водя пилой по жести, эвондейлцы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы. Теперь они сами стали правящим классом.
Пять лет спустя Сильвия заболела: в нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвондейла проявили по отношению к роялистам Розуотерам садистическую жестокость. Весь Эвондейл над ними смеялся…
Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Элиот вместе с Чарли Уормерграном, начальником пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, красном пикапе, с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог, доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Элиота и Сильвию «мистер и миссис Икс», а город Розуотер — «городом Эн в США». Он придумал новый термин для болезни Сильвии: «самаратрофия». Слово, обозначавшее, как он объяснял, «истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту».
Норман Мушари читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом.
«Самаратрофия, — читал Мушари, — есть подавление всем сознанием пациента излишне громкого голоса совести. „Слушайтесь только меня!“ — вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет, и где он старался жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести.
И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку-совесть в подвал подсознания, накрепко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. И в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя, он уже всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он — Просвещенный Эгоизм.
Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический „Веселый Роджер“, где на черном фоне — белый череп, скрещенные кости и надпись: „Катись к чертям, Джек, я свое взял!“
Я считал неразумным, — захлебываясь читал Норман Мушари, — снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс. А выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия — не давать совести пациентки снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и химиотерапию и электрошок. Но гордиться мне было нечем: женщину глубокую, вдумчивую я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась, стала похожа на мелкий плавательный бассейн, диаметром фута в три, глубиной в четыре дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой».
Вот это врач!
Вот это лечение!
Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Браун, чтобы она, хотя бы отчасти, могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызения совести, и жалость к ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриализированного общества совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен.
«Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне — зачем я выдумал какую-то болезнь, самаратрофию, когда подавление совести — такая же неотъемлемая черта многих здоровых, нормальных американцев, как, например, их нос. Скажу в свою защиту следующее: самаратрофией заболевают в довольно опасной форме только те, очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему.
Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность самаратрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек этот, понятно, сам мистер Икс. И он так глубоко погряз в благотворительных делах, что, если у него вдруг проснется самаратрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда и его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить».
Лечил, лечил и долечил…
«Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание „начать жить заново, наслаждаться жизнью вовсю“, пока не увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Эн, ни о мистере Икс она и слышать не хотела, сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды, и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого смуглого красавца, наверное, иностранца, хорошо бы — тайного агента двух держав.
В разговоре со мной, писал Браун, она часто называла своего мужа „тот дядька с Юга, пьяница, неряха“, но, конечно, в лицо ему она этого никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка, но, когда муж навещал ее, — а он приезжал три раза в неделю, — ее поведение было весьма странным. Словно она играла роль. То она гладила его по щеке, то хотела его поцеловать и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке.
Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе, и, когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит.
— Бесспорно, вид у нее был счастливый, — сказал он мне, — она, бесспорно, будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна.
Он дважды сказал „бесспорно“. Меня это немного задело. И я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и было.
— И главная заслуга, — сказал он, — бесспорно, ваша».
Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Писем она не читает, к телефону не подходит. И они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс.
Прогноз: Со временем — повторение нервного срыва.
Теперь о мистере Икс. Он, бесспорно, тоже болен; мне, бесспорно, не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он выезжает редко, и то очень ненадолго, и ездит он только до Индианаполиса.
Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему?
Позволю себе отступить от чисто научной терминологии, потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом: этот городок предназначен ему Судьбой.
Добрый доктор правильно поставил диагноз: Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде «золотой» молодежи, пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы, ее прозвали Герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв.
Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорила совесть и жалость к Элиоту и обездоленным жителям Розуотера. Она собиралась вернуться к ним, не оттого, что ей этого очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее: возвращение в Розуотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал ей не уезжать из Европы, развестись с Элиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь.
И контора Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс.
И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Элиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Элиот не приехал. Он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовала Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Тэрмонд Мак-Алистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушари.
В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но, в сущности, глубоко трагический. Пили бренди.
— В глубине души, — говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди, — Элиот любит тамошнее отребье не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства, и вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно.
Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой:
— Ребятенка бы вам родить!
Ему нравилось подражать говору старого фермера-свиновода из Розуотеровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдернув очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощурив голубые глаза.
— Если бы да кабы!
Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятках, как щиток черепахи.
— Видно, пришел конец роду Розуотеров.
— Но ведь есть и другие Розуотеры, — деликатно напомнил Мак-Алистер.
Мушари передернулся — ведь он и собирался стать представителем именно этих других Розуотеров.
— Я говорю о настоящих Розуотерах! — сердито крикнул сенатор. — К черту этих писконтьютцев!
В прибрежном поселке Писконтьют, на Род-Айленде, жили единственные представители другой ветви рода Розуотеров.
— Запируют эти стервятники, запируют! — бормотал сенатор, нарочно терзая себя: он уже видел в воображении, как Розуотеры с Род-Айленда рвут клювами мясо с костей индианских Розуотеров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко. К тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын.
Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Элиота. Фото было сделано в конце второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты, с множеством орденов.
— Такой чистый, такой статный, такой целеустремленный! Да, такой чистый, чистый, чистый! — сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. — Какой благородный ум погибает! — процитировал он.
Он машинально поскреб висок.
— А каким стал он сейчас — рыхлый, бледный — непропеченное тесто, да и только! Спит в белье, а питается чем? Ест хрустящий картофель, пьёт виски «Южная услада» и запивает пивом «Золотая Амброзия». — Сенатор постучал пальцем по фотографии: — Он! Он! Капитан Элиот Розуотер, награжден Бронзовой Звездой, Серебряной Звездой, Солдатской медалью, Орденом Алого Сердца первой степени! Чемпион-яхтсмен! Чемпион по лыжному спорту! И это он! Он! Мой бог, сколько раз жизнь твердила ему: «Да, да, да!» Миллионы долларов, сотни выдающихся друзей, самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете! Блестящее образование, светлый дух в здоровом, крепком теле. И что же он отвечает жизни, когда она ему говорит: «Да! Да! Да!»? — «Нет! Нет! Нет!» — говорит он. А почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему?
Но все промолчали.
— Была у меня кузина — кстати, из Рокфеллеров, — продолжал сенатор, — и она мне рассказывала, что с пятнадцати до восемнадцати лет она всегда твердила одно и то же: «Нет, спасибо! Нет, спасибо!» Все это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но в юноше из этой же семьи Рокфеллеров это выглядело бы дьявольски неприятной чертой, а уж для юноши из семейства Розуотеров это было бы совершенно недопустимо.
Он пожал плечами:
— Что ж, ничего не поделаешь, есть теперь у нас в семье Розуотер, который на все хорошее, что предлагает ему жизнь, отвечает: «Нет, нет, нет!» Он даже не желает жить в своем Розуотеровском особняке.
Элиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.
— Ему стоило бровью повести — и он стал бы губернатором Индианы! Он мог бы стать Президентом Соединенных Штатов, ему для этого и стараться бы почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь?
Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос:
— Он теперь нотариус, друзья мои и ближние, обыкновенный нотариус, а скоро и эти его полномочия истекут.
В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в элиотовской конторе, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять, как нотариусу, всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверять свои подписи.
Контора Элиота находилась на Главной улице, через один квартал, к северо-востоку от кирпичного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного Фондом Розуотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде над закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила: «Закуски», у другого — «Пиво». Под обе вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича о нем, о нем, о нем, Элиот спал, как малое дитя, под миганье электрической рекламы.
На губах Элиота мелькнула улыбка, он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста — шесть футов с лишним, — он теперь обрюзг, весил уже двести тридцать фунтов и сильно полысел — только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных, не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи:
Фонд Розуотера.
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?
Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло. Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды, казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мокла в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания.
Им было мало доброго отношения и сочувствия и даже денежной помощи — они непременно выпрашивали всякие лекарства.
Кипы бланков лежали везде: налоговые бланки, бланки для удостоверений Союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались, россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива «Золотая Амброзия» и пустые бутылки из-под виски «Южная услада».
На стенах были прикноплены всякие картинки — Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов «Лайф» и «Лук». Легкий и прохладный ветерок шуршал сейчас листками, видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости и фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им и портреты Элизабет Тэйлор, потому что они ее ужасно презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие.
— А кто же из них кто? — спрашивали они.
В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там над каждой ступенькой дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачебных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху он написал новые слова — стихи Уильяма Блейка вразбивку, над каждой из двенадцати ступенек. Вот как выглядели эти стихи:
Ангел стоял
Над моей
Колыбелью.
Он мне сказал:
Ты — Радость,
Веселье!
Всех полюби
На земном
Пути,
Ни от кого
Подмоги
Не жди!
А внизу, под лестницей, сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка:
Любовь — утеха для себя:
Другого — полонить, любя,
У милого — покой отнять
И ад на небесах создать.
В данный момент у себя в Вашингтоне сенатор сказал, что лучше бы и ему и Элиоту умереть — и все.
— А мне… мне пришла в голову одна идея, правда, довольно Примитивная, — сказал Мак-Алистер.
— Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности распоряжаться капиталом в восемьдесят семь миллионов долларов.
По усталой улыбке Мак-Алистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан Фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша.
— Я хотел предложить, — сказал Мак-Алистер, — чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться.
Сильвия покачала головой.
— Нет, — прошептала она. — Простите, не могу. — Она полулежала в большом кресле свернувшись калачиком и сбросив туфли. — Нет…
Безукоризненный овал ее бледного до синевы лица был обрамлен черными, как смоль, прядями волос. Темные круги лежали под глазами.
— Нет!
С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия, хотя и выздоровела, но стала уже совсем не той Сильвией, какой была в самом начале розуотерской жизни. Она стала другим человеком, и это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Элиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были физически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Элиота, и все же преследовала самоубийственная мысль — преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела.
И сейчас она отказывалась, только следуя, врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву — безоговорочно принести себя в жертву:
— Нет…
Сенатор сбросил портрет Элиота с каминной доски:
— Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз переспать с этим пьяным бродягой, хотя он и приходится мне сыном? — Он тут же извинился: — Простите старика, но, когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть и грубое, зато точное. Простите, пожалуйста!
Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась:
— Но для меня он вовсе не такой — не пьяный бродяга!
— А для меня — такой, честью клянусь! Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль: «Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий». Не надо щадить меня, Сильвия. Мой сын недостоин быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюнтяйская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров.
— Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные.
— А по-моему, Элиота именно и тянет к ним потому, что в них ничего хорошего нет.
Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать:
— Мне спорить не хочется.
— Неужели ты еще можешь защищать Элиота?
— Да. И если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю: Элиот совершенно прав во всех своих поступках. То, что он делает, прекрасно. А у меня просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему, быть с ним. И это моя вина.
По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил:
— Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Элиот так возится?
— Не знаю.
— Так я и думал.
— Это в них скрыто, — сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что ее против воли, силой втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал:
— Но ты тут среди своих, неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?
— То, что они — люди, — сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала.
А в Розуотере уже гремела гроза, и пегий пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу слюни, будто заболел водобоязнью. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо, и белая — в телефонной будке, у самой закусочной Кэнди Китчен, около автобусной станции.
Загрохотал гром. Молния превратила все в голубую алмазную россыпь.
Пес с воем бросился к конторе Фонда Розуотера и стал царапаться в дверь. Но Элиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Элиота была только одна рубашка. И костюм тоже был только один — замусоленный, синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Сшит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Элиот выменял его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси.
И черные кожаные башмаки были единственной обувью Элиота, кожа на них покрылась сетью трещинок, после того как Элиот попробовал почистить их «Самоблеском» — натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой — в уборной, на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыжий нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее, по чудодейственному закону капиллярности, вымок и весь носок.
Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайд» и форма пожарника — желтая куртка и красный шлем, — висевшая на крюке у входной двери. Элиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины, — работал он на пожарах умело и старательно, а кроме того, подарил местным пожарникам шесть новых машин. Но, по собственному настоянию, он оставался в чине лейтенанта.
Так как Элиот почти никогда не уходил из своей конторы и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он и установил около своей койки два телефона: по черному телефону он отвечал по делам Фонда, по красному — на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Элиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глас в день Страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо. И сирена и башня были, разумеется, оплачены Элиотом.
Снова грянул оглушительный удар грома.
— Брось, брось, брось, — забормотал Элиот, не просыпаясь. Даже когда позвонит черный телефон, Элиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда, в любой час дня и ночи:
— Фонд Розуотера. Что мы можем сделать для вас?
Сенатор воображал, что Элиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Элиота ни смелости, ни ловкости на преступления не хватало. Но Элиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов, особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь, — прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской пехоты — и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивали у Элиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств подходило время идти на военную службу, их обычно признавали негодными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам.
Были среди розуотерских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Элиота, с его любовью ко всем, без разбора, огулом. У них хватало упорства — и они старались вырваться из своего городка, искали работы — кто в Индианаполисе, кто в Детройте, а кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться.
В эту минуту по черному телефону Элиота звонила щестидесятивосьмилетняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей и жить на свете не стоило. Звали ее Диана Луун-Ламперс. Никто никогда не любил ее. Да и любить ее было не за что — до того она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное существование:
— Мамаши моей фамилия была Луун, а папаши — Ламперс.
Помесь Луны и Лампы служила горничной в родовой усадьбе сенатора Розуотера — особняке из фасонного кирпича, где хозяин проводил от силы дней десять в году. В остальные 355 дней Диана была полной хозяйкой двадцати шести комнат. И она одна их, убирала, убирала без конца, хотя была лишена даже единственного удовольствия — винить кого-нибудь за беспорядок.
После уборки Диана уходила к себе — она жила над гаражом Розуотеров, рассчитанным на шесть легковых машин. Теперь там стоял только старый фордик марки «фаэтон» выпуска 1936 года, поднятый на подставки, и трехколесный велосипедик, с пожарной сиреной, на котором когда-то катался маленький Элиот.
У себя дома Диана включала потрескавшийся приемник из зеленого пластика или смотрела картинки в Библии. Читать она не умела. Библия у нее была старая, совсем истрепанная. На тумбочке у кровати стоял белый телефон марки «принцесса», взятый напрокат в Индианской телефонной компании. За прокат Диана платила, сверх обычной платы, еще семьдесят пять центов.
Вдруг снова грянул гром.
Диана в испуге закричала: «Помогите!» И не удивительно: в 1916 году молния убила обоих ее родителей, на пикнике, устроенном сенатором для служащих лесничества. Диана была твердо уверена, что молния убьет и ее. И оттого, что у нее вечно болела поясница, она не сомневалась, что молния попадет ей прямо в больные почки.
Она схватила трубку телефона, своей белой «принцессы» и набрала номер — единственный номер, который она умела набирать. Стеная и всхлипывая, она ждала, пока ей ответят.
Ответил ей Элиот. Его мягкий, отечески добрый, полный человечности голос прозвучал, как низкие звуки виолончели:
— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?
— Опять электричество за мной гоняется, мистер Розуотер. Вот и звоню вам. Уж очень мне боязно.
— Звоните, милая моя, звоните когда угодно, для того я тут и нахожусь.
— Доконает оно меня, не выжить мне.
— Черт его дери, это электричество! — Элиот искренне негодовал. — Вот проклятое, зло меня берет, право! Да как оно смеет мучить нас все время! Свинство, и все!
— Пусть бы уж сразу меня убило, а то все гремит, разговаривает, покою нет.
— Ну нет, не надо! Весь город по вас плакать будет.
— А кому до меня дело?
— Мне, дорогая моя, мне.
— Да кто обо мне пожалеет?
— Я пожалею.
— Да вы-то всех жалеете. А еще кто?
— Многие, многие пожалеют, милая моя.
— Да кого тут жалеть, дуру старую! Мне шестьдесят девятый год пошел.
— Какая же это старость — шестьдесят восемь лет?
— Нет, трудно человеку прожить целых шестьдесят восемь лет и ничего хорошего не видать. А у меня ничего хорошего в жизни не было. Да и откуда ему быть? Видно, я за дверьми стояла, когда Господь человекам мозги раздавал.
— Да неправда это, неправда!
— Видно, я и тогда за дверьми стояла, когда Господь людям тела раздавал — крепкие да красивые. Я и девчонкой ни бегать не могла, ни прыгать. И вечно хворала, дня не помню без хвори. С самых малых лет то живот пучило, то ноги пухли, с тех самых пор и почки стали болеть. И не было мне входа к Господу, когда он деньги раздавал и удачу. А потом набралась я храбрости, вышла из-за дверей и говорю, тихонько так шепчу: «Господи боже, всеблагой, всемогущий, вот она я, бедная, несчастная!» А у него-то уже ничего хорошего и не осталось. И пришлось ему выдать мне нос картошкой, и волосы, что твоя проволока, и голос, как у лягушки.
— Да не похож ваш голос на лягушачий, Диана. Приятный у вас голос.
— Нет, голос у меня как у лягушки, — настаивала Диана. — Там, на небе, и лягушка была, мистер Розуотер. И хотел ее Господь на нашу бедную землю послать. А лягушка эта была умная, старая такая лягва, хитрая. И говорит она Господу, лягва эта: «Нет, Господи, ежели тебе не трудно, оставь меня тут, не посылай родиться на земле, что-то там лягушкам неважно живется. Лучше я тут останусь». И отпустил ее Господь прыгать по небу, а голос от нее взял и мне отдал.
Снова грянул гром. Голос у Дианы стал выше на целую октаву:
— Ох, зачем я не сказала Господу, как та лягушка: «Лучше бы и мне на свет не родиться, тут и для Дианы ничего хорошего нет».
— Ну бросьте, Диана, бросьте! — сказал Элиот и отпил прямо из бутылки глоток «Услады».
— А почки меня день-деньской мучают, мистер Розуотер. Ну прямо будто шаровая молния огнем по ним прыгает, крутится-вертится, а из нее бритвы торчат, острые, ядовитые.
— Плохая штука, ничего не скажешь.
— Еще бы!
— Очень вас прошу, дорогая моя, пойдите вы к доктору, пусть посоветует, что вам делать с этими подлыми почками.
— Да была я у врача. Сегодня ходила к доктору Винтеру, вы же мне сами велели, а он со мной так обращался, будто я — корова, а он ветеринар, да еще под мухой. Он меня крутил, и вертел, и мял, а потом смеется: хорошо бы, говорит, чтоб у всех моих пациентов в Розуотере были такие замечательные почки! Говорит — все это у вас одно воображение. Нет, мистер Розуотер, теперь другого доктора, кроме вас, у меня нету.
— Какой же я доктор, милая моя!
— Все равно. Вы больше болезней вылечили, да еще самых застарелых, чем все доктора во всей Индиане.
— Да что вы, что вы…
— Дейв Леонард нарывами мучился, а вы его вылечили. У Неда Келвина с самого детства глаз как дергался — а теперь все прошло, с вашей же помощью. А Пэрли Флемминг только вас увидала — и костыль бросила. Вот и у меня сейчас почки совсем болеть перестали, как услышала ваш голос, такой ласковый.
— Я рад.
— И гром не гремит, и молнии уже нету. Гроза и вправду прошла, слышалась только неисправимо сентиментальная песенка дождя.
— Теперь-то вы уснете, дорогая моя?
— Да, спасибо вам. Ах, мистер Розуотер, вам бы при жизни памятник поставить, посреди города, большую такую статую, из чистого золота, всю в бриллиантах, самых драгоценных рубинах, каким и цены нет, а еще лучше бы — целиком из этого самого ураниума; как подумаешь, какого вы знатного роду, какое образование получили, сколько у вас денег и какой вы обходительный, вежливый, ваша матушка вот как хорошо вас воспитала, да вам бы жить в столице, разъезжать в кадиллаках, с самыми важными шишками якшаться, да чтоб вас с оркестром встречали, чтоб весь народ кричал «ура!». Вам бы занимать самое высокое место на свете, глядеть оттуда на нас, бедных, на серость нашу да на глупость и думать, что это там за козявки ползают?
— Ну бросьте, бросьте!
— Вам бы каждый позавидовал! И ведь все у вас было, а вы все бросили, пришли к нам, бедным, на помощь. Думаете, мы этого не понимаем? Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер! Спокойной ночи!
— Да, сама природа подает нам сигнал «опасно!», — хмуро сказал сенатор Розуотер Сильвии, Мак-Алистеру и Мушари. — А сколько я их проглядел, этих сигналов. Да, пожалуй, все проглядел!
— Вы не виноваты, — сказал Мак-Алистер.
— Если у человека есть один-единственный сын, — продолжал сенатор, — а его семья всегда славилась людьми волевыми, исключительными, по каким же признакам тогда определять — нормальный у него сын или нет?
— Но вы же не виноваты.
— Но ведь я всю жизнь требовал, чтобы за все свои неудачи человек винил только самого себя.
— Но для кого-то вы, вероятно, делали исключения.
— Очень редко.
— Вот и сделайте такое редкое исключение для самого себя. Вы именно и относитесь к этим исключениям.
— Я ведь часто думаю, что Элиот никогда не стал бы таким, если бы наша местная пожарная бригада не подняла вокруг него всю эту идиотскую шумиху, когда он был мальчишкой. Сделали его, видите ли, «талисманом» бригады, избаловали вконец. Чего только они ему не разрешали — сажали его рядом с первым номером, разрешали звонить в колокол, научили делать выхлоп на машине, гоготали как дураки, когда у него лопнул глушитель. И от всех от них несло спиртным.
Сенатор замотал головой, прищурился:
— Да, спиртное и пожарные машины — вот оно к нему и вернулось, золотое детство! Не знаю, не знаю, сам ничего не понимаю. Когда мы с ним приезжали в Розуотер, я ему внушал, что это — его родной дом. Но никогда я не думал, что он сдуру этому поверит. Нет, все-таки я себя виню, — сказал сенатор.
— Прекрасно, — сказал мистер Мак-Алистер. — Но если уж вы так решили, возьмите на себя ответственность и за все то, что случилось с Элиотом во время второй мировой войны. Несомненно, вы виноваты в том, что те немецкие пожарники тогда застряли в дыму горящего дома.
Мак-Алистер говорил о том случае в конце войны, который, по-видимому, и вызвал тогда нервный срыв у Элиота. Речь шла о горевшей музыкальной мастерской в Баварии. Предполагали, что там, в густом дыму, засел отряд вооруженных эсэсовцев.
Элиот вел один из взводов своей роты на штурм горящего дома. Обычно он был вооружен автоматом Томпсона, но тут взял винтовку с примкнутым штыком, потому что стрелять не хотел, боясь в густом дыму попасть в своих. Ни разу за все годы этой кровавой бойни он не ткнул штыком в живое тело.
Он швырнул в окно гранату. Раздался взрыв, и капитан Розуотер первым вскочил в окошко. Он очутился в густом облаке дыма, оседавшего у самых глаз. Он задрал голову, чтобы дым не лез в нос; он слышал голоса немцев, но разглядеть никого не мог.
Он шагнул вперед, споткнулся о чье-то тело, упал на другое. Эти немцы были убиты его гранатой. Элиот вскочил — перед ним стоял немец в каске и противогазе.
Элиот был хорошим солдатом: он сразу двинул врага коленом в пах, вонзил ему в горло штык и, выдернув его, разбил немцу челюсть прикладом.
И вдруг Элиот услыхал откуда-то рев американского сержанта. Там, как видно, дым рассеялся и сержант орал во всю глотку:
— Стой! Осади назад! Не стрелять, мать вашу так! Тут нет солдат, тут одни пожарные!
Так и оказалось. Элиот убил трех безоружных людей, трех простых деревенских жителей, честно занятых благородным и безусловно нужным делом: они старались спасти постройку от соединения с кислородом.
А когда санитары сняли противогазы с тех троих, кого убил Элиот, оказалось, что это — два старика и мальчишка. Именно мальчишку Элиот убил штыком. С виду ему было лет четырнадцать.
Минут десять Элиот вел себя нормально. И вдруг… И вдруг он вышел на дорогу и спокойно лег прямо под мчащийся на него грузовик.
Грузовик еле успел затормозить — передние колеса чуть не задели капитана Розуотера. Солдаты в ужасе бросились поднимать своего капитана. Оказалось, что все его тело так свело судорогой, что оно все одеревенело — можно было бы поднять его за волосы и за пятки.
Двенадцать часов он не приходил в себя, не двигался, не пил, не ел. Пришлось отправить его в «город-светоч» Париж.
— А в Париже, каким он был в Париже? — допытывался сенатор у Сильвии. — Вам-то он показался вполне нормальным?
— Да, потому я с ним и захотела познакомиться.
— Не понимаю.
— Мой отец выступал со своим струнным квартетом в американском военном госпитале, в отделении для душевнобольных. И там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам, на обед. Помню, как отец представил его нам: «Вот, познакомьтесь: это пока что единственный американец, который прочувствовал, что такое вторая мировая война».
— А о чем же он говорил так разумно?
— Дело не в словах, не в том, что он говорил, а в том, какое он производил впечатление. Помню, как отец о нем рассказывал: «Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, — он презирает искусство. Можете себе представить, презирает, — но так мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его, — и должен признаться, что человек, заколовший штыком четырнадцатилетнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать».
— И я его полюбила с первого взгляда.
— Ты не можешь найти другое слово?
— Вместо чего?
— Вместо слова «любовь».
— А разве есть слово прекраснее?
— Нет, конечно, слово то было очень хорошее, пока Элиот не стал им злоупотреблять. Для меня оно испорчено вконец. Элиот сделал со словом «любовь» то, что некоторые делают со словом «демократия». Раз Элиот собирается «любить» всех на свете, кого попало, значит, нам, тем, кто любит совершенно определенных людей по совершенно определенным причинам, надо искать новое слово.
Сенатор взглянул на большой портрет своей покойной жены:
— Например, я любил ее гораздо больше, чем, скажем, негра-мусорщика, вот и выходит, что я, по нынешним понятиям, повинен в одном из самых тяжких грехов — в дискриминации.
Сильвия устало улыбнулась:
— Раз нет лучшего слова, можно мне говорить по-прежнему, хотя бы сейчас, сегодня?
— В твоих устах это слово еще имеет смысл.
— Я полюбила Элиота с первого взгляда, и стоит мне о нем подумать — знаю, что люблю.
— Но ты, наверное, очень скоро сообразила, что у тебя на руках человек со странностями.
— Да, он стал пить.
— Вот тут-то и корень зла, именно тут.
— А потом разыгралась эта ужасная история с Артуром Гарвеем Ульмом.
Ульмом звали того поэта, которому Элиот выдал десять тысяч долларов, когда Фонд еще находился в Нью-Йорке.
— Этот несчастный Артур сказал Элиоту, что хочет быть свободным и писать правду, не считаясь ни с какими экономическими трудностями, и Элиот тут же выдал ему огромный чек Это было на одном приеме, на коктейле, — продолжала Сильвия. — Помню, там был Роберт Фрост, и Сальвадор Дали, и Артур Годфри, словом, много знаменитостей. «Валяйте, черт подери! Расскажите всем правду! — говорит Элиот. — Ей-богу, давно пора. А если вам понадобится побольше денег, чтобы написать побольше правды, приходите опять ко мне». И этот несчастный Артур совершенно ошалел, стал ходить между гостями, всем показывал чек, спрашивал, неужели он настоящий? Все ему говорят — да, чек замечательный, огромный. Он опять подошел к Элиоту, просил подтвердить, что это не розыгрыш, не шутка. И тут он почти что в истерике стал умолять Элиота: «Подскажите мне, что писать?» — «Правду», — говорит Элиот. А тот упрашивает: вы, говорит, мой покровитель, я подумал, что вы, именно как мой покровитель, мне… ну… подскажете…
«Вовсе я не ваш покровитель, — говорит Элиот. — Я такой же американец, как вы, который дал вам денег, чтобы вы нам рассказали правду, как она есть. А это совсем другое дело». — «Понимаю, понимаю… Так оно и должно быть. Этого я и хочу. Но просто я подумал — может быть, есть какая-то определенная тема, может, и вы хотели бы…» — «А вы сами выберите тему и смело возьмитесь за нее», — «Слушаюсь!» — И вдруг бедный Артур, сам не понимая, что он делает, вытянулся и отдал честь, хотя, по-моему, он никогда в жизни нигде не служил: ни в армии, ни во флоте. Отошел он от Элиота и опять стал приставать к нашим гостям, все выяснял, чем Элиот особенно интересуется. Потом опять подходит к Элиоту и говорит, что сам он когда-то бродил с фермы на ферму, собирал фрукты. И вот теперь он решил написать цикл поэм о том, до чего эти сборщики фруктов скверно живут.
И тут Элиот выпрямился во весь рост, глаза у него засверкали, он посмотрел на Артура сверху вниз и сказал громко, чтобы все гости слышали: «Сэр! Отдаете ли вы себе отчет, что Розуотеры являются не только основателями, но и главными пайщиками акционерного общества „Юнайтед фрут компани“?»
— Ничего подобного, — сказал сенатор.
— Ну конечно, — сказала Сильвия.
— Разве у Фонда Розуотера есть сейчас какие-нибудь акции в этой компании? — спросил сенатор Мак-Алистера.
— Да что-то около тысячи штук, — сказал Мак-Алистер.
— Совершенная ерунда.
— Конечно, — согласился Мак-Алистер.
— Бедный Артур покраснел как рак, куда-то поплелся, потом вернулся и очень робко спросил Элиота, кто его любимый поэт. «Имени его я не знаю, — сказал Элиот, — а жаль: потому что его стихи я запомнил наизусть, а я вообще стихов не запоминаю». — «А где вы их прочитали?» — «На стенке, мистер Ульм, на стене мужской уборной в пивном баре при гостинице „Лесная обитель“ между округами Розуотер и Браун, в штате Индиана».
— Очень странно, — сказал сенатор, — удивительно странно. Ведь гостиница «Лесная обитель» давным-давно сгорела, да, сгорела, должно быть, в году 1934, что ли. Странно, что Элиот ее помнил.
— А он там бывал? — спросил Мак-Алистер.
— Один раз, один-единственный, насколько я помню, — сказал сенатор. — Ужасная дыра, воровской притон. Мы бы никогда там не остановились, если бы у нас в машине не заглох мотор. Элиоту было лет десять — двенадцать. Наверное, он воспользовался уборной, наверное, прочел там что-то на стенке и навсегда запомнил.
Сенатор покачал головой:
— Странно, очень странно.
— А какие это были стихи? — спросил Мак-Алистер.
Сильвия заранее извинилась перед обоими стариками — стихи были не совсем приличные — и прочла то, что громко на весь зал, Элиот когда-то продекламировал несчастному Ульму:
Не мочились никогда мы
В пепельницы ваши,
Не бросайте же окурков
В писсуары наши!
— Бедный поэт заплакал и убежал, — продолжала Сильвия, — а я несколько месяцев подряд со страхом распечатывала все бандероли, боялась, что вдруг там окажется отрезанное ухо Артура Гарвея Ульма!
— Значит, ненавидит искусство, — сказал Мак-Алистер. Он тихонько посмеивался.
— Но ведь Элиот — сам поэт, — сказала Сильвия.
— Первый раз слышу, — сказал сенатор. — Никогда никаких его стихов не читал.
— А мне он часто писал стихи, — сказала Сильвия.
— Наверное, он больше всего любит писать на стенках общественных уборных. Я часто думал — да кто же это пишет? Теперь знаю кто: мой сын-поэт.
— А он действительно пишет на стенах в уборных? — спросил Мак-Алистер.
— Да, говорят, что пишет, — сказала Сильвия. — Но пишет он самые невинные вещи, ничего неприличного. Когда мы жили в Нью-Йорке, мне многие говорили, что Элиот постоянно пишет в уборных одну и ту же сентенцию.
— А вы помните, что именно?
— Да. «Если тебя разлюбят или забудут, держись стойко!»
— Насколько я понимаю, это — его собственное творчество.
А в это время Элиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвеем Ульмом.
Роман назывался: «Мандрагоре дай дитя». Это была цитата из стихотворения Джона Донна. На титуле стояло посвящение: «Сострадательной моей Бирюзе — Элиоту Розуотеру». И под этим посвящением — снова цитата из Джона Донна:
Как бирюза нам сострадать умеет:
Хозяин страждет — и она бледнеет.
К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндромпресс» перед самым рождеством и вместе с книгой «Колыбель эротики» будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов.
«Вы, наверное, забыли меня, Сострадательная Бирюза, — писал он дальше. — Тот Артур Гарвей Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, воображавший, что он — поэт. Как долго-долго он не мог понять до конца — сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости! Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться, — и как мало слов вам для этого понадобилось! И вот теперь (четырнадцать лет спустя) перед вами восемьсот страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы, — я вовсе не хочу сказать „без ваших денег“. Деньги — дерьмо, и об этом я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе, и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных».
Элиот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвей Ульм, и тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Элиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма:
«Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всяческие ханжи — этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки Джинна — всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку!»
Тут Элиот стал жадно листать рукопись: интересно, какую такую правду открыл Ульм, за что его захотят убить?
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, вскрикнув то ли от боли, то ли от восторга (разве поймешь женщину?), когда мой Великий Мститель проник в свои владения…»
Элиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение.
— Фу ты, пропасть! — сказал он своему продолжателю рода человеческого. — До чего у тебя все некстати!
— Да, был бы у вас ребенок! — повторил сенатор. Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние: как жестоко, подумал он, говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произвести на свет это чудо-дитя.
— Прости старого дурака, Сильвия. Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей.
Сильвия, выплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаясь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его.
— Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану, — добавила она.
— Можно мне задать один сугубо личный вопрос?
— Жизнь все время задает нам такие вопросы.
— Как по-твоему, есть ли хоть малейшая надежда, что у Элиота еще могут быть дети?
— Но я не видела его три года.
— Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность.
— Одно могу добавить, — сказала Сильвия. — Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел.
— Да, если бы только я уделял больше внимания мальчику, — огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился. — Заходил я к этому психоаналитику, у которого Элиот лечился тогда, в Нью-Йорке, только в прошлом году собрался наконец к нему пойти. Вообще выходит так, будто до всего, что касается Элиота, я дохожу с опозданием лет на двадцать. Дело в том, что я… что мне… мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может дойти черт знает до чего.
Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Элиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали. И Мушари выдал себя:
— Так что же сказал вам доктор?
И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше:
— Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Элиоте. Он хотел говорить только о «Законе Розуотера».
Сам сенатор считал «Закон Розуотера» лучшим своим произведением. По этому закону, всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до пятидесяти тысяч долларов, либо тюремным заключением на десять лет, без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное определение, что такое «непристойность».
«Непристойность, — говорилось в законе, — есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела».
— Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство, — пожаловался сенатор. — Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела. — Сенатор передернулся. — Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я. — Сенатор ткнул пальцем в Мак-Алистера, ему просто надо было к кому-то обратиться: — Вот вам ключ к порнографии. Мне многие говорят: «Но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий?» Ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе: «Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному покрову тела».
Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией:
— Прошу прощения, моя дорогая.
Мушари снова попытался вызвать его на разговор:
— Значит, доктор ничего так и не сказал про Элиота?
— Этот чертов доктор сказал, что Элиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Элиота значило бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я — отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. «Прошу вас, — говорю я доктору, — высказывайте любые догадки насчет моего сына, я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду весьма благодарен за все, что вы мне расскажете о нем, все равно, верно это или нет, потому что сам я уже много лет его совершенно не понимаю — не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряйтесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика». А он говорит: «Но, прежде чем вдаваться во всякие домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как это затронет и Элиота, что, разумеется, может вас очень огорчить, не лучше ли нам вообще закрыть эту тему?» — «Нет, говорю, валяйте, я ведь сам старый греховодник, а говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем!» — «Хорошо», — говорит он. — Предположим, что молодой, здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, не к матери, не к сестре; но если он испытывает такое влечение к другим объектам, например к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы, или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, — мы его считаем сексуальным психопатом, человеком извращенным.
Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего.
«Отлично, — сказал доктор, — у вас спокойное, разумное отношение, сенатор Розуотер, хотя, откровенно говоря, я несколько удивлен. Давайте же сразу установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать-природа и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там и именно так, как положено. Несчастный больной человек, с перепутанными в мозгу контактами, противоестественно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный проступок, и хорошо, если его просто изобьют до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа».
— Впервые за много лет меня охватил ужас, — продолжал сенатор, — и я так и сказал этому доктору.
«Отлично, — сказал он опять. — Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие. Конечно, у Элиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он, из-за короткого замыкания, переключил свою сексуальную энергию, не так уж предосудительны». — «На что же он переключился — спрашиваю, а сам помимо воли думаю, неужели Элиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? — Говорите, доктор, скажите мне всю правду, — на что Элиот переключил свое сексуальное влечение?» — «На Утопию», — говорит.
Мушари так расстроился, что от огорчения громко чихнул.
У Элиота все больше тяжелели веки, но он пытался дочитать роман «Мандрагоре дай дитя». Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения, потом прочел рассказ про агента мыльной фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки и сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил — вряд ли…
Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазняла папашиного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном.
Телефон прозвонил три раза.
— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?
— Вы меня не знаете, мистер Розуотер, — сказал раздраженный мужской голос.
— А кто вам сказал, что это имеет значение?
— Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества.
— Видно, Создатель тут допустил ошибку?
— Да. Зря он меня создал, ошибся.
— Вы правильно выбрали, кому пожаловаться.
— Что это у вас за учреждение?
— А как вы про нас узнали?
— Увидал в телефонной будке наклейку — такая черная с желтым. А там написано: «САМОУБИЙЦА, НЕ ТОРОПИСЬ ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ. ПОЗВОНИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИВАТЬ СЕБЯ, В ФОНД РОЗУОТЕРА!» — и ваш номер телефона.
Такие наклейки были налеплены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады.
— А знаете, что написано там, в телефонной будке, карандашом?
— Нет.
— «Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелиссе — лучшей штучки во всем штате нет» — и ее телефон.
— Вы в наших краях чужой?
— Я во всех краях чужой. А у вас тут что? Секта какая-то? Новая религия?
— Я лично вдвойне умудренный баптист-детерминист.
— Что, что?
— Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религи. А такая секта и вправду существует, и, вероятно, люди они хорошие. У них принято омывать друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру.
— Не понимаю я вас, — сказал голос.
— Да я шучу, чтобы вы не дичились меня, не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов?
— Упаси бог, что вы!
— А ведь их сотни две, не меньше, и вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал. — Элиот отпил глоток виски. — Очень я этого боюсь и знаю, что так и будет.
— Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули.
— Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь?
— Да кто вы такой, черт вас побери?
— Правительство.
— Что, что?
— Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично?
Голос что-то пробормотал.
— Или же Общая жилетка — плачь в нее, кто хочет.
— Вы, кажется, сострили?
— Я-то знаю, сострил я или нет, а вы сами догадайтесь.
— Может, по-вашему, остроумно и наклейки писать насчет тех, кто решился покончить с собой?
— А вы тоже решились?
— Ну и что?
— Не стану вам приводить два неоспоримых довода, почему стоит жить, не стану рассказывать, как я это открыл.
— А что же вы станете говорить?
— Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму, за которую вы согласились бы прожить еще неделю.
Голос молчал.
— Вы меня слышите? — спросил Элиот.
— Слышу.
— Но может быть, вы и не собираетесь покончить с собой? Тогда, пожалуйста, повесьте трубку — телефон может понадобиться и другим людям.
— Мне кажется, вы сумасшедший.
— Но покончить с собой собираетесь вы, а не я.
— А что, если я вам скажу, что и за миллион не соглашусь прожить еще неделю?
— Я вам отвечу: — Ну и помирайте! Попробуйте попросить тысячу.
— Ладно, за тысячу.
— Ну и помирайте! Спустите до сотни.
— Давайте сотню.
— Вот теперь договорились. Зайдите к нам в контору. — Элиот назвал свой адрес. — Собак у пожарной части не бойтесь, — добавил он, — они кусаются, только когда завоет сирена.
Кстати, про эту сирену. Насколько Элиоту было известно, во всем Западном полушарии не было сигнала тревоги громче нее. Она приводилась в действие мессершмиттовским мотором в семьсот лошадиных сил, с электрическим генератором в тридцать лошадиных сил. Во время второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуотера перекупил ее у правительства ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от Неизвестного. Когда сирену доставили в город, на грузовике при ней была только короткая записочка: «Привет от Друга».
Все записи Элиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненой кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все триста страниц разграфлены. Элиот назвал эту книгу «книга судного дня». С самого первого дня деятельности Фонда в округе Розуотер Элиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал Фонд Розуотера.
Весь том был уже почти заполнен, но только Элиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях.
Сейчас Элиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и только что ушел в довольно мрачном настроении, словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может.
«Шерман Лесли Литтл», — записывал Элиот. «ИНД. СКЛ СМБ РАБ МЕТ БЗРБ ЖЕН ЗДЕЙ СР ЭПЛ ВД ФР 300» — это означало, что Литтл родом из Индианаполиса, рабочий-металлист, ветеран второй мировой войны, сейчас безработный, трое детей, средний — эпилептик и что ему выдано из Фонда 300 долларов.
Но чаще вместо денежной ссуды в книге «Отчета» был записан лаконичный рецепт: АВ. Элиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние, «Знаете, что я вам посоветую, мой друг: примите таблетку аспирина и запейте водичкой».
ОНМ — означало: «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Элиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Элиот на окна не вешал, а кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад.
Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопушки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, Женщины — по своей. Орудием мужчин были резиновые ленты, орудием женщин — стаканчики теплой воды с мыльной пеной.
Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал лентой, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Элиота, почти сплошь покрытых высохшим пюре из мух.
Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактом, что висящая вниз головой муха, почуяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два прежде, чем раскрыть крылышки. В идеале муха не почует опасность, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней. И тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы.
Про этот способ Элиот говорил: «Ни одна женщина в него не верит, пока сама не испробует. Но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет».
В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа — Элиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется:
Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на Землю, где они страдали и умирали, страдали и умирали, страдали и умирали? Потому что Небеса — Ничто. И над «энтими райскими вратами» надо бы «выпуклить» золочеными буквами:
«ВСЯКОЙ МАЛОСТИ, ГОСПОДИ, ДОЛГО-ДОЛГО ПРЕБЫВАТЬ СУЖДЕНО».
Но райские врата, коим конца-краю не видать, нераскаявшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями:
«Добро пожаловать на Всемирную Ярмарку Народного Искусства Болгарии!» — гласит карандашная надпись. А под ней: «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», — философствует некий писака.
«Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мясца!» — советует кто-то. А другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам — не из черного мясца!»
«Кого бы мне тут употребить?» — и ему отвечают: «Смотри „Употребление теоремы профессора Эванса“».
А вот и мой вклад:
Тот, кто пишет на стене,
Пусть копается в г..не,
Кто читает — в основном,
Пусть питается г..ном.
«Кубла-Хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце — просто вонючки!» — заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал. Да и от самих этих оскорбленных ждать опровержений не стоило. Бессмертная душа Кубла-Хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима, в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет божий из распаренного потного тела четырнадцатилетнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря кое-как прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы с Андаманских островов, а Ричард Львиное Сердце снова попал в плен, после неоднократного переселения душ, и сейчас живет во плоти Коуча Летцингера, жалкого экзгибициониста и любителя рыться в помойках города Розуотера, штат Индиана. Раза три-четыре в год Коуч, с запрятанной в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош и повесив на шею посеребренный свисток… Приехав в Индианаполис, Коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства. Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног — ловить обратный автобус в Розуотер.
Скучно на небесах до одури, — писал Элиот дальше в своем романе, — и поэтому большинство усопших становится в очередь на переселение душ, и снова рождаются, снова живут и любят, страдают и умирают, и снова становятся в очередь для нового перевоплощения в темную оболочку. Они ничего не выклянчивают, не выпрашивают для себя: ни расы, ни пола, ни национальности, ни класса. Одного они хотят, одно им и дается — снова прожить в трех измерениях определенный, весьма скудный отрезок времени в оболочке, отделяющей внутренний мир от внешнего.
А в небесах ни внутреннего, ни внешнего мира нет. Путь за Вратами Рая ведет из Никуда в Никуда, из Повсюду в Повсюду. Представьте себе бильярдный стол длиннее и шире Млечного Пути. Не забудьте одну деталь: у этого «стола» безукоризненно гладкая поверхность, на которую наклеено зеленое сукно. Представьте себе Врата в самом центре стола. И каждый, у кого хватит воображения, сразу уразумеет, что такое рай, и посочувствует душам, которые жаждут снова ощутить разницу между миром внутренним и внешним.
Но как ни тягостен загробный мир, есть среди нас души, не желающие нового воплощения. И я из их числа. Я не возвращался на землю с 1587 года н. э., когда в теле некой Вальпурги Хаусманн меня казнили в австрийском поселке Диллинген. Моему тогдашнему телу было предъявлено обвинение в колдовстве. Услышав это обвинение, душа моя, разумеется, возжелала покинуть мою плоть, в коей она, кстати, обитала уже более восьмидесяти пяти лет. Однако моей душе пришлось остаться в этом несчастном старом теле, когда его привязали к колоде, бросили в тележку и отвезли в ратушу. Там мне разорвали левое плечо и левую грудь раскаленными щипцами. Затем мы проехали через нижние ворота, где мне разорвали правое плечо. Затем меня повезли к дверям больницы, где разорвали правую грудь. И наконец меня вывезли на сельскую площадь. Ввиду того, что я шестьдесят два года была ученой и законно практикующей повитухой, а вела себя так гнусно, мне отрезали правую руку. А потом привязали меня к позорному столбу, сожгли на костре и развеяли мой прах над ближней рекой. С тех пор я на землю не возвращалась.
Обычно те души, чью несчастную плоть здесь так жестоко и медленно пытали и мучили, не хотели возвращаться на нашу добрую, старую землю — этот факт явно говорил в пользу защитников смертной казни, телесных наказаний и жестокой борьбы с преступностью. Но в последнее время начались какие-то странные явления: нашего полку прибыло, многие ни за что не хотят возвращаться, даже те, которые, по нашим стандартам, практически никаких особенных, чудовищных мучений на земле не испытали. Может, ногу ушибли или что-то вроде того. Но они прибывают к нам на небо целыми батальонами, оглушенные, как после контузии, и воют в голос: «Ни за что! Никогда!»
«Что это за люди? — спрашиваю я себя. — Что там с ними стряслось такое невообразимо страшное?» И тут я понимаю, что ответ на мой вопрос я смогу получить, только ожив снова. Придется мне заново родиться.
Только что мне сообщили, меня переселят туда же, где, во плоти, обитает душа Ричарда Львиное Сердце, а именно в округ Розуотер, штат Индиана.
Зазвонил черный телефон Элиота.
— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?
— Мистер Розуотер, — сказал дрожащий женский голос, — говорит Стелла Вэйкби. — Голос умолк в ожидании ответа.
— А-а, здравствуйте, — ласково сказал Элиот. — Как мило, что вы позвонили! Рад вас слышать! — Он понятия не имел, кто такая эта Стелла.
— Мистер Розуотер, вы сами знаете, что я… я никогда ни о чем вас не просила.
— Знаю, конечно, знаю.
— У других людей бед меньше, а беспокоят они вас куда чаще.
— Я это за беспокойство не считаю. Правда, одни чаще обращаются, другие реже.
С Дианой Луун Ламперс Элиот так часто возился, что перестал отмечать в книге, когда и чем он ей помог. Сейчас он наугад добавил:
— А я часто думал, какое тяжкое бремя вам выпало на долю, очень тяжко…
— Ох, мистер Розуотер, если бы вы только знали… — Она громко зарыдала: — Ведь мы всегда говорили — мы за сенатора Розуотера, а вовсе не за этого Элиота. Мы всегда жили самостоятельно, чего бы это ни стоило. Сколько раз, бывало, прохожу на улице мимо вас и нарочно отворачиваюсь. И вовсе не потому, что я против вас, просто хотелось показать, что мы, Вэйкби, ни в чем не нуждаемся.
— Я так и понимал. И очень за вас радовался. Элиот, конечно, не помнил, чтобы какая-то женщина от него отворачивалась на улице, да и выходил он из дому так редко, что у этой бедной Стеллы вряд ли была возможность проявлять свои чувства по отношению к нему. Он правильно догадывался, что живет она в горькой нужде где-то на окраине, редко показывается на людях в своем отрепье и только воображает, что и она как-то причастна к жизни города, и что все ее знают, вполне возможно, она как-то раз и прошла по улице мимо Элиота, но этот единственный раз превратился в ее воображении в тысячу небывших встреч, и, как игра светотеней, перед ней возникали самые разнообразные драматические ситуации.
— Нынче ночью мне никак не спалось, вот и вышла побродить…
— Видно, вы часто так прогуливаетесь.
— Господи, мистер Розуотер, я и в полнолуние брожу, и когда месяц молодой, да и темной ночью расхаживаю.
— А сегодня еще и дождь идет.
— Дождь люблю.
— И я тоже.
— Нынче вышла, смотрю — у соседей свет горит.
— Слава богу, что соседи близко.
— Постучала я к ним, они меня впустили. И я им говорю: «Мне помочь надо, мне без помощи никак нельзя, не знаю, куда мне деваться, так дальше жить нельзя, да и неохота мне жить, если сейчас меня не выручат. Не могу я больше стоять за сенатора Розуотера, больше мне невмоготу…»
— Полно, полно, не плачьте!
— Вот они и посадили меня в машину, повезли к телефонной будке и говорят: «Ты позвони Элиоту, он тебе поможет». Вот я и позвонила.
— Хотите сейчас ко мне зайти, голубушка, или подождем до завтра?
— До завтра… — неуверенно повторил голос.
— Вот и чудесно. В любое удобное для вас время, дорогая моя.
— Значит, до завтра.
— До завтра, голубушка. И день, наверное, будет славный.
— Слава Богу!
— Что вы, что вы!
— Ох, мистер Розуотер, спасибо Господу, что вы живете на свете!
Элиот повесил трубку. Тут раздался телефонный звонок.
— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?
— Во-первых, пойди к парикмахеру. Во-вторых, купи себе новый костюм.
— Что, что?
— Элиот!
— Я.
— Ты даже не узнал мой голос.
— Я… я… виноват…
— Да это же твой отец, черт побери!
— Отец? Неужели ты? — Голос Элиота был полон любви, нежности, изумления. — До чего же я рад тебя слышать!
— Но ты меня даже не узнал!
— Прости… Тут мне звонят без конца, сам знаешь.
— Ах, звонят, и даже без конца?
— Ну ты же знаешь…
— Да, к сожалению, знаю.
— Ну, а ты как?
— Блестяще! — Голос сенатора был полон сарказма. — Лучше некуда!
— Как я рад за тебя.
Сенатор послал его подальше.
— Что с тобой, отец?
— Не смей со мной разговаривать как с пьяным дураком. Я тебе не сутенер какой-то! Я тебе не идиотка-прачка!
— Но что я такого сказал?
— Тон у тебя противный!
— Прости.
— Чувствую, сейчас начнешь советовать: «Примите таблетку аспирина, запейте глотком вина». Не смей со мной разговаривать свысока!
— Прости.
— Мне не нужно, чтоб за меня вносили деньги на покупку мотоцикла.
Элиот действительно сделал последний взнос за одного клиента в уплату за мотоцикл. Через два дня клиент разбился насмерть вместе со своей подружкой около Блумингтона.
— Конечно, знаю.
— Конечно, он все знает! — сказал сенатор кому-то в сторону.
— Отец… Голос у тебя такой сердитый, такой несчастный. — В голосе Элиота звучала искренняя тревога.
— Пройдет.
— Тебя что-то беспокоит?
— Пустяки, Элиот, мелочи. Мелочи, например, то, что семейство Розуотеров вымирает.
— Почему ты так решил?
— Только не говори мне, что ты забеременел.
— Но ведь есть еще наши родственники с Род-Айленда.
— Спасибо, утешил. А я совсем было запамятовал, что они существуют.
— Сколько иронии у тебя в голосе.
— Видно, телефон испорчен. А ты расскажи мне, что там у вас хорошего? Подбодри старого пердуна.
— Мэри Моди родила близнецов.
— Отлично! Отлично! Превосходно! Лишь бы хоть кто-то служил продолжению рода человеческого. Лишь бы хоть у кого-то появлялось потомство. Лишь бы хоть кто-то продолжал размножаться. Как же мисс Моди назвала новорожденных, этих маленьких граждан?
— Фокскрофт и Мелоди.
— Элиот…
— Да, сэр?
— Пожалуйста, посмотри хорошенько на самого себя.
Элиот послушно оглядел себя со всех сторон. Насколько можно было видеть себя без зеркала.
— Посмотрел.
— А теперь спроси себя: «Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?»
И Элиот послушно и без всякой иронии громко повторил:
— Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?
— Что же ты ответишь?
— Что это не сон, — сказал Элиот.
— Разве тебе не хочется, чтобы все оказалось сном?
— А каким бы я проснулся?
— Таким, каким тебе следует быть. Каким ты всегда был.
— Хочешь, чтобы я снова стал покупать картины в дар музеям? Ты стал бы мной гордиться, если бы я выдал два с половиной миллиона долларов на покупку картины Рембрандта «Аристотель созерцает бюст Гомера»?
— Зачем доводить наш спор до полного абсурда?
— Это не моя вина. Виной те люди, которые отдают такие деньги за такие картины. Я показал репродукцию этой вещи Диане Луун Ламперс, и она сказала: «Может, я темный человек, мистер Розуотер, но я бы такую картинку у себя в комнате ни за что не повесила».
— Слушай, Элиот…
— Да, сэр?
— Ты бы узнал, что о тебе думают в Гарварде.
— А я отлично знаю.
— Вот как?
— Они меня обожают. Посмотрел бы, какие письма мне оттуда пишут.
Сенатор подумал, что зря хотел поддеть Элиота насчет Гарварда и что Элиот действительно говорит правду про письма из этого университета, полные глубочайшего уважения.
— Бог мой, — сказал Элиот. — В конце концов, с самого основания фонда Розуотера я этим людям выдавал по триста тысяч долларов в год, аккуратно, как часы. Ты бы почитал их письма.
— Элиот…
— Да, сэр?
— Сейчас, по странной иронии судьбы, наступает некий исторический момент, когда сенатор Розуотер, представитель штата Индиана, сам задаст собственному сыну вопрос: «Не коммунист ли ты сейчас или не был ли ты когда-либо коммунистом?»
— Бог ты мой. Как сказать, многим, конечно, мои мысли могут показаться близкими к коммунизму, — сказал Элиот простодушно. — Когда общаешься с бедняками, нельзя не столкнуться с тем, о чем писал Маркс, а кстати, и с тем, о чем говорится в Библии. Честное слово, по-моему, сущее безобразие, что у нас в стране люди не хотят делиться всеми благами. И со стороны правительства просто жестоко разрешать одним детям с самого рождения владеть огромной долей национального богатства — я сам тому пример, — а другим ничего не давать и держать в нищете с первых дней жизни. По-моему, государство могло бы, по крайней мере, оделять всех младенцев поровну с самого рождения. Жизнь и так трудная штука, зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? У нас в стране всего хватит на всех, если только делиться между собой по справедливости.
— Что же тогда будет для людей движущей силой?
— А что, по-твоему, движет ими сейчас? Страх, что есть нечего будет, доктору платить нечем, что ребятам надеть нечего, что нет хорошей, удобной, уютной квартиры, настоящего образования, нет возможности хорошо отдохнуть, развлечься. Или стыд за то, что не знаешь, где Денежный Поток?
— Это еще что такое?
— Там, где деньги текут рекой, откуда потоком льются богатства нашей страны. Мы родились на его берегах, как и многие ничем не примечательные люди. С ними мы росли, с ними ходили в привилегированные частные школы, плавали на яхтах, играли в теннис. Мы могли вволю налакаться из этого Денежного Потока. И даже учились, как бы вылакать побольше.
— Как это «учились лакать»?
— Да брали уроки у адвокатов. Консультировались у специалистов по налогам, у биржевиков. А родились мы настолько близко к этому Потоку, что и мы сами, и поколений десять наших потомков могут хоть захлебнуться в этом богатстве, запросто черпать оттуда деньги ковшами, ведрами, чем угодно. А нам все мало, приглашаем специалистов, а они нас обучают, как пользоваться акведуками, плотинами, затонами, резервуарами, механическими ковшами, рычагом Архимеда. И к нашим наставникам тоже течет богатство, а их дети тоже платят, чтобы их научили, как вылакать денежек побольше.
— А я и не подозревал, что лакаю деньги.
Но Элиот так увлекся своими обобщениями, что отвечал отцу как-то бесчувственно, мимоходом:
— Оттого, что лакаешь с самого рождения. Такой человек не понимает, когда бедняки про нас говорят: «Вот налакался!», не поймет, если при нем скажут: «Деньги текут рекой». А ведь многие утверждают, что никакого Денежного Потока нет. А я, как их услышу, всегда думаю: «Бог мой, какая наглая ложь, какая безвкусица!»
— Ты меня радуешь — заговорил о хорошем вкусе, — съязвил сенатор.
— Неужели ты хочешь, чтобы я снова слушал оперы? Неужели ты хочешь, чтобы я построил образцовый особняк в образцовом поселке и опять ходил на яхте с утра до вечера?
— Кому какое дело, чего бы я хотел…
— Допустим, что живу я сейчас не в Тадж-Махале. А почему мне жить хорошо, когда другие американцы живут так скверно?
— Может быть, перестань они верить во всякую чепуху, вроде твоего Денежного Потока, да возьмись как следует за работу, они и жить стали бы не так скверно.
— А если нет Денежного Потока, откуда же ко мне каждый день притекает десять тысяч долларов? Хотя вся моя работа — дремать да почесываться и еще изредка отвечать на телефонные звонки?
— Пока еще у нас в Америке каждый может нажить капитал.
— Конечно, лишь бы еще смолоду кто-то показал ему, откуда деньги льются рекой, разъяснил, что честным путем ничего не добиться, что настоящую работу лучше послать к чертят, забыть, что каждый должен получать по труду и всякую такую ерундистику, и просто подобраться к Денежному Потоку, «Иди туда, где собрались богачи, заправилы, сказал бы я такому юнцу, поучись у них, как обделывать дела. Они падки на лесть, но и запугать их легко. Ты к ним подольстись как следует или пугни их как следует. И вдруг они безлунной ночью приложат палец к губам — тише, мол, не шуми, и поведут тебя во тьме ночной к самому широкому, самому глубокому Денежному Потоку в истории Человечества. И тебе укажут, где твое место на берегу, и выдадут тебе персональный черпак — черпай себе вволю, лакай вовсю, только не хлюпай слишком громко, чтобы бедняки не услыхали…»
Сенатор крепко выругался.
— Что ты, отец, зачем ты так? — Голос Элиота прозвучал очень ласково.
Сенатор выругался еще крепче.
— Почему в наших разговорах каждый раз возникает такая горечь, такая напряженность? Я так тебя люблю.
— Ты похож на человека, который встал бы на углу с роликом туалетной бумаги, где на каждом квадратике написано: «Я вас люблю». И всякому, кто бы ни прошел, выдавал бы такой квадратик с надписью. Не нужна мне твоя туалетная бумажка.
— Не понимаю, какое тут сходство с туалетной бумагой?
— Пока ты не бросишь пить, ты вообще ничего не поймешь. — Голос сенатора дрогнул: — Передаю трубку твоей жене. Ты понимаешь, что ты ее потерял? Понимаешь, какой она была прекрасной женой?
— Элиот?.. — испуганно, чуть слышно окликнула его Сильвия.
Бедняжка весила не больше, чем подвенечная фата.
— Сильвия. — Голос звучал суховато, твердо, без волнения. Элиот писал ей тысячу раз, звонил без конца. И сейчас она с ним впервые заговорила.
— Я… я понимаю, что вела себя нехорошо.
— Зато вполне по-человечески.
— А разве я могла иначе?
— Нет.
— А кто мог бы?
— Насколько я понимаю, никто.
— Элиот…
— Да?
— Как… как они все?
— Здесь?
— Везде.
— Прекрасно.
— Я рада.
Пауза…
— Если я начну расспрашивать про… про кого-нибудь, я заплачу.
— Не спрашивай.
— У кого-то родился ребенок?
— Не спрашивай.
— Ты, кажется, сказал отцу, что кто-то родил.
— Не спрашивай.
— У кого ребенок, Элиот? Скажи, я хочу знать.
— О господи боже, не спрашивай.
— Скажи, скажи мне!
— У Мэри Моди.
— Близнецы?
— Ну конечно.
И тут Элиот выдал себя с головой: он явно не питал никаких иллюзий насчет тех, кому посвятил свою жизнь.
— И вырастут они, наверное, поджигателями, — добавил он, так как семейство Моди славилось не только частым рождением близнецов, но и преступными поджогами.
— А малыши славные?
— Да я их не видел, — сказал Элиот раздраженным тоном, которым он не говорил с ней при других.
— А ты им уже послал подарок?
— С чего ты взяла, что я все еще рассылаю подарки? — Речь шла о том, что Элиот обычно посылал в подарок каждому новорожденному в округе акцию одной из своих машиностроительных компаний.
— Разве ты больше ничего не посылаешь?
— Ну посылаю, посылаю. — По его тону было слышно, как ему это осточертело.
— Голос у тебя усталый.
— Телефон плохо работает.
— Расскажи, какие у тебя новости?
— Моя жена по совету врачей разводится со мной.
— Неужели нельзя обойти эту новость?
Сильвия не шутила, горечь звучала в ее голосе: зачем касаться этой трагедии? Не надо было обсуждать.
— Топ-топ, обошли, — равнодушно сказал Элиот.
Элиот отпил глоток «Южной услады», но не насладился, а закашлялся.
Закашлялся и его отец. Это было случайное совпадение: отец с сыном, оба безутешные, оба — неудачники, одновременно раскашлялись. Кашель услыхала не только Сильвия, но и Норман Мушари. Мушари, незаметно выскользнув из гостиной, нашел отводную трубку в кабинете сенатора, и уши у него так и горели, когда он подслушивал разговор с Элиотом.
— Что ж, мне, наверное, пора проститься с тобой, — виновато сказала Сильвия. Лицо у нее было залито слезами.
— Это уж пусть решает твой врач.
— Передай — передай всем привет.
— Непременно, непременно!
— Скажи, что я постоянно вижу их во сне.
— Это для них большая честь.
— Поздравь Мэри Моди с рождением близнецов.
— Обязательно. Завтра буду их крестить.
— Крестить? — Этого Сильвия не ожидала.
У Мушари забегали глаза.
— Я… я не знала, что ты… что ты этим занимаешься, — опасливо проговорила Сильвия.
Мушари с удовольствием услыхал тревогу в ее голосе. Подтверждались все его подозрения: безумие Элиота явно прогрессировало, и он уже начинал впадать в религиозное помешательство.
— Мне никак нельзя было отказаться, — сказал Элиот. — Она не отставала, а больше никто не соглашается.
— Вот как! — Сильвия облегченно вздохнула. Но Мушари ничуть не огорчился. В любом суде это крещение могло послужить неоспоримым доводом, что Элиот считает себя Мессией.
— Я ей объяснял, объяснял, — сказал Элиот, но Мушари пропустил мимо ушей это оправдание — в мозгу у него были для этого специальные клапаны. — Говорю: я к религии отношения не имею и на небесах никакие мои действия все равно не зачтутся, но она уперлась и никак не отставала.
— А что ты будешь говорить? Что будешь делать?
— Сам не знаю. — Элиот явно оживился, словно вдруг исчезли и усталость и огорчение, видно, ему вдруг понравилась эта мысль. Он даже неуверенно улыбнулся.
— Я, наверное, зайду к ней в лачугу. Окроплю близнецов водичкой, скажу: «Привет, малыши. Добро пожаловать на нашу землю. Тут жарко летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживите вы на ней самое большее лет до ста. И я знаю только один закон, дети мои:
НАДО БЫТЬ ДОБРЫМ, ЧЕРТ ПОДЕРИ!»
В этот же вечер Элиот и Сильвия договорились встретиться через три дня, вечером, в апартаментах «Синяя птица» отеля «Марот» в Индианаполисе, чтобы окончательно распроститься. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным — оба что-то шептали, жаловались на одиночество, и наконец решили встретиться и договориться.
— Элиот… А может быть, не надо?
— По-моему, надо.
— Надо… — как эхо повторила она.
— Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?
— Да.
— Такова жизнь.
Сильвия покачала головой:
— Любовь… Какое это проклятье…
— Все будет хорошо, обещаю тебе.
— И я обещаю.
— Куплю себе новый костюм.
— Пожалуйста, не надо. Ради меня не стоит.
— Тогда ради «Синей птицы» — это же «люкс»!
— Спокойной ночи!
— Люблю тебя, Сильвия. Спокойной ночи.
Оба замолчали.
— Доброй ночи, Элиот.
— Люблю тебя.
— Спокойной ночи. Мне страшно. Спокойной ночи.
Их разговор очень обеспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку — ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Элиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на Фонд Розуотера, независимо от того, признают Элиота душевнобольным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление фондом перешло к троюродному брату Элиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Писконтьюте, в Род-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал, он даже не знал, что находится в родстве с индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги поручили очень добросовестному специалисту по родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников семьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров.
Итак, на следующее утро после того, как Элиот и Сильвия договорились о встрече, Фред по-прежнему чувствовал себя человеком самым заурядным, пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из писконтьютской кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал три глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе, с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, отяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред — единственный во всем городе — завтракал и в том и в другом кафе.
Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплющилась, словно пастила.
— Кофе с пирожком, мистер Розуотер? — спросила придурковатая грязнуха за стойкой.
— Кофе с пирожком? Отлично! Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь.
Кстати, про Писконтьют. Те, кто любил городок, звали его «Пискун», а те, кто не любил, говорили «Писун». Когда-то тут жил вождь индейцев по имени Писконтьют.
Этот Писконтьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Писконтьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Писконтьют умер от белой горячки в 1638 году.
Четыре тысячи лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя, теперь проживало двести очень богатых семейств и около тысячи семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как и в Розуотере, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство.
Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Писконтьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом, неприглядном деревянном домишке, крытом порыжелой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья.
Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопристойный иллюстрированный еженедельник, посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям изувеченным. Журнал назывался «Американский следопыт» — «самый увлекательный журнал на свете». И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался «Уолл-стрит джорнал».
— Набираетесь культуры, как всегда? — заметил Фред. Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт.
Эти люди относились к Фреду хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный им способ быстрого обогащения: застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью сознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал.
Вел он дела исключительно с рабочим классом. А с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал запанибрата у всех на виду. И это был чистый блеф, но все его клиенты попроще были уверены, будто эти хитрюги-капиталисты тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых заправляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда.
— Что нового в высших сферах? — поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту шутку по адресу «Следопыта». В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила:
ИЩУ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ДАСТ МНЕ ГЕНИАЛЬНОГО РЕБЕНКА.
Красотка была танцовщицей, звали ее Рэнди Геральд.
— А я бы не прочь прийти барышне на помощь, — небрежно бросил Фред.
— Мать честная! — Столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот: — Какой дурак откажется?
— Думаете, я всерьез? — Фред свысока глянул на Рэнди Геральд. — Да я свою подружку на двадцать тысяч таких Рэнди не променяю! — Он нарочно нахмурился: — Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете. — Фред называл «подружками» всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать.
— Я ведь ваших подружек хорошо знаю, — продолжал Фред. — Знаю, что у вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливцы. Повезло всем четверым, только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье.
Фред помешал кофе:
— А уж я без своей жены ничего бы не добился! Верно вам говорю!
Жену его звали Каролиной. У них был сын, некрасивый толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розуотер. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке, завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой.
— Конечно, я для нее все сделаю, что могу, — заявил Фред. — Но все же мало сделал, мало, клянусь богом. Ради нее надо бы куда больше стараться. — У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно, даже надо почувствовать комок в горле, и почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет.
— А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни, — сказал Фред. — Многое можно для нее сделать.
Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоил сорок две тысячи долларов — конечно, после смерти.
Фреда часто спрашивали — не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так:
— Кажется, какое-то дальнее родство, точно не знаю…
Как и большинство американцев с более чем скромными средствами, Фред ничего не знал о своих предках. А знать о них можно было вот что.
Род-айлендские Розуотеры происходили от Джорджа Розуотера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале Гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой «Черные шапки». Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Луун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стонуола Джексона сделала из Лууна котлету. При отступлений через болота к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку:
«Флетчер Луун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет.
Джордж».
Ной ответил ему так:
«Жаль Флетчера Лууна, но, как сказано, кажется, в Библии: „Уговор дороже денег“. Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда твоей половиной фермы, пилозавода и так далее. Мы тут терпим немало лишений — все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет.
Ной».
Ко времени сражения при Антиэтаме Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь, он на ходу подхватил полковое знамя из рук умирающего солдата, но в руках у него осталось только расщепленное древко: снарядом конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал, убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял пыж. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь.
Слепой Джордж вернулся в округ Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый. И его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии.
— Ну что ж, — сказал Джордж, улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь без конца, — в Библии ведь очень определенно сказано: «Уговор дороже денег».
Адвокатам и банкирам стало как-то обидно — неужели Джордж не извлек для себя никакого урока, ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни. Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себе волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся:
— Всегда надо сначала прочитать то, что подписываешь, — наставительно сказал он.
— Будьте благонадежны! — сказал Джордж. — Уж теперь-то непременно так и стану делать.
Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще герой войны и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы, по закону, заставить брата вернуть его состояние. Но Джордж подавать в суд не стал.
И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал, и на Восток искать брата не поехал. И вообще они больше никогда не виделись и никак друг с другом не общались. Джордж, в полной генеральской форме, при всех орденах, обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой.
А в это время в городе строился дворец для Ноя. И однажды утром рабочие увидали, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуры убитых зверей.
Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер.
Джордж бродягой пробирался на Восток, но вовсе не в поисках брата, он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиданс, в Род-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготовлявшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны гражданской войны.
Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастор Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только щетки Бантлайна марки «Северный Маяк». Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастор Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали «мешочничать» в южные штаты и стали табачными королями.
Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастор Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его — честь один из сортов щеток «Генерал Розуотер». На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть «генералами».
К слепому Джорджу приставили четырнадцатилетнюю девочку-сиротку по имени Фэйс Мэррихью. Она стала его поводырем и «порученцем». Когда ей исполнилось шестнадцать лет, Джордж взял ее в жены.
И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником-конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера-баптиста, по имени Лавиния Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родил сына Мэррихью. Лавиния умерла родами, маленького Мэррихью вскормила негритянка из племени банту.
И вот Эбрахам с маленьким Мэррихью вернулся в Род-Ай-ленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбачьем поселке Писконтьюте. Он купил домишко и при нем — сто десять акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником. По гипотенузе тянулась береговая полоса Писконтьютской гавани.
Сын священника, Мэррихью Розуотер, стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синтии Найльз Рэмфорд и взял за ней небольшое приданое. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и женины деньги: и он пустил себе пулю в лоб.
Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента.
Сыновья самоубийц почти всегда неудачники.
Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то изюминки. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой.
Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи.
Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул — читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоявший в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом.
А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске, и все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг жизни.
— Мы-то с тобой, Нед, сделали все, что могли, для наших подружек.
И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил двадцать тысяч долларов — конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве.
— Нам теперь и думать не надо, как бы хоть немножко подкопить, — сказал Фред. — Все без нас делается, само собой, автоматически.
— Угу, — сказал Нед.
Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минуту назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли.
— Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядочную сумму, — напомнил Фред столяру. — Вот какое чудо — страховка. Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни.
Водопроводчики нехотя сползли с табуреток. Но Фред не огорчился. Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать угрызения совести, да и в это кафе они зайдут еще не раз.
А тут их всегда будет поджидать Фред.
— Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия? — спросил Фред у столяра.
— Не-е.
— Всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет: «Не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер!»
Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер «Американского следопыта». Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтиво.
— У-у-о-оо-хо-хо! — сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки и как бы нечаянно захватывая журнальчик.
В лавке в это время никого, кроме девицы за стойкой, не было.
— Не понимаю, — сказал ей Фред. — Ну какой идиот станет читать эти гадости?
Девица могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки. Но так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала:
— Ничего не знаю, ничего не трогаю — хоть обыщите!
Предложение звучало не слишком соблазнительно.
Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под oзаголовком: «Я ВАС ЖДУ!» Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь, или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление один доллар сорок пять центов.
«Привлекательная, веселая особа 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, — говорилось в одном из них, — ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания, с высшим образованием. Цель — брак. Детей примет с восторгом». Очень мило, ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки.
«Мужской парикмахер, Сент-Луис, ищет пикантных мужчин для совместных развлечений, фотографии присылать „о-натю-рель“», — гласила следующая.
«Супруги, приезжие (г. Даллас), ищут знакомства с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы. Фото возвращаются по требованию».
Было и такое:
«Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей хорошим манерам, предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, — объявлял некий педагог. — Согласен в отъезд, в пределах США».
«Гос. чин. Нью-Йорк желает встреч любой день кр. воскр. Скром. не предлаг.».
Тут же прилагался купон — читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление.
Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством: произошло это дело в Небраске, в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно — натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже тридцать лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще десять миллионов читателей этого журнальчика, темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из «Следопыта» Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа.
В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, тринадцатилетняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги жены Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов, все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок писконтьютского яхтклуба.
Девочка с жалостью взглянула на Фреда — и оттого, что он такой бедный, и оттого, что жена у него — такая дрянь. А сам он — такой толстый и скучный до одури. Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сюзан», где были выставлены новые газеты и книжки, и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол.
Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина. Он часто задышал. Бедняга Фред относился к «Следопыту» и ко всему, что там, писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указанным адресам, он не, решался. И оттого, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души.
Вдруг в кафе ввалился огромный детина и так быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик.
— Ух ты, страховщик несчастный, ишь над чем слюни пускает, похабник ты этакий, так твою растак!
Звали этого здоровяка Гарри Пина, был он по профессии рыбаком, а кроме того, начальником добровольной пожарной дружины Писконтьюта. Гарри был владельцем двух рыбных затонов, на мелководье, у самого берега — настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывавшая туда, платилась за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой — соединялся с круглой ловушкой, из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода, — и тут подходил на лодке Гарри, с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами.
Хоть Гарри был и немолод и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя вселенной. Раньше Гарри не занимался рыбачьим промыслом — он был таким же «несчастным страховщиком», как и Фред, жил в Питсфилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома четыреххлористым углеродом, он чуть не отравился насмерть, надышавшись ядовитых испарений.
Когда он выздоровел, его врач сказал:
— Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете.
И Гарри пошел по стопам своего отца — стал рыбаком.
Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы: во всем Писконтьюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких экивоков.
— Эх ты, страховщик распроэтакий, горемыка несчастный! Ну зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-нибудь настоящим, хорошим делом!
— Как тебе сказать, Гарри. — Фред глубокомысленно выпятил губу. — Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходятся с твоими.
— Чепуховина! — сказал Гарри. Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральд на первой странице. — Будь я неладен, — сказал он, — уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал, и время сам бы назначил, а ее и спрашивать не стал!
— Нет, Гарри, серьезно говорю, — настаивал Фред. — Я люблю страховое дело. Люблю помогать людям.
Гарри что-то буркнул — слышу, мол. Он насупившись разглядывал фото юной француженки в купальном костюме.
Фред понимал, что для Гарри он — существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок как мужчина мужчину:
— Нравится, Гарри, а?
— Что именно?
— Эта девочка!
— Это не девочка. Это кусок бумаги.
— А по-моему, девочка. — И Фред Розуотер хитро улыбнулся:
— Легко же тебя облапошить, — сказал Гарри. — Да разве тут, перед нами, лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас, ей даже невдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб, да покрупнее.
Гарри Пина стал просматривать объявления в отделе «Я вас жду!» и попросил у Фреда ручку.
— Ручку? — переспросил Фред, словно впервые слышал это слово.
— Ручка у тебя есть или нет?
— Конечно, есть, как же. — Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам.
— Да, ручек у него хватает, — засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление:
«Папашка с перчиком белой расы ищет мамашку с перчиком любой расы, любого возраста, любой религии. Цель — все что угодно, кроме брака. Обменяюсь фото. Зубы у меня свои».
— Неужели и вправду пошлешь? — спросил Фред. Видно было, что его самого так и подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото.
Гарри подписался: «Фред Розуотер. Писконтьют. Род-Айленд».
— Очень остроумно, — ледяным голосом сказал Фред, отодвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства.
— Для нашего Писконтьюта очень даже остроумно, — сказал Гарри и подмигнул.
Тут в кафе вошла жена Фреда Каролина. Это была миловидная, худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча казалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Аманитой и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить.
Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного; такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета, в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила Фреда, который во время корейской войны служил в форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Писконтьюте и учился в Принстонском университете, — богатый человек. Для нее было большим унижением — увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная. Она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли.
Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни.
— Опять завтракать с Аманитой? — сказал Фред.
— Ну и что?
— Дорогое удовольствие — каждый день эти чертовы завтраки.
— Не каждый день, а от силы два раза в неделю. — Голос у нее был колючий, ледяной.
— Все равно, денег уходит уйма.
Каролина протянула к деньгам ручку в белой перчатке:
— Для жены денег не жалеют!
И Фред дал ей деньги.
Каролина даже не сказала «спасибо». Она вышла и села рядом с надушенной Аманитой на обтянутые золотистой лайкой подушки ее голубого «мерседеса».
Гарри Пина взглянул на бледное, как мел, лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями, в настоящей лодке, в настоящем соленом море.
Лайла, дочь Аманиты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая «Тропик, рака» Генри Миллера и «Голый завтрак» Бэрроуза, снятые со специальной полки.
Тринадцатилетняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтьюте она была главной поставщицей порнолитературы.
Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее дружки по Писконтьютскому яхтклубу и средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно за что угодно. В удачный денек она могла загнать семидесятицентовое издание «Любовника леди Чаттерлей» за два доллара, а пятнадцатицентовую «римскую свечу» за пятерку.
Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порноиздания она просто брала с выставки в местной книжной лавке. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, какие — нет, а это было невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вертящейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто.
То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «Союз род-айлендских матерей по спасению детей от всякой скверны». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто. И никакой порнографии они тут не нашли.
Они были уверены, что их детки «спасены от всякой скверны», но на самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла.
Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно — неприличные фотографии. Но их она доставала, отвечая на похабные объявления в номерах «Следопыта», на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю.
В детский мир Лайлы, сидевшей на полу, у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво, и продолжала читать «Тропик рака», как будто это был «Робинзон Крузо».
«Чемодан открыт, вещи валяются на полу… Она юркнула в постель, не раздеваясь… Раз, другой, третий, четвертый… Боюсь, что она сойдет с ума… Как сладко чувствовать ее опять… Но надолго ли? Предчувствие меня томит — нет, ненадолго…»
Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает. И она предвидела, что именно он сейчас сделает, — посмотрит грустными голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде «Садоводство и домоводство». Так он сделал и сейчас.
— Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой, — сказал Фред.
— Кажется, да, — сказала Лайла. На этом их разговор окончился, но Лайла продолжала думать о Фреде. Над ней возвышались толстые Розуотеровские икры. Когда Фред в яхтклубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил — и били ногами. Лайла подумала: может, Фреду не хватает витаминов или у него чесотка, оттого и на икрах у него такая кожа.
На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам — десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятными конфетками — послеобеденное угощение для гостей, которых Розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики — то для одного воображаемого приема, то для другого. И бедный Фред вечно стукался об эти столики, набивая себе синяки.
Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить одиннадцать швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины «Электролюкс». Каролина, как видно, подсознательно дала себе клятву — не убирать пылесос, пока не разбогатеет.
Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал «Садоводство и домоводство» и снял с полки книжонку в немыслимо соблазнительной обложке под заманчивым названием «Венера в раковине» Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные добела страсти. Вот что там было написано:
«Королева Маргарет, владычица планеты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было. Высокая гордая грудь расцвела как розан. Талия и бедра призывно сверкали, как лира из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет.
— Окончен твой путь, о Космический Странник, — прошептала она, и ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе. — Не ищи ответа на проклятые вопросы — ответ в моих объятиях.
— О королева, — проговорил Космический Странник, — этот ответ полон соблазна, спору нет. — Капли пота увлажнили ладони Странника. — Я приму его с благоговением. Но я хочу быть честным с вами и потому скажу откровенно: завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски…
— Но ведь ты уже нашел ответ, ты нашел его! — воскликнула она и с силой прижала его голову к своей пышной душистой груди.
Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Она отклонила его голову, не выпуская ее из рук:
— Что ты — сказал?
— Я сказал: ответ ваш прекрасен, спору нет, но увы! Это совершенно не тот ответ, который я так упорно ищу!»
На обложке была и фотография Траута — пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного, уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.
Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Писконтьюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не придется, они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался.
Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть — жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему.
— Отец?
Утренняя почта лежала на серебряном подносике на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было сорока. Он был самым красивым мужчиной в городе, кто-то назвал его «помесью Гэри Гранта[46] с фарфоровым пастушком». На его плоском животе лежал тяжелый том — железнодорожный атлас времен Гражданской войны, подарок жены, стоивший пятьдесят семь долларов. Гражданская война была единственным его интересом в жизни.
— Папа…
Но Стюарт не пошевельнулся. Отец оставил ему в наследство четырнадцать миллионов, нажитых главным образом на табаке. И капитал этот расцветал, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли и подкармливали в теплицах банков Бостона на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги — восемьсот тысяч долларов в год, с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям «Поляроид». Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции «Поляроид» или нет. Дела за него вел банк и адвокатская контора Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.
— Папа…
— М-ммм?..
— Пришла посмотреть, как… как ты? Все в порядке? — сказала Лайла.
— Угу… — промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы: — Все хорошо, детка.
— Ну и спи спокойно. И он заснул.
Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в шестнадцать лет. Занимался его делами сам Мак-Алистер. В последнее письмо с отчетом старый Мак-Алистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при Свободной школе, в Колорадо-Спрингс п/я 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый Мак-Алистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни социалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства, так как лет двадцать тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт и, сверкая глазами, заявил, что капиталистическая система никуда не годится и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда Мак-Алистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений, но старик до сих пор беспокоился — как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью.
Однако Мак-Алистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны были такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей», написанная, очевидно, неким консерватором в виде письма к воображаемым друзьям, которые, незаметно для себя, стали социалистами. И оттого, что Стюарту это было ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что:
«Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уже давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали, взгляните, кого мы породили, кого и сейчас порождаем, — их миллионы, даже во времена всеобщего благоденствия.
Эти люди не работают и работать не желают. Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто оттого, что они, как стадо, бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят на двух ногах и, как попугаи, повторяют: „Еще. Подайте мне. Мне мало, мне не хватает…“ — других мыслей у них нет, больше они ничему не научились.
И в эти дни они высятся перед нашим взором, как грандиозная карикатура на Гомо Сапиенс, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они — живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом».
И так далее…
Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны, как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с ложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и Гражданская война, честно говоря, ему давно осточертела.
Двадцать лет назад у Стюарта с Мак-Алистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма:
— Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?
— Я не то говорил, надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении? И эти деньги не я сам заработал?
— Отвечаю на первый вопрос: да, в нашем ведении находится капитал, который вы унаследовали. В ответ на второй вопрос скажу так: если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать, непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги, и все, что ей требуется, и даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти, но, конечно, и власть может стать настоящим адом.
— Все может статься, мистер Мак-Алистер. Поживем — увидим. Но вот о чем я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания, а у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам — накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома — и не откладывать это дело.
— А как же вас прикажете называть после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном?
— Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мной издевались.
— А ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, чтобы мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и бесцеремонно насчет того, не причислить ли вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы — предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение? Нет, таких много. По крайней мере, раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам. Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семейств. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. Замогильным голосом он вопрошает — как велик его наследственный капитал. Мы ему сообщаем. Он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем — например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что проучились год в Гарварде? Великолепный университет, но, когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю: как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов? А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному: раздавать деньги и вредно и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками, оттого что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков.
— Большое состояние, которое вы унаследовали, — это чудо, редкое чудо, — говорил в тот далекий день старый Мак-Алистер молодому Бантлайну. — Вы получили его, не затратив никаких трудов, потому и не понимаете, что это такое. И чтобы помочь вам понять, какое это чудо, я вам скажу то, что, может быть, и покажется вам обидным. Ваш капитал — единственный и самый важный фактор, определяющий то, что вы собою представляете, что о вас думают другие. Благодаря этим деньгам вы — человек необычный. А без них, например, вы не могли бы, как сейчас, отнимать драгоценное время у старшего партнера адвокатской конторы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.
Если вы раздадите свой капитал, вы станете самым обыкновенным из обыкновенных людей — если только вы не гений.
Вы ведь не гений, мистер Бантлайн, не так ли?
— Нет.
— Гм… Впрочем, будь вы даже гением, без денег у вас не будет ни такой свободы, ни таких жизненных благ. Более того, вы обрекаете и своих потомков на унылую, полную терзаний жизнь, их вечно будет грызть мысль, что они могли бы жить богато, свободно, если бы их глупый предок не разбазарил бы весь капитал.
Не выпускайте ваше богатство из рук, мистер Бантлайн. Деньги — это концентрат Утопии. Почти у всех людей жизнь собачья, как вам старательно внушали ваши профессора. Но и вас, и вашу семью благодаря вашим деньгам ждет райская жизнь. И я хочу видеть, как вы улыбнетесь, когда наконец поймете то, чему не учат в вашем Гарварде, — поймете, что родиться богатым и остаться богатым — совсем не такое страшное преступление.
Лайла, дочь Стюарта, поднялась к себе в комнату. Мать сама выбрала цветовую гамму — розовую с белоснежным. Широкие окна выходили на залив, на пристань яхтклуба, где белели паруса яхт. Рыбачья лодка «Мария», сорокафутовая неуклюжая посудина, плюясь дымом, пробиралась между яхтами, подымая волну вокруг этих игрушечных суденышек. И назывались эти игрушки по-разному: «Рыжий пес», «Бутон-2», «Бантик», «За мной!», «Призрак» и так далее. «Бутон-2» принадлежал Фреду Розуотеру, «Бантик» — чете Бантлайн. Хозяином «Марии» был Гарри Пина, владелец рыбных затонов. Старая серая посудина во всякую погоду ковыляла по волнам, неся на борту тонны свежей рыбы.
На палубе не было никаких надстроек, кроме деревянного ящика, служившего укрытием новехонькому мотору «крайслер». На ящике находился стояк штурвала, подача газа и глушитель мотора. Кроме этого ящика и голых ребер шпангоутов, ничего на этой посудине видно не было.
Гарри вел мотобот к рыбным садкам. Оба его великовозрастных сынка, Мэнни и Кенни, растянулись рядышком на палубе, вполголоса рассказывая друг дружке всякую похабщину. У каждого под боком лежала острога в шесть футов длиной, Гарри был вооружен шестифунтовым молотом. На всех троих были резиновые фартуки и сапоги. Когда они глушили рыбу, все бывало залито кровью.
— Хватит вам трепаться про баб, — сказал Гарри. — Про рыбу надо думать.
— Будем, будем, старина, когда до твоих годков доживем! — весело откликнулись парни.
Над аэропортом близ Провиденс низко кружил самолет, готовясь к посадке. В самолете, читая «Совесть консерватора», летел Норман Мушари.
Самая большая в мире частная коллекция гарпунов была выставлена в ресторане «Затон», в пяти милях от Писконтьюта. Хозяином ресторана был гомосексуалист, рослый человек родом из Бедфорда, которого звали Зайка Викс. До тех пор, пока Зайка Викс не приехал из Бедфорда и не открыл ресторан, Писконтьют решительно никакого отношения к китобойному промыслу не имел.
А назвал Зайка свой ресторан «Затоном» потому, что окна выходили на затон, где Гарри Пина глушил рыбу. На каждом столике в ресторане лежали бинокли, чтобы посетители могли смотреть, как Гарри со своими сынками бьют рыбу. И пока рыбаки трудились, как говорится, у самого синего моря, Зайка, переходя от столика к столику, со вкусом, как заядлый рыболов, объяснял, что именно они делают и зачем. Подходя, он бесцеремонно лапал девиц, но никогда не прикасался ни к одному мужчине.
Если же клиенты хотели тесней соприкоснуться с рыбачьим промыслом, они могли заказать коктейль «Летучая рыба», из рома, гренадина и клюквенного сока или салат «Рыбацкий», состоящий из очищенного банана, торчащего из ломтика ананаса, который лежал в гнезде из пышно взбитого рыбного пюре, украшенного кудрявыми стружками кокосового ореха.
И Гарри Пина, и его сынки отлично знали про салат, и про коктейль, и про бинокли, хотя сами никогда в «Затон» не заходили. Иногда они поддерживали свою невольную связь с жизнью ресторана тем, что мочились с борта лодки на виду у посетителей. Называлось это у них «подсолить уху для Зайки Викса».
Коллекцию гарпунов Зайка Викс прикрепил к некрашеным стропилам сувенирного зала, расположенного при входе в ресторанчик, в нарочито запущенных, и даже замшелых, сенях. Это помещение называлось «Веселый китобой», свет проходил через пыльное окно в крыше, причем пыль была искусственная: стекло сверху поливалось жидкостью для мытья стекол, которая засыхала и не стиралась. Тень стропил и развешанных на них гарпунов ложилась от света, проникающего через это окошечко, падала на прилавок, где были разложены всякие сувениры. Зайка старался создать впечатление, что настоящие китобои, пахнущие ворванью, ромом и потом, оставили свои гарпуны у него на хранение и вот-вот вернутся за ними.
Сейчас под сенью стропил и гарпунов по киоску расхаживали Аманита Бантлайн и Каролина Розуотер. Аманита шла впереди — она задавала тон, жадно и глубоко хватая сувениры с прилавка. А сувенирчики были такие, что могли даже импотента мужа заставить выполнять прихоти холодной супруги. Каролина казалась робким отражением Аманиты. Она как-то неловко путалась у нее под ногами, а та непрестанно заслоняла от нее вещи, которые Каролина хотела поглядеть. Но как только Аманита отходила и Каролине становилось видно то, что Аманита ей заслоняла, у нее сразу пропадала охота смотреть на прилавок. Каролине вообще было неловко, все ее тяготило: и то, что ее мужу приходилось работать, и то, что на ней было платье с чужого плеча, и все знали, что это платье Аманиты, и, наконец, то, что в сумке у нее лежали какие-то гроши.
Каролина вдруг как бы со стороны услышала собственный голос:
— Вкус у него, конечно, неплохой.
— А у них у всех, таких, как он, вкус хороший, — сказала Аманита. — И за покупками ходить с ними интереснее, чем с женщинами. О тебе, конечно, не говорю.
— А почему у них такое художественное чутье?
— Они гораздо тоньше все воспринимают, дорогая моя. Они — как мы с тобой. Они чувствуют.
— А-а…
В дверях возник Зайка Викс. Он заскользил, словно пританцовывая, на гладких, чуть поскрипывающих, подошвах модных туфель. Зайка был худощав, ему можно было дать лет тридцать с лишним. Глаза у него были, как у всех богатых американских педерастов, — похожи на поддельные драгоценности и, словно стеклянные сапфиры при свете елочных лампочек, поблескивали из-под ресниц Зайка приходился правнуком знаменитому капитану Ганнибалу Виксу из Бедфорда, человеку, убившему в конце концов Моби Дика. Ходил слух, что, по крайней мере, семь из трех гарпунов, которые теперь покоились на стропилах у Зайки, были вытащены из туши Великого Белого Кита.
— Аманита! Аманита! — восторженно крикнул Зайка. Он схватил ее в объятия, крепко прижал к себе. — Как ты, моя любимая?
Аманита рассмеялась.
— Тебе смешно?
— Мне? Ничуть!
— Я так надеялся, что ты сегодня придешь. Хочу испытать твою сообразительность.
Зайка хотел показать ей одну новую штучку, пусть догадается, что это такое. С Каролиной он даже не поздоровался, но сейчас она заслоняла ту часть прилавка, где, как он думал, стояла новая вещь, и поэтому он сказал:
— Ах, простите!
— Извините, пожалуйста! — И Каролина Розуотер отступила в сторонку. Зайка никогда не помнил, как ее зовут, хотя она побывала в «Затоне» раз пятьдесят не меньше.
Зайка не нашел то, что искал, скользнув дальше, и Каролина снова оказалась у него на пути:
— Ах, простите!
— Простите меня! — И уступая ему дорогу, Каролина споткнулась о старинную скамеечку для дойки коров, и, упав, ударилась коленом об эту скамейку, и схватилась обеими руками за столб.
— О боже! — раздраженно сказал Зайка. — Вы не ушиблись? Ничего не задето?
Каролина жалко улыбнулась.
— Только мое самолюбие!
— Шут с ним, с вашим самолюбием, душенька. — И голос его прозвучал совсем по-бабьи: — Кости целы? Внутри ничего не болит?
— Все прошло, спасибо…
Зайка повернулся к ней спиной и стад снова искать нужную вещь.
— Но ведь вы помните Каролину Розуотер? — сказала Аманита. Вопрос был явно ненужный, неприятный.
— Разумеется, я помню миссис Розуотер. Вы родственница сенатора?
— Вы всегда меня об этом спрашиваете.
— Неужели? И что же вы всегда мне отвечаете?
— Как будто мы родственники, только очень дальние — предки общие…
— Занятно. Вы знаете, он уходит в отставку.
— Вот как!
Зайка остановился перед ней. В руках у него была небольшая коробка.
— Неужто он вам не сообщил, что уходит в отставку?
— Нет… Он…
— Разве вы с ним не общаетесь?
— Нет, — сказала Каролина, грустно опустив голову.
— Мне кажется, с ним было бы чрезвычайно интересно общаться.
Каролина кивнула:
— Да…
— Но вы с ним никак не общаетесь?
— Нет…
— А теперь, дорогая моя, — начал Зайка, повернувшись к Аманите с коробочкой в руках, — сейчас мы проверим ваши умственные способности. — Он достал из коробки с надписью «Сделано в Мексике» жестянку без крышки. Снаружи и внутри жестянка была оклеена пестрой веселенькой бумагой. На дно снаружи была приклеена круглая кружевная салфетка, а на нее прикреплена искусственная водяная лилия.
— Ну-ка догадайтесь, что это за штучка? Зачем она? И если вы угадаете, — а стоит она семнадцать долларов, — я вам ее подарю, хотя и знаю, что вы чудовищно богатая дама!
— А мне можно попробовать? Вдруг я угадаю? — спросила Каролина.
Зайка прикрыл глаза.
— Разумеется, — сказал он усталым голосом.
Аманита сдалась сразу, гордо заявив, что она ничего не соображает и ненавидит всякие тесты. У Каролины заблестели глаза, она только-только собиралась что-то прощебетать, прочирикать, как птичка, какую-то остроумную догадку, но Зайка не дал ей высказаться:
— Это футляр для запасного ролика туалетной бумаги!
— Я так и догадалась, хотела сказать… — проговорила Каролина.
— Неужели? — равнодушно сказал Зайка.
— Она у нас в университете училась, член клуба «Фи-Бета-Каппа».
— Неужели? — повторил Зайка.
— Да, — сказала Каролина. — Но я об этом редко говорю. Я и вспоминаю редко.
— Я тоже, — сказал Зайка.
— Вы тоже член Фи-Бета-Каппа клуба?
— Вам это обидно?
— Нет…
— По сравнению с другими клубами, — сказал Зайка, — в этом слишком много народу.
— Тебе нравится эта штучка, мой маленький гений? — спросила Аманита, вертя коробочку перед Каролиной.
— Да, да, конечно… Очень мило… Прелестная вещь.
— Хочешь взять?
— За семнадцать долларов? — сказала Каролина. — Вещь очаровательная, но…
Она сразу погрустнела: неприятно быть нищей.
— Может быть, потом… когда-нибудь…
— А почему не сегодня? — спросила Аманита.
— Ты знаешь, почему. — Каролина густо покраснела.
— А если я тебе куплю?
— Не надо! Семнадцать долларов!
— Если ты не перестанешь огорчаться из-за денег, моя птичка, придется мне завести другую подругу.
— Что я могу тебе сказать?
— Зайка, сделайте, пожалуйста, подарочный пакет, — попросила Аманита.
— Ах, Аманита, спасибо тебе большое! — сказала Каролина.
— Ты и не такой подарок заслужила!
— Спасибо тебе!
— Каждый получает по заслугам! — сказала Аманита. — Верно я говорю, Зайка?
— Это основной закон жизни! — сказал Зайка Викс.
Мотобот «Мария» уже дошел до загонов и стал виден посетителям ресторана Зайки Викса.
— Брось травить, пора ловить! — крикнул Гарри сыновьям, разлегшимся на носу бота.
Гарри заглушил мотор. Бот по инерции проскользнул через ворота загона в кольцо из шестов и свисавших с них сетей.
— Чуете? — сказал Гарри. Он спрашивал сыновей, чуют ли они запах рыбы, запутавшейся в сетях.
Те потянули носами, сказали, что, конечно, учуяли.
Широкое чрево сети, то ли пустое, то ли полное рыбы, лежало на дне. Край сети выходил из воды, перекидываясь от шеста к шесту как бы параболами. Край уходил под воду только в одном месте. Это и были ворота сети. Это и была та пасть, которая заглатывала всю рыбу, какая попадалась, направляя ее прямо в обширное чрево сети.
Теперь сам Гарри оказался внутри загона. Он отвязал верхний канат от крестовины возле ворот, выбрал слабину и снова привязал канат к крестовине. Теперь выход из мотни был навсегда закрыт — по крайней мере, для рыбы. Рыба в этом чреве была обречена.
«Мария» тихонько тыкалась боком в ограду западни. Гарри и его сыновья, выстроившись в ряд, перебирая стальными руками края сети, вытаскивали ее из воды, погружая в воду другой край.
Все втроем, перебирая сеть, перехватывали ее из рук в руки, и пространство, в котором оставалась рыба, становилось все меньше и меньше. И по мере того, как это пространство уменьшалось, «Мария» пробиралась поверху, бочком, все дальше внутрь загона.
Никто не сказал ни слова. Это было время великого таинства. Даже чайки умолкли, пока эти трое, отрешившись от всякой мысли, выбирали сеть из моря.
Все пространство, оставшееся для рыбы, сократилось до овальной лужицы. Казалось, что в глубине вспыхивают, сыплются дождем мелкие серебряные монетки. Мужчины продолжали свое дело, перебирая сеть.
Теперь единственное пространство, оставшееся для рыбы, превратилось в кривое, глубокое корыто у борта «Марии». Оно становилось все мельче, а мужчины все тянули, перехватывая сеть из рук в руки. Рыба-кузовок, допотопное чудище, десятифунтовый головастик, усаженный шипами и бородавками, всплыла наверх, открыла свой утыканный игольчатыми зубами рот, сдаваясь на милость победителя. А вокруг этого безмозглого, несъедобного, одетого в панцирь страшилища вода вздувалась, кипела маленькими водоворотами. Крупная добыча таилась внизу, во тьме.
Гарри и два его рослых сына снова принялись за работу, выбирая сеть и снова опуская. Для рыбы уже почти совсем не оставалось места. И, как ни странно, поверхность воды вдруг застыла как зеркало.
Внезапно плавник тунца распорол зеркальную гладь и снова скрылся!
Несколько мгновений спустя загон превратился в кромешный кровавый ад. Восемь крупных тунцов взбивали воду, она кипела, вздымалась волнами, расступалась, смыкалась. Тунцы стрелой неслись от «Марии», натыкались на сеть, снова неслись назад.
Сыновья Гарри схватили свои багры. Младший сунул крюк под воду, всадил его рыбе в брюхо, повернул крюк, и рыба забилась в предсмертной агонии.
Рыба всплыла возле борта, оглушенная болью, боясь пошевельнуться, чтобы боль не стала еще острее.
Младший сын Гарри рванул багор на себя, да еще крутанул. Новая боль, куда страшнее прежней, заставила рыбу встать на хвост и с мягким упругим стуком перевалиться через борт «Марии».
Гарри ударил рыбу по голове громадным молотом. Рыба больше не шелохнулась.
Следующая рыба тяжело ввалилась в лодку. Гарри и ее ударил по голове — так и глушил, одну за другой, пока восемь могучих рыб не легли рядом, мертвые.
Гарри захохотал, вытер нос рукавом. «Вот сукин сын, ребята! Сукин сын!»
Ребята тоже захохотали. Все трое были так довольны жизнью, что дальше некуда.
Младший парень показал нос всем снобам из ресторанчика.
— А пошли они все в ж…! Верно, ребята? — сказал Гарри.
Зайка подплыл к столику Аманиты и Каролины, позвенел браслетом, сковывающим его запястье, положил руку на плечо Аманиты, но к их столику не присел. Каролина отвела бинокль от глаз и проговорила подавленным шепотом:
— Ах, как это похоже на жизнь! Как Гарри Пина похож на бога!
— Он — бог? — удивился Зайка.
— Неужели вы меня не понимаете?
— Думаю, что вас поймут только рыбы. Но я не рыба. Могу вам объяснить, кто я такой!
— Только не за едой! — сказала Аманита.
Зайка коротко хихикнул, но продолжал, не обращая внимания:
— Ведь я — директор банка!
— Какое это имеет отношение к нашему разговору? — сказала Аманита.
— Директор банка знает, кто обанкротился, кто нет. И если этот рыбак кажется вам богом, то должен, к великому сожалению, открыть вам, что этот ваш бог — совершенный банкрот.
Тут Аманита и Каролина запротестовали, защебетали — каждая по-своему, уверяя, что такой крепкий мужчина не может потерпеть неудачу. Слушая их, Зайка все крепче сжимал плечо Аманиты, и она вдруг пожаловалась:
— Вы делаете мне больно!
— Простите. Не знал, что вы такая чувствительная!
— Негодник!
— Возможно, — согласился Зайка, но сжал плечо Аманиты еще крепче.
— Всем им давно пришел конец, — сказал он про Гарри и его сыновей. Он больно сжал плечо Аманиты, словно хотел сказать: «А сейчас помолчите-ка минутку, ведь я-то сейчас не шучу».
— Настоящие люди уже не зарабатывают на жизнь таким способом. Эти три романтика устарели так же, как Мария Антуанетта, со своими фрейлинами, доившими коров. И когда против них возбудят дело о банкротстве, — через неделю, через месяц, через, год, — они поймут, что в экономическом отношении они никакой ценности не представляют, разве только как живые картинки для рекламы моего ресторана.
Надо отдать справедливость Зайке: он вовсе не злорадствовал по этому поводу:
— Теперь конец всякой кустарщине, люди, гнущие спину над работой вручную, никому больше не нужны.
— Но разве такие люди, как Гарри, не выходят всегда из всего победителями? — спросила Каролина.
— Именно они всегда проигрывают, — сказал Зайка. Он снял руку с плеча Аманиты. Он оглядел свой ресторан, кивком указал Аманите, сколько у него посетителей, как будто предлагая ей сосчитать их. Мало того — он словно просил их обеих — разделить его презрение к другим его клиентам. Почти все они были богатыми наследниками. Почти все жили на капиталы, накопленные не знаниями, не трудом, а добытые всякими махинациями и охраняемые законом. Четыре разжиревшие, тупые дуры, богатые вдовы в мехах, гоготали над непристойной шуточкой на бумажной салфетке.
— Вот и глядите, кто победители, а кто побежден, — сказал Зайка.
Норман Мушари взял напрокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал восемнадцать миль до Писконтьюта — искать Фреда Розуотера. В конторе все считали, что он болеет и лежит дома в постели. Но на самом деле он чувствовал себя отлично.
Фреда он не мог найти весь день, по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте — удовольствие, которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего — никто не покупал страховые полисы даже со скидкой для бедняков.
Фред брал маленькую шлюпку в яхтклубе и выходил в залив к своей яхте. «Скрип-скрип», — пели весла, борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой, — и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в царстве небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо.
У Бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати и писала, в окне, как в рамке, виднелся «Бутон-2». Она оставила дверь открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня — отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко, и Селина спрашивала себя: «А зачем людям сюда звонить?»
Селине было восемнадцать лет. Она рано осиротела, и ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году, в городе Потакете. Основывая этот приют, Бантлайны поставили три условия: во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно перед воскресным ужином произносить слова обета, и, в-третьих, каждый год в семейство Бантлайнов полагалось присылать из приюта на какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной, «…дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть может, внушить желание подняться на несколько ступеней выше в овладении некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного обращения».
Тот обет, который Селина повторила шестьсот раз перед тем, как вкусить шестьсот весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастором Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна:
«Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим уделом, предначертанным мне в жизни милостью господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, ни на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя: „Что еще могу я сделать для своих хозяев, для своей Республики и для господа бога? Я понимаю, что рождены мы на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания. И если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трезвым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями, и всегда преисполненным уважения к тем, кого Создатель, в неизреченной своей мудрости, поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной, райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и Дьявол будет ликовать, а Христос скорбеть надо мной“».
Селина, прехорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Парроту. Ему было шестьдесят лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную — сражался в Испании, в батальоне имени Линкольна, и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом». В сиротском приюте детям жилось прекрасно. Все ребята называли Паррота «папочка», все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать.
Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц. Ей полагалось прослужить целый год. Вот что она писала своему директору:
«Дорогой папочка Паррот, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не повредила нашему дому, из-за того что злится на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет. Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам. А у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу, а она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики. И все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу, в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра еще всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем непохоже на музыку, звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный, а миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой, видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга, ее зовут миссис Розуотер, и тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка. „Как, дитя мое, — сказала она, — да ведь это же сам бессмертный Бетховен!“ — „Как Бетховен?“ — сказала я. „А ты когда-нибудь про него слышала?“ — говорит она. „Да, мэм, слышала, конечно, — говорю я, — наш папочка Паррот все время играл нам Бетховена у нас, в доме, только звучал он как-то по-другому…“ И тут она подвела меня к проигрывателю и сказала:„ Вот я сейчас тебе докажу, что это Бетховен! Я поставила в проигрыватель именно Бетховена и ничего, кроме Бетховена, я туда не ставила. Со мной так бывает — хочу слушать только Бетховена!“
И тут миссис Розуотер говорит: „Я тоже обожаю Бетховена!“ А миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне: „Посмотри, Бетховен это или нет“. Я посмотрела — действительно Бетховен. Она вложила в проигрыватель все девять симфоний, но эта несчастная женщина поставила скорость семьдесят восемь оборотов в минуту, вместо тридцати трех! И никакой разницы не почувствовала. Надо было мне сказать ей или нет? И я сказала ей очень вежливо, но, наверно, по моим глазам она что-то заметила, и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что работа вовсе не такая грязная. У них нет шофера уже много лет.
В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бантлайна — смотреть парусные гонки. Я сама попросила ее захватить меня с собой. Я сказала, что в Писконтьюте только и разговору, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно, В этот день в гонках участвовала их дочка, Лайла. Она — самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо, но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучше бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказала. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки — и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бранилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала, Артур, наверное, таких никогда и не слыхал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла. Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она. вспомнила, что я все слышу и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова.
— Постарайся понять, почему мы все так волнуемся, — сказала она. — Ведь Лайла вот-вот может выиграть „Кубок Командира“.
— О, — сказала я. — Теперь мне все понятно, — честное слово, папочка, больше я ничего не говорила, но по глазам, наверное, было что-то заметно.
Главное, что меня поражает в этих людях, — это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительней всего, что они думают, будто все на свете — подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу, посмотреть закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится, но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что мне еще полагается говорить, и я сказала довольно глупую фразу: „Спасибо вам за это“. Оказалось, что она именно этого и ждала. „Пожалуйста!“ — сказала она. После этого я уже благодарила ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов.
Может быть, я очень нехорошая и глупая и потому не понимаю, как можно жить в этом Писконтьюте. Может быть, я просто та свинья, перед которой нечего „метать бисер“, но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее. Я вас очень люблю.
Селина.
P. S. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж конечно, не эти ничтожества».
Чтобы скоротать время, Норман Мушари съездил в Нью-порт и заплатил двадцать пять центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег.
Мушари очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный малый, ростом в два метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию:
— Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут?
Но никакого сочувствия у дворецкого Мушари не встретил: тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в пять лет, всего на один день. Так гласило завещание, составленное три поколения тому назад.
— А почему в завещание был включен такой пункт?
— Такова была воля первого владельца поместья, он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, небесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов. — Дворецкий оглядел Мушари сверху вниз: — Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли?
Когда Мушари выходил из особняка, Лэнс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушари, он объяснил притворно ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатоком человеческих типов и предполагает, что Мушари когда-то служил в американской пехоте.
— Нет.
— Не может быть! Она так редко ошибается. Она даже подчеркнула, что вы были снайпером.
— Нет, нет!
Лэнс пожал плечами.
— Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении! — сказал он и опять заржал.
Сыновья самоубийц часто думают — не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ.
Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударился ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы.
Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-навсего пять пластинок, и она все их зарядила в проигрыватель. Пять пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в Клуб любителей грамзаписи. Она измучилась вконец, пока не остановилась на пяти из ста пластинок. В конце концов она выбрала песенку Фрэнка Синатры «Танцуй со мной», «Господь — великий наш оплот и другие религиозные гимны» в исполнении хора Мормонской капеллы, «Далеко до Типперэри и другие песни» в исполнении хора и оркестра Советской Армии, «Симфонию Нового Света» — дирижер Леонард Бернстайн и наконец «Стихи Дилана Томаса» — читает Ричард Бертон.
Голос Бертона гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки.
Фред поднялся с полу, пошатнулся. В ушах звенело. Перед глазами плыли пятна. Он поплелся в спальню — Каролина спала не раздевшись. Она была совсем пьяна и к тому же, как всегда, завтракая с Аманитой, объелась цыпленком под майонезом.
Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повеситься ли ему в подвале, на водопроводной трубе?
Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум воды в уборной — значит маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнатке Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уже зашло, а никаких любопытных соседей поблизости не было, свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился квадрат матового стекла оранжевого цвета. За стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой — маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали беглые блики — казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь.
Про эту лампу рассказывали целую историю. Тридцать три года тому назад мастерская, изготовлявшая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда.
Фред подумал — не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом миганье лампы он оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком и увидел торчащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого спортсмена, а может, и его, Фреда, фото, у руля их яхты «Бутон-2».
Но оказалось, что это — порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги — он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные голые шлюхи, причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони.
Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошлепал на кухню, думая: «Господи, ну что же сказать мальчику?»
Кстати о кухне: электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус. Он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, слепленный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она и внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать.
Фред подумал — не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведерко в углу доверху полно, вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья, после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведерко к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома.
— Фррр-шррр-бррл-брылл, — булькала вода в ведерке. Тут Фред заметил, что кто-то оставил свет в подвале. Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем лежала рукопись его отца — их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать. На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер тридцать восьмого калибра, изъеденный ржавчиной.
Натюрмортик был весьма интересный. Но тут Фред увидал, что это не натюрморт, а живая картина. Маленький мышонок грыз угол рукописи.
Фред постучал в окошко. Мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт.
Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший:
«МЭРРИХЬЮ РОЗУОТЕР. ИСТОРИЯ СЕМЕЙСТВА РОЗУОТЕРОВ С РОД-АЙЛЕНДА».
Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так:
«Родиной Розуотеров в Старом свете всегда был Корнуолл, точнее Силлийские острова. Основатель рода, по имени Джон, прибыл на остров Пресвятой Девы в 1645 году, в свите пятнадцатилетнего принца Карла, ставшего впоследствии королем Карлом Вторым, в ту пору скрывавшимся от восстания, поднятого пуританами.
Фамилия „Розуотер“ вымышлена. До того, как Джон назвался этим именем, никаких Розуотеров в Англии не существовало. Настоящее его имя Джон Грэхем. Он был младшим из пяти сыновей Джеймса Грэхема, пятого герцога и первого маркиза Монтроза. Сыну Джеймса Грэхема пришлось скрыться под псевдонимом, так как сам Джеймс являлся вождем роялистов, чье дело было проиграно. За Джеймсом числится множество романтических приключений, например, однажды он, переодевшись простым шотландцем, отправился в Горную Шотландию и там собрал небольшой, но свирепый отряд и одержал победу в шести кровавых схватках над превосходящими силами противника — то есть над пресвитерианцами, коими командовал Арчибальд Кэмпбелл, восьмой герцог Аргайльский. Кроме всего прочего, Джеймс был поэтом.
Из вышесказанного следует, что в каждом Розуотере течет благородная кровь шотландской знати и что их настоящее имя не Розуотер, а Грэхем. Джеймс был повешен в 1650 году».
Бедный старый Фред просто глазам не верил — неужто он происходит от таких славных предков? Кстати, на нем были носки «аргайлки» шотландской шерсти, и он даже поддернул штаны, чтобы взглянуть на эти носки. Теперь имя «Аргайль» приобрело для него совершенно новый смысл. Да, сказал он себе, один из моих предков победил Аргайля шесть раз подряд. Тут Фред заметил, что стукнулся тогда ногой о столик гораздо сильнее, чем ему казалось, и сейчас кровь из ссадины капала на его аргайльские носки.
Он стал читать дальше:
«Джону Грэхему, принявшему имя Джона Розуотера, очевидно, пришлась по душе жизнь на Силлийских островах, их мягкий климат и его новое имя, ибо он остался там навсегда и стал отцом семерых сыновей и шести дочерей. Он тоже, как говорили, был поэтом, хотя его произведения до нас не дошли. Возможно, что, ознакомившись с его стихами, мы поняли бы то, что осталось для нас тайной, а именно: почему потомок знатного рода отказался от своего благородного имени и от всех привилегий, сопряженных с таким званием, и довольствовался жизнью простого фермера на острове, вдали от тех мест, где сосредоточены и власть и богатство. Могу лишь высказать догадку, которая так и останется догадкой: очевидно, ему претили все кровавые дела, в коих он участвовал, сражаясь вместе со своим братом. Во всяком случае, никаких попыток рассказать о себе своему семейству он не предпринимал, и, даже когда была восстановлена королевская власть, он не открыл никому, что он из рода Грэхемов. В хронике семьи Грэхемов о нем сказано, что он, очевидно, пропал без вести в морском бою, защищая своего принца…»
Фред услышал, как Каролину рвало в ванной.
«Род-айлендские Розуотеры — прямые потомки Фредерика, сына Джона. О Фредерике нам известно только то, что у него был сын по имени Джордж, который первым уехал с островов. Он отправился в Лондон и стал садоводом. У Джорджа было два сына, и младший из них, Джон, в 1731 году был посажен в долговую тюрьму. В 1732 году его освободил некий Джеймс Огглторп, заплативший за него все долги, при условии, что Джон будет сопровождать его, Огглторпа, в экспедицию в штат Джорджия. В этом штате Джон должен был стать главным садоводом экспедиции и посадить шелковичные деревья для разведения шелкопрядов. Джон Розуотер стал там же главным архитектором экспедиции, и по его плану был заложен город, впоследствии названный Саванной. В 1742 году Джон был смертельно ранен в бою с испанцами на Кровавом Болоте».
Рассказ о подвигах и мужестве предков так окрылил Фреда, что он решил немедленно сообщить об этом своей супруге. Но он и не подумал взять священную книгу и показать ее жене. Нет, книгу нельзя было выносить из подвала, жене надлежало самой спуститься в священный подвал.
И Фред сдернул, одеяло с Каролины, может быть, впервые за всю их супружескую жизнь отважившись на такой смелый, такой истинно мужской поступок. Он заявил, что его настоящая фамилия — Грэхем, что один из его предков спроектировал город Саванну и что она немедленно должна сойти с ним в подвал.
Спотыкаясь спросонья, Каролина сошла с лестницы за Фредом, и он, открыв перед ней манускрипт, вкратце изложил всю историю род-айлендских Розуотеров, вплоть до их участия в битвах с испанцами.
— Хочу тебе сказать, — добавил Фред, — что мы — не безродные ничтожества. Мне надоело, мне просто осточертело делать вид перед всеми, что мы — никто.
— Никогда я не делала вид, что мы — никто.
— Да ты всем внушала, что я ничтожество. — Эти слова невольно вырвались у Фреда, и оба они удивились — так точно определил он ее отношение к нему. — Ты знаешь, о чем я говорю, — добавил Фред. Он заговорил путано и торопливо, потому что ведь он не привык касаться таких важных, таких значительных и важных вопросов.
— Эти твои воображалы, ублюдки несчастные. Думаешь, лучше их никого на свете нет, по-твоему, они лучше нас, лучше меня! Посмотрел бы я, какая у них родословная, можно ли сравнить их предков с моими. Мне всегда казалось, что глупо хвастать своей родословной, но даю тебе честное слово — пусть только они захотят со мной потягаться, я им с удовольствием все покажу — пускай попробуют сравнить!!! И вообще хватит вечно извиняться! Другие говорят «здравствуйте!» или «до свидания», а мы только и знаем, что бормотать «простите, пожалуйста!» — все равно, приходим или уходим. — Фред широко развел руки: — Хватит извиняться! Да, мы бедные! Ну и пусть, бедные так бедные! Мы — американцы! А именно в Америке, как нигде, стыдно извиняться за то, что ты бедный. В Америке надо первым делом спрашивать: «А он — верный гражданин, этот человек? Он честный малый? Он твердо стоит на своих ногах?»
Фред угрожающе поднял толстый фолиант над головой бедной Каролины.
— Род-айлендские Розуотеры были в прошлом людьми творческими, активными и всегда будут такими, — объявил он. — У кого-то из них деньги были, у других нет, но клянусь тебе, что все они сыграли свою роль в истории! Хватит вечно извиняться!
Фред явно убедил Каролину. Да и нельзя было не поддаться его страстным увереньям. Она совсем ошалела, с испугом и уважением слушая Фреда.
— Ты знаешь, какая надпись высечена над входом в вашингтонский архив?
— Нет, — призналась она.
— «Прошлое — пролог!»
— А-а…
— Вот так, — сказал Фред. — А теперь давай вместе просчитаем историю рода Розуотеров, давай вместе попробуем хоть немного укрепить нашу семью, будем больше уважать друг друга, доверять друг другу.
Она молча кивнула.
Повествованием об участии Джона Розуотера в битве с испанцами кончалась вторая страница манускрипта. И Фред Розуотер осторожно взял двумя пальцами за уголок эту страницу и театральным жестом отвернул ее в ожидании дальнейших откровений.
Перед ним открылась огромная дыра. Термиты сожрали всю историю рода. Они так и кишели в рукописи, синевато-белесые, противные, и догрызали последние страницы.
Когда Каролина, содрогаясь от гадливости, прошлепала к выходу из подвала, Фред спокойно решил, что теперь ему на самом деле пора умереть.
Фред отлично умел делать любую петлю даже вслепую и, схватив веревку для белья, завязал ее как надо. Он влез на табуретку, закрепил веревку на водопроводной трубе и попробовал, крепка ли петля.
Он уже стал надевать ее на шею, когда послышался голос маленького Франклина, крикнувшего, что к отцу пришел какой-то человек. А этот человек, Норман Мушари, уже сам, незваный, спускался по лестнице в подвал, таща под мышкой туго набитый полуразинутый портфель.
Фред еле успел соскочить с табуретки; посетитель чуть не застал его врасплох в тот момент, когда он собирался покончить с собой.
— Мистер Розуотер?
— Я…
— Сэр, в эту минуту, сейчас, ваши родственники в Индиане грабят вас и вашу семью, отнимают у вас ваше законное наследство, миллионы долларов. Я приехал, чтобы подсказать вам, как вы сможете выиграть в суде, чрезвычайно просто и сравнительно без особых затрат, и вернуть себе эти миллионы.
Фред упал в обморок.
Два дня спустя Элиоту уже пора было сесть в автобус «Борзой» на остановке у закусочной и поехать в Индианаполис, где в гостинице, в апартаментах «Синяя птица» была назначена встреча с Сильвией. Стоял полдень. Элиот все еще спал. До поздней ночи ему не давали уснуть не только телефонные звонки, люди шли и шли, не считаясь со временем, чуть ли не все посетители приходили пьяные вдрызг. Весь город Розуотер был в панике. Сколько бы Элиот не уговаривал своих клиентов, они все считали, что он бросает их навсегда.
Элиот очистил свой стол от хлама. Он разложил на нем новый синий костюм, новую белую рубашку, новый синий галстук, новую пару черных нейлоновых носков, новые спортивные шорты, новую зубную щетку и флакон «Лавориса». Зубную щетку он употребил всего лишь раз. Она до крови ободрала ему десны.
На дворе залаяли собаки. Они подбежали к пожарному депо, приветствуя своего любимца — всем известного пропойцу Делберта Пича. Они ластились к нему, явно одобряя его попытку сбросить с себя человеческий облик и стать собакой.
— Кыш! Кыш! — неуверенно бормотал он. — Я же не в охоте… черт вас дери!
Он ввалился с улицы в контору Элиота, захлопнул входную дверь перед мордами своих лучших друзей и с песней стал подниматься наверх к Элиоту. Вот что он пел:
Подлечил одну заразу,
Подцепил другую сразу.
Весь обросший щетиной, вонючий, подымался Делберт Пич по лестнице, так медленно, что песни хватило лишь до полпути. Он затянул американский национальный гимн и все еще бормотал про звездно-полосатый флаг, когда влез наконец, отдуваясь и пыхтя, в контору Элиота.
— Мистер Розуотер, мистер Розуотер! — Но Элиот зарылся под одеяло с головой, и сон его был очень крепок, да еще его руки судорожно сжимали край одеяла. Но Пичу так хотелось лицезреть любимые черты, что он ухитрился разжать сильные кулаки Элиота.
— Мистер Розуотер, вы живы? Мистер Розуотер, вы не заболели?
Лицо Элиота перекосилось от напряженной борьбы за одеяло.
— Что? Что? Что такое? — Элиот открыл глаза.
— Слава богу, а то мне померещилось, будто вы померли!
— Нет, как видно, я бы заметил, если б помер.
— Мне приснилось, что ангелы слетели с неба, подхватили вас и унесли прямо в рай, да и посадили рядышком со Спасителем нашим, Иисусом Христом.
— Нет, — сонно сказал Элиот. — Ничего такого не было.
— Будет когда-нибудь, будет обязательно. И вы оттуда услышите, как стенает и плачет по вас весь наш город.
Элиот надеялся, что ни стенаний, ни плача он оттуда не услышит, но промолчал.
— Но хоть вы и не померли, мистер Розуотер, но я-то знаю, что вы к нам больше никогда не вернетесь. Только попадете в Индианаполис, где столько света, столько веселья и красивых домов, опять попробуете сладкую жизнь, и вам еще больше захочется опять так пожить, да это и понятно, вы же и раньше хорошо жили, знаете в этом толк, и не успеешь оглянуться, как вы вернетесь в Нью-Йорк и уж там сладко заживете — лучше не бывает. Да и почему бы вам и не пожить всласть?
— Мистер Пич, — Элиот протер глаза. — Если я вдруг окажусь в Нью-Йорке и снова заживу такой сладкой жизнью, какой свет не видал, знаете, что со мной будет? Выйду я на берег к большой воде, меня сразу как громом ударит, и я бухнусь в воду, а там меня проглотит кит, и поплывет он в Мексиканский залив, а оттуда вверх по Миссисипи, вверх по Огайо, а оттуда по Белой, потом по Затерянной речке, прямо в Розуотеровский канал. И поплывет мой кит по Розуотеровскому судоходному каналу, прямо к этому городу, и изрыгнет меня из чрева китова прямо в Парфенон. Вот я и окажусь здесь снова!
— Что ж, вернетесь вы сюда, мистер Розуотер, или нет, я вам хочу преподнести подарок на дорогу; сейчас сообщу вам одну хорошую новость.
— Что же это за новость, мистер Пич?
— Ровно десять минут тому назад я дал зарок — спиртного никогда в рот не брать. Это вам мой подарок.
Тут зазвонил красный телефон. Элиот схватил трубку — это был телефон пожарной тревоги.
— Алло! Алло! — крикнул он, сжав левую руку в кулак, и выставил средний палец. Ничего плохого в этом жесте не было — он просто приготовился нажать кнопку, которая приводила в действие сирену, громкую, как труба Судного дня.
— Мистер Розуотер? — Голос был женский, очень кокетливый.
— Да, да! Где горит?
— Мое сердце горит, мистер Розуотер!
Элиот взбесился — и это никого не удивило бы. Все знали, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь баловался с пожарным телефоном. Это было единственное, что он люто ненавидел. Голос он узнал сразу: звонила Мэри Моди, потаскушка, чьих близнецов он только вчера крестил. Ее подозревали во многих поджогах, судили за мелкие кражи и за проституцию — пять долларов с гостя. Элиот стал крыть ее вовсю за то, что она посмела позвонить по красному телефону:
— Черт бы тебя побрал, как ты смеешь звонить по этому номеру! Тебе в тюрьме место, гнить там весь век! Всех вас, идиотов, сукиных детей, кто смеет шутить с пожарным телефоном, швырнуть бы в ад, жарить там на сковородке до второго пришествия!
И он грохнул трубку на место.
Через несколько секунд зазвонил черный телефон.
— Фонд Розуотера слушает, — ласково сказал Элиот. — Чем могу вам помочь?
— Мистер Розуотер, это опять я, Мэри Моди… — Она захлебывалась от слез.
— Что случилось, дорогая моя? — Элиот честно не понимал, в чем дело. Он готов был на месте убить каждого, кто заставил бедняжку так горько плакать.
Шофер остановил черный «крайслер-империал» у дверей Элиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали.
Он кряхтя поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подыматься было куда легче. Он невероятно состарился, да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Элиота себя не вел: он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Элиот, все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах, торопливо встал навстречу отцу и обнял его:
— Отец, отец, отец, вот неожиданная радость!
— Нелегко мне было приехать к тебе…
— Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь?
— Противно видеть, какой тут хаос.
— Но тут куда чище, чем неделю назад.
— Неужели?
— Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку!
Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива:
— Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии только оттого, что я ее боюсь? — Голос сенатора уже звучал спокойнее.
— Кажется, ты знаешь Долберта Пича?
— Я о нем знаю. — Сенатор кивнул Пичу: — Здравствуйте, мистер Пич. Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?
Пич совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил.
— Ага, значит, я принял вас за вашего папашу. Прошу прощения. Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко.
Пич промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии три раза.
— Может быть, нас оставят наедине хоть ненадолго, — сказал сенатор Элиоту, — или это будет противоречить твоим представлениям о том, какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе?
— Ухожу, ухожу, — сказал Пич. — Чувствую, что я тут лишний.
— Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство, — сказал сенатор.
Пич, уже прошаркавший до дверей, остановился, услышав эти обидные слова, сам удивился, что сообразил, как это обидно:
— Как вы можете так оскорблять людей, простых людей, ведь вы от них зависите — подадут они за вас голос или нет, нехорошо, сенатор.
— Как закоренелый пьяница, мистер Пич, вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают.
— А я голосовал, — сказал Пич. Ложь была слишком явной.
— Если так, то вы, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана, даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самом пропащем, сидит задубелый, простецкий малый, вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я.
— Право, отец, я и не надеялся тебя увидать. Такая неожиданная радость. И выглядишь ты прекрасно.
— А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные, особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить.
Элиот слегка нахмурился:
— А когда у тебя действовал желудок?
— Не твое дело.
— Прости.
— Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей конституции. Но я не потому здесь.
— Ты сказал, что чувствуешь себя прескверно.
— Ну и что?
— Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, девять из десяти жалобщиков страдают от запора.
— Погоди, вот я тебе все расскажу, мой мальчик, тогда посмотрим, поможет тебе пурген или нет. Один адвокатишка, работающий в конторе Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к род-айлендским Розуотерам. Они собираются подать на тебя в суд. Они хотят объявить тебя невменяемым.
На столе у Элиота зазвонил будильник. Элиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку, его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем Восточном полушарии.
От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В семи милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закусочной опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в «Салоне красоты у Беллы», у самой хозяйки, трехсотфунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо:
— Ага, сбросило Чарли с его секретарши!
Элиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же:
— Бля-бля-блям… Бля-бля-блям…
Никакого пожара в Розуотере не было. Просто надо было возвестить, что настал полдень.
— Ну и звук! — сказал сенатор, медленно выпрямляясь. — У меня все вылетело из головы.
— Может, это и хорошо?
— Ты слышал, что я тебе говорил про род-айлендских Розуотеров?
— Да.
— И как ты к этому относишься?
— Мне грустно и боязно. — Элиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. — Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств — здоров я или нет и что это вообще никакого значения не имеет.
— Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет?
— Безусловно.
— И давно это началось?
Глаза у Элиота расширились, словно он искал в пространстве честный ответ:
— Лет с десяти, пожалуй…
— Ты шутишь, конечно!
— Очень утешительно, что ты в этом уверен.
— Ты был здоровым, нормальным ребенком!
— Серьезно? — Элиот искренне обрадовался, вспомнив, каким он был мальчиком, он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали.
— Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда.
— А мне тут и тогда понравилось и нравится до сих пор.
Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар:
— Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться.
— Как это не возвращаться? — удивленно спросил Элиот.
— Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить род-айлендских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда — и уезжать немедленно.
— Как это они могут?
— А как ты сможешь доказать, что ты не сумасшедший, живя в такой декорации? Обстановочке?
Элиот оглядел комнату, ничего особенного не увидел:
— Тебе… тебе моя обстановка кажется странной?
— Да ты и сам все понимаешь, черт подери!
Элиот медленно покачал головой:
— Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверно, очень удивишься!
— Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если бы поставить на сцене такую декорацию и в ремарках было бы сказано: «При поднятии занавеса сцена пуста», то все зрители дрожали бы от нетерпения — поскорее увидеть, какой немыслимый психопат живет в таких условиях.
— А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит почему он так живет?
— Все равно он — психопат!
Элиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел наконец бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки: кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты.
— Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок.
— Гм? — Элиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта «Аррид» — таким он никогда не пользовался, да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял.
— Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно, — и когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек.
— Угу, — сказал Элиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средство от пота «Аррид».
Сенатор обиделся:
— Я принимаю душ и утром и на ночь. Предполагаю, это избавляет меня от нежелательных выделений.
— Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь, и если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством.
— Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла ничего нет.
— Гм…
— Вот в чем наша беда тут, в Америке. Эти деятели с Мэдисон-сквера заставляют нас больше беспокоиться о наших подмышках, чем о России, Китае и Кубе вместе взятых.
Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей сейчас незаметно перешел в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем.
— Знаешь, — сказал Элиот, — Килгор Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться — не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться, с запахами.
— Видишь ли, если тебе придется выступать на суде, — сказал сенатор, — лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгора Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление у очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии.
И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Элиота появились резковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгора Траута под названием: «О, скажи — чуешь ты?»[47]
— В этой стране, — рассказывал Элиот, — было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери семейств, по воскресеньям обходя дом за домом. В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы.
— Ага, — сказал сенатор. Он ненавидел произведения Килгора Траута, и ему было стыдно за сына. — Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах.
— О нет, — сказал Элиот. — Ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы.
Элиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и, весь дрожа, отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами.
Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не мог. Он стал ходить по комнате. Двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Элиот придвинул к ним полку с картотекой:
— Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом? — сказал он, на что Элиот ответил:
— Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо.
Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права от 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Элиот написал для Сильвии два года назад.
Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Элиота. Но вот какие стихи он прочитал, и ему снова стал неудержимо стыдно:
Художник я в мечтах — ты это знаешь,
А может быть, не знаешь. Да, — и скульптор.
Тебя давным-давно здесь не видать,
И это — как толчок моим рукам — играть
С невидимым каким-то матерьялом
И мысленно его, как глину, формовать.
Наверное, ты очень удивишься,
Узнав, что стал бы делать я с тобой:
К примеру — будь я около тебя,
Когда ты, лежа, этот стих читаешь,
Я попросил бы: «Приоткрой живот», —
Чтоб ногтем левого большого пальца
Я мог бы провести черту в пять дюймов
Над темным треугольником волос,
А правым указательным коснуться
Чудесной ямочки на животе
И замереть, не отнимая рук,
На полчаса, —
А может быть, и дольше.
Что, странно?
Ну еще бы…
Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о «темном треугольнике волос». Он сам видел очень мало голых людей, раз пять-шесть в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете.
Элиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце было новое, нестираное, на нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность.
Элиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем, потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон.
— Фонд Розуотера. Чем могу вам помочь?
— Мистер Розуотер, — сказал женский голос. — Сейчас по радио передавали про вас.
— Да ну? — Элиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предосудительного в этом не было. Он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал.
— Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший.
— Не беспокойтесь, дорогая моя. Близок локоть, да не укусишь.
— Ох, мистер Розуотер, если вы уедете и не вернетесь, мы тут все без вас умрем.
— Даю вам честное благородное слово, что я сюда вернусь. Верите мне?
— А вдруг они вас не выпустят?
— Вы думаете, что я и на самом деле сумасшедший?
— Да как вам сказать…
— Говорите что угодно!
— Я все время думаю — а вдруг люди решат, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы.
— А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя?
— Нет, я отсюда никогда не выезжала.
— А стоило бы посмотреть. Вот я вернусь и устрою вам поездку в Нью-Йорк, ладно?
— Господи, да вы же больше никогда не вернетесь.
— Я дал вам честное слово.
— Знаю, знаю. Все равно мы нутром чуем, это в воздухе носится — не вернетесь вы сюда, и все.
Элиоту попалась одна чудная волосинка. Он ее тянул-тянул, а она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть ли не фут длины. Элиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побагровел.
— Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер, — продолжал женский голос. — Хотели устроить парад, с флагами, цветами, плакатами. Но ничего не выйдет. Очень мы все боимся.
— Чего?
— Не знаю, — сказала она и повесила трубку.
Элиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул:
— Элиот!
— Сэр? — Элиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов. — Здорово она держит, эта штука. Я совсем забыл, как здорово чувствовать поддержку.
Сенатор взорвался.
— За что ты меня ненавидишь? — заорал он.
Элиот был совершенно ошеломлен:
— Ненавижу тебя, отец? Что ты! Да я вообще не знаю ненависти!
— Почему же ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня?
— Вовсе нет!
— Понятия не имею, какое зло я тебе причинил, за что ты со мной теперь расплачиваешься, хотя, по-моему, ты уже отплатил мне сторицей.
Элиот был в ужасе:
— Отец, прошу тебя…
— Замолчи! Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу!
— Бога ради, отец! Я всегда любил…
— Любил? — с горечью бросил сенатор. — Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы. Скажешь, что ты и Сильвию любил, да?
Элиот заткнул уши.
Сенатор что-то кричал, брызгая слюной. И Элиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Элиоту.
Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью.
Элиот разжал уши и стал одеваться, как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки, Завязав шнурки, он выпрямился. И вдруг весь окаменел, помертвел.
Зазвонил черный телефон. Элиот не снял трубку.
Что-то живое все-таки оставалось в Элиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За десять минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то в глубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки.
Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал под мышками, брюки — в шагу, подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырядился.
В закусочной шел разговор. Элиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Говорили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как деньги.
— Что ж, — сказал один из них, помолчав. — Бедность, конечно, не порок…
Это была первая половина старой-престарой остроты — ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард.
— …Но большое свинство! — докончил за него другой.
Перейдя улицу, Элиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Уормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в Фонд. Он был одним из семи жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица «Салона красоты». Оба они начали с нуля: оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на десять лет моложе Элиота. Росту в нем было шесть футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие, и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой «Парижский магазин» — хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой.
Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Элиот застал в конторе еще одного человека — Ноиса Финнери, подметавшего пол. Ноис когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноис придушил свою шестнадцатилетнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь благодаря Элиоту он был взят на поруки. Ноису исполнился пятьдесят один год. Ни родных, ни друзей у него не было. Элиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера «Розуотерского глашатая», и постарался взять его на поруки.
Ноис был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Элиота. Элиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимейших произведений — романе Килгора Траута — речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман «Первый районный Благодарственный Суд». Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд давал ему наказание на выбор: либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, восемьдесят процентов осужденных предпочитали посидеть в каталажке.
Ноис куда скорей, чем Чарли, заметил, что Элиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Элиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Элиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Элиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил три года назад.
— Элиот, вы шутите, что ли?
— Почему это я вдруг стану над вами подшучивать? Я искренне считаю, что это большая честь.
Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему Молодому Хужеру Республиканской Федерацией Клубов Молодых Дельцов — Консерваторов штата Индиана.
— Элиот… — жалобно сказал Чарли. — Да это же было три года назад.
— Неужели?
Чарли встал из-за стола:
— Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно.
— Правда?
— Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она — поцелуй смерти.
— Как же мы могли решить?
— Да вы же сами раскопали всю эту историю!
Элиот слегка нахмурился:
— Что-то забыл…
Нахмурился он только для проформы — ему было совершенно неважно, помнил он или нет.
— Они же выдавали эту штуку с 1945 года. Шестнадцать раз присуждали до того, как наградили меня. Неужели не помните?
— Нет.
— Из этих шестнадцати награжденных шестеро посажены за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов, четверо должны были предстать перед судом за разные нарушения законов, двое подделали свои военные аттестаты, а одного казнили на электрическом стуле.
— Элиот, — спросил Чарли с нарастающим беспокойством. — Вы слышали, что я говорил?
— Да.
— Да, что я сказал?
— Забыл.
— Но вы только что сказали, что слышали?
Вдруг Ноис Финнерти заговорил:
— Да он ничего не слышит, у него в голове только «щелк» «щелк», и все. — Ноис подошел поближе к Элиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Элиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлектор, что-то проверяя.
— Только этот «щелк» он и слышит, понятно? Щелк-щелк, и все, поняли?
— Что ты плетешь, чертов сын? — спросил Чарли.
— В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет.
— Да мы же не в тюрьме.
— Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное — ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам — близкий человек? Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хоть это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы знали бы его насквозь, вы бы за милю слышали, как у него внутри что-то щелкнуло. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает, а что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого-то он и ведет себя так, он и выглядит так, да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли. Ты ему скажешь: «Спокойно, спокойно, не надо, успокойся», или же спросишь: «Чего же ты опять глупостей наделал, разве не знаешь, что тебя все равно поймают, все равно попадешь в беду?» Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь, зря его уговариваешь ты же сам понимаешь — сидит в нем то, что им командует. Оно ему скажет: «Прыгай!» — он и прыгнет, скажет «Воруй!» — он сворует, скажет: «Плачь!» — он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. А вот работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь — а он перестал работать. Стоит спокойно. Вид у него отупелый. Он весь затих. Заглянешь ему в глаза — а там ничего нет, никаких секретов. Он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он уже стал совсем другим, никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось — завод остановился навсегда. Конец, конец. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, — все это кончилось.
Сначала Ноис говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели, мертвой хваткой сжимая рукоять метлы. И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал. «Все! Все!» — задыхаясь шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переложить ее через кольцо, зарычал на Чарли, хозяина метлы: «Не ломается, гадина, сукина дочь!»
— А ты, ублюдок, мать твою… — крикнул он вдруг Элиоту, — ты-то свое получил! — и стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу.
Он отшвырнул метлу:
— Не ломается, стерва, шлюха! — крикнул он и выскочил из конторы.
Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту сцену. Он мягко спросил Чарли — почему этот человек так возненавидел метлы? И добавил, что ему, наверное, уже пора на автобус.
— А как… как вы себя чувствуете, Элиот?
— Отлично.
— Правда?
— Никогда в жизни я себя не чувствовал так хорошо. У меня такое чувство, будто… будто…
— Что?
— Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза…
— Должно быть, это приятно…
— Очень, очень!
В таком настроение Элиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки, но Элиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда. И те, кто больше всех зависел от Элиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то щелкнуло.
В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы — надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, с бьющей из них струёй. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Элиота, что ни сил, ни энергии не хватило даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет. И они нарочно туда не шли.
Элиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона, у самого канала. Бывший пильщик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник. По радио передавали песню про «старика-реку» Миссисипи. Голос пел: «Черный работает, белый гуляет…»
Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный. Пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий, по рецепту врача.
Элиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить ни его имени, ни чем он страдает. Элиот глубоко вздохнул — в такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах.
В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал «Американский следопыт». Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилозавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги — царь и бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали Железный Крест.
Его передачу ясно и четко услыхали по своим приемникам два обходчика, охранявшие государственный заповедник в сорока двух милях от Розуотера. Сторожа уведомили Федеральное Бюро Расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного Креста, и он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу.
Фонд Розуотера почти ничего для него не делал, Элиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, Фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден.
Элиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации.
— Хайль Гитлер! — хрипло каркнул Эвальд.
Элиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот «занавес» разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красотки, Рэнди Геральд, смотревшей со всех разворотов журнала. И везде повторялся ее призыв — найти для нее мужчину, от которого она могли, бы иметь гениального ребенка.
— Хайль Гитлер! — повторил Эвальд из-за журнальной занавеси.
— И вам тоже хайль гитлер, сэр! — улыбнулся Элиот. — Прощайте!
Солнце варварски ударило в глаза Элиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем «Салоне Красоты» отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюр.
Элиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Розуотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, и его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тросе, с которой был снят флаг раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый гулкий отзвук.
Элиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впечатлением от этих звуков, хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал. Но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой:
— Слышишь, какой это американский звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили. Такой грустный, такой американский звук. И слушать его надо бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок, и все люди на свете садятся за ужин…
Он почувствовал комок в горле. Ему было хорошо.
Когда Элиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри, и свихнулся он через десять минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамена Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ — принять душ вместе с сотней других, совершенно голых ребят. Инвалидность у него была нешуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом.
— Мистер Розуотер! — просипел он.
Элиот улыбнулся, протянул ему руку:
— Извините, пожалуйста, забыл ваше имя!
Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал, по крайней мере, раз в день.
— Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь…
— За что?
— За жизнь, мистер Розуотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может, того и не стоит.
— Что-то вы преувеличиваете, право!
— Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое случилось. Может, вы и над стихами не будете смеяться. — И он сунул Элиоту в руку листок бумаги: — Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные. Вот до чего мне все смешно! — прошептал он и убежал.
Элиот растерянно прочел стихи. Вот они:
Колокола, волны,
Море, трели,
Реки, рояли,
Ручьи, свирели.
Водопады, гобои.
Пруды, тромбоны,
Лагуны, флейты
Озера, звоны.
Ты музыку слушай!
Упивайся водой,
Нам, бедным ягнятам,
Идти на убой.
Я люблю вас, Элиот.
Я плачу… Прощай!
Слезы и скрипки,
Сердца и цветы,
Цветы и слезы,
Розуотер, прости!
До закусочной у остановки автобуса Элиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была четырнадцатилетняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розуотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем; тот же Фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде.
Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Элиоту, он спросил, как она себя чувствует.
— Как сказать, — ответила она. — Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась — все меня знают.
Сейчас она пила кока-колу и читала журнал «Американский следопыт». Она кинула на Элиота быстрый взгляд, но больше на него ни разу не посмотрела.
— Один билет до Индианаполиса, пожалуйста.
— Только туда или туда и обратно, Элиот?
Элиот решительно сказал:
— Нет, только туда.
Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его.
— Один билет до Индианаполиса! — громко повторил хозяин. — Прошу вас, сэр! — Он сердито проштамповал билет вручил Элиоту и резко отвернулся. Больше и он на Элиота ни разу не взглянул.
Элиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке — поискать, что ему взять почитать в дорогу. Его заинтересовал «Следопыт», он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Иеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову семилетней девочке. Элиот положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута «Трехлетний отпуск из Пангалактики».
Вдали глухо пробурчал гудок автобуса.
Когда Элиот садился в автобус, появилась Диана Луун Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле.
— Мистер Розуотер! — всхлипнула она.
И вдруг грохнула телефон оземь, у самого входа в автобус:
— Не нужен мне телефон. Больше звонить некому, больше мне никто не позвонит!
Элиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая:
— Виноват, не совсем понимаю!
— Как? Да это же я, мистер Розуотер! Это я, Диана. Диана Луун Ламперс!
— Рад познакомиться.
— Познакомиться? Со мной?
— Да, да, вот именно, только… только я не совсем понял — при чем тут телефон?
— Да вы же единственный человек, кому я звонила.
— Как же так? — с недоумением спросил он. — У вас, наверное, есть много других знакомых?
— Ах, мистер Розуотер! — зарыдала она, припав к дверце автобуса. — Вы же мой единственный друг!
— Ну, вы еще много друзей заведете! — обнадежил ее Элиот.
— Ох, господи! — всхлипнула она.
— Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви.
— Вы моя церковь! Вы мое все! Вы мое правительство! Вы мой супруг! Вы — все мои друзья!
Такая ответственность несколько озадачила Элиота:
— Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего! А мне пора ехать, честное слово! — И он помахал ей рукой: — Прощайте!
Элиот сел в автобус и стал читать «Трехдневный Отпуск из Пангалактики». Около автобуса поднялась какая-то суета, но Элиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся. Книга была поистине захватывающей — в ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной, до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было, и сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты.
Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином в экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно двухсот галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно.
Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более продуктивным. Уменье говорить делало их куда более активными. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, мыслить, планировать.
Бойля вызвали с занятий английским языком к командующему экспедицией. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты Тральфамадор и ростом с земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не походил. Больше всего он был похож на «прокачку» — лучшего друга водопроводчиков.
Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-З, он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стряслось что-то страшное.
Капеллан сказал Бойлю:
— Будьте мужественны!
Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом, и ему, Бойлю, дают внеочередной отпуск на три дня, и что он должен отбыть немедленно.
— Кто погиб? Мама? — Бойль с трудом удерживался от слез. — Или папа? Может быть, Нэнси! (Так звали его девушку, соседку.) Или дедушка?
— Крепись, сынок, — сказал командир. — Страшно вымолвить… Дело не в том, кто погиб. Дело в том, что погибло.
— А что погибло?
— Млечный Путь погиб, мой мальчик, — сказал, командир.
Элиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил.
На остановке в Нэшвиле, центре округа Браун, в штате Индиана, Элиот взглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвилским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой.
В Нэшвиле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было, что в мастерской стеклодува Элиот увидал, как изготовлялись елочные украшения, хотя стоял июнь.
Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Элиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево — над городом бушевал огненный смерч. Элиот был поражен — он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне.
Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Элиота было тайной — почему он так ее прятал, почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика, почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Элиота и намека на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии». Написал ее Ганс Румпф.
Одну главу Элиот, с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден.
«Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха, высотой около трех миль и диаметром мили в полторы… Столб завертелся вихрем — снизу шли потоки холодного воздуха, отчего этот вихрь усиливался. В полутора милях от пожаров скорость ветра возросла с одиннадцати до тридцати трех миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья футов до трех в обхвате. Вскорости воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и следов от горючих материалов не оставалось, только через два дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району».
Приподнявшись в кресле автобуса, Элиот смотрел на огненный смерч, пожиравший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба, в восемь миль диаметром и по меньшей мере миль пятьдесят в высоту.
Столб пламени словно был отлит из стекла, настолько явственно и неподвижно встал он над городом. Внутри него крупинки раскаленной докрасна золы торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины. И ее белизна казалась священной.
Перед глазами Элиота все стало черным-черно, как тьма за пределами Вселенной. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка. «Пью-ти-фьют? — спрашивала она. — Пьюти-фьют, фью, фью?» Сад был окружен высокой каменной стеной — и Элиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна, в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение:
Элиот увидел, что его нарядили в ослепительно-белый теннисный костюм и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки, хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетенье заиграли мышцы предплечья, почувствовал, что он не просто теннисист, но и очень хороший игрок. Он сразу понял, где он играет в теннис: к одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повиликой и душистым горошком.
— Пьюти-фьют?
Элиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Элиот принял эту мысль совершенно спокойно.
Он все еще не спускал глаз с птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Элиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Элиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может.
Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову?
— Элиот…
— Сэр? — Элиот понял, что с ним говорит его отец. И он стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку, так раненые птицы медленно слетают вниз, — и наконец его глаза встретились с глазами отца.
— Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное? — спросил отец.
Элиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин — трое старых и один молодой, все они сочувствнно смотрят на него и напряженно прислушиваются — не захочет ли он сообщить им что-нибудь. В молодом человеке Элиот узнал доктора Брауна. Второй старик был Мак-Алистер, адвокат их семьи. Третьего старика Элиот раньше не встречал, но, как ни странно, его это ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое доброе лицо, что он показался Элиоту старым другом.
— Вы не находите слов? — подсказал доктор Браун. В голосе врача звучало беспокойство, он подвинулся поближе, готовясь помочь Элиоту найти эти слова.
— Не нахожу слов, — подтвердил Элиот.
— Что ж, — сказал сенатор. — Если ты не можешь выразить свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности.
Элиот кивнул в знак согласия.
— А разве я… я уже пытался найти слова и что-то вам сказать? — спросил он.
— Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея, каким образом навести порядок во всей этой неразберихе, без шума, честно и справедливо. Потом замолчал и уставился на дерево.
— Угу… — сказал Элиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами: — Ничего не помню, совсем вылетело из головы.
Сенатор хлопнул в ладоши — руки у него были старые и пятнистые:
— Нам теперь хороших идей не занимать, и сами придумаем, как одолеть все препятствия. — Он победоносно осклабился, хлопнул мистера Мак-Алистера по колену: — Верно? — Просунув руки за спину Мак-Алистера, он потрепал незнакомца по спине: — Верно? — Очевидно, он был просто влюблен в этого человека: — Тут на нашей стороне целый мозговой трест, лучше его планов ничего не найти! — Он захихикал, видно, он был в восторге от всех этих планов.
Сенатор широко раскрыл руки:
— Смотрите на моего сына — вот вам лучший аргумент в нашу пользу, смотрите, как он выглядит, как держится, такой подтянутый, такой складный! Он сам — наш козырь номер один!
Глаза у старика заблестели:
— Сколько он потерял в весе, доктор?
— Около двадцати килограммов.
— Снова в прежней спортивной форме! — восхитился сенатор. — Ни грамма лишнего! А какой теннисист! Пощады не жди! — Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу. — Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте час назад! Ты его угробил, Элиот!
— Гм-мм… — сказал Элиот. Он посмотрел по сторонам — хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит. Но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна, в чаше, служившей птицам купальней, осталась мутная лужица — от нее шел горький запах прелых листьев и сажи.
— Вы, кажется, сказали, что Элиот обыграл профессионала? — спросил сенатор доктора Брауна. — Да, тот играл много лет. — Элиот его изничтожил! А каким победителем он подлетел к нам, с корта, пожать нам руки, право, мне хотелось и смеяться и плакать. И этот человек, подумал я, должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший! Хо-хо!
Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Элиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На самом же деле хотелось подобраться поближе к воде в птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он весь был как стальная пружина.
При резком рывке Элиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его — оказалось, что это свернутый в трубку номер «Американского следопыта». Элиот развернул журнал — наверное, там красовалось то же фото Рэнди Геральд, умоляющей найти ей производителя, от чьего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет, в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде четвертого июля.
Надпись внизу гласила:
«САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ?
(см. на развороте)».
Элиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Элиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок — Элиот, играющий в теннис на корте лечебницы.
С противоположной страницы на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуотера. У них был вид сезонников батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова: «Мои клиенты желают только одного — вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда. Семь раз, под всякими пустячными предлогами, откладывалась судебная экспертиза, а тем временем Элиот Розуотер без конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров.
Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой подержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и тысячи долларов, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди — рядовые американцы — поставили все, что имели, на свою веру в американское правосудие, и оно не должно, не может, не смеет их подвести!»
Рядом с фото Элиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давнишней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания.
Элиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услыхал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца:
— Мистер Траут!
— Траут! — крикнул Элиот. Он так изумился, что чуть не потерял равновесие, и ухватился за край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться, и Элиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке. И тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился исхудалый старообразный подросток.
«Бог мой! — подумал Элиот, — вылитый Ф. Скотт Фицджеральд, за день до смерти!»
Элиот предусмотрительно удержался и не окликнут Траута еще раз; он понимал, что может себя выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Элиот был еще в полном беспамятстве.
Не узнал его Элиот и по той простой причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой. У незнакомца бороды не было.
— Уверяю тебя, Элиот, — сказал сенатор, — когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты все еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл твоей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда, и ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал!
— Правильно, — сказал Элиот, осторожно усаживаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год.
— Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут, — приказал сенатор, — постарайся выглядеть таким, как сейчас, и я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело.
— Конечно, я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут, и, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю. Но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут.
— Все очень просто, — сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный.
— Да вы же столько раз все повторяли, — сказал сенатор.
— И все-таки, — сказал Элиот, — хотелось бы послушать еще разок.
— Так вот. — Траут потер руки, посмотрел на свои ладони. — Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда в очень ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая несомненно встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так: «Каким образом проявлять любовь к лишним людям?» Со временем все люди — и мужчины и женщины — станут ненужными в производстве всех материальных ценностей — любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей хотя бы за то, что они люди, почему бы не начать просто уничтожать их, что уже предлагалось не раз?
Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать, ненавидеть за это даже самих себя. Это — наследие наших предков-первопоселенцев, и здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время — и оно уже надвигается, — когда никакой здравый смысл не оправдает эту ненужную жестокость.
— Нет, все-таки, если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота. Этот закон еще сохранится тысячу лет, — перебил Траута сенатор.
— Вполне возможно, — согласился Траут. — Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в «Утопии», подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность — сравнительно легкое заболевание, даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой. Значит, надо найти лекарство.
Совершенно нормально и то, что вы, Элиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. И если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, как даже его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки, в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствует и попытается утешить лично сам начальник пожарной дружины.
Траут широко развел руками:
— Вот вам люди, которые оберегают других людей только потому, что те — тоже люди. А это редкий случай. Вот у кого мы должны учиться.
— Замечательный вы человек, ей-богу! — похвалил Траута сенатор. — Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании! Вы сумели бы кого угодно уговорить, доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага. Ну что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?
— Гасить талончики, — мягко сказал Траут.
— Мистер Траут, — спросил Элиот, — а где ваша борода?
— Вы же первым делом спросили меня про бороду.
— Ну, расскажите еще раз.
— Я голодал, совсем упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу.
— Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой.
— Я бы все равно ее сбрил, даже если бы меня и взяли.
— Почему?
— Подумайте, какое кощунство — с лицом Спасителя гасить талончики!
— Век бы вас слушал, мистер Траут! — сказал сенатор.
— Спасибо…
— Только перестаньте утверждать, что вы — социалист! Наоборот, вы — за свободное предпринимательство!
— Против воли, уверяю вас!
Элиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков — каждый был по-своему интересен ему. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун, но Траута это ничуть не задело. Трауту, очевидно сам сенатор доставлял удовольствие, как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими бы то ни было его утверждениями он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно; он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду.
— Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут!
— Благодарствуйте!
— Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений. Но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно как если бы увертюру «1812 год» сыграть на сопелке.
Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке:
— Ну-ка расскажи нам, какие еще чудеса творил там Элиот с пьяных глаз.
— Но суд непременно начнет выяснять, что Элиот узнал из своих экспериментов, что он узнал для себя, — сказал Мак-Алистер.
— Узнал, что надо бросить пить, надо помнить, кто ты такой, и вести себя соответственно! — решительно заявил сенатор. — А главное, не разыгрывать перед этими людьми господа бога, не то они сначала обслюнявят тебя с ног до головы, вытянут все, что можно, начнут нарушать все десять заповедей, и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю.
Элиот не выдержал:
— Меня поносят?
— А-а, черт их дери, они и любят тебя и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой, а главное каждый день выдумывают про тебя новые враки. Мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты и впрямь был у них за господа бога и вдруг бросил их на произвол судьбы.
У Элиота заныло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотер.
— А мне кажется, — сказал Траут, — что Элиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь.
— Разве это ново? — буркнул сенатор.
— Да, мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах изчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям, исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем, якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Элиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь.
Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово — вот что он сказал напоследок:
— И это — радость!
— Пьюти-фьют!
Элиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ Розуотер и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана…
— Был бы у него ребенок, — сказал сенатор.
— Что ж, если вам действительно нужны внуки, — посмеиваясь сказал Мак-Алистер, — можете выбрать любого — по последним подсчетам, их пятьдесят семь штук!
Все смеялись, только Элиот спросил:
— От кого это пятьдесят семь внуков?
— От тебя, мой мальчик, — засмеялся сенатор.
— Что?
— Твои грешки!
Элиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал:
— Ничего не понимаю!
— Пятьдесят семь женщин в Розуотере утверждают, что ты — отец их ребенка.
— Но это дикий бред!
— Еще бы! — сказал сенатор.
Элиот взволнованно встал с места:
— Это… это немыслимо!
— У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал, — сказал сенатор и мельком, с тревогой взглянул на доктора Брауна.
Элиот прикрыл глаза рукой:
— Простите, мне кажется, что именно тут у меня какой-то абсолютный провал в памяти!
— Тебе нездоровится, сынок!
— Нет, — сказал Элиот. Он отвел руку от глаз. — Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила; пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху?
— Доказать это трудно, — сказал Мак-Алистер. — Но мы знаем, что Мушари разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моди. После того как Мушари побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы — отец ее близнецов, Фокскрофта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин.
Килгор Траут утвердительно кивнул:
— Именно эпидемия.
— Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них — от вас. Из них, по крайней мере, половина сами поверили, что это правда. Одна пятнадцатилетняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее — от вас.
— Но это ложь!
— Конечно, конечно, это ложь, Элиот! — сказал его отец. — Успокойся, пожалуйста! Мушари не посмеет сказать об этом на суде. Вся его затея давно рухнула. Этого ни один судья не станет слушать — настолько очевидно, что это бред. Мы даже проверили группу крови у близнецов — они ни в коем случае не могут быть твоими детьми. А у остальных психопаток мы ничего и проверять не станем. Ну их всех к черту!
— Пьюти-фьют…
Элиот взглянул на дерево — и вдруг в памяти возникло все, что до сих пор скрывалось в черном провале — драка с водителем автобуса, смирительная рубашка, лечение электрошоком, покушение на самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе.
И в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея — как немедленно все уладить, достойно и справедливо.
— Скажите откровенно, — начал он. — Можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален?
Все с жаром ответили утвердительно.
— И я по-прежнему являюсь главой Фонда Розуотера? По-прежнему имею право выписывать чеки из Фонда?
Мак-Алистер подтвердил, что он, разумеется, имеет такое право.
— А каков наш баланс на сегодняшний день?
— Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех трехсот тысяч долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех пятидесяти тысяч, что вы дали мистеру Трауту.
— И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом, — заметил сенатор. Это было верно: все благотворительные мероприятия Элиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице.
Мак-Алистер сказал Элиоту, что прибыли Фонда составляют около трех с половиной миллионов долларов, и Элиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника, Фреда Розуотера, чек на миллион долларов.
Сенатор и Мак-Алистер страшно всполошились, стали объяснять Элиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду, но Фред через своего адвоката высокомерно отказался.
— Им требуется всё, целиком, — сказал сенатор.
— Жаль, жаль, — сказал Элиот, — потому что, кроме этого чека, им ничего не достанется.
— Это решит суд, а что именно скажет суд, одному богу известно, — предупредил его Мак-Алистер. — Кто знает, кто знает…
— Но если бы у меня был ребенок, — спросил Элиот, — разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы Фонда, а сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике.
— Правильно, — подтвердил Мак-Алистер.
— Между прочим, целый миллион — слишком много для этой род-айлендской свиньи, — сказал сенатор.
— Сколько же ему дать?
— Сто тысяч долларов хватит с головой.
Элиот порвал чек на миллион и выписал новый чек — сумма была в десять раз меньше. Взглянув на окружающих, он увидел, что все поражены — до них только что дошел смысл его слов.
— Элиот… — Голос у сенатора дрогнул: — Ты… ты хочешь сказать, что у тебя есть ребенок?
Улыбка Элиота походила на улыбку мадонны:
— Да.
— Где он? От кого?
Элиот мягким жестом остановил его:
— Терпение! Не все сразу!
— Значит, я — дед! — Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца.
— Мистер Мак-Алистер, — сказал Элиот. — Обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражения моего отца или кого-нибудь другого?
— Как юрисконсульт Фонда я обязан выполнить все ваши поручения.
— Отлично. Тогда я попрошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне, — мои дети, независимо от группы крови. Пусть они получат все законные права, как мои наследники, как мои дочери и сыновья.
— Элиот!
— Пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им…
Элиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку:
— И скажите им, — начал он снова, — скажите: «Плодитесь и размножайтесь!»
КОНЕЦ
1
По библейскому преданию, Иона был занесен во чрево кита.
2
Прозвище жителей Индианы.
3
Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн.
4
Гудини — известный фокусник.
5
Хилтон — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах.
6
Vox Humana — человеческий голос (лат.).
7
«За Родину!» (лат).
8
Бетси Росс (1752-1836) — легендарная создательница американского флага.
9
Перифразированные строки из стихотворения Р. Бернса «Полевая мышь».
10
Неведомая земля (лат.). — Здесь и далее прим. переводчика.
11
Имеются в виду скелеты животных (эндоскелеты) и раковины моллюсков, и наружные «панцири» членистоногих (экзоскслеты).
12
Хитоны — небольшие съедобные моллюски с панцирем из восьми налегающих друг на друга пластин.
13
Китти Хоук — местность в Северной Каролине, где в 1903 г. братья Райт совершили первый полет на аэроплане.
14
Вооз — имя одного из библейских персонажей (кн. Руфь). В дальнейшем дается его английское произношение — Боз.
15
Сквозь тернии к звездам (лат.).
16
За отечество (лат.).
17
Поль Ревир — герой стихотворения Г. Лонгфелло.
18
Дж. Чосер. Кентерберийские рассказы. Перевод И. Кашкина.
19
Ключик — значок привилегированного общества студентов и выпускников колледжей в США.
20
Выше упомянутое сочинение (лат.).
21
Как ни удивительно (лат.).
22
Белоголовый орлан — птица, изображенная на гербе США.
23
Американский легион — организация ветеранов войны в США (создана в 1919г.) с широко разветвленной сетью низовых организаций, называемых постамилегиона. (Здесь и далее примечания переводчиков.)
24
Гилберт Уильям С. (1836-1911) — английский писатель-драматург. В числе прочих произведений написал серию либретто комических опер, сатирических куплетов, музыку к которым сочинял ирландский композитор Сюлливан Тимоти Д. (1827-1917).
25
Schultzstaffeln — охранные отряды (нем.).
26
Геттисбергская речь произнесена Линкольном в 1863 году на церемонии открытия национального кладбища в Геттисберге, вблизи места, где произошло одно из решающих сражений Гражданской войны в Америке. В ней содержится и линкольновское определение демократии: «правительство народа, из народа, для народа».
27
Минитмен (Minute Man) — ополченец, солдат народной милиции, образованной во время Войны за независимость в Америке, — должен был засчитанные минуты прибывать на пункт сбора (отсюда название). В наше время М. — вооруженный член тайной фашистской организации, возникшей в США после второй мировой войны.
28
Патрик Генри — член законодательного собрания колонии Виргиния, активно выступал за независимость США. В ответ на обвинения в измене, когда он заявил, что только представители колоний могут облагать эти колонии налогами (1775), сказал: «Пусть это измена, но надо ею воспользоваться».
29
Поль Ревер — американский патриот времен Войны за независимость.
30
Американский орел — герб США — орел с оливковой ветвью (символ мира) в одной лапе и пучком из 13 боевых стрел (по числу первых тринадцати колоний — символ войны) — в другой.
31
Schreibenhaus (нем.) — дом для писателей.
32
Перриш Максфилд — американский художник, декоратор. Писал фрески, характерен тонкой манерой письма, тщательной деталировкой.
33
Эдгар Гест (1881-1959) — очень популярный в 1910-1930 годы авторсентиментальных псевдонародных стишков, которые он ежедневно печатал в газете «Детройт фрее пресс».
34
coup de grace (фр.) — последний удар. Очевидно, автор имеет в виду высшую меру наказания.
35
Иводзима — принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море. В ходе второй мировой войны в 1945 году американцы высадили на остров десант и овладели им.
36
АП — Ассошиэнтед Пресс, ЮП — Юнайтед Пресс
37
Голос человеческий и глас небесный (лат.).
38
ХАМЛ — Христианская ассоциация молодых людей.
39
«Мудрец из страны Оз» — известная детская сказка о волшебной стране американского писателя Лимана Франка Баума.
40
Адольф Менжу (1890—1963) — американский киноактер.
41
Лич – пиявка (англ.).
42
Веблен Торстейн (1857–1929) – американский экономист и социолог.
43
Дэниэл Бун – персонаж американского фольклора.
44
Мондриан Пит (1872–1944) – известный нидерландский художник-абстракционист.
45
Эвовдэйл – долина Эвона – реки в Стрэтфорде-на-Эвоне, родине Шекспира.
46
Гэри Грант – известный киноактер.
47
Название пародирует начало американского гимна.