Книга: Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
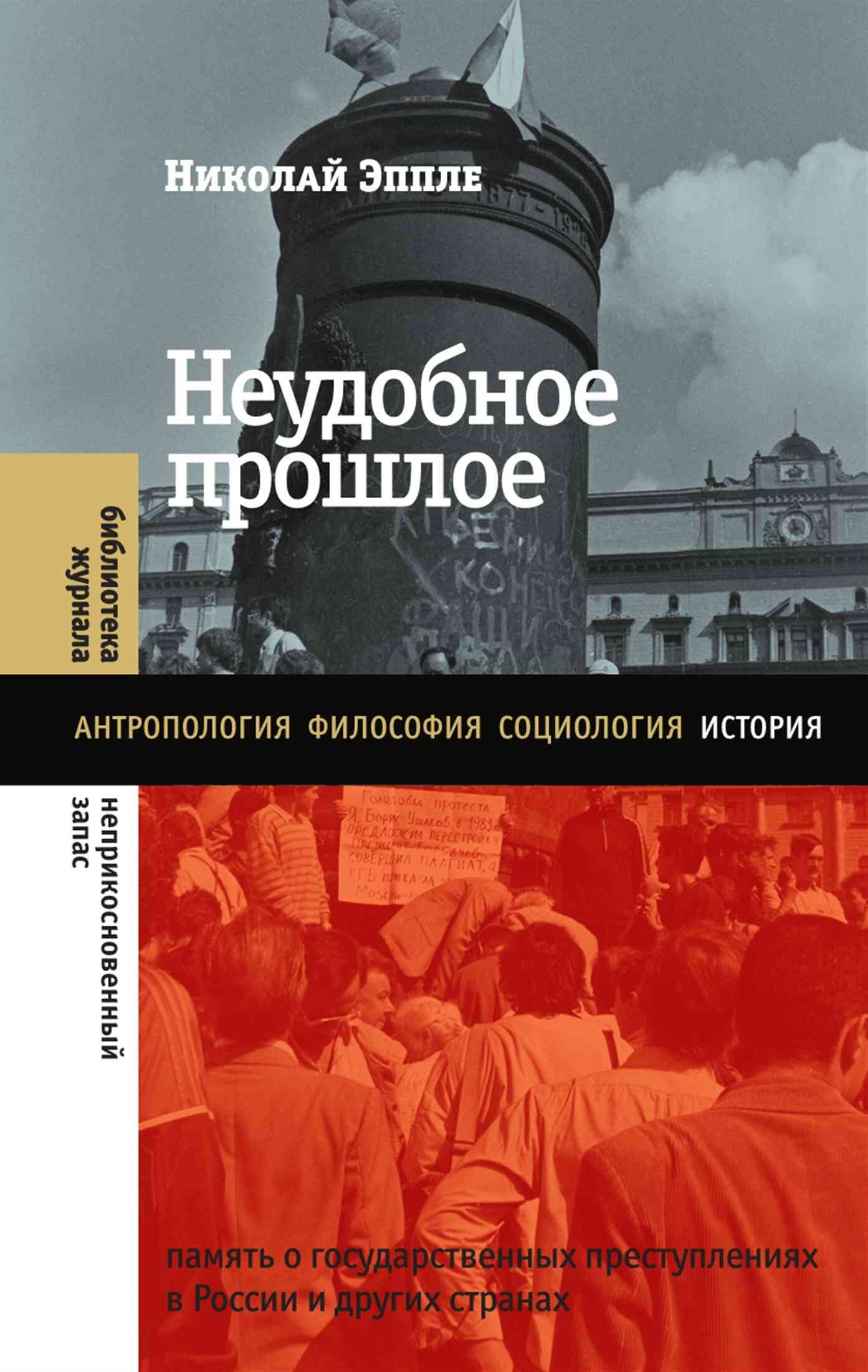
Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах
Моей маме
Образ карлика, стоящего на плечах гигантов, давно затерся от частого употребления, но не перестал быть самым верным описанием того, как устроена передача знания. Эта книга не была бы написана, если бы не множество тех, кто разрабатывает направления исследований, на которых она основывается и с которыми соприкасается. Им она обязана своими достоинствами, тогда как ее недостатки, ошибки и неточности – целиком на моей совести. Книга – дань благодарности всем этим людям, но прежде всего – Арсению Рогинскому, объединившему в себе добросовестность историка, отвагу гражданского активиста и человеческую сердечность. Мне жаль, что он не сможет подержать эту книгу в руках, и очень важно, что он успел дать на нее свое благословение.
В первую очередь я благодарю людей и институции, чья финансовая помощь дала мне возможность сосредоточиться на работе над книгой.
Я глубоко признателен Московскому отделению Фонда им. Генриха Бёлля, выделившему стипендию на написание книги, особенно его бывшему и действующему главам Йенсу Зигерту и Йоханнесу Фосвинкелю, а также координатору программы «Демократия» Нурии Фатыховой. Генрих Бёлль был верным другом России, а носящий его имя фонд много лет поддерживает проекты, связанные с проработкой трудного прошлого. Для меня честь, что эта книга продолжает эту почтенную традицию.
Иван Крастев и Институт гуманитарных исследований подарили мне и моим близким чудесную весну в Вене, где книга обрела свои окончательные очертания; я также обязан Глебу Павловскому, благодаря которому эта стажировка стала возможной.
Стипендия Германского исторического института в Москве позволила завершить работу над книгой; я благодарен руководству ГИИМ и лично Андрею Доронину за помощь и добрые советы.
Однако работа над книгой стала возможной благодаря не только стипендиям, но и площадкам для публикаций и дискуссий, на которых можно было проверить на прочность составившие ее идеи.
Я благодарю Оксану Довгополову, пригласившую меня на семинар по Культуре примирения в Одессе в 2015 году, подготовка к которому заставила меня впервые сформулировать мои мысли на эту тему, и Евгению Лёзину, чьи работы о правосудии переходного периода помогли мне сосредоточить взгляд.
Благодарю Андрея Курилкина, который первым поддержал идею книги, предоставил площадку для публикации первых наметок и подступов к ней на сайте InLiberty и поддерживал мои первые шаги в работе с темой.
Огромное спасибо Елене Немировской и Юрию Сенокосову, основателям и руководителям Школы гражданского просвещения, и координатору ее программ Инне Березкиной за возможность проговорить на семинарах Школы важные для книги идеи и почувствовать, что тема интересна не только мне.
Я горячо благодарю Олега Хлевнюка, Михаила Габовича, Ирину Щербакову, Игоря Гарькавого и Романа Романова, любезно согласившихся прочесть первые варианты рукописи, за время и внимание, важные замечания и дополнения. Их помощь была не только подспорьем в работе, заставившим серьезно переработать первоначальный текст, но и большой честью для меня.
Я также благодарю тех, кто сделал возможным издание этой книги:
Ирину Прохорову – за интерес к теме и личное участие;
Бориса Грозовского – за головокружительную и отрезвляющую редакторскую работу;
Музей истории ГУЛАГа, Фонд памяти и лично Романа Романова – за помощь в приобретении фотографий и поддержку издания книги;
Андрея Дитцеля – за увлеченную и профессиональную работу фоторедактора;
Венскую Галерею Магнет, Словенскую национальную галерею и фонд Lah Contemporary – за разрешение использовать репродукции картин Зорана Музича. Наследников Юрия Пименова, Государственную Третьяковскую галерею и Курскую государственную картинную галерею имени А. Дейнеки – за разрешение использовать репродукции картин Пименова. Аню Десницкую и издательство «Самокат» – за предоставленную возможность использовать иллюстрацию из книги «История старой квартиры».
Сергея Гинзбурга – за разрешение использовать его фотографию на обложке книги.
Приятная обязанность – поблагодарить учителей и друзей:
Максима Трудолюбова – за то, что поверил в меня и взял в обучение, терпеливо редактировал, а когда я смог встать на ноги, отошел в сторону; за школу мысли, Гаспарова и Ходасевича, Асемоглу и Робинсона, Норда и Антония Сурожского – и за дружбу, которая очень много для меня значит.
Друзей и коллег из газеты «Ведомости», Андрея Синицина, Павла Аптекаря, Марию Железнову и снова Бориса Грозовского за бесценную школу письма и общественно-политической аналитики, беспощадную редактуру, за науку и терпение.
Николая Кононова – за поддержание духа соперничества.
Ядвигу Рогожу – за настойчивый и требовательный интерес к моей работе и за Варшаву.
Юрия Михайлина – за дотошность и занудство, Сандармох и Восьмой шлюз.
Я также благодарю за справочную и библиографическую помощь, советы и гостеприимство, ободрение и питательные беседы Егора Агафонова, Палому Агилар Фернандес, Софью Анджапаридзе и Дмитрия Кураева, Александру Астахову, Антона Барбашина, Михала Билевича, Алехандро Бэра, Анну Васильеву, Татьяну Ворожейкину, Клауса и Лику Гества, Сэма Грина, Филиппа Дзядко, отца Манфреда Дезелерса, Елену Дорман, Александра Евсеева, Елену Жемкову, Татьяну Журженко и Клауса Неллена, Андрея Захарова, Долорес Ибаррури-Сергееву, Жанну Иванову де Мендоса, Ольгу Ирисову, Евгения Калкаева, Михаила Калужского, Алексея Каменских, Марту Карлетти Дель Аста и Адриано Дель Аста, Дениса Карагодина, Бориса Каячева, Бориса Колоницкого, Александру Кононову, Виктора Котта, Мартина Кроса, Станислава Кувалдина, Сергея Лебедева, Ольгу Левинскую, Валентину Летунову, Ксению Лученко, Ольгу Манзуру, Светлану Панич, Катажину Пелчиньскую-Наленч, Джованну Паравиччини, отца Вячеслава Перевезенцева, Александру Поливанову, Анну Ратафьеву, Елену Рачеву, Нину Рожановскую, Джереми Саркина, Любовь Сумм, Изабеллу Таборовски, Кайли Томас, Александру Туркельтауб, Самуэля Фернандеса-Пичеля, Пако Феррандиса, Ирину Флиге, Кристину Хаммерштайн, Бориса Хлебникова, Александру Цай, Сергея Чапнина, Михаила Черняка, Ингрид Ширле, Марка Эли, Светлану Яблонскую и Анну Ямпольскую.
Но больше всех я благодарен моей жене Дарье Хлевнюк, главному и лучшему вдохновителю, редактору и советчику – за веру и поддержку тогда, когда мне их больше всего не хватало, трезвость и злость, когда меня тешили иллюзии и искушала жалость к себе, за терпение, когда у всех остальных оно заканчивалось, и за любовь – всегда.
Слова, вынесенные в заголовок этого предисловия, имеют богатую событиями историю. Она хорошо демонстрирует, что работа с памятью – процесс динамический и нелинейный. Фраза, впервые ставшая широко известной из радиолекции Теодора Адорно и изначально обращенная к учителям и интеллектуалам («Невозможность повторения Аушвица должна быть главным требованием для всякого образования»[1]), спустя несколько лет преобразовалась в формулу, запечатленную на пяти языках в мемориале, установленном в 1968 году в Дахау.
Это был призыв помнить, этический императив. Вскоре после этого формулу «Никогда снова» сделал своим девизом бруклинский раввин Мейр Кахане, основатель «Лиги защиты евреев». В его случае это был призыв к активному действию. Деятельность Лиги, которую многие считали радикальной и экстремистской, распространилась с защиты еврейского населения Бруклина от антисемитски настроенных жителей негритянских и латиноамериканских кварталов на активное противодействие антисемитизму во всем мире.
В 1984 году эта же формула становится названием отчета аргентинской комиссии правды и примирения, а в 1985‐м – бразильской книги, описывающей преступления времен диктатуры 1964–1979 годов. В 1992 году слова «Никогда снова» озаглавили сборник свидетельств о преступлениях военной диктатуры 1972–1985 годов в Уругвае, а в 1998‐м – отчет о преступлениях в годы гражданской войны в Гватемале. Тем самым эта формула стала связываться с набором юридических мер правосудия переходного периода.
С начала 2000‐х слова «никогда снова» окончательно приобретают глобальное значение. Теперь они чаще встречаются не в заголовках работ политологов, юристов и историков, а в названиях композиций современных исполнителей, работ современных художников или в граффити на стенах зданий с «трудной историей».
Динамичность и нелинейность работы с памятью проявляется не только в постоянной подвижности, «текучести» анализируемых категорий. В отличие от исторических штудий, разговор о памяти предполагает постоянное балансирование между индивидуальным и коллективным, психологическим и социальным, философским (или культурологическим) и юридическим. То, что кажется понятным и очевидным в одной перспективе, далеко не всегда остается таковым в другой.
Одним из импульсов к написанию этой книги стала необходимость разрешить недоумение глубоко личного характера. Два десятка лет тому назад на поминках по моему отцу за одним столом в первый и последний раз встретились две ветви моей семьи: дедушка по матери, ветеран Финской и Великой Отечественной войн, сталинист, а в последние годы жизни – еще и православный верующий, и троюродная бабушка по отцу – ученый-химик, муж которой, известный физик-ядерщик, в годы Большого террора чудом избежал лагеря. В какой-то момент речь зашла о репрессиях, и вдруг оказалось, что эти два человека прожили свои жизни в странах с разным прошлым. Для одного репрессии были мифом и «поклепом», для другой – ежедневной реальностью. Абстрактно немыслимая вещь оказалась осязаемым фактом: объективной реальности прошлого не существует. Ее формирует память, а память необъективна и легко позволяет себя обмануть. Память, разделенная даже на уровне одной семьи, – результат молчания о прошлом, отсутствия возможности и желания искать общий язык для разговора о нем.
Такая неопределенность прошлого, в свою очередь, формирует настоящее. Замороженная и «непредсказуемая» история страны с двоящейся памятью оборачивается двоящейся реальностью в настоящем. Это чревато в лучшем случае невозможностью двигаться вперед, а в худшем – открытым конфликтом[2].
В России немало таких, как мой дедушка. В опросах, выясняющих отношение к Сталину и репрессиям, поразительнее всего даже не масштабы сочувствия тирану, а доля респондентов, считающих, что «массовых репрессий не было». В 2014 году, по данным ФОМ, таких было 16 %, а еще 18 % затруднились с ответом (может, были, может – нет, кто знает)[3].
Это кажется невероятным: позиции опрошенных расходятся в ответ на вопрос не об отношении к событиям прошлого, а о самом их факте: было или не было. Различаются не только и не столько оценки прошлого, сколько само восприятие реальности. По сути, люди, по-разному ответившие на этот вопрос, живут в странах с разной историей или даже в разных странах, очертания которых на карте совпадают лишь в силу какой-то ошибки.
Может показаться привлекательной попытка объяснить расхождение представлений о прошлом «шизофренией». Но она ничего не дает, если за этим словом стоит оценочное высказывание. Другое дело, если попытаться увидеть в нем не эмоциональную оценку, а попытку трезвого «диагноза»: память о советском государственном терроре действительно характеризуется поразительной двойственностью. И это, с учетом прошлого страны, во многом закономерно.
«Политические репрессии» – смягчающее обозначение государственного террора, возникшее в годы «борьбы с культом личности». Формально они были осуждены еще в 1956 году, и большинство руководителей государства, начиная с Хрущева, подтверждали это осуждение. С середины 1950‐х идет и процесс реабилитации репрессированных. Не так давно была принята концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в двух с половиной километрах от Кремля им установлен мемориал.
C другой стороны, далеко не все архивы открыты для исследователей и даже для родственников жертв. Сохранением памяти о них занимаются главным образом негосударственные организации и гражданские активисты, причем некоторые из них открыто преследуются государством. А окологосударственные организации, призванные заботиться о сохранении культурного наследия России, вместо поиска братских могил жертв советского террора и сохранения памяти о них ставят на местах массовых захоронений стенды с информацией, что расстрелянные и сами небезгрешны (как в мемориальном комплексе Медное под Тверью, месте казни нескольких тысяч польских военнопленных), или пытаются представить расстрельные полигоны НКВД кладбищами советских солдат, расстрелянных войсками неприятеля (как в карельском Сандармохе)[4].
Проблема в том, что невозможно признать свою ответственность за уничтожение миллионов людей «отчасти» или «наполовину». Строго говоря, такое признание означает нечто прямо противоположное. Но именно в этой невозможной, парадоксально-абсурдной ситуации пребывает подавляющее большинство тех, кто населяет просторы России. Эта двойственность сродни той, что царила за семейным столом на поминках по моему отцу. В каком-то смысле она родная для меня и для миллионов тех, чей опыт сходен с моим.
⁂
Но дело не только в этом. Преступления, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, неслучайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, – невероятно трудно. Это трудно психологически, политически и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров добровольного переосмысления прошлого много, а Россия – единственная в мире страна, которая никак не может справиться со своим прошлым. Пожалуй, полноценные примеры такого рода – лишь признания бывших метрополий в притеснении колоний и признание ответственности США перед американскими индейцами. Когда речь идет о непосредственных преемниках преступников и о живой политической реальности (как в случае ответственности Турции за геноцид армян), признание ответственности дается крайне тяжело.
Моральные соображения никогда или почти никогда не оказываются решающими при осуждении масштабных преступлений прошлого. Редкое исключение – ситуация, когда такие соображения становятся ресурсом для запуска процессов, к которым подталкивают экономическая или внешнеполитическая конъюнктура, когда осуждение прошлого нужно для легитимации тех или иных политических сил внутри страны.
Так, выплаты правительством ФРГ компенсаций Израилю в 1951–1965 годах, беспрецедентный акт признания ответственности за преступления нацистов, во-первых, были выгодны Германии, потому что позволяли вернуть доверие к себе как к надежному и кредитоспособному партнеру на международной арене и интегрироваться в глобальную экономику, во-вторых, производились параллельно с обратной по сути политикой интеграции бывших нацистов внутри страны, в-третьих, были способом представить себя в крайне выгодном свете в условиях идеологической и политической конкуренции с ГДР.
Похожей была и механика извинений Японии перед азиатскими соседями и выплаты им компенсаций ради налаживания экономического партнерства или извинений президента Польши за еврейские погромы в годы интеграции страны в ЕС. Это не означает, что такие примеры признания ответственности за трудное прошлое ущербны и неполноценны. Важно, что они всегда вплетены в политическую и экономическую прагматику.
Помнить о жертвах и страдании вообще труднее, чем о героях и победах. Даже ставшая модельной история формирования памяти о Холокосте поначалу буксовала и испытывала сопротивление со стороны – сегодня в это трудно поверить – общественного мнения и властей государства Израиль. Когда вскоре после окончания войны знаменитый охотник на нацистских преступников Симон Визенталь обратился к израильским властям с предложением организовать торжественные похороны останков 200 тысяч евреев, убитых в годы Холокоста, израильские чиновники несколько месяцев его «футболили». Отношение израильских евреев к тем, кто остался в Европе, было весьма непростым, а власти страны предпочитали героические символы символам поражения и унижения. В итоге прах 200 тысяч жертв нацизма был похоронен только после того, как из Вены привезли останки основателя сионизма Теодора Герцля. Да что там, даже решение о похищении Адольфа Эйхмана – шаг, ставший переломным для придания памяти о Холокосте международного масштаба – было принято после 7 лет проволочек и только тогда, когда у него появился политический интерес[5]. И снова: это не значит, что сделанное каким-то образом отклоняется от «нормы». Дело в другом: само понятие нормы в случае трудной памяти крайне проблематично.
Не менее проблематично и понятие успеха в деле расчета с трудным прошлым и его «преодоления». Россия – яркий пример того, как страна долгие годы не может подвести под своим прошлым черту. Но является ли обратным примером, скажем, Польша, вроде бы благополучно перешедшая от коммунистической диктатуры к полноправному членству в Европейском союзе? Можно ли считать успешным переход ЮАР от белой диктатуры к демократии? Из страны массово бежало белое население, уровень неравенства вырос, а уровень преступности, хоть и значительно снизившись по сравнению с серединой 1990‐х, остается высоким. С другой стороны, ЮАР стояла на грани гражданской войны, и ей удалось эту грань не переступить, а по сравнению с соседями доля белого населения в ЮАР и сейчас весьма высока.
Даже хрестоматийно образцовый пример Германии нельзя считать безусловным успехом. Новое поколение немцев часто не понимает разговоров об ответственности за далекое от них прошлое, а неонацистская идеология и сейчас пользуется в Германии некоторой популярностью. Успехи в преодолении трудного прошлого сродни успехам в лечении онкологического заболевания. Болезнь остается неизлечимой, но каждая маленькая победа в борьбе за жизнь – это преодоление невозможного, и в этом смысле безусловный успех.
Этическое и юридическое «никогда» в действительности постоянно балансирует на грани «снова» или даже «можем повторить». Так что хрестоматийную формулу Адорно давно пора начать писать через косую черту. Заниматься переосмыслением прошлого, не отчаиваясь и не питая излишних иллюзий, можно только отдавая себе полный отчет в том, насколько мучительно сложен этот процесс.
⁂
Обилие примеров, взятых из опыта других стран, проделавших или все еще проделывающих работу по переосмыслению своего «трудного прошлого», которым оказывается окружен исследователь этой темы, определили методологию этой книги. Сравнительный подход при разговоре о преодолении советского преступного прошлого разработан на удивление мало. В российской историографии и социологии тема истории репрессий и памяти о них исследуется почти исключительно на материале советском, постсоветском и российском. Едва ли не единственное исключение – получивший благодаря этому широкую известность среди специалистов сборник «Историческая политика в XXI веке» под редакцией Алексея Миллера и Марии Липман[6].
В публичной сфере разговор о трудном прошлом тоже ведется так, как будто Россия уникальна в своем положении государства и общества, нуждающихся в том, чтобы это прошлое оценить, осудить и преодолеть, но в то же время не способных побороть объективно существующие на этом пути препятствия. Единственным предметом сравнения или сопоставления оказывается опыт Германии по преодолению нацистского прошлого. Но ситуация Германии не только неприложима к СССР и России – она в принципе уникальна на фоне международного опыта.
Поэтому представляется очень важным сопоставление российской ситуации с опытом других стран и попытка выработать общие принципы работы с прошлым, применимые к российскому опыту. Сравнительный подход, проводимый хоть сколько-нибудь последовательно и систематически, помогает по-новому увидеть известные факты и обстоятельства. Например, становится понятно, что опыт Германии используется в России скорее в качестве мифа, чем реального практического образца[7].
Сравнительный подход позволяет иначе высветить и тему компромиссов в работе с прошлым. Становится понятно, что истории перехода от диктатуры к постдиктатуре почти всегда полны компромиссов. Возможность «договориться» о прошлом почти всегда похожа на торг, в котором приходится чем-то жертвовать, а случаи безусловного торжества правды политическая реальность допускает крайне редко. Та «правда», которую выявляют комиссии правды и примирения, почти всегда полна компромиссов. И чем более договаривающиеся стороны готовы к компромиссу, тем эта модель успешнее.
Вне сравнительной перспективы разговор о прагматике преодоления прошлого, о выгоде этого процесса для сторон обычно разделенного общества и государства может показаться недопустимо циничным. Ведь речь во всех таких случаях идет о человеческих жизнях. Но сравнительная перспектива проясняет, что понимание прагматики необходимо, и это как раз понижает, а не повышает уровень цинизма. В 2000 году американский политолог Элазар Баркан опубликовал книгу «Вина народов»[8], в которой доказывает, что торг (negotiation), переговоры о компенсациях жертвам государственных преступлений, – это важнейший инструмент работы над прошлым. В процессе переговоров о компенсациях жертвы обретают социальную и политическую субъектность, осознают себя как общность и общественно-политическую силу. Такой разговор позволяет подойти к моральной проблеме политически и прагматически: сделать ситуацию более инструментальной. Наконец, прагматический подход оказывается невероятно действенным. Ведь подобные процессы движутся не абстрактным сознанием того, что справедливость должна восторжествовать, а взаимным интересом сторон. Именно смена рамки с идеологической на прагматическую позволяет сторонам перейти от открытого конфликта и взаимной ненависти к желанию договориться и поиску точек пересечения.
⁂
Структура этой книги определяется соединением сравнительного метода с задачей формулировки основных стратегий работы с прошлым для России.
Первая часть посвящена описанию ситуации захваченности России памятью о советском прошлом. Введением служит анализ того, как реанимация «сталинского комплекса» в середине 2010‐х спровоцировала «бум памяти», происходящий в России в последние годы (глава 1). Для понимания того, где находится этот разговор и связанные с ним процессы сейчас, необходим краткий экскурс в историю собственно травматического события (глава 2), рассказ о десталинизации – советской и постсоветской (глава 3), обзор стратегий работы с советским прошлым, существующих в сегодняшней России (главы 4–5) и оценка его влияния на современность (глава 6).
Вторая часть – описание сценариев работы с трудным прошлым в шести странах. Выбор каждой из них не случаен. Аргентина (глава 1) – пример страны, где разбирательство с наследием диктатуры проходило при крайне незначительном участии внешних сил. Важно и то, что аргентинский опыт близок ряду других латиноамериканских государств (Бразилия, Чили, Мексика, Сальвадор и т. д). Испания (глава 2) с ее длившимся десятилетиями пактом молчания о насилии сторонников генерала Франко и последующим прорывом этого молчания напоминает реальность современной России больше, чем какой-либо другой пример. ЮАР (глава 3) – пример страны, буквально разделенной надвое, но сумевшей, пусть с множеством огрехов, это разделение преодолеть, выработав по-своему уникальную идеологию прощения и примирения. Польша (глава 4) – пример посткоммунистического государства, важный политической и психологической близостью к российской ситуации, а также тем, что очень ярко раскрывает механику и слабые стороны психологии жертвы как способа работы с прошлым. Без рассмотрения примера Германии (глава 5) невозможен никакой полноценный анализ проработки прошлого. Для России трудности и неудачи германской модели важны более, чем успехи, в такого рода процессах всегда относительные. Япония (глава 6) – пример страны, предельно далекой от России культурно и психологически; в то же время колебание между отторжением вины и ее признанием в случае Японии во многом напоминает Россию. Это дополнительное свидетельство того, что «собратьям по проработке прошлого» есть чем поделиться друг с другом.
В третьей части рассматривается, как и чем опыт рассмотренных стран и иностранный опыт вообще может помочь в нахождении сценариев проработки прошлого для России. В главе 1 работа с прошлым ставится в важный для ее адекватного анализа контекст механизмов перехода от диктатуры к демократии. Элементами этого сценария должны стать подведение черты под прошлым (глава 2), работа с семейной памятью как модель для аналогичных процессов в общенациональном масштабе (глава 3), принятие ответственности за прошлое, включающее осуждение его темных страниц и благодарение за светлые (глава 4), определение условий для создания аналога российской комиссии правды и примирения (глава 5) и разработка инфраструктуры, необходимой для запуска этой работы (глава 6).
⁂
Основная практическая задача этой книги – снабдить тех, кто осознает важность проработки советского прошлого, опытом стран, которые уже проходили подобный путь, преодолевая во многом схожие препятствия. Активисты организаций, работающих в сфере исторической памяти, часто не подозревают о важнейших иностранных аналогах своей работы. Те, кто занимается поиском и идентификацией захоронений жертв советского террора, не знают о разворачивающейся с 2000 года в Испании масштабной работе по поиску останков жертв гражданской войны. Социологи, исследующие возможность диалога между носителями различных нарративов о советском терроре, не привлекают материалов, связанных с работой многочисленных комиссий правды и примирения в разных странах. Правозащитники, как правило, не слышали об аргентинской практике «судов правды» и карнавализованных глумлениях над неосужденными преступниками, а ведь это могло бы сильно помочь им в их работе. Политологи и специалисты по правосудию переходного периода часто не подозревают, что многие работы, которые они знают и используют в качестве теоретических пособий (например, упомянутая книга Элазара Баркана), могут быть применены к российскому материалу.
Более амбициозная задача этой книги – привлечь как можно большее внимание к созданию института проработки прошлого в России. Кто-то скажет, что в условиях современной России это не представляется возможным, ставить следует реалистичные задачи, а подобные проекты – идеализм и прекраснодушие. В ответ можно вспомнить один из лозунгов парижского 1968 года, который многое определил в политической и идеологической реальности современного мира: «Будьте реалистами – требуйте невозможного!»
Сегодня Россия находится на пороге «прорыва памяти». Так, применительно к истории Чили американский политолог Александр Уайлд назвал ситуацию, когда количество мемориальных инициатив переходит в качество и провоцирует серьезный сдвиг в обществе[9]. Одним из важнейших сдвигов, возможных в этих условиях, может стать солидаризация усилий всех общественных сил, заинтересованных в полноценной проработке советского прошлого. В книге «Длинная тень прошлого» Алейда Ассман упоминает «эффект домкрата» – ситуацию, когда институциализация памяти позволяет аккумулировать опыт, быстрее обобщать его, поднимать на новый уровень разделяемое многими по отдельности знание, делая его публичным и социально значимым[10]. Институт проработки прошлого как организованная совокупность инициатив по исследованию, публикации и осуждению свидетельств террора давно назрел в России.
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, книга, сделавшая неизмеримо много для открытия правды о советском государственном терроре, открывается поразительной зарисовкой. В одной из академических публикаций конца 1940‐х годов рассказывается о том, как на реке Колыме во время раскопок обнаружили замерзшую линзу льда с сохранившимися представителями доисторической фауны. По словам автора статьи, тритоны сохранились настолько хорошо, что «присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их».
Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду, – продолжает Солженицын. – Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.
Мы – сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.
Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона[11].
Картина страны, внутри которой существует огромное и почти невидимое извне, но тесно спаянное общим опытом сообщество, безошибочно считывающее непонятные остальным смыслы, – образ поистине «богатырский». Он крайне точно описывает то, что спустя десятилетия исследователи назовут коллективной памятью, определяющей коллективную идентичность.
Спустя несколько десятков лет память о ГУЛАГе и всем советском терроре в России во многом остается такой смерзшейся глыбой льда, сохраняющей живой опыт, который, однако, остается чуждым и недоступным для многих. Говорить о проработке этого прошлого невозможно, не описав состав этой глыбы и способ ее существования.
Содержание этой части представляет собой попытку описать ситуацию коллективной памяти о советском терроре, в которой находится сегодня российское общество и российское государство, своего рода анамнез, необходимый врачу для понимания природы проблем и принятия решения о способе лечения болезни. Рассказ об истории советского государственного террора необходим для того, чтобы понимать природу травмы, с которой имеет дело российское общество. Он представляет собой скорее развернутый указатель тем и проблем, связанных с историей террора, чем собственно исторический очерк. Задаче сориентировать в теме читателя-неспециалиста служит и список литературы по истории государственного террора в СССР, который можно найти в приложении. Описание истории работы с наследием сталинизма от смерти Сталина и до наших дней – задача, формирующая целое исследовательское направление. Здесь этот экскурс также носит во многом справочный характер. То же касается и очерка ситуации с памятью о советском терроре в современной России: автор старался не упустить ничего существенного для понимания ситуации, но в то же время не ставил перед собой задачу описать ее сколько-нибудь исчерпывающим образом. Основная задача этой части – экспозиция, необходимая для дальнейшего рассказа.
В апреле 2019 года журналист и видеоблогер Юрий Дудь выложил на YouTube документальный фильм «Колыма – родина нашего страха», который сразу назвали «одним из наиболее значимых культурно-исторических событий года»[12]. Создатели фильма проехали 2000 километров в 40-градусный мороз по Колымскому тракту, поговорили с местными жителями и детьми тех, кто в сталинские годы прошел через магаданские лагеря. На примере Колымы они понятным молодежной аудитории языком рассказали историю ГУЛАГа, объяснив, почему эта тема сегодня касается каждого из нас:
Не знаю, как у вас, но я всю свою жизнь слышу от родителей: «Будь осторожен, не привлекай к себе лишнее внимание, не высовывайся, – это очень опасно. И вообще мы – простые люди, от нас ничего не зависит», – говорит Юрий Дудь в подводке к фильму. – Откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза: этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколения добрался до нас. Одно из мест, где этот страх появлялся, – Колыма.
За первую неделю фильм набрал на YouTube 9,5 млн, а к марту 2020 года – более 20 млн просмотров: вполне на уровне самых рейтинговых интервью Дудя с популярными у молодежи рэперами, журналистами, политиками и кинематографистами. Для темы репрессий, не слишком привычной для широкой аудитории, это небывалые показатели. «Дудь, конечно, отнюдь не первый, кто приехал на Колыму, или снял про нее фильм, или поговорил с людьми, – пишет исследователь памяти о ГУЛАГе Дарья Хлевнюк. – Он стоит на плечах коллег, проектов вроде „Медиахакатона“ в „Мемориале“ или музея ГУЛАГа. Но это важный прорыв в новые аудитории и демонстрация того, что новое поколение, правнуки жертв репрессий, готовы к разговору об этом прошлом на своем языке»[13].
Феномен фильма «Колыма» – наиболее яркое свидетельство широкомасштабного процесса пробуждения интереса в обществе к теме памяти о российском трудном прошлом. То, о чем несколько лет назад говорили лишь наиболее тонко чувствующие авторы и исследователи[14], к концу 2010‐х видно невооруженным глазом. Россия одержима прошлым. Словосочетание «войны памяти», которое в начале 2010‐х знали только специалисты, занимающиеся коллективной памятью, сегодня знают все. Новостные ленты то и дело взрываются сообщениями об открытии (осквернении или демонтаже открытого ранее) очередного памятника Сталину, Ивану Грозному или князю Владимиру, музея, мемориальной доски тому или иному историческому деятелю, очередной инициативе по переименованию Волгограда, а данные опросов фиксируют все новые рекордные показатели симпатий к Сталину[15].
Массовую культуру лихорадит – сериалы о Сталине и ГУЛАГе собирают большую аудиторию (а одноименный канал в Telegram оказывается самым популярным в России); с темой репрессий пытаются играть рекламщики и организаторы культмассовых мероприятий[16]; акционист, поджигающий дверь Лубянки, признается (на короткое время) главным современным художником России.
Историки с бессильным отчаянием наблюдают, как предмет их исследования оказывается мощнейшим ресурсом для выстраивания «исторической политики». При этом их мнение в этой ситуации не только не приобретает большую значимость, чем раньше, – наоборот, на него вообще перестают обращать внимание. Память о прошлом, решительно подтверждая классические теории культурсоциологов, живет своей специфической жизнью. Она питается травмами, маниями, фобиями, злобой дня и мало интересуется фактами.
Главная, многократно отмеченная особенность современной российской действительности состоит в том, что история здесь заменила политику. По телевидению, в социальных сетях, на улице и на кухнях идет разбирательство не по поводу современности, а по поводу прошлого.
Дискуссии этого рода (о Первой мировой, Второй мировой, афганской, чеченской, о репрессиях и распаде СССР) самозарождаются в такси, поезде, приемной врача – любом месте, где возникает возможность разговора, – пишет поэт и эссеист Мария Степанова. – Это все немного напоминает семейный скандал – но кухней оказывается огромная страна, а действующими лицами – не только живые, но и мертвые. Которые, как выясняется, живее всех живых[17].
Происходящее производит крайне странное впечатление на того, кто находит возможность взглянуть на все это отстраненным взглядом. Поссорившаяся со всеми своими соседями страна находится в затяжном экономическом кризисе с неясными перспективами выхода, правительство сокращает бюджетные расходы, а общество с параноидальным азартом обсуждает прошлое.
Причина захваченности прошлым – его незавершенность, невозможность должным образом похоронить и оплакать покойников, вступить в права наследства, извлечь из истории выводы и, завершив один цикл, начать следующий[18]. Но чтобы нащупать подступы к общей проблеме, стоит внимательнее приглядеться к тому, как именно происходит переживаемое страной «воспаление» памяти о прошлом.
Памятники Сталину и иже с ним полезли из-под земли не вдруг. Они то тут, то там проклевывались с момента распада СССР. Но если в 2000‐е и в начале 2010‐х годов эти памятники старались укрыть от посторонних глаз в красных уголках школ, на приусадебных участках или за заборами предприятий[19], то с начала 2014 года они стали захватывать скверы и площади. В феврале 2015‐го в Ялте в присутствии спикера Госдумы Сергея Нарышкина был открыт монумент «Большая тройка», включающий первый со времен хрущевской десталинизации официальный памятник Сталину.
Эмоциональный подъем, вызванный Олимпиадой в Сочи, оживил в сердцах россиян постимперскую гордость. Последовавший сразу затем Евромайдан на Украине высветил кризисное состояние постимперского проекта. Это оказалось механизмом запуска мобилизации, импульсом к пересобиранию имперского проекта перед лицом опасности[20]. Аннексия Крыма и последовавшая за ним война на юго-востоке Украины с небывалой силой встряхнули российское общество, так что в нем разом всплыли все неразрешенные проблемы прошлого.
Российская власть стала искать наиболее универсальный язык сплочения нации, внутренне глубоко разделенной (точнее, сознательно и систематически разделявшейся). Это оказался язык сплочения вокруг прошлого, а не вокруг настоящего. Предложенный в рамках церемоний открытия и закрытия сочинской Олимпиады универсалистский язык был малопригоден для мобилизации. Необходим был язык патриотический и изоляционистский, апеллирующий к опыту победы над внешними и внутренними врагами.
В России единственным таким языком остается язык апелляций к победе в Великой Отечественной войне. Проблема этого языка в том, что он слишком активно присваивается официозом и теряет личный мобилизационный заряд. Этот язык удобен для обсуждения «позитивной повестки» и отчасти – темы сплочения перед внешним врагом, но малоприменим в ситуации негативной мобилизации, когда необходимо напоминание не о величии, а об опасности. Язык же апелляций к Сталину и репрессиям одновременно дает выход накопившемуся негативу, предполагает критический, даже протестный дискурс и хорошо подходит для разбирательств с внутренними врагами.
Госпропаганде даже не пришлось использовать сталинский язык напрямую. Она просто начала говорить про внешнюю и внутреннюю угрозу, про карателей и ополченцев, бандеровцев и национал-предателей, добавила в голос металла, стала грозить и демонстрировать силу. Оказалось, этого достаточно, чтобы запустить дремлющий в сознании россиян комплекс.
Резкое изменение политики страны привело к перемене в историческом восприятии многих людей, для которых оказалось, что самым логичным языком описания происходящего становится язык Советского Союза времен Сталина, – говорит историк Иван Курилла. – Именно тогда Советский Союз расширял свою территорию, и это было положительным в тогдашней трактовке процессом. Со времен Сталина такого больше не было. Получается, что расширение страны, аннексия Крыма оказалась для большой части сограждан толчком к возвращению какой-то мировоззренческой рамки, взгляда на мир, которую мы знаем по Советскому Союзу середины XX века[21].
Власть вызвала этот образ ненамеренно, но он зажил собственной жизнью, и уже весной 2014 года заметно большее, чем раньше, число россиян стало признаваться в сочувственном отношении к Сталину[22]. Как в древнем сюжете про ученика чародея[23], выпущенные на свободу из утилитарных соображений силы оказались неподконтрольными тем, кто их выпустил. Нащупывая объединяющий язык, власть наткнулась на общую боль; она целила в чувствительные точки «тела нации», а попала в места травмы.
Именно травма оказывается наиболее важным собирающим моментом реанимируемого конструкта. То, что на первый взгляд выглядит возрождением колосса, возвращением государственной модели СССР времен Сталина, при внимательном рассмотрении оказывается набором разнородных элементов, лишенных внутреннего единства.
Это особенно отчетливо видно во внешней политике на примере возрождения комплекса представлений и реакций, связанных с холодной войной. Современная Россия, в отличие от СССР, не может предложить миру альтернативный политический строй, ценности и идеалы. Не будучи в состоянии вернуть себе статус сверхдержавы, государство использует своего рода симпатическую магию, наряжаясь в костюмы прошлого, чтобы вернуться во времена, когда трава была зеленее, а само оно – сильнее и безжалостнее. Население с готовностью ему в этом подыгрывает. Ведь память о жизни в условиях холодной войны достаточно свежа и легко реанимируется.
То же самое происходит во внутренней политике. Государство, репрессивные органы которого лишены идеологических мотивов и веры в правоту своего дела, а движимы только жадностью и страхом, играет в сильную руку. А граждане с готовностью играют в жизнь при сильной руке. Именно в этой логике становятся понятны (работают и считываются большинством) и резкое увеличение числа дел за «экстремизм» и «госизмену», и кампании против «иностранных агентов» и «пятой колонны». В логике сталинских кампаний[24] проводятся даже такие чисто технические меры, как ввод платных парковок, снос торговых ларьков и ремонт центральных улиц в Москве.
Дополнительный аргумент в пользу выморочности и внутренней нежизнеспособности конструктов, с которыми мы сейчас имеем дело, – их отчаянно эклектический характер. Элементы советской идеологии соединяются здесь с монархистскими, православие – с фашизмом, коммунизм – с капитализмом, модерн – с откровенным постмодернизмом. В общую «мировоззренческую рамку» укладывается набор крайне разнородных явлений, которые ситуативным образом собраны вместе страхом и травмами.
Как ни парадоксально, в этой судорожной активизации «сталинского комплекса» можно увидеть важный обнадеживающий знак. Благодаря ей разбирательство с травматическим прошлым, затрудненное множеством политических, социальных и психологических факторов, может наконец дохлестнуть до всей страны: фактически принудить ее заняться серьезным переосмыслением трудного прошлого. До сих пор память о советском терроре оставалась во многом частной, запрятанной поглубже. Оттуда она невидимым образом окрашивала отношение к настоящему[25], либо прорабатывалась «экстерном» – ускоренно и по верхам. Теперь же она может пробудиться в полную силу.
Общая проработка общей боли – необходимое условие исцеления. Усилий одного государства в таких случаях недостаточно. Недостаточно для этого и усилий одной лишь активной части гражданского общества. Важность деятельности таких организаций, как «Мемориал», трудно переоценить. Но сами же члены «Мемориала» видят свою задачу в том, чтобы дать обществу материал, факты для осмысления. Произвести это осмысление за общество и в условиях противодействия со стороны государства они не могут.
В последние годы разговор о репрессиях и о наследии сталинизма все чаще захватывает все общество. Он часто бывает страшноват и болезнен, его участники то и дело позволяют себе излишние и эмоциональные генерализации. Но ведь с вскрывающимися нарывами иначе не бывает!
Можно пойти еще чуть дальше. России необходим не просто разговор о памяти. Этот разговор – единственная возможность подступиться к куда более сложной задаче: попытке найти общий язык на общенациональном уровне. Боль, наиболее отчетливо связанная со сталинским периодом истории, – это, пожалуй, единственный подлинно общий опыт, объединяющий или способный объединить не только россиян, но и всех жителей постсоветского пространства. Это объединение совсем иного рода, чем то, которое попытались разбудить авторы посткрымской мобилизации. Но именно оно способно вывести нас на разговор о важности и нужности совместного существования на этом пространстве, на разговор об общих целях и вообще о том, ради чего имеет смысл идти на компромиссы.
Прежде чем говорить о том, как именно может быть организована проработка трудного прошлого в России и как выглядят наиболее показательные модели такой проработки в других странах, стоит кратко описать само «травматическое событие» и ситуацию с его проработкой к настоящему моменту. Такой «экспозиции» посвящены следующие главы этой части.
2. Террор на службе государства: 1917–1953
Российская история 1917–1991 годов стала полем жесточайшего эксперимента над целым народом, породившего одну из самых кровопролитных диктатур в истории человечества. Хотя признаки диктатуры сопровождали всю историю существования советского государства, наиболее травматичный по своим последствиям период тотального государственного террора против собственных граждан в целом закончился со смертью Сталина и сворачиванием ГУЛАГа. Поэтому мы ограничим рассмотрение истории российского «трудного прошлого» преимущественно этими рамками.
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: ТЕРРОР КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В 1910‐х годах российское общество оказалось глубоко расколотым. Причинами этого стали неспособность властей Российской империи эффективно решить накопившиеся противоречия, резкое увеличение численности пролетариата в результате набиравшей обороты индустриализации, неудачная для России и непопулярная среди ее населения (в первую очередь в армии) война. В ситуации фактической анархии в стране большевики, опираясь на пролетариат, захватили власть в промышленных городах[26]. Они манипулировали расколотым обществом в целях захвата и удержания власти. Инструментом поддержания общества в расколотом состоянии (которое не преодолено до конца и по сей день) с первых дней установления советской власти стал террор.
Одним из непосредственных результатов захвата власти большевиками стала гражданская война, развернувшаяся в 1917–1922 годах на всей территории бывшей Российской империи. Общие потери от нее, включая умерших от голода и эпидемий, оцениваются в 10,5 млн человек. Но боевые действия – только частный случай применения новой властью насилия против собственных граждан. Фактически, отмечает историк Галина Иванова, «гражданской войной по сути стала затяжная, необъявленная война партии и государства против мирного населения своей страны»[27].
Власть большевиков с самого начала держится на военной мобилизации, психологии осажденной крепости (см. декрет 18 февраля 1918 года «Социалистическое отечество в опасности!»), на поиске внешних и внутренних врагов.
Внутренней пружиной нового строя стала борьба с «классовым врагом». Это преступник нового типа, рожденный самой логикой функционирования советского государства. «Традиционная», уголовная преступность – это, с точки зрения большевиков, порождение буржуазного строя; она должна была отмереть с окончательной победой революции[28]. Поэтому уголовники воспринимались большевиками скорее как союзники, соперниками же были «классовые враги», все преступление которых состояло в их принадлежности к «классу эксплуататоров». Именно по отношению к таким врагам требовались самые решительные меры противодействия. Со временем к классовым врагам как категории преступников, требующей наиболее сурового отношения, прибавились обвиняемые в контрреволюционной деятельности. Под это обвинение подпадали и те, кто действительно боролся с Советами, и сочувствующие им. Так советская власть узаконивает преследования за инакомыслие. Борьбу с этими преступлениями должна была вести не традиционная юстиция, а политическая полиция – ЧК и НКВД. Сначала эти структуры во многом дублировали друг друга. В 1922 году они были объединены путем упразднения ЧК и создания на ее базе ГПУ в составе НКВД.
Инструментом борьбы с классовым врагом и контрреволюцией сразу становится политический террор. «Заслуга» в его легитимизации как политического инструмента на службе государства принадлежит именно большевикам. В этом они пошли куда дальше Маркса с Энгельсом.
Кто отказывается принципиально от терроризма, т. е. от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной и вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры, – пишет Лев Троцкий в работе «Терроризм и коммунизм». – Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме. ‹…›
Вопрос о том, кому господствовать в стране, т. е. жить или погибнуть буржуазии, будет решаться с обеих сторон не ссылками на параграфы конституции, но применением всех видов насилия. ‹…› Чем ожесточеннее и опаснее сопротивление поверженного классового врага, тем неизбежнее система репрессий сгущается в систему террора[29].
Теория не расходилась с практикой. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР выпускает декрет «О красном терроре», согласно которому «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях ‹…› подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». Точно оценить число жертв этой волны террора не представляется возможным. По официальным оценкам, за вторую половину 1918 года одна только ВЧК казнила 4500 человек[30] (по неофициальным, за одну лишь осень 1918 года – не меньше 10–15 тысяч[31]).
Уже с лета 1918 года для изоляции своих идеологических противников советская власть начинает использовать «концентрационные лагеря», в которых ранее содержали военнопленных Первой мировой[32]. Весной 1919 года ВЦИК Советов выпустил постановление «О лагерях принудительных работ», предписывавшее губернским ЧК создание лагерей при каждом губернском городе с последующей передачей их в ведение НКВД. Если в конце 1919 года на территории РСФСР действовал 21 лагерь, то к концу 1921-го – уже 122 лагеря, в которых содержалось более 60 тысяч человек.
Несмотря на попытки объяснить террор борьбой с классовым врагом, вскоре после революции он обращается также на пролетариат и крестьянство. Уже с 1918 года по всей стране вспыхивают антибольшевистские крестьянские восстания – как реакция на изъятие продовольствия в процессе продразверстки. Среди самых крупных – Чапанное восстание крестьян Самарской губернии в марте – апреле 1919 года (порядка 100–150 тысяч участников), Тамбовское восстание 1920–1921 годов (около 55 тысяч участников) и Западно-Сибирское восстание 1920–1921 годов. Они подавляются Красной армией с особенной жестокостью. Жертвами подавления Тамбовского восстания, в процессе которого впервые в истории против граждан собственной страны использовалось химическое оружие, стали 11 тысяч человек.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РОЖДЕНИЕ ГУЛАГА: ТЕРРОР КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
Поначалу террор объяснялся переходным периодом, революционной и военной мобилизацией. Однако с окончанием Гражданской войны и укреплением власти большевиков он не заканчивается, а, напротив, обретает все более институциональные формы. Решающая роль в этом принадлежит Иосифу Сталину, сменившему Владимира Ленина во главе партии и государства.
Накопление признаков кризиса в экономике конца 1920‐х годов было использовано Сталиным для укрепления личной власти и победы над оппонентами в рядах ВКП(б): сначала над «левой оппозицией» (процесс, завершившийся изгнанием Льва Троцкого), а затем и над «правым уклоном» («разгром группы Бухарина»). Избавившись от необходимости координировать свою политику с кем бы то ни было, Сталин в 1928–1929 годах (этот период стали называть «великим переломом») переносит в экономическую сферу методы «классовой борьбы» и революционного штурма[33]. Форсированные меры по переходу от аграрной экономики к индустриальной оборачиваются выходом государственного террора на новый уровень, войной с крестьянством и превращением пенитенциарной системы в индустрию привлечения принудительного труда к решению стоящих перед государством экономических задач.
Ресурсной базой для индустриального рывка стал отъем собственности у крестьян и насильственный перевод их в колхозы. «Коллективизация деревни», сопровождавшая Первую пятилетку 1929–1933 годов, фактически была внутренней колонизацией страны – войной государства с самым крупным и деятельным классом населения тогдашней России. В рамках кампании «раскулачивания» наиболее зажиточных крестьян и просто недовольных коллективизацией казнили, отправляли в лагеря (300 тысяч человек), высылали на спецпоселение (2,2 млн человек) и переселяли на худшие земли в пределах области (более 2 млн человек)[34].
Результатами коллективизации стало обнищание деревни (спад производства сельхозпродукции, сокращение поголовья скота) и страшный голод 1932–1933 годов, унесший, по разным оценкам, жизни до 7 млн человек[35]. Крестьяне ответили всплеском восстаний по всей стране. Если в 1926–1927 годах было зафиксировано 63 массовых антиправительственных выступления, то в 1929 году их было уже более 1300, а в 1930‐м – почти 14 000[36]. Всего в 1930 году в массовых восстаниях приняло участие около 3,4 млн крестьян[37] (сельское население СССР, по данным 1926 года, составляло 76,3 млн человек). Одной из характерных мер «кризисного менеджмента» в условиях невозможности выполнить завышенные планы сельхоззаготовок в условиях усиливающегося голода стало постановление от 7 августа 1932 года, предусматривающее расстрел или десятилетний срок заключения за хищение государственной собственности, получившее известность как «закон о пяти колосках».
Другим следствием коллективизации стало создание ГУЛАГа в его классическом виде. Резко выросшие масштабы террора требовали перестройки репрессивного аппарата, для чего места заключения передавались в ведение ОГПУ. Этому же ведомству было поручено создать систему лагерей по «соловецкой модели», то есть как глобальной системы использования принудительного труда для решения экономических задач. Первой пробой работоспособности новой системы стало строительство Беломорско-Балтийского канала силами заключенных специально созданного для этого Белбалтлага.
В 1930‐х ГУЛАГу были переданы целые участки промышленного аппарата СССР. Бамлагу поручили строительство Байкало-Амурской магистрали и расширение Транссиба, Дмитлагу – строительство канала Москва – Волга, Воркутлагу – угледобычу, Норильлагу – строительство никелевого комбината в Норильске. Труд заключенных использовался для разработки целых промышленных районов на Урале (Магнитогорск, Челябинск), в Западной Сибири (Кузбасс, Новосибирск) и на Дальнем Востоке (Комсомольск-на-Амуре, Колыма).
Наиболее масштабным индустриальным проектом ГУЛАГа стал колымский Дальстрой. В его задачи входили форсированная разведка и добыча золота и других стратегически важных полезных ископаемых, освоение и эксплуатация необжитых районов северо-востока страны. С 1932 по 1954 год через Дальстрой прошли 860 тысяч заключенных, из которых не менее 121 тысячи умерли, а около 13 тысяч были расстреляны[38].
БОЛЬШОЙ ТЕРРОР: ИСТЕРИКА СТАЛИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ
В обстановке приближающейся войны в Европе и поражения республиканцев в гражданской войне в Испании в 1937–1938 годах обычный для Сталина и его окружения страх предательства «пятой колонны» оборачивается новой волной репрессий против потенциальных внутренних врагов, шпионов и недовольных советской властью. Она стала известна как Большой террор.
Убийство главы ленинградской партийной организации Сергея Кирова 1 декабря 1934 года стало для Сталина поводом окончательно расправиться со всякой оппозицией (процессы Каменева и Зиновьева, Бухарина и Рыкова). Массовой «чистке» была подвергнута партия (включая Политбюро), армия (заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский) и слишком усилившийся НКВД (бывший нарком Генрих Ягода; Ежов и его приближенные тоже были расстреляны в рамках «выхода из террора»).
Однако вопреки распространенному мнению, основу Большого террора составляли не репрессии против номенклатуры, а массовые карательные операции, направленные против рядовых граждан. Самой масштабной из них стала операция против «антисоветских элементов» на основе «знаменитого» приказа НКВД № 00447. В их число включались уже прошедшие тюрьмы и лагеря «кулаки», бывшие белогвардейцы, уцелевшие царские чиновники и т. д. Другой составляющей Большого террора стали «национальные операции» против советских поляков, немцев, румын, латышей, эстонцев, финнов, греков, афганцев, иранцев, китайцев, болгар, македонцев, а также «харбинцев», то есть этнических русских из числа бывших работников КВЖД[39]. За шестнадцать месяцев были арестованы около 1,6 млн человек, 682 тысячи из них расстреляны. Результатом Большого террора было окончательное утверждение единоличной сталинской диктатуры и усиление репрессивного аппарата. В конце 1938 года в стране было уже 50 лагерных комплексов.
ВОЙНА КАК УСКОРИТЕЛЬ ТЮРЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ[40]
Хотя для большинства советских граждан Вторая мировая война началась с нападением гитлеровских войск на СССР 22 июня 1941 года, для советской репрессивной машины она началась, как и для всего остального мира, в сентябре 1939 года, с вторжением Красной армии в Польшу. На вновь присоединенных территориях Восточной Польши, Бессарабии (Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии) и стран Балтии органы НКВД в 1939–1941 годах развернули массированные репрессии против местного населения для предотвращения восстаний и заговоров.
В 1940 году более 100 тысяч польских военных попали в лагеря НКВД на территории России; более 20 тысяч из них были расстреляны. В ходе «июньских депортаций» 1941 года для «очистки» Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Молдавии «от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента» в центральные и восточные регионы России и в лагеря были отправлены более 55 тысяч человек. В лагеря и на спецпоселения были отправлены десятки тысяч преимущественно еврейских беженцев, бежавших с оккупированных нацистами территорий[41].
Военная мобилизация усилила репрессии против всех тех, кто мог быть заподозрен в работе на врага. После начала наступления Германии в июне 1941‐го заключенных на вновь присоединенных территориях расстреливали или спешно эвакуировали в глубь страны. В 1941 году депортациям на восток подверглись российские немцы, жившие на европейской территории РСФСР, в Закавказье и в Поволжье – в общей сложности более 950 тысяч человек[42]. Немцы и представители других национальностей, чьи страны воевали с СССР, были мобилизованы в так называемую «трудовую армию»[43].
Все, кто жил или работал на оккупированных территориях, включая бывших партизан и военнопленных, становились контингентом спецлагерей НКВД (проверочно-фильтрационных лагерей); с 1941 по 1944 год через них прошло более 400 тысяч человек. В конце 1943‐го – первой половине 1944 года под предлогом борьбы с «коллаборантами» были высланы со своих исконных мест проживания целые народы – калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, а также проживающие в Крыму болгары, греки и татары – в общей сложности более миллиона человек[44].
Однако не стоит думать, что, занявшись борьбой с потенциально неблагонадежными, советская власть смягчила репрессии против пролетариата и крестьянства. Именно во время войны достигают беспрецедентного уровня репрессии по бытовым статьям, ставшие возможными после ужесточения трудового законодательства в 1939–1940 годах. Основанием для уголовных приговоров становятся опоздания, невыход на работу, выпуск недоброкачественной продукции, самовольный уход с рабочего места. Со второй половины 1940 по 1945 год по трудовым указам было вынесено более 9,5 млн приговоров, из них около 2,25 млн – к лагерям и тюремному заключению, 7,3 млн – к исправительным работам с отчислением части зарплаты государству[45].
«ХОЛОДНЫЙ МИР» 1946–1953 ГОДОВ
Победа в войне, создание дополнительной защиты от Запада в виде буферной зоны из восьми восточноевропейских государств-сателлитов и проведение первого успешного испытания ядерного оружия в 1949 году дали руководству СССР неведомое прежде чувство уверенности в себе. Послевоеннные годы ознаменовались жестокой советизацией западных территорий, присоединенных в 1940 году. На Украине репрессиям подверглись 500 тысяч человек, 153 тысячи из которых были убиты, в Литве – 270 тысяч человек, или 10 % населения[46]. Репрессированы были те, кто контактировал с неприятелем или находился на оккупированных территориях. Фактически СССР осуществил «экспорт» репрессивной политики в страны Восточной Европы, попавшие в сферу его контроля.
В самом СССР на смену политическим репрессиям довоенного времени пришла беспрецедентная волна осуждений по бытовым статьям. В результате ГУЛАГ в послевоенные годы, вопреки распространенному мнению, не сокращался, а, наоборот, достиг максимального развития. Голод 1946–1947 годов (отчасти спровоцированный государством) привел к резкому ужесточению наказания за «хищение государственного и общественного имущества» (указ от 4 июня 1947 года). Хотя число осужденных по политическим статьям по сравнению с довоенным временем уменьшилось, место политических заняли осужденные по новым законам, превращавшим «все советское уголовное правосудие в систему, где оставалось все меньше правосудия»[47]. С 1947 по 1953 год по этим статьям было осуждено более 1,6 млн человек. Всего же в 1946–1952 годах были осуждены и отправлены в спецссылку в административном порядке не меньше 15 млн человек, из них около 7 млн получили лагерные сроки[48].
На фоне нарастания напряжения между СССР и Западом советское руководство с большей легкостью разворачивало кампании, призванные «дисциплинировать» интеллигенцию и научное сообщество. Первые послевоенные годы отмечены постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (1946), процессом против биологов Нины Клюевой и Григория Роскина (1947), второй волной гонений на генетику (1948), кампанией «по борьбе с космополитизмом» (1949) и «Делом Еврейского антифашистского комитета» (1948–1952). Способом «дисциплинировать» номенклатуру, наряду с волной репрессий против руководства стран Восточной Европы, оказалось «ленинградское дело» 1949–1952 годов. Его жертвами стали руководители ленинградских партийных организаций и партийные выдвиженцы из Ленинграда в других городах СССР.
Окончание войны обернулось не отказом от мобилизационного подхода к экономике, а его усилением. В 1952 году начало Корейской войны – опосредованного столкновения с США – привело к резкой мобилизации экономики для решения военных задач. Расходы военного и военно-морского министерств на капитальное строительство в 1952 году выросли по сравнению с 1951 годом более чем вдвое. На следующие годы был запланирован еще более решительный рост расходов на военные нужды[49]. Гигантские средства выделялись на «сталинские стройки коммунизма», среди которых Куйбышевская, Сталиградская и Каховская гидроэлектростанции, Главный Туркменский, Южно-Украинский, Северо-Крымский и Волго-Донской каналы, железные дороги Салехард – Игарка и Комсомольск – Победино, тоннель под Татарским проливом на остров Сахалин длиной в 13,6 километра[50]. Сразу же после смерти Сталина руководство СССР отказалось от роста военных расходов, а многие из дорогостоящих строек были свернуты с формулировкой: «не вызываются неотложными нуждами народного хозяйства».
К моменту смерти «вождя народов» ГУЛАГ представлял собой непомерно разросшуюся, убыточную и неэффективную систему, в которой находилось огромное число неправосудно осужденных людей. В начале 1953 года в разнообразных подразделениях ГУЛАГа содержались 5,5 млн человек, или около 3 % населения страны (около 2,5 млн в лагерях, более 150 тысяч в тюрьмах, более 2,8 млн в спецпоселениях и ссылке)[51].
Последствиями ленинской и сталинской политики террора были не только миллионы отнятых и десятки миллионов сломанных жизней, но также разрушение уклада русской деревни, разрыв социальных связей, деградация управленческой, судебной и политической системы, выстраивание неэффективной и работающей на износ экономики и установление тоталитарных режимов в соседних государствах. Хотя собственно ГУЛАГ был в основных своих элементах демонтирован в конце 1950‐х и начале 1960‐х годов, последствия советской политики террора оказались чрезвычайно растянутыми во времени и дают о себе знать в действительности, которая окружает нас сегодня.
3. Память о ГУЛАГе в СССР и постсоветской России
Бремя осознания происшедшего в России и СССР с 1917 по 1953 год, и прежде всего сталинских репрессий как предельного выражения тоталитарной природы советского государства, просто в силу своего масштаба и неизбывности неизбежно оказывается основным сюжетом выяснения отношений внутри советской и постсоветской власти и общества. Вся история страны после смерти Сталина в значительной степени описывается через этот внутренний сюжет как магистральный. Это еще и история попыток контролировать этот сюжет, использовать его в своих интересах – для борьбы с политическими оппонентами, для разделения на своих и чужих. Правда, эти попытки часто обращаются против их инициаторов, порождая обратную реакцию: инструмент перестает слушаться тех, кто пытается его использовать.
ПАМЯТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ: ХРУЩЕВСКАЯ ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ И ОТТЕПЕЛЬ (1956–1968)
История преодоления сталинизма и его осуждения начинается вскоре после смерти Сталина[52]. Главное ее событие – «секретный доклад» Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», подготовленный на основе данных комиссии под руководством Петра Поспелова и зачитанный с трибуны XX съезда КПСС в феврале 1956 года. В докладе осуждался «культ личности» Сталина, нарушение им правил «коллективного руководства», на Сталина возлагалась ответственность за массовые репрессии и депортации конца 1930‐х – начала 1950‐х годов.
Для оценки хрущевской «десталинизации» важно понимать, что ее авторов лишь отчасти интересовало собственно восстановление справедливости. Поэтому осуждение «культа личности» не имеет ничего общего с правосудием переходного периода – установлением торжества законности с целью обеспечить невозможность возвращения диктатуры[53]. Сталинизм был настолько тотальной системой, настолько жестко завязанной на культ личности Вождя, что резкий выход из него и разрыв с ним были неизбежными для любого движения дальше. Борьба с культом личности – необходимая часть политической программы любого преемника Сталина. И главным моментом, требовавшим осуждения, были не методы этой системы, не насилие как таковое (ведь методы во многом оставались прежними), а сама тотальность сложившейся политической системы.
Во многом доклад был тенденциозным, – замечает Энн Эпплбаум. – Перечисляя преступления Сталина, Хрущев фокусирует внимание почти исключительно на жертвах 1937–1938 годов, на расстреле девяноста восьми членов ЦК партии и некоторых старых большевиков. «Волна массовых репрессий в 1939 году стала ослабевать», – заявил он, что было махровой ложью: в 1940‐е годы число заключенных выросло. Он упомянул о депортации чеченцев и балкарцев – возможно, потому, что не приложил к ним руку, – но обошел молчанием коллективизацию, голод на Украине и массовые репрессии на Западной Украине и в Прибалтике, поскольку ко всему этому он, вероятно, сам был причастен. Он сказал о реабилитации 7679 человек, и, хотя зал ему аплодировал, это была ничтожная доля тех миллионов безвинно осужденных, о которых Хрущев знал[54].
Дополнительным свидетельством политического и манипулятивного характера осуждения сталинизма на XX съезде является то, что оно было лишено всех стандартных элементов правосудия переходного периода. Хрущевская десталинизация не знала ни судов над преступниками (только осуждение политических оппонентов), ни последовательной реабилитации жертв, ни последовательного и публичного осуждения стоящей за репрессиями идеологии, ни практик мемориализации этих событий. Заявление Хрущева на XXII съезде о необходимости «соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола»[55], не имело последствий.
Главной задачей инициаторов «борьбы с культом личности» было не восстановление справедливости и торжество права, а укрепление собственной власти и ослабление оппонентов. В 1954–1961 годах было реабилитировано, по разным оценкам, до 800 тысяч человек[56]. Но, как отмечал один из основных авторов закона о реабилитации 1991 года, конституционный судья (1991–2004) Анатолий Кононов, «массовый процесс освобождения заключенных носил прежде всего политический характер, правовая его сторона обладала такой же политической ущербностью, как и сами репрессии»[57].
За первой волной реабилитаций и амнистий стоял Лаврентий Берия, один из главных сподручных Сталина, вскоре расстрелянный Хрущевым как английский шпион. А о «культе личности Сталина» первым заговорил Георгий Маленков, второй человек после Сталина в последние годы его правления. В народе на эту чехарду отозвались частушкой: «Шпион Лаврентий Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков».
Реабилитации решали политические задачи и были выборочными. Так, реабилитацию Хрущевым в числе первых военных и жертв «ленинградского дела» некоторые исследователи объясняют благодарностью за участие генералитета в аресте Берии и способом компрометировать Маленкова. В то же время, когда процесс реабилитации в середине 1950‐х стал приобретать массовый характер, он не коснулся идеологических противников советской власти (троцкистов, оппортунистов, эсеров, меньшевиков и т. д.), украинских и прибалтийских националистов. Родственникам расстрелянных и погибших в лагерях выдавались справки с ложными данными об обстоятельствах и дате смерти. Бывшим спецпоселенцам и ссыльным не возвращалось конфискованное у них имущество[58].
Фактически вся дальнейшая история СССР проходит на фоне соперничества различных трактовок «эпохи культа личности». Как только государство предложило свою трактовку прошлого, не замалчивающую преступления, на это последовал живейший отклик со стороны общества. Оттепели как поиску языка говорения о репрессиях и преодоления связанной с ними травмы посвящены книги историка из Университета Дэлхаузи Дениса Козлова «Читатели „Нового мира“»[59] и оксфордского литературоведа Полли Джонс «Миф, память, травма»[60]. В СССР 1950–1960‐х годов не было социологии и опросов общественного мнения. Поэтому одной из немногих возможностей понять настроения и самосознание общества этого времени стали письма читателей в газеты и журналы. Самым важным и прогрессивным из них в тот момент был «Новый мир» Твардовского и Симонова.
Литература стала главным инструментом разработки языка разговора о прошлом, его осуждения и проработки. Ведь возможности институциональных реформ и пересмотра руководящей идеологии тогда не было. Во главе литературного процесса оказался «Новый мир». Именно там публикуются важнейшие документы хрущевской оттепели, начиная с романа Ильи Эренбурга, давшего этому периоду его название.
Важнейшими публикациями оттепели стали роман «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева (1956), «Один день Ивана Денисовича» (1962) и «Случай на станции Кречетовка» (1963) Александра Солженицына, «Хранитель древностей» Юрия Домбровского (1964). Важную роль сыграла мемуарная литература: воспоминания Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1963), сравнивавшийся с «Дневником Анны Франк» дневник Нины Костериной (1962), обычной московской девушки, пережившей арест отца в 1937‐м и погибшей на войне в 20-летнем возрасте. В 1965‐м вышли отдельным изданием воспоминания Александра Горбатова, советского военачальника, проведшего два года на Колыме, но в начале войны возвращенного в ряды комсостава.
Письма в редакцию оказываются для читателей (среди них есть и жертвы террора, и его исполнители) способом проговорить собственный опыт репрессий и отношения к ним в ситуации, когда свободная публичная дискуссия об этом невозможна и сама тема репрессий присутствует в публичном поле в жестко контролируемом формате. При этом характерна самоцензурированность этого языка: наряду с упоминаниями об убийствах, казнях, преступлениях бросается в глаза описание периода террора санкционированным властью выражением «культ личности» или просто «культ».
«Помещенная вами повесть Солженицына правдива и открыла глаза советскому народу, – пишет в редакцию «Нового мира» Иван Королев из Таджикистана, – ибо такая культ. личность, и жертвы его произвола не изчеслимы. Таких дней я провел более 4000. Очевидец гибели 1000-и честных сов. гр-н»[61].
Выпущенную однажды на свободу энергию памяти о ГУЛАГе уже невозможно было загнать в строго определенные рамки. Отвечая в 1968 году на вопрос венского журнала Tagebuch о том, насколько серьезен взятый в советской печати в 1967 году курс на реабилитацию сталинизма, Лев Копелев писал: «Все, что стало известно за последние годы, когда были опубликованы ранее скрывавшиеся документы, свидетельства тысяч людей, в том числе и старых коммунистов, – раз и навсегда уничтожило мифологию сталинского культа»[62].
ПАМЯТЬ УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ: ПОЛЗУЧАЯ РЕСТАЛИНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1968–1985)
После отстранения от власти Хрущева в 1964 году оценки террора постепенно начинают меняться. Знаковым оказывается запрет публикации в «Новом мире» романов «Сто суток войны» Константина Симонова и «Новое назначение» Александра Бека. В 1967–1968 годах постепенно вся тема становится «непроходной»: среди запрещенных к публикации оказываются «Раковый корпус» Солженицына, «Дети Арбата» Рыбакова, «По праву памяти» Твардовского.
Окончательное сворачивание оттепели произошло после введения войск в Чехословакию в 1968 году. В 1970 году был фактически разгромлен «Новый мир» Твардовского. Но это, однако, не означало прямого отрицания десталинизации начала 1960‐х. Скорее, власть стремилась к «сбалансированной» трактовке Сталина и сглаживанию «излишне критичного» подхода к прошлому, ставшего в годы оттепели почти мейнстримом. Критика «культа личности» все чаще начинает восприниматься как попытка поставить под сомнение «завоевания социализма» и успех в освобождении Европы от фашизма[63].
Маргинализация разговора о терроре и смягчение оценок Сталина к концу 1960‐х приводят к подъему самиздата и институциализации диссидентского движения. Его моральной миссией оказывается именно подхватывание этого разговора, вытесненного государством в подполье[64].
Советский железный занавес к тому моменту стал проницаемым. Произведения, создающиеся в СССР, но запрещенные к публикации, начинают ходить в самопальных копиях, публикуются на Западе и кружным путем попадают к советскому читателю (там- и самиздат). За границей выходит «Доктор Живаго» Бориса Пастернака – роман, ставящий под вопрос оценку октябрьской революции как основы государственной мифологии). Там же появляются «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Софья Петровна» Лидии Чуковской (под названием «Опустелый дом»), «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и другие важнейшие для осмысления сталинского и советского прошлого произведения.
Контроль за публичной сферой и частной жизнью граждан, существовавший в 1930–1950‐е годы, в 1960‐х уже был невозможен. Процесс над Синявским и Даниэлем и ввод войск в Чехословакию приводят к малочисленным, но немыслимым прежде публичным демонстрациям протеста. В самиздате активно читаются политически злободневные произведения Солженицына, Войновича и Зиновьева, поэзия Серебряного века и религиозная философия. Записи не публиковавшихся официально Высоцкого и Галича слушают все независимо от политической ориентации (часто воспринимая их песни как опыт людей, прошедших ГУЛАГ). Неофициальная культура в позднем СССР становится полноценной и полнокровной «второй культурой» – и тема ГУЛАГа оказывается в ней одной из центральных[65].
О попытках реальной «ресталинизации» можно говорить лишь в годы, последовавшие за смертью Брежнева. При Юрии Андропове, сменившем его на посту генерального секретаря партии, а до этого возглавлявшем КГБ, из учебников и энциклопедий исчезают упоминания о репрессиях, разворачиваются вполне сталинские по духу и языку кампании по борьбе со «стяжателями и тунеядцами», с «нарушителями трудовой дисциплины». Следующий генсек Константин Черненко пытается идти еще дальше. Он готовил постановление ЦК КПСС «Об исправлении субъективного подхода и перегибов, имевших место во второй половине 1950 – начале 1960‐х годов при оценке деятельности И. В. Сталина и его ближайших соратников». К 40‐й годовщине победы планировалось вернуть Волгограду имя Сталина.
Но все эти порывы свидетельствуют лишь о невозможности власти найти выход из экономического и идеологического тупика. Апелляция к сильной руке тогда была отчаянной попыткой компенсировать собственную слабость. Память о ГУЛАГе вновь стала для власти инструментом решения собственных проблем, антикризисным инструментом.
В это время работа по осмыслению и сталинского периода, и опыта десталинизации не останавливалась. В обществе она велась непубличным и «подпольным» образом, иногда прорываясь наружу, в публичное поле. Очень показателен пример фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», ставшего одним из главных символических высказываний начала перестройки. Замысел картины относился к концу 1970‐х, съемки начались в 1982 году, а в 1984‐м готовый фильм лег на полку. Развернувшаяся вокруг фильма борьба наглядно показала масштаб накопившихся к этому времени системных противоречий между региональными (национальными) и союзными элитами, Минкультом и КГБ, творческой интеллигенцией и чиновниками. В 1986 году фильм допустили до закрытых просмотров, а на следующий год он вышел в широкий прокат, получил гран-при в Каннах и еще через год – Ленинскую премию.
Сложность и неоднозначность царившей в те годы атмосферы иллюстрирует отзыв на фильм Роберта Рождественского, опубликованный в уже сравнительно свободном 1987 году. Либерал и шестидесятник, активный участник чтений на площади Маяковского, Рождественский защищал «Покаяние» при помощи аргументации, которая вполне могла бы звучать в конце 1960‐х:
Мы в последние годы редко касались этой трагической, очень серьезной темы. Но ведь прошлое, которое не «ворошим» мы, за нас охотно ворошат наши враги! Да еще как «ворошат» – злорадно, напористо, с улюлюканьем! В ход идет все: и подтасовки, и самая махровая клевета!.. Впрочем, черт с ними, с врагами! К их всегдашней лжи и ненависти нам не привыкать! Да и живем мы не для того, чтобы им понравилось[66].
ПАМЯТЬ ВЫХОДИТ НА СВЕТ: «ВТОРАЯ ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ» И «ВТОРАЯ ОТТЕПЕЛЬ» (1985–1991)
С началом горбачевской перестройки тема сталинского террора снова вышла из подполья. В огромной степени это было вынесением на широкую аудиторию всего того, что было проговорено и продумано в «подполье», в сам- и тамиздате в предшествующие двадцать лет.
Язык обсуждения темы сталинского террора в горбачевскую перестройку сформировался оттепельными публикациями, отмечает в «Читателях Нового мира» Денис Козлов. Перестройка многими и воспринималась как довершение дела, начатого оттепелью. Неслучайно конец 1980‐х и начало 1990‐х оказывается кратковременным «золотым веком» толстых журналов[67]. На атмосферу, формировавшуюся в обществе в конце 1980‐х, огромное влияние оказывала отложенная энергия рассказов о советском терроре, написанных в 1960‐е, но оставшихся неопубликованными в СССР. В 1987–1989 годах были опубликованы «Реквием» Анны Ахматовой, «Воронежские тетради» Осипа Мандельштама, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского.
Именно в журналах начинается и приобретает размах дискуссия об установлении памятника жертвам репрессий. «Огонек» и другие журналы публикуют письма о необходимости создания такого мемориала, вскоре объявляется конкурс проектов. В 1988 году в ответ на многочисленные обращения Политбюро ЦК КПСС выпускает постановление «О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий». В ноябре 1988 года в ДК МЭЛЗ проходит «Неделя совести» – выставка проектов мемориала, ставшая заметным событием московской общественной жизни. Конкурсы не определили победителя, и первым мемориалом всероссийского масштаба оказался валун, привезенный с Соловков Сергеем Кривенко и Львом Пономаревым в июне 1989 года. Его установили напротив здания КГБ на тогдашней площади Дзержинского.
«Неделя совести» стала первой публичной площадкой обсуждения не только проекта мемориала, но темы репрессий вообще. Разговор, в 1960‐х годах ведшийся «виртуально», через «письма в редакцию», в 1970‐х перешедший на кухни, а в 1980‐х – на страницы журналов, впервые вылился в живую дискуссию. На «Неделе совести» бывшие сидельцы находили друг друга, организовывались спонтанные вечера воспоминаний, люди составляли и подписывали совместные обращения. Стало понятно, что необходим не только и не столько памятник, сколько сообщество людей, занятых поиском и обнародованием данных о репрессированных, сохранением их памяти. Собравшаяся в 1987 году инициативная группа по созданию памятника жертвам репрессий превращается в общество «Мемориал»[68].
Характерным эпизодом истории пробуждения памяти о жертвах и поиска подходящей для нее формы стал спор, развернувшийся внутри Русской православной церкви. На поместном соборе 1988 года митрополит Сурожский Антоний (Блум), представитель живой традиции русской эмиграции и один из известнейших православных проповедников конца XX века, впервые публично поднял вопрос о необходимости канонизации членов Православной церкви, погибших от рук советской власти. Эмигрантская Русская православная церковь за рубежом, до 2007 года независимая от Москвы, канонизировала собор новомучеников еще в 1981 году[69]:
Единственные люди, которые молчат о том, что только героическая верность и стойкость тысяч неизвестных людей спасла Церковь от совершенного разрушения – это мы. И мы могли бы хоть какой-нибудь фразой в нашем Послании, не говоря о новомучениках, не употребляя таких слов, которые, может быть, оскорбят чей-то слух, указать на то, что мы благодарим Бога, что за все ХХ столетие в Русской Православной Церкви оказались свидетели веры, которые до крови, до плахи, до жизни, до муки сумели остаться верными Христу, Который искупил их и спас, и этим они прибавили к сиянию и святости в Русской Церкви[70].
Другую позицию представлял митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий (Поярков), считавший, что канонизация требует крайне осторожного подхода. В 1917 году, говорил он, у Русской церкви возник острый политический конфликт с государством. Но он не отражает суть тогдашних отношений церкви и государства, ведь «многие верующие принимали активное участие в революции». Канонизация необходима, но как духовный акт, и не может быть навязана Церкви антипатриотическими силами, не может быть продолжением политического конфликта, считал он:
Когда мы готовились к празднованию тысячелетия Крещения Руси, то мы намеревались включить в программу празднования и канонизацию святых. И за рубежом говорили о канонизации, но не в том духовном смысле, какой она имела на протяжении тысячелетней истории, а в первую очередь спрашивали: будут ли канонизованы новомученики российские, то есть жертвы периода культа личности Сталина и всей советской эпохи, как это сделала зарубежная Русская Церковь. И если бы мы сделали этот шаг, мы практически чисто религиозный акт канонизации превратили бы в политическую акцию, которая не разделялась бы не только атеистами, она бы и верующими не разделялась, потому что верующие – искренние патриоты своей родины и советской власти[71].
Со временем возобладала позиция митрополита Антония. Свою роль в этом сыграла и личная позиция патриарха Алексия II, воспитывавшегося в эмигрантской среде. Но проводником ее стал именно митрополит Ювеналий, возглавивший созданную в 1989 году Синодальную комиссию по канонизации святых, которая подготовила общецерковное прославление новомучеников в 2000 году.
Прозвучавшие в уже процитированном интервью 1989 года тезисы о недопустимости «политизации» памяти о жертвах репрессий в РПЦ, о необходимости устранить из этой памяти «антипатриотические» и «антисоветские» тенденции стали основополагающими при определении формы церковной памяти о новомучениках.
В конце 1980‐х общество пережило мощную политическую мобилизацию, а власть была совершенно дезориентированной. В этих условиях госполитика в сфере реабилитации репрессированных следовала за общественными инициативами. В ноябре 1989 года Верховный совет СССР принимает декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Это позволило за год реабилитировать 838,5 тысячи человек. Еще 80 тысяч были восстановлены в партии[72].
В апреле и октябре 1991 года, после стремительного распада СССР, принимаются законы «О реабилитации репрессированных народов» и «О реабилитации жертв политических репрессий». Они стали основанием для реабилитации еще 650 тысяч человек. Последний закон и до сего дня остается единственным российским законодательным актом, где напрямую осуждаются преступления советского режима (а также обозначаются начало и конец советской власти[73]). Его преамбула в своем роде уникальна:
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека.
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба (курсив мой. – Н. Э.)[74].
В 1990‐е годы происходит всплеск поисковой и исследовательской работы. Именно в это время обнаруживаются крупнейшие места захоронений жертв советского государственного террора – Медное (1991), Коммунарка (1991), Бутовский полигон (1992), Сандармох (1997), Красный бор (1997) и другие места. Помимо Соловецкого камня в Москве, устанавливаются мемориалы жертвам репрессий в Ростове-на-Дону (1994), Санкт-Петербурге (Кресты, 1995; Левашово, 1996), Магадане (1996), Перми (1996); мемориалы жертвам депортаций в Грозном (1994) и Назрани (1997). Параллельно с поиском захоронений в России и других странах бывшего СССР силами активистов и историков начинается работа по составлению Книг памяти жертв репрессий. Заметная часть этой работы ведется в рамках подготовки материалов для канонизации новомучеников[75].
Распад СССР запускает процессы формирования памяти о жертвах репрессий в бывших республиках, а теперь независимых государствах. Для всех них 1990-е годы оказываются временем всплеска интереса к истории советского государственного террора как основанию для новой коллективной идентичности. В одних постсоветских государствах память о репрессиях оказывается основанием для выстраивания исторической политики с акцентом на советской оккупации, как в странах Балтии[76], в других – на нарративе о многоэтничной нации – «плавильном котле»,
как в Казахстане[77], в-третьих – на памяти о жертвах Голодомора, как на Украине[78]. В эти годы мемориалы жертвам советского государственного террора открываются на Украине (в том числе мемориал в Быковнянском лесу под Киевом), в Белоруссии (урочище Куропаты под Минском, мемориалы расстрелянным на «Шоссе смерти» в районе г. Червень и другие), в Казахстане (в Астане и многих других местах, в 2000‐х открылись музейные комплексы, посвященные истории Карлага и Акмолинского лагеря жен изменников Родины), Латвии (мемориалы в Риге, Елгаве, Юрмале и других городах), Эстонии (в Таллинне, Тарту, Нарве), Литве (мемориалы ссыльным и политзаключенным в Вильнюсе и Каунасе), Грузии, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Узбекистане.
БОРЬБА ЗА ПАМЯТЬ: РАСПАД СССР
Путч 1991 года, последовавший за ним распад СССР и победа на выборах демократических сил придают разговору о советском прошлом новые акценты. Впервые в центр государственного дискурса выходит обсуждение и осуждение революции 1917 года и коммунизма, а государственный террор начинают рассматривать как прямое следствие этого исторического перелома. Борис Ельцин, первый президент России, в первом же послании Федеральному собранию предложил рассматривать новую власть как восстановление «естественной исторической и культурной преемственности» с дореволюционной Россией, нарушенной в 1917 году. Критика октябрьской революции усилилась в 1996 году с началом новой предвыборной кампании, на которой реальную угрозу Ельцину представлял кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов. В послании Федеральному собранию 1996 года Ельцин говорил:
Важно до конца осознать, что трагические последствия коммунистического эксперимента были закономерны ‹…› И массовые репрессии, и жесткий политический монополизм, и классовые чистки, и тотальное идеологическое «прореживание» культуры, и отгороженность от внешнего мира, и поддержание атмосферы враждебности и страха – все это родовые признаки тоталитарного режима. И все это означает, что путь назад – это путь в исторический тупик, к неизбежной гибели России.
Стремление во что бы то ни стало дискредитировать КПРФ и Зюганова лишило Ельцина и его сторонников возможности дать компромиссную трактовку октябрьской революции, отмечает политолог Ольга Малинова в книге, посвященной символической политике российской власти с 1991 по 2014 год[79]. Такая трактовка позволила бы увидеть в революции трагическое, но «великое» событие отечественной и мировой истории. Отказ от легитимации демократических реформ в глазах широкой аудитории через адаптацию революции как мифа основания «старого режима» к новому контексту фактически отдавал важный исторический символ, основательно укорененный в коллективной памяти, в безраздельное пользование политическим оппонентам.
Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало резкую трансформацию смыслов: то, что прежде воспринималось через фрейм «национальной славы», теперь стало рассматриваться согласно логике «коллективной травмы». Это должно было повлечь за собой радикальное переформатирование сложившихся практик коммеморации и инфраструктуры памяти: нужно было не только перенести акцент с «героев» (которые перестали быть героями) на «жертв», но и воздать по заслугам «палачам». Эта работа требовала ресурсов и была сопряжена со значительными политическими рисками. И дело не только в том, что выяснение «истинных» ролей «героев», «палачей» и «жертв» в обществе, прошедшем через гражданскую войну, – неизбежно болезненный процесс. Столь резкое изменение смысла исторического события, выполнявшего функцию мифа основания, затрагивает всю конструкцию коллективной идентичности. Заменить «национальную славу» «коллективной травмой» не так просто…[80]
После выборов, на которых за кандидата от КПРФ в первом туре проголосовали 32 % избирателей (всего на 3 % меньше, чем за Бориса Ельцина[81]), власти начинают искать пути смягчения конфронтации. В 1996 году Ельцин издает указ, объявляющий 7 ноября Днем согласия и примирения, а следующий год 80-летия октябрьской революции – «годом согласия и примирения»[82]. В том же указе предусматривалось проведение конкурса на создание памятника, увековечивающего жертв «революций, гражданской войны и политических репрессий». Эта идея так и осталась нереализованной. И хотя представители элит высказывались за «преследования фашистско-большевистской идеологии и ее носителей», единодушия не было, и царила скорее растерянность[83]. Характерно, что, в отличие от коммеморации победы 1945 года, попыток сформировать сценарии и ритуалы празднования Дня согласия и примирения не предпринималось, в итоге этот день превратился в «праздник со стертым значением».
ПАМЯТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: ПОИСК НОВОГО РАВНОВЕСИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПОЗИЦИЙ (1999 – 2010‐Е)
С отставки Бориса Ельцина и прихода ему на смену Владимира Путина начался новый этап политики памяти о советском прошлом. Подход, почти сразу обозначенный Путиным, некоторые исследователи удачно называют «доктриной тотальной преемственности». В первую очередь это выразилось в комбинировании государственных символов – триколора, с августа 1991 года ассоциирующегося с либерально-демократическим лагерем, герба с двуглавым орлом, отсылающего к символике Российской империи[84], и «нового старого» советского гимна. Стремление уйти от ельцинской конфронтационной политики памяти, предпочтя ей политику, интегрирующую представителей разных лагерей, было вполне очевидным решением (вполне аналогичным путем, как мы увидим во второй части этой книги, шли Конрад Аденауэр в Германии и Адольфо Суарес в Испании). Оно оказалось эффективным способом сплотить электорат. Однако такая политика памяти, уходя от формулирования четкого отношения к проблематичным периодам прошлого, неизбежно оказывалась ценностно эклектичной; на месте нового целостного нарратива о прошлом оставалась пустота, которая рано или поздно потребует заполнения.
«Доктрина тотальной преемственности», несомненно, знаменовала новый подход к политическому использованию прошлого, – отмечает Малинова. – Вместо решения дилемм, с которыми неизбежно связано конструирование целостного нарратива, был взят курс на выборочную «эксплуатацию» исторических событий, явлений и фигур, соответствующих конкретному контексту. Такой подход позволял успешно выполнять тактические задачи (что в условиях жесткой идеологической конфронтации было немаловажно), однако он не решал стратегической проблемы замещения «советского метанарратива» новой смысловой схемой, объясняющей связь между прошлым, настоящим и будущим[85].
Такой подход позволял успешно выполнять тактические задачи (что в условиях жесткой идеологической конфронтации было немаловажно), однако он не решал стратегической проблемы замещения «советского метанарратива» новой смысловой схемой, объясняющей связь между прошлым, настоящим и будущим.
Главным недостатком этой конструкции, стремящейся эклектически примирить ценностно противоположные явления, было то, что она держалась «на умолчании о проблемах и ответственности»[86]. Основной задачей было вытеснение негативной памяти о советском прошлом и интеграция позитивной памяти о нем с памятью о победах Российской империи. Возникал сплошной нарратив истории великой державы, объединяющий события дореволюционной и советской истории в сплошное героическое прошлое. День 7 ноября после неудачных экспериментов с «форматами празднования» перестал в 2004 году быть праздником. Вместо него был учрежден День народного единства 4 ноября, формально приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Впрочем, изменив формальную историческую привязку, «праздником со стертым значением» он быть не перестал[87].
Мемориальная политика РПЦ
На мемориальную политику постсоветской России серьезно повлиял Поместный собор Русской православной церкви 2000 года, канонизировавший больше тысячи новомучеников и заявивший о церкви как о важном участнике разговора о прошлом. Это предполагало создание целой культуры почитания новомучеников — разработку стратегии архивной работы, агиографических и иконографических канонов, составление и проведение служб новомученикам, крестных ходов и паломничеств по местам террора, установку поминальных крестов, часовен и храмов.
Центрами такого почитания (конкурирующими со светскими, музейными мемориальными стратегиями) начинают становиться Соловецкий монастырь, подмосковный Бутовский полигон (храм Новомучеников) и Екатеринбург как центр культа царственных страстотерпцев. Церковным аналогом доставки на Лубянскую площадь Соловецкого камня стала доставка летом 2007 года поклонного креста, изготовленного в Соловецком монастыре, на Бутовский полигон[88]. Мемориальная деятельность церкви была регламентирована определением Архиерейского собора РПЦ в 2011 году.
По массовости вовлечения людей и массиву обработанного архивного материала мемориальная активность РПЦ вполне сопоставима с деятельностью «Мемориала», если не превосходит ее. В одних только «Царских днях», посвященных памяти об убийстве царской семьи, ежегодно принимают участие до 100 тысяч человек. Но почитание мучеников так сконструировано, что почти не ставит вопроса о переосмыслении преступного прошлого. Это определяется позицией РПЦ в постсоветской России.
Не будучи политически независимой силой, РПЦ должна была выработать безопасную, свободную от политизации форму почитания новомучеников. Церковь так описывает советский государственный террор, чтобы это описание не касалось вопроса об осуждении виновных и об ответственности за произошедшее. В результате возвеличивание подвига членов церкви смыкается с героическим государственным дискурсом памяти о победе в Великой Отечественной войне. Характерный пример — проповедь патриарха Кирилла на Бутовском полигоне в мае 2015 года:
Подвиг тех, кто погиб на войне, защищая Отечество, и подвиг тех, кто в мирное время погибал за ту же самую духовную сердцевину жизни нашего народа, соединяются воедино. Это некий общий подвиг, и, может быть, без одного не было бы и другого. Если бы новомученики и исповедники отказались от веры, от Христа, от Церкви, если бы они встали в ряды хулителей, то, может быть, и у народа не хватило бы духовной силы сопротивляться врагу. Поэтому с религиозной точки зрения жизнь, отданная за Родину, за ту самую духовную сердцевину, и подвиг новомучеников соединяются в великую жертву Богу, принесенную за спасение нашего Отечества[89].
Сформированная РПЦ память о новомучениках отлично вписывается в государственную стратегию «тотальной преемственности»[90]. Она одновременно возрождает преемственность с дореволюционной Россией, разрушенной «богоборческой властью», восстанавливает культ царской семьи, героически трактует подвиг новомучеников, возвышающий РПЦ, и в то же время обращается к ценностям государственности (ведь подвиг новомучеников не был связан с «противостоянием государству как таковому»[91]).
Память о советском государственном терроре в других российских конфессиях
На конец 1990‐х и начало 2000‐х приходится формирование мемориальной политики других российских христианских конфессий и религий.
В Католической церкви она формируется в виде программы «Католические новомученики России», утвержденной в январе 2002 года[92]. Эта программа интегрирует почитание новомучеников, сложившееся в доминирующей христианской конфессии России, и сложившееся при папе Иоанне Павле II католическое почитание мучеников XX века. Мемориалы памяти католического духовенства и мирян, погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках на территории СССР в 1918–1958 годах, установлены на мемориальных кладбищах «Сандармох» (1997), «Левашово» (2010) и в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге (2018).
Мемориальная политика российских протестантов лишена цельности, отличающей память о новомучениках у православных и католиков[93]. Евангелически-лютеранская церковь России, объединяющая верующих преимущественно немецкого происхождения, отмечает День памяти жертв политических репрессий 28 августа, в день издания указа 1941 года о депортации немцев Поволжья. Работа по сохранению памяти о жертвах репрессий среди христиан-пятидесятников (РОСХВЕ) ведется прежде всего в рамках проекта «Духовное наследие подвижников земли русской». В рамках работы над проектом было опубликовано жизнеописание основателя пятидесятнического движения в России Ивана Воронаева, включающее статьи официальных представителей РОСХВЕ с их позицией по вопросу сохранения памяти о жертвах репрессий среди единоверцев[94]. Мемориалы жертвам репрессий среди евангельских христиан баптистов установлены на Левашовской пустоши и на «Золотой горе» в Челябинске. У адвентистов седьмого дня, которые преследовались и властями Российской империи, память о сталинских репрессиях включена в память о религиозных репрессиях на протяжении всей истории существования общины[95].
Еврейская община России[96] активно участвует в Днях памяти жертв политических репрессий, ее лидеры с начала 2000‐х годов регулярно выступают с заявлениями о необходимости помнить о репрессиях и не допустить их повторения. Память о репрессиях против советских евреев отражена в экспозициях еврейских музеев: прежде всего, в посвященных истории XX века разделах Еврейского музея и центра толерантности в Москве, музея еврейской общины в Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, музея еврейской общины Костромы. Среди проектов мемориализации памяти жертв репрессий: памятник евреям — жертвам политических репрессий в Левашово (установлен в 1997 году по инициативе Петербургского отделения Российского еврейского конгресса), памятник евреям — жертвам Норильлага в Норильске (открыт в 2005 году на средства главы Международного банка реконструкции и развития Джеймса Вулфенсона), памятный знак евреям, расстрелянным и захороненным в урочище Сандармох (открыт в 2005 году по инициативе еврейской общины Петрозаводска), инициатива по увековечению памяти семьи раввинов Медалье (выставка и презентация книги в Еврейском музее и центре толерантности в феврале 2015 года, открытие таблички с фамилией главного раввина Москвы Шмарьягу-Лейба Медалье в рамках проекта «Последний адрес» в феврале 2017 года), ежегодная церемония памяти расстрелянных членов «Еврейского антифашистского комитета» (отмечается по инициативе президента Фонда «Холокост» Аллы Гербер в годовщину расстрела 12 августа).
Мусульмане России не имеют общей централизованной программы сохранения памяти жертв репрессий среди мусульман из‐за очень разного характера этой памяти в разных регионах России. Репрессии против собственно верующих (к таковым относятся, например, преследования верующих татар и башкиров в рамках «Дела Центрального духовного управления мусульман» 1936–1938 годов) бледнеют на фоне репрессий по национальному признаку (прежде всего это были депортации). А потому в данном случае стоит скорее говорить о национальных памятях, которые очень различны в разных республиках и включены в разный политический контекст[97]. Мемориалы репрессированным мусульманам установлены в Левашово и в Сандармохе.
Похожим образом обстоит дело с памятью буддистской общины России. Российские буддисты не имеют централизованной структуры. Общины в традиционно буддийских регионах России — Бурятии, Туве, Калмыкии, на Алтае и в Забайкальском крае — не связаны друг с другом ни административно, ни (часто) вероучительно. А потому централизованной и единой программы памяти о жертвах среди буддистов нет и не может быть. Эта память, как и у мусульман, своя для каждой национальной группы. Памятники репрессированным буддистам есть в Левашово, в Улан-Удэ (на территории местной буддистской общины), фигуры буддистских божеств включены в памятник депортации калмыцкого народа «Исход и возвращение» (авторства Эрнста Неизвестного) в Элисте. У этих мемориалов организуются молитвенные поминовения жертв. В 2014 году в московском Музее истории ГУЛАГа прошла выставка «Репрессированный буддизм», подготовленная при участии петербургского буддолога Андрея Терентьева[98].
Кристаллизация позиций
Вторая половина 2000‐х стала периодом активизации исторической политики в странах Восточной Европы, фактически уравнявшей советскую оккупацию с нацистской[99]. В ответ на это в России формируется «оборонительная» историческая политика, сосредоточенная на отповеди внешним и внутренним критикам и апеллирующая к позднему сталинизму как к образцу для подражания. Активизировавшиеся в этих условиях попытки придать этому дискурсу черты «официального» носили по большей части конъюнктурный, а не идеологический характер, и в основном не увенчались успехом.
В ряду этих попыток и наделавшие много шуму пособия по истории Александра Данилова и Александра Филиппова (2007–2008)[100], преследующие задачу «нормализовать» советский террор и диктатуру Сталина и уравновесить «перегибы» «успехами», и президентская «Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» (2009–2012).
Однако и учебники, воспевающие «эффективный менеджмент», и Комиссия, основной задачей которой фактически оказывалось вмешательство в научные исследования, встретили настолько резкую и единодушную критику академического сообщества и общественности, что эти начинания поспешили свернуть. В 2010 году Данилов не был избран директором Института российской истории РАН, позднее был уволен из МПГУ из‐за выявленного в защищенных при его участии диссертациях плагиата, а в 2012 году была упразднена Комиссия. Фактически обе инициативы умерли естественной смертью, не получив поддержки сверху, на которую были рассчитаны.
В 2011 году рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во главе с Сергеем Карагановым и Михаилом Федотовым в сотрудничестве с «Мемориалом» разработала проект программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении». Наряду с предложениями об увековечении памяти жертв репрессий (памятники, музеи, исследовательские центры, государственные памятные даты), проект предусматривал конкурс на разработку нового учебника истории, государственную поддержку академических исследований этой проблематики, а также важные политические и правовые шаги — юридическую оценку преступлений коммунистического режима, их политическое осуждение, введение запрета для государственных чиновников на отрицание или оправдание преступлений.
Вокруг проекта развернулась дискуссия, позволившая кристаллизовать две противоположные позиции. Одна выражена в проекте программы: по мнению ее составителей, «без освоения общественным сознанием трагического опыта России в XX веке представляется невозможным движение российского общества к реальной модернизации»; осуждение может объединить общество, положив конец развязанной в 1917 году гражданской войне, и укрепить международный престиж России[101].
Другую позиция отчетливее всего выразил политик и общественный деятель Алексей Пушков. По его мнению, программа обострит ситуацию «идейной гражданской войны» в российском обществе, ослабит позиции России в мире (и прежде всего в Восточной Европе), превратив ее из державы — победительницы во Второй мировой в «мальчика для битья»[102]. По словам Пушкова, признание преступлений сталинизма (если они доказаны) не должно быть поводом для пересмотра собственной истории в покаянном ключе, а борьба с тоталитарным сознанием «не должна превращаться в повод для превращения России в унтер-офицерскую вдову, которая в очередной раз с упоением будет сечь себя».
После нескольких лет обсуждений и бюрократических пробуксовок Федеральная целевая программа «Об увековечении памяти жертв политических репрессий» не была одобрена правительством[103]. Вместо этого в августе 2015 года решением премьер-министра Дмитрия Медведева была утверждена «Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий» на 2015–2019 годы. В отличие от ФЦП, она имеет лишь декларативное значение и не предполагает целевого государственного финансирования[104]. Примечательно, что слова о тоталитарном режиме и национальном примирении из названия исчезли. Это во многом косметическое решение не изменило расклада сил и не сообщило перевеса одной из позиций.
Соперничество двух этих позиций представляет собой основной сюжет «войн памяти» в России последних лет. Описанное в первой главе посткрымское обострение «сталинского комплекса» не выявило принципиально новых ходов и акцентов, разве только позволило выкрутить эмоции на невозможную прежде громкость. Данные опросов общественного мнения, свидетельствующие о всплеске симпатий к Сталину, важны не как показатель отношения к Вождю как таковому (об этом опросы мало что говорят[105]), а как свидетельство усвоения широкой аудиторией мобилизационного языка, символом которого является Сталин и соответствующий тип управления. Как показали первые годы четвертого президентского срока Владимира Путина, когда язык конфронтации и маленькие победоносные войны перестают отвлекать население от все более остро заявляющих о себе социальных проблем, мобилизационное усилие не может быть долговременным. А значит, поиск «нового равновесия» чем дальше, тем более явственно будет выходить на первый план. И ключевым вопросом этого нового равновесия неизбежно станет вопрос оценки советского прошлого и государственного террора.
4. Примирение сверху: равновесие без вины и ответственности
В 2007 году мало что в официальной риторике напоминало о том, что это был 90‐й после Октябрьской революции и 70‐й с начала Большого террора. У власти явно не было отчетливого представления, какие сигналы следует посылать обществу в связи с этими датами, внятного нарратива памяти о 1917‐м и 1937‐м не существовало. Октябрьская революция неявно и глухо ассоциировалась для власти с событиями скорее трагическими, с разрывом преемственности с имперской Россией и в целом была для нее неудобна, напоминая о периоде слабости царского политического режима, о распаде государства, о междоусобицах и распрях. Большой террор тоже упоминался политическими лидерами как событие трагическое, но дальнейших его оценок власти старались избегать.
30 октября 2007 года, в День памяти жертв политических репрессий Путин вместе с патриархом Алексием II посетили созданный при участии РПЦ мемориал на расстрельном полигоне в Бутово. Официальная речь была заменена «подходом к прессе», активный «месседж» — реактивным подобием «экспромта». С учетом сказанного о памяти новомучеников представляется совсем не случайным, что для такого высказывания было выбрано именно Бутово. Не имея собственного внятного языка описания Большого террора, государство предпочло «примкнуть» к инфраструктуре памяти о терроре, разработанной церковью. Этот «экспромт» оказался самым отчетливым осуждением государственного террора, когда-либо звучавшим из уст Владимира Путина:
Мы собрались действительно для того, чтобы почтить память жертв политических репрессий 30–50‐х годов прошлого века. Но все мы хорошо знаем, что 1937 год считается пиком репрессий, но он (этот 1937 год) был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости. Достаточно вспомнить расстрелы заложников во время Гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества. Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности — ценности человеческой жизни, выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия. Потому что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее эффективные люди. Это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Но эта память нужна не сама по себе. Эта память нужна для того, чтобы мы понимали: для развития страны, для выбора наиболее эффективных путей решения проблем, перед которыми стоит страна сегодня, будет стоять в будущем, конечно, нужны политические споры и баталии, нужна борьба мнений; но для того, чтобы этот процесс был не разрушительным, для того, чтобы он был созидательным — эти споры, эта политическая борьба не должны проходить вне рамок культурного, образовательного пространства. И, храня память о трагедиях прошлого, мы должны опираться на все самое лучшее, что есть у нашего народа. И мы должны объединять свои усилия для развития страны. У нас для этого все есть[106].
Спустя десять лет отсутствовавший прежде нарратив появился. Уже за несколько лет до столетия революции и 80-летия Большого террора те, кто формировал или хотел бы формировать государственную идеологию, заговорили о грядущей годовщине как о важной исторической вехе, которой надлежит стать символом примирения и подведения черты под прошлым.
МОДЕЛЬ ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО
Наиболее заметным сторонником такого примирения выступал профессиональный пиарщик и идеолог-пропагандист, а с 2012 года министр культуры Владимир Мединский. В программной лекции «Мифы о революции и гражданской войне», прочитанной в МГИМО в ноябре 2015-го, он говорит о приближающемся столетии революции 1917 года в связи с темой примирения[107]. Остается, впрочем, не ясным, кто именно видится лектору субъектами примирения. Ведь речь у него идет о сторонах противостояния в годы гражданской войны. Упоминание современности проскальзывает только в одной фразе и маркируется как нечто надуманное, не имеющее отношения к реальному примирению:
Если уж мы говорим о примирении сторон, прежде всего, речь идет о примирении в наших головах. Трудность вопроса определяется сегодня трактовками, которые диктуются современным идеологическим противостоянием (курсив мой. — Н. Э.). К реальной истории страны эти спекуляции имеют крайне отдаленное отношение[108].
Такая бессубъектность неслучайна. Вывод, к которому приходит Мединский в своей лекции, состоит в том, что подлинное примирение уже состоялось, и случилось это в момент триумфа 1945 года:
Единое Российское государство стало называться СССР и осталось почти в тех же границах. А спустя 30 лет после гибели Российской империи совершенно неожиданно Россия оказалась на вершине своего военного триумфа в 1945 году. Таким образом, в Гражданской войне в результате победила третья сила, которая в этой войне не участвовала. Победила историческая Россия, которая возродилась из пепла!
Модель примирения, предлагаемая Мединским, примечательным образом выключена из настоящего, это историко-политическое конструирование. Механически присоединяя концепт победы в Великой Отечественной как высшей точки развития «советского проекта» с концептом «исторической России», представляющим собой некое «наименьшее общее кратное» всех эпох российской государственности, Мединский приходит к бесконфликтному выводу о победе в Гражданской войне «третьей силы».
Представление о победе в Великой Отечественной как новом учредительном мифе Российского государства звучит уже в 2007 году. Так, для историка Натальи Нарочницкой революция «была сознательным чудовищным погромом русской государственности „до основания“». Но «дух Мая 1945‐го <…> в значительной мере обезвредил разрушительный и антирусский пафос ниспровержения. Великая Отечественная война востребовала национальное чувство, подорванное „пролетарским интернационализмом“, и восстановила, казалось бы, навек разорванную нить русской и советской истории»[109].
Если разделение, трактуемое именно как разделение 1917 года, преодолено в 1945‐м, то вопрос примирения, тем более примирения сегодняшнего общества, оказывается чисто символическим, легко разрешаемым при помощи установления соответствующего памятника, например памятника примирению белых и красных в Крыму. Так понимаемое примирение крайне удобно для российских властей по нескольким причинам.
Во-первых, оно крайне выгодным для государства образом подменяет причину следствием: оказывается, что это революция спровоцировала раскол общества, а не власть Российской империи довела страну до раскола, на котором затем удачно и цинично сыграли большевики в борьбе за власть. Во-вторых, оно позволяет уйти от разговора о государственном терроре, развернувшемся в полную силу уже после Гражданской войны.
В-третьих, даже в случае примирения красных и белых желаемое выдается за действительное. Колоритнее всего разница между мнимым и реальным примирением выглядит на примере памятника в Крыму, установить который задумало Российское военно-историческое общество, посвятив его исходу русской армии во главе с Петром Врангелем в ноябре 1920 года. В неприятии памятника примирению неожиданно оказались единодушны и коммунисты, и сторонники Белого движения. Первые увидели в нем оскорбление ветеранов и «плевок в севастопольцев»: члены движения «Суть времени» вышли на митинг с лозунгами «Нет Покаянию! За исторический выбор русского народа» и «Великая Победа объединяет, „примирение“ разобщает». Вторые назвали оскорбительными попытки говорить о примирении, не осудив преступления большевиков, чьи имена до сих пор носят улицы Севастополя[110].
МОДЕЛЬ ТИХОНА ШЕВКУНОВА
Более грамотной и удачной с политтехнологической точки зрения выглядит модель примирения, предложенная другим опытным и талантливым пиарщиком, епископом РПЦ Тихоном (Шевкуновым). 4 ноября 2015 года, в день между светским Днем народного единства и церковным праздником Казанской иконы Божьей Матери, в Манеже была открыта выставка «Моя история. XX век. 1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе». Ее идеологом стал на тот момент епископ, а ныне митрополит Тихон (Шевкунов).
Его личность заслуживает отдельного внимания. Сретенский монастырь, наместником которого он был в 1996–2018 годах, за эти годы стал важным церковно-политическим образованием. При нем работает одно из самых крупных в России православных издательств и сайт «Православие.ru», один из наиболее посещаемых религиозных ресурсов рунета. В 2008 году Шевкунов выпускает «публицистический фильм» «Гибель империи. Византийский урок», декларирующий на основе параллелей между византийской и российской историей необходимость сильного государства для выживания современной России. В 2011‐м выходит сборник рассказов Шевкунова «Несвятые святые», который журналист и религиовед Сергей Чапнин назвал «идеологически выверенными сказками с правильной моралью»[111]. Эта книга стала самым успешно продающимся религиозным изданием в России последних лет (суммарный тираж на начало 2019 года 3 млн экземпляров).
Выставка в Манеже стала третьим проектом серии «Моя история», организованной по инициативе Патриаршего совета по культуре и при поддержке правительства Москвы и Фонда гуманитарных проектов[112]. Ей предшествовали выставки «Романовы» (2013) и «Рюриковичи» (2014). На выставке, посвященной XX веку, была представлена своеобразная «формула согласия», модель примирения памяти о XX веке. В истории России и СССР, говорит она, были и «трагедии» (Гражданская война, революции, сталинские репрессии), и «успехи» (индустриализация, подъем экономики, победа в Великой Отечественной войне). Авторы экспозиции подчеркивают, что не выносят оценок. Их подход намеренно нейтрален: рассказать и о трагедиях, и об успехах. И эта нейтральность — важнейшая новация выставки. Главная кровоточащая рана советской истории, ГУЛАГ, деятельного осуждения которого не произошло, оказывается лишь одним из череды «испытаний» и вписывается в ряд «противоречивых» явлений вроде красного и белого террора.
Следствием такого настойчивого нейтралитета оказывается, во-первых, нормализация советского террора, а во-вторых — сквозящая в экспозиции концепция уравновешивания испытаний успехами. Именно об этом на открытии выставки сказал патриарх Кирилл, и именно в его устах, предстоятеля церкви, страшно пострадавшей от большевистского насилия, виднее всего искусственность этого «нейтралитета» и «уравновешивания»:
Выставка посвящена трудным страницам нашей истории. Все мы знаем, что послереволюционное время было временем хаоса, столкновения классовых, социальных, политических, экономических интересов, попыток разрушить страну; было пролито много крови, миллионы были изгнаны из пределов нашего Отечества. Мы знаем, что непростыми были и 30‐е годы — много крови, много несправедливости, и все это никогда не должно уйти из нашей памяти, как нельзя минимизировать эти страдания. Но ведь не было бы современной России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые в 20‐е и 30‐е годы не просто пахали землю — хотя и это очень важно, — но создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны. Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами (курсив мой. — Н. Э.). Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, — мы говорим: «да, несомненные успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной войне. А там, где были кровь, несправедливость, страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века. Мы отдаем исторические персонажи на суд Божий. Но никогда отрицательные стороны не должны давать права исключать все то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершены ими же[113].
Концепция уравновешивания преступлений успехами — крайне удачная для современной российской власти модель. В ситуации, когда невозможно как молчать о советском терроре, так и деятельно и реально его осуждать, уравновешивание преступлений успехами позволяет законсервировать потенциально взрывоопасный конфликт. Тем самым вопрос об ответственности за преступления, об осуждении их и их виновников, осмыслении всех связанных с ними практик просто снимается: точнее, от него уходят.
Представленный организаторами выставки «уравновешивающий подход» был стремительно взят на вооружение государством. В декабре 2015 года в одном из павильонов ВДНХ был открыт постоянно действующий исторический парк «Россия — моя история», объединивший экспозиции трех выставок в Манеже. Тогда же появилась идея расширить этот опыт на всю Россию, открыв в регионах 25 подобных выставок и, по возможности, приурочив это к столетию Октябрьской революции. В 2017 году постоянные выставки «Россия — моя история» открылись в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Перми, Якутске, Махачкале, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге, в 2018 году — в Саратове и Ростове-на-Дону, в 2019‐м — в Челябинске и Сургуте.
Модели Мединского и Шевкунова, сведение разговора о трагическом прошлом XX века к давно преодоленному конфликту «красных» и «белых» и стремление «законсервировать» опасный разговор, уравновесив преступления государства его успехами, роднит уход от темы ответственности. В полной мере этот подход дает о себе знать в год 100-летия революции и 80-летия Большого террора, когда тема примирения выходит в официальной риторике на первый план.
ПРИЗРАК ПРИМИРЕНИЯ
Еще один проект Тихона Шевкунова — возведение на территории Сретенского монастыря монументального Храма новомучеников и исповедников российских на Лубянке. Он располагается там, где в советские годы было общежитие сотрудников НКВД. Храм был освящен 25 мая 2017 года патриархом Кириллом в присутствии Владимира Путина, назвавшего это событие значимым для всего российского общества. Ведь храм, посвященный памяти пострадавших в годы репрессий, «олицетворяет примирение»:
Глубоко символично, что новый храм открывается в год 100-летия Февральской и Октябрьской революций, ставших отправной точкой для очень многих из тех тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке.
Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое[114].
Как обычно в таких случаях, не уточняется, кто, с кем и по какому поводу примиряется. Из контекста понятно, что речь идет о примирении тех, кто принял октябрьскую революцию, и тех, кто ее не принял. То есть снова о «белых» и «красных». Анализируя это событие, Максим Трудолюбов обращает внимание на комфортность такого концепта примирения для сегодняшней российской власти:
Из всех разделений российского общества — проявленных и непроявленных — это, наверное, самое комфортное для российской элиты, особенно той, которая склонна тихонько считать себя аристократией. Времени прошло удобно много, свидетелей не осталось — осталась давняя, почти абстрактная история. Объявленное «примирение» оказывается чем-то больше похожим на дополнительную легитимацию нынешней власти. Нынешнее государство, у которого родовые травмы и моральные проблемы связаны и с происхождением, и с советским ограблением российского наследства, и с постсоветским ограблением советского наследства, получает таким образом крайне дефицитную нематериальную поддержку (с материальной поддержкой у него и так все хорошо).
Сложность, конечно, в том, что конфликт красных и белых не единственный и не главный для российского общества. Тот конфликт, который в отличие от красно-белого жив до сих пор, нуждается хотя бы в том, чтобы его проговорить. Этот конфликт жив, потому что каждый день люди становятся жертвами системы, предпочитающей самовольно писать себе законы и отчитываться в их исполнении или неисполнении только перед собой. В его основе лежит и наследие российского имперского государства, и институты, заложенные сталинским государством, которое убивало своих граждан в годы существования СССР. Конфликт между элитой, ставящей себя выше закона, и обществом, которому элита диктует закон, не преодолен. Наследники сталинского государства, включая и священноначалие нынешней Русской православной церкви, строящие храм в честь воображаемого примирения, всех нас обманывают[115].
Такая трактовка примирения — вполне логичное развитие «доктрины тотальной преемственности» 2000‐х, позволяющее выглядеть патриотами, а то и аристократами, и близким к власти идеологам вроде Никиты Михалкова, и гордо чтущим преемственность по отношению к ЧК — НКВД — КГБ «новым дворянам» из силовых структур[116].
30 октября 2017 года на проспекте Сахарова в Москве Владимир Путин открыл Мемориал памяти жертв политических репрессий. С учетом того, что открытие государством такого мемориала было частью реализации программы «Об увековечении памяти жертв политических репрессий», что на нем присутствовали правозащитники, руководство Государственного музея истории ГУЛАГа и вдова Александра Солженицына, это могло выглядеть как предпочтение государством позиции «либерально-демократической общественности». Однако если прислушаться к произнесенным в связи с открытием мемориала речам и приглядеться к общему контексту госполитики памяти, приходится делать прямо противоположные выводы.
В выступлении на заседании Совета по правам человека накануне Дня памяти жертв политических репрессий Владимир Путин предложил воспринимать открытие Стены скорби в годовщину революции (о годовщине Большого террора сказано не было) как «подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ», как «символ преодоления этого раскола и взаимного прощения» и «принятие отечественной истории такой, какая она есть»[117]. Концепт подведения черты под трудным прошлым, прощение и принятие — действительно, важные элементы политики его проработки (мы подробно остановимся на этом в третьей части книги), но только при условии принятия ответственности за преступления прошлого. В противном случае это не более чем техники отгораживания от него, только отодвигающие решение проблемы. В данном случае разговор об ответственности как раз последовательно вытесняется.
Отчетливой иллюстрацией того, как «примирительно-всеохватывающий подход» оборачивается пронзительным «умолчанием о проблемах и ответственности», было слово патриарха Кирилла на открытии Стены скорби. Патриарх неоднократно упоминал «трагические события» и даже «террор», но по сложившейся традиции не конкретизировал, что имеется в виду. Впрочем, далее по тексту выясняется, что речь идет не об уничтожении государством собственных граждан, не о возведенном в систему попрания права и человеческого достоинства, а о ситуации, когда «жители одной страны, соседи и сослуживцы преследовали и убивали друг друга»[118].
К «крови и беззаконию», по мнению предстоятеля РПЦ, привела «грандиозная идея построить мир свободным и справедливым». «В чем была ошибка? — вопрошает патриарх. — Не в том ли, что люди стремились построить гуманное и справедливое общество (курсив мой. — Н. Э.), отвергнув духовные основы человеческой жизни и поставив нравственность в положение, подчиненное идеологии, что привело к оправданию несправедливости и к жестокости на пути построения „светлого будущего“?»
Урок, который предстоятель РПЦ предлагает извлечь из произошедшего, состоит в том, что «никакого светлого будущего не будет, если вновь в стремлении к таковому будущему уже под влиянием новых идеологий станет разрушаться нравственная и духовная основа человеческого бытия». В заключение речи традиционно прозвучал абстрактный примирительный мотив: «Трагические страницы нашего прошлого не должны быть поводом для разжигания ненависти и усиления напряженности, а осуждение террора не должно из нравственного акта превращаться в политический ритуал». Примечательно, что первоиерарх церкви, в основании этического учения которой лежит призыв к покаянию и обличению греха, ни слова не говорит в этой чрезвычайно важной для его паствы речи ни о том ни о другом.
Но еще более красноречив общественно-политический контекст, в котором происходило открытие мемориала. В 2017 году доля россиян, положительно относящихся к Сталину, достигла максимума за все время наблюдений: 46%. Как уже было сказано, эти оценки напрямую связаны с пониманием гражданами трендов государственной политики. К моменту открытия Стены скорби общество «Мемориал», наиболее известная и авторитетная в России и за ее пределами структура, изучающая и сохраняющая историю советского государственного террора, была объявлена «иностранным агентом». В Карелии уже год ожидал в СИЗО приговора по политически инспирированным обвинениям историк Юрий Дмитриев, обнаруживший одно из крупнейших захоронений советского террора. Число уголовных и административных дел против инакомыслящих стабильно росло, ужесточалось законодательство, ограничивающее свободу слова, вероисповедания и политический протест.
К концу 2010‐х годов российская государственная политика памяти о советском терроре — главным символическим событием которой стал запуск «франшизы» «Россия — моя история» и открытие Стены скорби в Москве — представляет собой стремление законсервировать крайне токсичную и опасную для государства тему символического и институционального осуждения этого террора, используя внутреннюю логику уравновешивания преступлений успехами и риторику «примирения» без обращения к теме ответственности.
5. Примирение снизу: возвращение имен
Одновременно с увеличением числа апелляций к Сталину в окологосударственной риторике с начала 2010‐х в обществе нарастает число инициатив, призванных сохранить память о жертвах советского государственного террора и напомнить об ответственности виновных. Особенно заметный всплеск «контрпамяти» обозначается с 2014 года, когда «крымская мобилизация» вынесла «сталинский комплекс» на гребень общественно-политических настроений.
Несмотря на потерю заинтересованности государства темой сохранения памяти о репрессиях (в 1990‐е годы сотрудники МВД и ФСБ нередко сотрудничали с тем же «Мемориалом», в частности в поисках мест массовых захоронений), число общественных инициатив в этой сфере не сократилось, а значительно выросло. Если в середине 2000‐х в Москве и Петербурге 29–30 октября проходили по 2–3 акции такого рода, во второй половине 2010‐х их число стабильно переваливает за два десятка.
Акция «Возвращение имен» впервые проведена «Мемориалом» в сквере у Соловецкого камня в 2007 году. В первые годы она собирала по несколько сот человек. В 2016 году в ней приняли участие больше четырех, а в 2017‐м — более пяти тысяч человек. При этом технология проведения акции позволяет подойти к микрофону немногим более тысячи человек. С 2016 года акция проводится не на средства, привлеченные «Мемориалом», а на пожертвования граждан. Раньше такое было невозможно, а сегодня стало естественным и привычным. Стремительно расширяется география акции. В 2016 году она проходила, помимо Москвы, еще в 16 городах России, а в 2018‐м — в 32 городах. К чтению имен подключаются все больше мировых столиц — Лондон, Варшава, Вашингтон, Минск, Прага, Рига, Вильнюс. С 2010 года православные верующие организуют акцию «Молитва памяти»[119], вдохновленную «Возвращением имен». В последние годы в ней участвуют почти 30 городов в России и за границей.
В 2014 году в Москве начал работу общественный проект «Последний адрес», призванный не только увековечить память репрессированных, но и сделать ее частью повседневной материальной культуры российских городов. На домах, где жили репрессированные, устанавливаются типовые памятные таблички. Неполитический «формат» проекта и его безусловный этический посыл располагают к нему все большее число людей. К февралю 2020 года на территории России было установлено 1000 табличек «Последнего адреса». Таблички уже появились в 10 городах России, еще столько же городов ждут своей очереди. Проект или его аналоги существуют в Украине, Грузии, Молдавии, Чехии, рассматриваются заявки из Польши, Германии, Латвии, Беларуси, Румынии. Каждое открытие таблички оказывается событием, работающим на выстраивание местного мемориального сообщества.
Тема памяти о советском терроре все заметнее выплескивается за пределы сравнительно узкого круга людей, специально ею интересующихся. «Возвращение имен» и «Последний адрес» все чаще фигурируют в государственных и независимых СМИ, а публикации, посвященные ГУЛАГу, вызывают все более широкий интерес. Одним из самых популярных материалов деловой газеты «Ведомости» за весну — лето 2017 года стала историческая статья Олега Хлевнюка о Большом терроре[120], а премию «Редколлегия» за лучший журналистский материал в 2017 году получили сразу три публикации, посвященные истории репрессий («Дело Хоттабыча» Шуры Буртина, история о Новочеркасском расстреле Даниила Туровского и о попытке сфальсифицировать историю Сандармоха Анны Яровой[121]). Первый же опыт совместного мозгового штурма нескольких СМИ и «Мемориала» в 2017 году обернулся двумя десятками сильных публикаций о сталинских репрессиях и о памяти. Они заметно поколебали «официальную» информационную повестку[122].
Всплеск интереса к памяти одни трактуют как реакцию на посткрымскую активизацию «сталинского комплекса», другие — как одну из немногих форм гражданского протеста, оставшихся у людей после ужесточения закона о митингах. Так или иначе, динамика этих акций впечатляет. «Что-то происходит, люди ищут опору», — говорил автору этих строк в 2016 году у Соловецкого камня руководитель и один из основателей «Мемориала» Арсений Рогинский.
В отличие от государственной риторики примирения, акции, подобные «Возвращению имен», отвечают не только на абстрактный для многих запрос о преодолении разделений вековой давности, но и на конкретное и насущное стремление разобраться с собственной «идентичностью». Они имеют отношение не к прошлому, а к настоящему.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕН
Национальная или коллективная идентичность не строится сверху. Она возникает как результат общественного консенсуса по самым принципиальным вопросам. Необходимое условие достижения такого консенсуса — выработка общего языка, и это самая насущная задача работы с настоящим. «Возможно, никакой объединяющей версии истории, или общего пантеона национальных героев создать сейчас попросту невозможно, — замечает журналист и культуролог Юрий Сапрыкин. — Просто потому, что общество перестало быть монолитным. <…> Вопрос не в том, чтобы вытеснить неправильную версию правильной, а в том, чтобы разные версии могли существовать рядом, не объявляя друг другу войну на уничтожение»[123]. Пробуждение общей памяти — это единственный реальный способ обретения общего языка.
На протяжении всей человеческой истории именно память об умерших служила главным основанием конструирования идентичности сообществ. «Память об умерших, — пишет Ян Ассман, — это парадигматический случай памяти, „создающей общность“». Обращаясь в воспоминании к мертвым, общность подтверждает свою идентичность. В признании своего долга перед определенными именами всегда скрывается признание своей социополитической идентичности»[124]. Неслучайно единственным действительно национальным праздником в России остается День победы. Однако эксплуатация его государством особенно в последние годы привела к тому, что этот праздник все отчетливее перемещается из пространства частной и семейной памяти в пространство официальное и официозное[125], а скорбь о погибших уступает место гордости победителей.
Последнее особенно важно в контексте разговора о реальном, а не формальном и официозном объединении нации. Беспокоящая неопределенность на месте неофициальной, частной памяти об умерших приводит к тому, что все больше людей ищут точку опоры отдельно от государства. Именно память об общих страданиях объединяет сильнее всего, писал Эрнест Ренан:
Разделять в прошлом общую славу и общие сожаления, осуществлять в будущем ту же программу, вместе страдать, наслаждаться, надеяться, вот что лучше общих таможен и границ, соответствующих стратегическим соображениям; вот что понимается, несмотря на различия расы и языка. Я сказал только что: «вместе страдать». Да, общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия[126].
Выход разговора о советском терроре за пределы привычной аудитории продемонстрировал довольно интересное явление. В хоре голосов, обсуждающих «Возвращение имен» и подобные акции, отчетливо слышится недоумение, связанное с отсутствием опыта, с которым можно было бы сопоставлять происходящее. Неудивительно поэтому, что каждый участник «Возвращения имен» наполняет происходящее собственным содержанием. Светские люди видят в этом аналог митинга, возможность побыть среди себе подобных, а увеличение числа участников объясняют усилением запретов на митинги. Люди с религиозным опытом воспринимают такие акции как вариант молебна и символ победы над смертью или как аналог магической практики, вроде очереди к поясу Богородицы (2011). Это похоже, пишет один из участников «Возвращения имен», на призывание духов, ведь реально «никакие имена никуда не возвращаются, реально никто этих людей не знает, как не знаем мы любые имена, написанные на кладбищенских табличках».
Формально акция состоит в чтении имени расстрелянного и самых кратких данных: профессия или род занятий, возраст и дата казни. Но эта скупая и нейтральная структура на первых же акциях начала творчески дорабатываться. Люди стали добавлять к прочитанным именам своих репрессированных родственников, часто доверяя это детям. Несколько лет назад это было относительной редкостью, сейчас родственников поминает чуть ли не каждый второй. Личным дополнением часто становится и завершающая формула. Одни говорят «вечная память» или «это не должно повториться», другие вносят оценку («вечная память жертвам — вечный позор палачам»). Ставя зажженную лампаду к камню, кто-то крестится, кто-то возлагает цветы, кто-то кланяется, кто-то встает на колени, — можно заметить элементы разных религиозных практик.
Часто звучат возражения: такие акции — еще один способ хранения разделенной памяти: потомки жертв строят собственное прошлое, проклиная потомков палачей и прячась от настоящего — от реальности современной России, где снова есть политзаключенные, а права человека жестоко нарушаются. Опасность превращения коммеморативных практик в еще один инструмент разделения общества, конечно, существует. Но их объединяющий потенциал намного больше.
Одна из тех, кто стоял в очереди к Соловецкому камню 29 октября 2016 года, услышала, как неизвестная ей девушка, прочтя имя из списка, добавила от себя еще одно. Это имя собиралась назвать она сама, так как это был и ее родственник, обстоятельствами гибели которого семья давно интересовалась. «Я так была потрясена, что не сразу сообразила к этой девушке подбежать, а когда кинулась, то уже было поздно — девушка ушла», — написала она в Facebook и попросила помощи в поиске незнакомки.
Запись[127] была опубликована в аккаунте общества «Мемориал», получила в течение дня более 700 перепостов и к вечеру люди, соединенные памятью об одном из репрессированных, нашли друг друга. Их общим предком оказался расстрелянный в 1937 году идейный коммунист[128], дочь которого влюбилась в англичанина, после тяжелых испытаний в конце 1950‐х вышла за него замуж, и их сын написал об истории любви родителей книгу «Stalin’s Children», ставшую мировым бестселлером[129]. Общество «Мемориал» оказалось в буквальном смысле инструментом восстановления общей памяти, а «Возвращение имен» — не только символическим, но и реальным ритуалом собирания разделенного прошлого, слагающегося в картину семейной истории и истории страны.
Хотя разделяющий дискурс («вечная память жертвам — вечный позор палачам») еще слышен довольно отчетливо, по мере того как эта и подобные акции увеличивают свой размах и охват, все лучше осознается невозможность надежно и окончательно отделить «жертв» от «палачей». Не только потому, что палачи сами зачастую оказывались перемолоты машиной террора: на акциях поминовения и в сетевых сообществах потомки тех, кто служил в рядах НКВД и был причастен к репрессиям, все чаще проговаривают свою связь с ними именно в рамках работы с травматическим прошлым, в рамках дискурса памяти о жертвах.
Это не обязательно покаяние (хотя и таких примеров все больше[130]). Это форма, позволяющая проговаривающим осуществить связь с общим прошлым, перестать быть выключенным из него. Происходит то, что исследователи исторической памяти называют формированием инклюзивной модели, в рамках которой возможно объединение разных памятей, не исключающих, а предполагающих друг друга[131]. И чем отчетливее будет такое понимание общего прошлого, тем неизбежнее будет вставать тема примирения[132]. Признаки этого уже можно различить. Все чаще кто-нибудь из подходящих к микрофону у Соловецкого камня говорит, прочитав имя из списка: «Господи, спаси души и жертв, и палачей».
Границы таких акций разомкнуты не только в прошлое, но и в настоящее. Поэтому предположение, что участники «Возвращения имен» прячутся от сегодняшней политической реальности, представляется неверным. Люди, приходящие к Соловецкому камню, на Бутовский полигон и в другие места памяти о репрессиях, собраны вместе не только общей памятью о прошлом. Их объединяет фундаментальное согласие в оценках советского террора как преступного. Из того, что происходит в сквере у Соловецкого камня, примат ценности человеческой жизни над ценностью государства следует так же неизбежно, как из исторической деятельности «Мемориала» вытекает деятельность правозащитная.
Если считать «Возвращение имен» ритуалом гражданской религии (в России таковая фактически отсутствует, поэтому на этом поле вовсю играют религия и политика), то основополагающие ценности участников акции — это своего рода «гражданская теология». Ее основной «догмат» — представление о безусловной ценности человеческой жизни. Чтение имен убитых под окнами сегодняшней Лубянки — акция далеко не только мемориальная. Поэтому слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой на открытии акции 2016 года (сколь бы скептически они ни воспринимались) о необходимости «государственного покаяния» за преступления Большого террора и о том, что «Возвращение имен» — это напоминание «молодым сотрудникам правоохранительных органов, что никогда неправда и отступление от закона и совести не проходит даром»[133], важны именно как фиксация обращенности таких акций в настоящее.
Заложенная в 2007 году у Соловецкого камня традиция чтения имен жертв советского террора — не локальный и частный случай обретения исторической памяти. При попытке анализа происходящего в сквере на Лубянке поднимаются темы связи памяти и идентичности, взаимоотношения эксклюзивной и инклюзивной моделей исторической памяти, осознание советского террора как ключевого события новейшей истории России, требующего этической и юридической оценки. Эти темы с удивительной точностью повторяют вопросы, встававшие перед Европой в рамках так называемого «бума памяти», который начался в общественных науках на Западе в 1990‐х, а в 2000‐е стал общественным феноменом, обозначив поворот от героической памяти к трагической[134]. Именно тогда стало понятно, что вопросы, которые ставят такие трагедии, как Холокост, не разрешаются исторической наукой. Необходимо обращение к психологии, этике, внимание к точке зрения жертв, к проблематике травмы, ответственности, частной и семейной памяти.
В рамках этого поворота речь идет о переосмыслении национальной политики в ключе, обозначенном еще Ренаном: не на основании общих побед и общей гордости, а на основании общих поражений и общей боли. Главной ценностью, на которой держится новый порядок вещей, оказывается человеческая жизнь, а не величие государства; его универсальным языком служат права человека, а центральным событием, собирающим горизонт этики и права, оказывается трагедия европейского еврейства[135]. Очевидно, в России полноценный поворот такого рода невозможен без отчетливой оценки репрессий на государственном уровне.
И травма советского террора, и способы ее проработки во многом отличны от европейской травмы Холокоста и ее осмысления. Но совпадение контекстов (при всем различии политической и исторической ситуации России и Европы) свидетельствует о существовании общей системы координат. Это означает, что опыт других стран по переосмыслению трудного прошлого применим и к России, пусть с важными поправками. Поняв это, легче определить, в каком направлении стоит действовать уже сегодня, не дожидаясь смены эпох и исторических формаций.
ВОСПИТАНИЕ НАРОДА
Возвращение имен — это не состоявшаяся реальность, а программа, направленная в будущее и настойчиво требующая работы. Особенно пронзительно это чувствуется на Барсучьей горе, массовом захоронении строителей Беломорканала. Его, как и куда более известный Сандармох, обнаружил карельский краевед и историк Юрий Дмитриев. Сандармох — одна из самых больших братских могил Большого террора. А Барсучья гора — одно из самых больших обнаруженных, но не признанных официально кладбищ в России. Это место даже внешне совсем не похоже на кладбище, и потому производит непосредственное и мощное впечатление. Это именно лес, усеянный ничем не примечательными на первый взгляд ямами и ложбинами. Только внимательно приглядевшись, начинаешь видеть, что эти ложбины правильной формы.
Обнаружили это место не люди, а барсуки. Поэтому Дмитриев назвал его Барсучьей горой; в документах оно фигурирует как «кладбище Сангородка Белбалтлага». Строя свои лабиринты, барсуки вытаскивают из-под земли на поверхность все, что мешает им на пути. У одной из таких нор в начале 2000‐х местный охотник обнаружил сначала кости, а потом и человеческий череп. Зная, что Дмитриев давно разыскивает в этих местах большое захоронение заключенных, строивших один из самых трудоемких участков Беломорканала, он позвал его приехать и посмотреть.
Исследование местности показало, что здесь похоронены не менее 800 человек. Дмитриев с помощниками установили в лесу несколько крестов и две таблички в память об убитых. И направили местным властям запрос о признании этого места мемориальным кладбищем. Запрос остался без ответа, место осталось нетронутым. Нога человека ступает здесь редко. Барсуки по-прежнему роют свои ходы, у нор видна свежая земля. Впечатление заброшенности усиливает сознание того, что таких захоронений в этих лесах не одно и не два.
Барсучья гора — хорошее объяснение того, почему для всех, кто всерьез занимается темой памяти, так важны имена, почему составление списков — важная часть архивной работы, а их чтение — самый сильный и понятный ритуал воскрешения памяти о репрессированных. В повседневной жизни мы живем в окружении людей с именами и биографиями. Почувствовать неотъемлемость этого, кажется, само собою разумеющегося человеческого достояния в полной мере можно, когда своими глазами видишь немоту и беспамятство безымянных могил и расстрельных ям. В такой ситуации составление списков имен, их публикация и чтение — действие одновременно символическое и буквальное. Это символический акт восстановления справедливости, и священнодействие, и естественный акт возвращения отнятого.
Когда понимаешь это, слова Дмитриева в одном из репортажей о Барсучьей горе перестают казаться экзальтацией: «Там столько людей. Никто не вспоминал их добрым словом долгие годы. И когда начинаешь их поминать, они откликаются. Каждый кричит: и меня вспомни, и меня! Сердце не выдерживает»[136]. С каждым годом на дни памяти 5 августа в Сандармох приезжает все больше людей. Много местных жителей. Именно местную память пытался разбудить Дмитриев, группируя имена в своих книгах не по алфавитному принципу, а по географическому:
Списки намеренно сгруппированы по месту проживания на момент ареста, — пишет он во введении к изданной в 1999 году книге «Место расстрела Сандармох». — Отыскивая дорогие для вас имена, вы вынужденно будете искать зачастую несуществующие сельсоветы и навсегда утраченные деревни и деревеньки. Помнить о своих корнях, знать историю своей семьи, своего рода — с этого начинается для каждого из нас история Родины[137].
С этим же связана очень важная для Дмитриева мысль, что именно память о предках, предполагающая знание мест, где они похоронены, делает разрозненную массу населения народом. Тогда абстрактное прошлое становится личной историей, а тем, кто связан с историей лично, трудно манипулировать. В его книге со списками соседствуют письма родственников с запросами, есть ли там имена их близких, и с благодарностью от тех, кому удалось найти своих. Это не только дань памяти, но и призыв к ее пробуждению.
Обилие в Сандармохе памятников расстрелянным немцам, грузинам, украинцам, полякам, евреям, татарам, вайнахам, установленных представителями национальных общин, — результат вполне сознательных и целенаправленных усилий Дмитриева. «Что я делаю в Сандармохе? — цитирует его в статье «Дело Хоттабыча» Шура Буртин. — Я воспитываю народ. Беру какой-нибудь народ, объясняю им: тут ваши братья убиты, похоронены. Вы же один народ, только вы живые, а они мертвые. Что же вы, сволочи, памятник им не поставите!»[138]
Воспитание сработало. Первые памятники запустили конкуренцию национальных гордостей: «они поставили своим умершим памятник, а мы чем хуже?» Затем соотечественники погибших начали все активнее протаптывать дорогу в Сандармох. Туда стали приезжать и официальные делегации. Народная и национальная памяти начали жить самостоятельно, независимо от усилий Дмитриева.
В этом и кроется причина недовольства, которое чем дальше, тем больше вызывала у властей деятельность Дмитриева. Дмитриев поставил перед собой задачу через пробуждение семейной памяти «перепрограммировать» национальную идентичность населения России. Задача, мягко говоря, нетривиальная, учитывая, что традиционно национальная идентичность в России программируется сверху. Реальная причина фабрикации дела Дмитриева именно в принципиальном конфликте модели существования, которую запускает его работа, с той, что насаждается политической системой современной России. Дмитриев пробуждает память в государстве, не готовом честно посмотреть на свое прошлое и осудить преступления против собственного народа.
РАСШИРЕНИЕ КОНТЕКСТА
Задача этой главы — не перечислить все действующие сегодня в России проекты, посвященные сохранению памяти жертв советского государственного террора, а описать основные принципы этой работы. Но из оставшихся вне нашего рассмотрения разнообразных проектов один все же необходимо упомянуть — это конкурс школьных сочинений «Человек в истории», организуемый обществом «Мемориал».
Конкурс проводится с 1999 года; его цель — пробудить у школьников интерес к истории своей страны через обращение к повседневности и судьбам обычных людей и собственной семьи. Участвовать в нем могут школьники и студенты 14–18 лет, работы могут готовиться самостоятельно или под руководством учителя. Конкурс сразу привлек огромное внимание школьников и учителей: в ответ на первое же объявление «Мемориал» получил 1800 сочинений[139]. И этот интерес за 20 лет не ослаб: в среднем на адрес конкурса приходит 1500 сочинений в год.
Председателями жюри конкурса были Сигурд Шмидт, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая. Среди его тем — «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои — чужие», существуют номинации для фоторабот, фильмов и мини-исследований. На сегодня в конкурсе приняли участие 50 000 школьников, подготовлено 40 000 работ; самые интересные из них вошли в сборники, которых к настоящему моменту опубликовано 25[140]. В последние годы конкурс не раз вызывал недовольство «патриотических» активистов и государства. Организаторов обвиняли в желании переписать историю, называли «национал-предателями», обливали зеленкой, чиновники препятствовали приезду школьников из регионов в Москву на церемонию награждения. В 2019 году появились сообщения о том, что участвовавших в конкурсе школьников и их учителей вызывали на беседу в ФСБ[141]. Примечательно, что при этом авторитетность конкурса мало у кого вызывает сомнения: региональные СМИ с гордостью сообщают о том, что их регион стал лидером по числу присланных на конкурс работ[142].
***
Несмотря на уникальность российского трагического опыта, способы проработки прошлого в России имеют много параллелей с другими странами. Все описанные в этой главе практики, столь органичные в российском контексте, на деле имеют либо прямых предшественников, либо аналоги в других странах.
Образцом для конкурса «Человек в истории» стал конкурс для школьников, который уже более 40 лет проводит под патронажем президента Германии немецкий Фонд Кёрбера[143]. В 1973 году промышленник и меценат Курт Кёрбер и федеральный президент ФРГ Густав Хайнеман договорились об организации конкурса, призванного пробудить у школьников и студентов интерес к собственной истории. На сегодня это крупнейшая такого рода инициатива в Германии: подготовлено более 30 тысяч проектов, в которых приняли участие более 140 тысяч человек[144].
Идея акции «Возвращение имен», по словам Елены Жемковой из общества «Мемориал», родилась у нее после участия в проходившей в одной из берлинских церквей мемориальной службе, посвященной памяти восьми человек, убитых при попытке пересечь Берлинскую стену. Знавшие этих людей при жизни говорили об убитых, эпизодах их жизни, вспоминая их и возвращая память о них тем, кто их не знал[145]. Аналогичная «Возвращению имен» практика — чтение имен жертв Холокоста, которое ежегодно проходит в музее Холокоста в Вашингтоне в Дни памяти 20–21 апреля. Эта практика существует с момента открытия музея в 1993 году и восходит к иудейской традиции поминовения имен умерших родных, близких и членов общины во время чтения молитвы Изкор в Судный день (Йом Киппур) и в другие религиозные праздники. Чтение начинается с момента открытия музея и продолжается до его закрытия. Принять участие в этом может каждый, кто в этот день находится в музее[146].
Проект «Последний адрес» представляет собой развитие идеи немецкого мемориального проекта «Камни преткновения». Практика установки «камней преткновения» рядом с местами, где жили жертвы нацизма, существует в Германии с 1992 года и за это время приобрела всеевропейский размах[147].
Наконец, наиболее близкий аналог деятельности Юрия Дмитриева и других исследователей, занимающихся поиском захоронений жертв советского террора, — работа по поиску и идентификации останков жертв Гражданской войны, которую с 2000 года в Испании ведет Ассоциация восстановления исторической памяти.
Серьезный разговор о проработке советского прошлого и ее перспектив невозможен без расширения контекста и обращения к опыту других стран, прошедших через диктатуру. Этому будет посвящена следующая часть нашей книги.
Мы видели в предыдущих главах, что вся история позднего СССР и постсоветской России в значительной степени описывается как история взаимодействия с наследием сталинизма — попыток освободиться от него и все новых и новых его реинкарнаций. Почему освобождение от сталинского наследия происходит в России с таким трудом? Почему сталинские практики все время оживают как в госуправлении, так и в способе, каким простые люди думают о своей стране и ее месте в мире?
В статье «Сталин умер вчера», одном из резонансных текстов перестроечной эпохи, философ Михаил Гефтер говорил, что Сталин и «сталинизм» продолжают оставаться фактами настоящего потому, что «мера его присутствия в нас и нашего освобождения от него» остаются не осмысленными и не определенными[148]. А потому для страны и общества, оказывающихся наконец в состоянии свободно определять свой путь, «Сталин умер вчера»: вопрос об отношении к Сталину — не проблема исторического характера, а насущный вопрос распоряжения наследством только что умершего предка. О том, что «человек советский» с набором характерных черт, сформировавшихся в советское время (и сталинское как наиболее важное для их формирования), не ушел в прошлое с окончанием советской истории, свидетельствуют исследования Юрия Левады и его последователей[149].
«Пустошь за спиною — опасность превыше других <…> — говорит в своей статье Михаил Гефтер: без живых мертвых нам не сделать сегодня ни шагу вперед». К абстрактному рассуждению о том, что, не проработав должным образом наследие советской диктатуры, Россия обречена на невозможность двигаться вперед, есть предельно конкретная иллюстрация. Это история Колпашевского яра, обрывистого берега Оби в 270 км к северо-западу от Томска. В годы Большого террора в расположенной в Колпашево тюрьме НКВД были расстреляны и зарыты недалеко от берега около 4000 человек. Местные жители не знали или не хотели знать об этом, пока в ночь на 1 мая 1979 года, после прошедшего по реке ледохода, накануне первомайской демонстрации Обь в очередной раз обрушила берег Колпашевского яра и вскрыла место массового захоронения. Участники демонстрации видели плывущие по реке трупы, а дети играли найденными костями. Власти приняли решение подогнать к берегу мощные буксиры и струей от их винтов размыть берег, чтобы уничтожить захоронение. Трупы вместе с землей осыпались в воду, их дробили винтами буксиров, а большую часть останков сносило вниз по течению. Специально организованные бригады вылавливали трупы, дробили на части, привязывали к ним кирпичи и металлолом и затапливали, а выброшенные на берег — тайно закапывали.
Этот эпизод с поразительной яркостью высвечивает два важнейших вывода. Во-первых, это только кажется, что память о преступлениях можно скрыть, спрятать от глаз, — рано или поздно река размоет берег и понесет непогребенные трупы на виду у всех. А во-вторых, молчаливо наблюдая за происходящим с берега и отказываясь формулировать собственное отношение к преступному прошлому, мы рано или поздно рискуем быть призваны топить эти трупы снова, на этот раз соучаствуя в преступлениях самым непосредственным образом.
ПРИЗРАКИ УБИТЫХ
Призраки прошлого не оставляют в покое живых не в аллегорическом, а в самом буквальном смысле. Самый впечатляющий пример — история села Тополиное в Якутии, описанная его уроженкой, а ныне британским антропологом Ольгой Ултургашевой[150]. Эвенская[151] оленеводческая деревня была основана в 1970‐х годах на месте одного из многочисленных лагерей Дальстроя, заключенные которого использовались для строительства ответвлений знаменитой Колымской трассы. Умерших не хоронили должным образом. Многие из них служили «наполнителем» для трассы, так что название «дорога на костях» — вовсе не фигуральное. С 1990‐х годов местные жители рассказывают о многочисленных явлениях призраков. Они называют их «аринкель», отождествляя со злыми духами умерших насильственной смертью. Контакт с ними, по местным верованиям, опасен для живых.
Здесь много аринкель, эти места прямо кишат ими, — рассказывает Ултургашевой оленевод Коля, один из жителей села. — В клубе постоянно видят двух русских зечек. Один раз они напугали моего брата Мишу, он играл в прятки и решил спрятаться на чердаке дома культуры <…> Когда он тихонько сидел в углу чердака, две эти женщины напугали его до смерти <…> В школе тоже живут несколько призраков зеков; они всегда ходят тут ночами, когда темно и никого нет <…> Рядом с моим домом есть амбар, и в этом амбаре живет призрак мальчика в телогрейке, такая жуть! <…> Потом еще старуха в бывшем помещении котельной, она пугает людей, ходит за ними по пятам <…> Еще один призрак-зек живет в квартире тети Изы, говорят, она в последнее время как бы свихнулась, потому что люди слышат, как она с ним разговаривает. Моя старшая сестра рассказывала, что тетя Иза сама почти превратилась в аринку, она в последнее время сильно пьет. А еще в гостинице видели русского старика-зека с белой бородой. Он однажды сильно напугал жену главы сельской администрации, когда они впервые сюда приехали. После того, как она увидела его во второй раз, она уехала отсюда и больше не возвращалась. И тот человек [глава администрации] тоже недолго тут пробыл[152].
Жители поселка не могут установить контакт с призраками. Даже приглашение православного священника, отслужившего панихиду по убитым, не избавило деревню от неприятного соседства. В последние годы жители покидают ее, переселяясь в города, — как из‐за бытовых трудностей, так и из страха перед аринкель.
История поселка Тополиное — не просто экзотический пример реализации метафоры о «призраках трудного прошлого», преследующих живых, напоминая о необходимости символически и буквально похоронить убитых, назвать преступления преступлениями, а преступников преступниками. Это также иллюстрация куда более прозаической проблемы. Непроработанное прошлое создает разрыв в социальной ткани, готовых механизмов уврачевания которого не существует. Как призраки умерших зеков не могут встроиться в привычные для местных жителей способы взаимоотношений с духами умерших, заставляя живых сниматься с насиженных мест, так память о массовом советском терроре в масштабе всей страны не получается встроить в существующие конструкции памяти. Она не образует обычный культурный перегной, но лежит непереработанным пластом, то и дело «прорываясь» в реальность сегодняшнего дня, как останки убитых в Колпашево.
СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ
Прежде чем говорить о том, как возможно уврачевание этих разрывов и «интеграция» такого прошлого, стоит точнее описать формы, в которых советское наследие присутствует в настоящем. Это тем более важно, что оно в значительной степени оказывается фундаментом окружающей нас сегодня реальности. «Советское наследие — не просто материал для историков. Это фундамент, на котором стоит страна», — писал в 2008 году политический обозреватель и публицист Максим Трудолюбов. В серии публикаций в газете «Ведомости» в 2008–2012 годах Трудолюбов и другие авторы подробно раскрывают этот тезис[153]. Советское и прежде всего сталинское прошлое влияет на современное российское настоящее посредством трех групп факторов: это материальная культура, система государственных и общественных институтов, и социальные механизмы.
Материальная культура
В огромной степени, как правило, не осознаваемой нами до конца, теми, кто мы есть, делает нас материальная культура, в которой мы выросли и живем. Расположение комнат и высота потолков в квартире, в которой человек рождается и вырастает, определяют его куда больше, чем политическая система, социальные практики и даже идеи и идеологии общества и государства, в котором он живет. Материальная культура, в которой живут граждане большинства стран постсоветского пространства, унаследована от СССР и продолжает нести на себе его родовые черты.
Мы живем в стране, где практически все действующие институты так или иначе связаны с СССР, — пишет Трудолюбов. — Они были там задуманы, спроектированы, организованы и отлажены. Это касается и «железа», и «программного обеспечения».
Железо — это здания, дороги, города, даже высота этажей и ширина коридоров. Практически все, что физически строилось в нашей стране с 1920‐х годов до наших дней, создавалось не в логике живых саморазвивающихся процессов, а в логике управления процессами сверху. Какой построить дом, решал не девелопер, которому нужно потом продать квартиры, а начальник, которому нужно вписать в план цифру и отчитаться. Отсюда проблемы передвижения людей с детскими колясками и проблемы с выносом тела из многоквартирного дома. Можно сказать, что советская система создавалась для человека, только не предполагала, что человек рождается и умирает.
<…> Человек в общественных местах в России постоянно попадает в ситуации, унижающие достоинство: вынужден ждать в тесных, душных местах, вынужден заполнять гигантское количество бумаг, доказывать, что он не виноват, даже если он не в суде, а в какой-нибудь регистрационной палате[154].
Именно в сталинские годы Россия из аграрной страны стала индустриальной. Были построены или стали бурно развиваться города, сменились способы производства и уклад жизни всех слоев общества. Окружающая сегодняшнего россиянина материальная действительность — в огромной мере наследие той эпохи. Это касается как явлений предельно общего характера (границы России со странами бывшего СССР, границы регионов, сама их структура), так и предельно индивидуального: традиционная планировка квартир на постсоветском пространстве восходит к эпохе сталинских строек.
Сами советские города, расположение их улиц и центральных площадей тоже спланированы в сталинское время. Моногорода — источник постоянного социального напряжения для большинства стран бывшего СССР — появились в результате соединения факторов, характерных именно для сталинской экономики[155]. Это требовавшая сверхусилий индустриализация, плановая экономика и гипертрофированный ВПК. Моногорода продолжают оставаться важной социально-экономической проблемой, оставленной сталинской индустриализацией в наследие современной России[156]. О том, какими проблемами чреваты такие территории, свидетельствует в числе прочего пример Донбасса.
Результатом факторов, сформированных в условиях массового строительства жилья во второй половине 1950‐х, стала специфическая «условная собственность» на квартиры, определяющая многое в современной российской политике и в массовой психологии. Этому, в частности, посвящена книга Максима Трудолюбова «Люди за забором»[157].
С материальными факторами тесно связаны социальные. Как отмечают Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди в книге «Сибирское проклятие», одним из препятствий для выстраивания демократии в России до сих пор оказывается структура расселения, определявшаяся тоталитарной логикой индустриализации.
Несуразное размещение населения в пределах географического и термального пространства и малочисленные физические и экономические связи между населенными пунктами являются самыми серьезными преградами на пути будущей эволюции России. Пространственное распределение населения России и, вследствие этого, его разобщенность являются не только экономическими, но и политическими неблагоприятными факторами. Физическое, индивидуальное общение среди населения создает естественную основу личных и групповых связей и, разумеется, экономического, политического и социального единства. Расстояние — помеха для демократии[158].
Система институтов
Родом из «сталинского проекта» почти все современные российские государственные институты. Прежде всего — сама вертикальная система управления, при которой правительство — скорее набор функционеров, выполняющих спускаемые сверху директивы, чем политический субъект. Именно Сталин отточил систему личной власти, сделав все окружающие его институты вторичными и бессмысленными (характерно, что в неформальную «четверку», а с 1945 года в «пятерку» членов сталинской руководящей группы не входил Михаил Калинин, занимавший должность главы государства). Система партийного строительства, при которой партия — не представительский институт, а идеологический и имитационный конструкт, отточена десятилетиями главенства КПСС.
Оттуда же родом и институт выборов, которые должны лишь создавать видимость народовластия или легитимировать существование партий, а само наличие альтернативы на выборах воспринимается как источник опасности. (Первые в истории СССР всеобщие «альтернативные» выборы в Верховный совет СССР на основе новой советской Конституции в 1937 году стали «одной из самых грандиозных сталинских политических афер», послужив инструментом широкой легитимизации партийно-государственной диктатуры[159], а «избирательная кампания» оказалась дополнительным поводом для «зачистки» общества от неблагонадежных элементов[160].)
Подчиненный исполнительной власти суд, главенство представлений о «социалистической законности» (примат «государственной целесообразности» над правами граждан), карательная судебная система, которую хронически не получается реформировать, — все это наследие сталинской модели[161]. Оттуда же родом и российские силовые структуры с их сверхцентрализацией и раздутыми штатами при крайне низком КПД. Сталинским наследием являются и широчайшие полномочия прокуратуры, которая не только выступает от имени государства на уголовном процессе, но и осуществляет «общий надзор», не занимаясь при этом защитой прав граждан. Это облегчает ее воздействие на судебный процесс, в том числе в политических и экономических делах.
Рост числа политически мотивированных репрессий после 2014 года — результат не только сознательного поворота власти к репрессиям, но и самой логики устройства правоохранительной системы, когда показательная активность — лучший способ для ведомства засвидетельствовать свою значимость в структуре государства. Волна свидетельств о пытках и издевательствах в российских колониях летом 2018 года в очередной раз напомнила, что современная система исправления наказаний тоже несет на себе «родимые пятна» ГУЛАГа[162]. Она «осталась государством в государстве — закрытым, провоцирующим сотрудников на жестокость и отношение к заключенному как к трудовому ресурсу, а не к личности»[163].
Наконец, огромное число родовых черт советской политической полиции сохраняет ФСБ, сотрудники и руководители которой прямо заявляют, что считают свое ведомство наследником КГБ — НКВД — ВЧК. Это совершенно закрытое ведомство, неподконтрольное ни обществу, ни гражданским властям. Судя по знакам, что время от времени доносятся из этого «черного ящика», и сегодня многие в этой организации, как и в сталинские годы, озабочены не безопасностью страны и соблюдением законов, а борьбой за расширение своего влияния.
Институциональное наследие не ограничивается госуправлением и ролью силовых структур. Огромная часть действующих сегодня в России институтов родом из советского времени. Приведем только один пример. Сегодняшняя система здравоохранения с ее административно-командным устройством, фрагментированностью, сословностью и госкорпоративностью — прямая наследница советской «системы Семашко», «для вида прикрытой фиговыми листочками страховой модели»[164]. Много лет буксующие попытки выстроить новую работающую страховую модель связаны как раз с необходимостью демонтажа советского наследия, до сих пор в полной мере не осуществленного[165].
Социальные механизмы
Третья группа влияний — социальное наследие сталинизма. Главный пережиток советской модели — государственная монополия на коллективность. Именно она объясняет панический страх властей перед возникновением горизонтальных связей и способностей к гражданскому взаимодействию. Именно отсюда болезненная реакция власти на несистемную оппозицию и любую несистемную активность вообще, борьба с НКО и партийным строительством «снизу», попытки контролировать националистов и футбольных фанатов. Попытка удержать госмонополию на коллективность объясняет и стремление во что бы то ни стало ответить на «Болотную» — «Поклонной», на шествие против войны на Украине — концертом в честь присоединения Крыма и т. д.
В такой среде государству не нужно заново выстраивать инфраструктуру тоталитаризма — достаточно поддерживать привычную социальную дезинтеграцию, выпалывая ростки чего-то нового по мере их возникновения, а в случае опасности — провоцировать социальные разделения, настраивая разные части общества друг против друга. Именно в этой среде столь успешным оказывается метод манипулятивного сплочения общества против внешних и внутренних врагов: основа идеологии Большого террора. Общество не умеет солидаризироваться вокруг ценностей, но хорошо сплачивается против общего врага. Причем список врагов также унаследован напрямую из сталинского прошлого. Помимо Запада, это любые иные внутри общества — от «инородцев» (ненависть к ним нагнеталась и эксплуатировалась в ходе «национальных» спецопераций 1937–1938 годов и депортаций военного времени) до «пятой колонны» инакомыслящих.
Именно в результате проводившейся поколениями целенаправленной работы по дезинтеграции большая часть общества не умеет руководствоваться ценностями в социальной жизни. Ценности слишком часто дискредитировались, их носителей убивали или заставляли от них отречься. Поэтому в обществе отсутствуют представления о ценностях как о константе, о том, чем можно руководствоваться в жизни. Сами ценности не забыты, они просто изгнаны из социально-политической реальности в сферу личных отношений. В ситуации отсутствия убеждений и ценностей многим остается только одно — поддерживать силу, неважно, «светлую» или «темную».
Прямое следствие подобного положения вещей — предпочтение на уровне массового сознания идеи «сильного государства» перед идеей ценности каждого отдельного человека. Выбор из этой пары — необходимое условие определения приоритетов развития государства и общества. Сделать его россиянам мешает не принадлежность к «либеральной» или «государственнической» системе взглядов, а гораздо более трудно поддающиеся рационализации психологические механизмы.
Прежде чем обращаться к анализу опыта шести представленных в этой части стран, стоит объяснить их выбор и то, что осталось в результате этого выбора вне рассмотрения. В XX и начале XXI века путь от диктатуры к демократии с большим или меньшим успехом проделали десятки стран. Поэтому любое предпочтение нескольких из них будет представлять собой выборку, к репрезентативности которой возможны вопросы.
Задачей этой книги не было дать сколько-нибудь исчерпывающую картину работы с прошлым в мире. Это попросту невозможно: над этой задачей работают целые исследовательские направления; в рамках одной только серии Palgrave Macmillan Memory Studies, наиболее авторитетной в этом направлении, за неполные 10 лет вышло более 70 книг.
Представленная ниже выборка служит нескольким целям. Во-первых, показать наиболее яркие, «модельные» примеры проработки прошлого, максимально непохожие друг на друга, продемонстрировать весь спектр подходов, понимая, что переосмысление прошлого может быть запущено как «извне» (Германия), так и «изнутри» (Аргентина). Во-вторых, посмотреть на страны, опыт которых важен параллелями с российской ситуацией: будь то готовность Испании заблокировать разговор о преступлениях прошлого ради движения в будущее или горделивое убеждение Японии в своем «особом пути» и нежелание отказаться от разрушительных амбиций. В-третьих, проанализировать ситуацию, когда работа с прошлым была поиском путей примирения разделенного общества. Тут важен пример ЮАР, образец работы «комиссии правды и примирения». В-четвертых, посмотреть на страны Восточной Европы, чья работа с коммунистическим прошлым имеет много параллелей с Россией (опыт Польши). Наконец, список примеров был бы неполон без азиатских стран, тем более что их опыт работы с прошлым часто несопоставим с европейским (и тут снова важен пример Японии, одновременно и похожий, и очень непохожий на Россию).
Некоторые представленные в этой части примеры могут быть обобщены до моделей, характерных для целых регионов. Аргентина в концентрированном виде представляет латиноамериканский опыт (здесь также очень важны Чили и Бразилия), Польша — восточноевропейский, а Япония — азиатский.
Но даже такой выбор оставляет за пределами рассмотрения ряд важных примеров и направлений. Среди них Франция с проблемами отношения к колониальному прошлому и к сотрудничеству с нацистами в годы режима Виши[166]. Там возник интересный опыт проработки прошлого, включая совместный французско-германский учебник истории, учитывающий взгляд обеих стран на трудные моменты общей истории[167]. Заслуживает внимания и Италия, где отношение к фашизму исторически гораздо сложнее и нюансированнее, чем отношение к нацистскому прошлому в Германии[168]. Отдельной темой там становится и переосмысление отношения общества к левому террору 1970‐х годов[169]. Австрии роль жертвы Второй мировой позволила сгладить разговор о собственной ответственности за преступления нацистов[170].
Очень важен для постсоветского пространства и опыт разговора об ответственности за участие в Холокосте в странах Балтии. Тут показателен резонанс, возникший вокруг книги Руты Ванагайте «Свои»[171] в Литве и за ее пределами. Интересен опыт работы Великобритании с трагической памятью о Второй мировой и о Холокосте, одновременно дистанцирующийся от европейского опыта и в то же время основывающийся на общих с ним принципах[172]. Наконец, сложнейший конгломерат тем представляет собой память о трудном прошлом в США. Верхний слой — культура проработки рабовладельческого наследия, по степени разработанности приближающаяся к культуре памяти о Холокосте. В гораздо меньшей степени разработана тема колониального наследия — отношение к индейцам, гавайцам, эскимосам и алеутам; еще одна тема — ответственность за военные агрессии XX–XXI веков, ядерные бомбардировки Японии, войну во Вьетнаме, Ираке и Афганистане[173].
Особую трудность представляют случаи преодоления преступного прошлого, стоящие особняком из‐за масштаба преступлений и региональной специфики. Среди них преодоление последствий геноцида в Камбодже в 1975–1979 годах[174], в Руанде в 1994 году[175] и войн, сопровождавших распад Югославии в 1991–2001 годах[176].
Крайне интересным для России было бы рассмотрение китайской мемориальной политики и механизмов правосудия переходного периода[177]. Страна пережила коммунистическую диктатуру, голод 1959–1961 годов, в значительной степени спровоцированный социально-политическими факторами (число его жертв оценивается в 15–30 млн человек), и аналог Большого террора в период «культурной революции» 1966–1976 годов (число убитых оценивают в миллионы людей, число пострадавших — до 100 млн), а после, не отказываясь от прежней модели управления, успешно встроилась в мировую экономику. Однако Китай трудно назвать примером перехода от одного политического строя к другому — а потому он по определению оказывается вне рамок рассмотрения этой книги.
Один лишь обзор перечисленных случаев мог бы составить целое исследование. Но их наиболее важные черты по возможности используются в третьей части этой работы.
Поскольку одна из задач этой книги — стимулировать дискуссию об опыте работы с трудным прошлым в других странах применительно к России, к каждой страноведческой главе прилагается список наиболее важной научной литературы. Эти списки, помещенные в приложении, могут помочь неспециалистам, желающим продолжить ознакомление с темой.
1. Аргентина, или матери и бабушки против диктатуры
В декабре 2017 года в штаб-квартире аргентинской правозащитной организации «Бабушки площади Мая» прошла пресс-конференция, посвященная событию, очень похожему на рождественскую сказку. После 40 лет поисков 86-летняя Бланка Диас де Гарньер воссоединилась со своей внучкой Адрианой, родившейся в заключении и воспитывавшейся в приемной семье. Ее родители, студенты и члены левой студенческой организации, были среди десятков тысяч похищенных и убитых военной хунтой, находившейся у власти в 1974–1983 годах. Адриана сделала тест ДНК за несколько месяцев до этого, но только в декабре в базе данных Национальной комиссии по идентификации (CONADI) нашлось соответствие. Адриана стала 126‐й идентифицированной из более чем 500 детей, которых хунта отняла у жертв и отдала на усыновление семьям военных и номенклатуры. Кровная связь диктатуры и ее жертв — характерная особенность аргентинского трудного прошлого.
Аргентинская модель преодоления прошлого — один из примеров сравнительно успешного перехода от диктатуры к демократии (пусть относительной и несовершенной), который состоялся под давлением общества.
ПРЕДЫСТОРИЯ: ХУНТЫ, ПЕРОН И ПЕРОНИЗМ
Для Аргентины последних двухсот лет военные хунты были едва ли не более привычным типом правления, чем любые другие. С момента обретения независимости в начале XIX века и до середины XX большую часть времени страна находилась под властью военных. Правление Хуана Доминго Перона, самого известного из аргентинских президентов, соединяло в себе черты военной диктатуры и популизма. Перон участвовал в военном перевороте 1943 года, после чего завоевал популярность у аргентинских рабочих на посту главы созданного им Департамента труда и социального обеспечения и стал президентом, получив на выборах 54% голосов. Проводя полуавторитарную политику, стесняя свободу слова и ставя под контроль суды и профсоюзы, Перон в то же время способствовал вовлечению в политику рабочего класса. Будучи авторитарным популистом и опираясь на поддержку большинства, Перон стал проводником социальных изменений. Его жена Эва Перон, знаменитая Эвита, обеспечивала поддержку режима женщинами и простым народом и, по сути, тоже была авторитарным популистом: например, объявила войну независимым благотворительным фондам, когда они стали угрожать ее влиянию. На следующих выборах (1951) Перон получил 64%, причем во многом благодаря поддержке женщин, получивших право голоса.

Ил. 1. Президент Бабушек площади Мая Эстела Карлотто (в центре) с родственницами одной из найденных активистами «внучек», чьи родители были убиты в годы правления Хунты. Буэнос-Айрес, 2017 год

Ил. 2. Хуан и Эва Перон на балконе Каса Росада, президентской резиденции в Буэнос-Айресе, 1950 год. Прощальная речь, произнесенная Эвой с этого балкона в 1951 году, стала прообразом знаменитой песни «Не плачь обо мне, Аргентина» из мюзикла «Эвита» Эндрю Ллойда Уэббера
Пока военных все устраивало, они вели себя тихо. Но в 1952 году на фоне экономических трудностей Перон стал терять поддержку. В этом же году умерла Эвита. Военные отстранили Перона от власти, и он отправился в изгнание в Испанию (к Франко). Военная хунта правила в Аргентине в 1955–1973 годах.
В 1973 году Перон возвращается и получает власть, но оказывается не в состоянии объединить расколотое общество. Во время встречи его в аэропорту Эсэйса, в которой участвовали до 3,5 млн человек, произошли столкновения между правыми и левыми перонистами (спровоцированные праворадикалами), в результате стрельбы 13 человек были убиты, более 300 ранены.
«ГРЯЗНАЯ ВОЙНА» 1976–1983 ГОДОВ: МАССОВЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
После смерти Перона в 1974 году власть формально перешла к его третьей жене Исабель. По сути, за власть конкурировали правая и левая фракции перонистской партии. Военные сочли, что Исабель Перон не в состоянии контролировать ситуацию, и под предлогом спасения страны от неминуемой гражданской войны 24 марта 1976 года низложили правительство. Исабель была отправлена в заключение в Патагонию.
Переворот был назван «Операция Независимость» (Operativo Independencia), а последующая диктатура стала именоваться «Процессом национальной реорганизации» (El Processo). Под предлогом борьбы с терроризмом (прежде всего, леворадикальной группировкой Montoneros) и левой оппозицией (все они именовались «поджигателями», subversivos) руководители хунты развернули террор, небывалый даже по масштабам видавшей виды Латинской Америки.
Отличительной чертой аргентинских репрессий был их тайный характер. Открытой борьбе с неугодными хунта предпочитала скрытые репрессии. Аргентинская «грязная война» не создавала даже видимости использования юридических механизмов вроде судов или приговоров. Люди просто исчезали, арестованные военными у себя дома, на рабочем месте или на улице. Характерным термином, обозначающим жертв хунты, стало слово «los desaparecidos», буквально «исчезнутые», — то есть люди, формально пропавшие, а на деле похищенные. Их подвергали допросам, пыткам и «перевоспитанию» в созданных по всей стране подпольных тюрьмах (общее число таких тюрем достигало 500). Самая крупная из них располагалась в Школе механиков военно-морских сил, или ESMA (La Escuela de Mecánica de la Armada), где погибла шестая часть всех похищенных в годы диктатуры. Лишь небольшое число «исчезнутых» выжили. Людей расстреливали, заливали бетоном, накачивали наркотиками и выбрасывали в море с самолетов. Эти «полеты смерти» стали таким же маркером «грязной войны», как газовые камеры — Холокоста. Детей, рождавшихся в тайных тюрьмах, разлучали с матерями и отдавали в семьи военных и номенклатуры.

Ил. 3. Члены аргентинской хунты, 1976 год
Отправляя людей в небытие, режим работал на смягчение возможного сопротивления общества. Так сказал, публично отвечая на обвинения в похищении людей, один из предводителей хунты, генерал Хорхе Видела: «Они же не живы и не мертвы, они исчезли». Но это же делало невозможным забвение пропавших без вести, «консервируя» боль близких и страх всего общества.
Сам характер преступлений, характер государственного террора делает забвение невозможным, — говорит французский историк Бруно Гроппо, автор книги «Невозможность забвения», посвященной памяти о государственном насилии в странах Латинской Америки[178]. — Похищения людей, которые исключали возможность семейного или общественного траура, поместили их в своего рода вечное настоящее. Такой репрессивный метод был очень эффективен в краткосрочной перспективе: он внушал обществу ужас, парализовывал его активность. Однако одним из последствий этого метода в долгосрочной перспективе (возможно, оно не было предвидено самими военными) оказалась невозможность раз и навсегда перевернуть эту страницу прошлого. Ведь в каком-то смысле похищенные остались вместе с живущими и продолжают, как в Аргентине, так и в Чили, свое особое существование в социальном пространстве[179].
Окончательных оценок числа «исчезнутых» не существует. Число официально подтвержденных случаев составляет около 12 тысяч человек, но эти данные всеми признаются неполными. Международные правозащитные организации оценивают число жертв хунты (смертельных случаев) в 20–30 тысяч человек.
МАТЕРИ И БАБУШКИ ПЛОЩАДИ МАЯ
Невозможность примириться с неизвестностью относительно пропавших близких привела к созданию уникального общественного движения, способствовавшего краху аргентинской диктатуры. 30 апреля 1977 года 13 женщин вышли на площадь Мая (названную так в честь Майской революции 1812 года) в Буэнос-Айресе, чтобы перед президентским дворцом выразить протест против похищения их детей. Они назвали себя «Матери площади Мая» (вскоре появились «Бабушки площади Мая» — движение, позже сосредоточившееся на поиске и идентификации детей похищенных). Довольно быстро такие марши стали еженедельными, а женщины в белых платках и с портретами похищенных детей — символом протеста. Сначала женщин было немного, они прохаживались по площади группками по двое, чтобы их не арестовала полиция. Стремясь привлечь внимание к своему протесту, они стали публиковать объявления о пропаже детей в центральных газетах.

Ил. 4. Двенадцать человек, стоявшие у истоков движения Матерей площади Мая, похищенные и убитые в декабре 1977 года
Перед появлением первого такого объявления были похищены 12 человек, включая основательницу движения Асусену Вильяфлор и ее ближайших помощников, в том числе двух французских монахинь. Позже станет известно, что похищение организовал молодой военный Альфредо Астис по прозвищу «Белокурый ангел смерти» (в Латинской Америке склонны к такого рода драматизму), один из символов военной диктатуры. Спустя некоторое время несколько неопознанных тел были найдены в море; данные аутопсии показали, что они умерли от удара о воду. Этот случай стал первым свидетельством, что «полеты смерти» — не выдумка. Тела были похоронены в братской могиле и идентифицированы только в 2005 году.

Ил. 5. Шествие «Матерей» на площади Мая в Буэнос-Айресе, 1980‐е годы
Тем не менее уже через год в шествиях по площади Мая участвовали несколько сот человек. В декабре 1981‐го «Матери» организовали первый Марш протеста, пройдя по центральной улице Буэнос-Айреса в белых платках и с портретами своих похищенных детей и близких. С тех пор этот марш стал ежегодной (и до середины 2000‐х годов — самой многолюдной) общественной акцией Аргентины. Сегодня «Матери площади Мая» — одна из самых влиятельных в мире правозащитных организаций. До сих пор каждый четверг в 3:30 пополудни на площади можно видеть пожилых женщин, большинству из них уже за 80 лет, в узнаваемых белых платках и с портретами «исчезнутых».
Упорству Матерей и Бабушек помогала поддержка правозащитных организаций внутри страны и за границей, где они стали приобретать все большую известность. С конца 1970‐х подобные движения появляются в Чили и Сальвадоре — странах, чьи режимы тоже практиковали похищения людей. В 1980 году скульптор, художник и гражданский активист Адольфо Эскивель, создатель одной из организаций, занимавшихся помощью родственникам «исчезнутых», и сам попавший за это в тюрьму, получает Нобелевскую премию мира. В этом же году в самой многотиражной аргентинской газете «Кларин» появляется открытое письмо с требованием к руководству хунты расследовать и обнародовать факты преследования и похищения людей. Среди подписавших известные писатели Хорхе Луис Борхес и Эрнесто Сабато и будущий президент Аргентины Рауль Альфонсин. Хунте не удается сохранить репрессии в тайне, давление на ее лидеров изнутри страны и снаружи растет.
ПАДЕНИЕ ХУНТЫ И НАЧАЛО ТРАНЗИТА: CONADEP, «NUNCA MÁS», СУДЫ НАД ЛИДЕРАМИ ХУНТЫ
В 1982 году на фоне экономических трудностей и роста недовольства граждан генералы решили вернуть себе популярность при помощи «маленькой победоносной войны», вторгшись на Фолклендские острова, находившиеся под британским протекторатом. Но Британия решила защитить бывшую колонию, хунта проиграла войну, ее поддержка населением катастрофически упала. Военным оставалось только попытаться возглавить процессы демократизации, осуществив контролируемую передачу власти под гарантии неприкосновенности для себя.
Для этого 22 сентября 1983 года руководители хунты приняли «Закон национального умиротворения», гарантировавший военным защиту от преследований за преступления, совершенные с 25 мая 1973‐го по 17 июня 1982 года. Параллельно было издано секретное распоряжение уничтожить все документы, свидетельствующие о репрессиях.
В октябре 1983 года президентом был избран Рауль Альфонсин, в годы «грязной войны» находившийся в открытой оппозиции хунте. Одним из первых его решений стала отмена «Закона национального умиротворения» и постановление о создании Национальной комиссии по делу о массовом исчезновении людей (CONADEP). В ее состав вошли, в частности, писатель Эрнесто Сабато, кардинал Хайме де Неварес, раввин Маршалл Мейер, президент Университета Буэнос-Айреса Рикардо Коломбрес. CONADEP стала одной из первых комиссий подобного рода в мире[180] и одной из наиболее успешных. На ее примере были проработаны принципы, ставшие основополагающими для других такого рода комиссий[181]. Как говорил Альфонсин, задачей комиссии было «не столько наказать, сколько предотвратить; гарантировать, что случившееся в Аргентине не повторится в будущем; что никогда больше госслужащие не будут забирать граждан Аргентины ночью из их домов, пытать или убивать».
Результаты работы комиссии оцениваются по-разному. Ее члены находились в стесненных обстоятельствах. Им было выделено всего 180 дней, а люди, еще напуганные, боялись свидетельствовать о преступлениях хунты. В ходе работы Комиссия собрала свидетельства о 340 тайных тюрьмах, 1300 людях, содержавшихся в заключении перед исчезновением, и о 8960 исчезнувших. Эти цифры были крайне фрагментарными, но они стали основой дальнейшей работы правозащитников и активистов. И тем не менее доклад комиссии «Никогда снова» (Nunca Más), опубликованный в 1985 году, произвел невероятный фурор, стал бестселлером и фактически разрушил стену молчания, окружавшую террор хунты.
Собрав свидетельства правозащитных организаций, — отмечают социологи Алехандро Бэр и Натан Шнайдер в книге, посвященной глобальным изменениям культуры памяти во второй половине XX века, — CONADEP выпустила доклад с хрестоматийным названием «Никогда снова», прямо отсылающим к истории Холокоста и нацизма (он воспроизводит надпись из мемориала на месте концлагеря Дахау). Этот доклад, будучи одним из первых докладов комиссии правды в Латинской Америке и в мире, стал моделью для признания государствами ответственности за насилие против собственных граждан. Она будет распространена на другие страны. Аргентина становится образцом для глобального процесса, который Кэтрин Сиккинк назвала «цепной реакцией правосудия», — глобальной революции в отношении к признанию ответственности. Она включает элементы правосудия переходного периода и мемориальные инициативы, которые повлияли на другие страны, также вынужденные преодолевать последствия государственного террора и военных диктатур[182].
Этот доклад стал первым шагом и образцом для инициатив по собиранию фактов и сохранению памяти о преступлениях, которые стали с тех пор множиться на глазах по всему миру; в этом смысле его значение трудно переоценить.
Параллельно с публикацией доклада Nunca Más идет работа над коллективной памятью в культуре. В 1985 году выходит фильм Луиса Пуэнсо «Официальная версия», рассказывающий о национальной трагедии на примере истории конкретной семьи. Число политических кинопремьер в 1984 году было так велико (на экраны вышли в числе прочего «Зимние квартиры» Лаутаро Муруа), что его выход переносят на начало следующего года. «Официальная версия» получает Оскара и выводит разговор об аргентинском государственном терроре на международный уровень.

Ил. 6. Эрнесто Сабато передает Раулю Альфонсину доклад Nunca Más
В 1986 году Эктор Оливера снимает фильм «Ночь карандашей», основанный на реальной истории группы студентов, которых сажают и пытают в тайных тюрьмах. Фильм показывают по национальному телевидению, и его смотрят сразу около 3 млн человек. Поскольку происходившее в тайных тюрьмах практически не документировалось, а сохранившиеся документы были по большей части уничтожены военными, этот фильм сам стал играть роль документа, моделирующего коллективную память. Кинематографическая картинка заместила в сознании зрителей отсутствующий «видеоряд» целого куска прошлого.
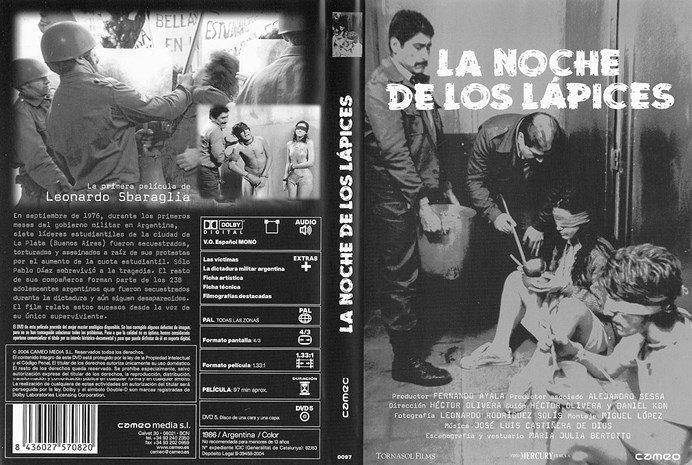
Ил. 7. Обложка компакт-диска фильма Эктора Оливеры «Ночь карандашей»
В 1985–1986 годах последовали суды над лидерами хунты. Эти процессы — едва ли не единственный после Нюрнберга пример суда над лидерами режима, правившего целой страной. В отличие от Нюрнберга, эти процессы были организованы не внешними силами, а демократически избранной властью. Обвинения были предъявлены 481 (по другим данным, 600) военному и полицейскому. Однако на скамье подсудимых оказалось всего девять человек, пятеро из них были приговорены к разным срокам заключения, от 4 лет до пожизненного, а четверо освобождены.
Ход процесса еще раз подтвердил важность доклада Nunca Más для аргентинской коллективной памяти. 18 сентября 1985 года обвинитель произнес речь, финал которой звучал так: «Заканчивая эту обвинительную речь, я хотел бы отказаться от любых претензий на оригинальность. Я хотел бы произнести слова, которые уже принадлежат всему аргентинскому народу. Ваша честь, „Никогда снова!“»[183]
В это время «Матери площади Мая» и аналогичные движения в других странах Латинской Америки становятся лидерами гражданского сопротивления и обретают всемирную популярность. В 1986 году гражданский активист и лидер ирландской рок-группы U2 Боно посвящает Матерям песню «Mothers of the Disappeared» с самого успешного альбома группы «The Joshua Tree». Год спустя британский певец Стинг посвящает им песню «They Dance Alone». В 1989 году представительницы движения поднимаются на сцену, чтобы спеть эту песню вместе с Боно на том самом стадионе в Сантьяго, который служил аналогом тюрьмы ESMA для чилийского диктатора Аугусто Пиночета.
МАЯТНИК ДВИЖЕТСЯ НАЗАД: АМНИСТИИ ПРЕСТУПНИКОВ И ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ ВОЕННЫХ
Суды над лидерами хунты были призваны продемонстрировать обществу и военным, что государство избирает путь верховенства права, а возврат к прошлому невозможен. Однако военные были готовы только к декларативным жестам такого рода, но отнюдь не к реальной ответственности и не к потере влияния. Когда стало понятно, что процессы не ограничиваются простыми декларациями, но запускают реальные процессы демократизации, в рядах военных усилилось недовольство. Под их давлением в декабре 1986 года Конгресс принимает «Закон о конечной точке» (Lei de Punto Final). Он определил 60-дневный срок для жалоб на военных и полицию, после которого обвинения им больше не могут быть предъявлены.

Ил. 8. Государственные обвинители Луис Морено Окампо и Хулио Страссера на суде над лидерами хунты, 1985 год
Это не успокаивает военных, организовавших в следующие три года несколько восстаний, участники которых (их называли «цветнолицыми» — carapintadas) требовали прекращения судебных преследований военных и увеличения военного бюджета. Были арестованы только считанные единицы из нескольких сотен военных, участвовавших в восстаниях, а позднее некоторые из их организаторов даже стали делать политическую карьеру (Альдо Рико выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1995 года). В этих условиях в 1987 году Конгресс принимает «Закон о необходимости подчинения» (Lei de Obediencia Debida), освобождающий от ответственности рядовых членов армии и полиции, поскольку они исполняли приказы.
В июле 1989 года, оказавшись не в состоянии справиться с экономическим кризисом и противостоять националистам, Рауль Альфонсин уходит в отставку. Новый президент Карлос Менем (1989–1999), соратник Перона, проведший годы правления хунты в тюрьме, начинает проводить политику «национального примирения». Одной из ее сторон оказываются символические шаги, направленные на исцеление памяти о гражданских войнах XIX века (в 1989 году по его распоряжению в Аргентину из Франции перевозятся останки легендарного «аргентинского Бисмарка» Хуана Мануэля де Росаса). Такими действиями Менем пытается объединить страну, не касаясь напрямую памяти о преступлениях хунты. Другой стороной его политики было умиротворение военных: вскоре после избрания он распоряжается помиловать осужденных лидеров хунты и «цветнолицых».

Ил. 9. Матери площади Мая протестуют против чрезмерно мягких приговоров лидерам Хунты. Буэнос-Айрес, 1985 год

Ил. 10. Шествие у дома Хорхе Виделы, 2006 год
Политика Менема оказывается эффективной лишь на короткое время. Восстания военных прекращаются, однако общественное неприятие политики забвения преступлений хунты нарастает.
ОБЩЕСТВО БЕРЕТ ТРАНЗИТ НА СЕБЯ: СУДЫ ПРАВДЫ, ESCRACHOS, МАРШИ МАТЕРЕЙ И БАБУШЕК
К началу 1990‐х Аргентина оказалась в противоречивой ситуации. С одной стороны, общество начинает говорить о государственном терроре, долго скрывавшиеся факты выходят наружу, виновные оказываются на скамье подсудимых, а правозащитные организации обретают голос и силу. С другой — государственное руководство при молчаливом согласии значительной части общества решает остановиться на полпути и «не раскачивать лодку».
В этих условиях активная часть общества начинает искать способы добиться от государства справедливости. Одним из таких способов становятся так называемые суды правды (juicios por la verdad). Лишенные законами 1986 и 1987 годов возможности привлекать виновных к полноценной уголовной ответственности в суде, родственники репрессированных апеллируют к «праву на правду»: праву знать, что случилось с их близкими. Отдельные суды принимают такие иски к производству. Эти процессы оказываются еще одним способом получения информации о преступлениях хунты. Судьи пользуются правом вызывать и допрашивать свидетелей, обязывать военных предоставлять засекреченные данные. А сами военные, не боясь уголовной ответственности (ведь их вызывают в суд в качестве свидетелей), оказываются готовы рассказать о том, о чем раньше молчали. «Суды правды» были относительным успехом общества и правозащитников. Они не позволили осудить виновных, но помогли привлечь новое внимание к теме репрессий и подготовить фактологическую базу для позднейших процессов.

Ил. 11. «Майская пирамида» с портретами репрессированных перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе
Любопытной формой сотрудничества правозащитного НКО с государством оказывается формирование в 1992 году Национальной комиссии по праву на идентификацию (той самой CONADI, которая идентифицировала ДНК Адрианы де Гарньер в 2017 году). Это стало результатом договоренности между президентом Менемом и Бабушками площади Мая. Государство обязалось обучить предложенных Бабушками кандидатов, чтобы они в контакте с Национальным банком генетических данных помогали правозащитникам в поисках и идентификации похищенных детей. Комиссию возглавила Клаудиа Карлотто, дочь главы Бабушек[184].
Другой способ привлечения виновных к ответственности «через голову государства» был изобретен организацией HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio — «Сыновья (и дочери) за идентификацию и правосудие против забвения и молчания»), возникшей в 1995 году. Члены организации стали устраивать так называемые «escraches» — массовые театрализованные шествия к местам, где живут или работают избежавшие наказания преступники с целью максимально их «расчехлить». Активисты использовали музыку и пантомиму, граффити, световые и видеоустановки, транслировали на импровизированные экраны и стены домов записи судов, читали стихи и пели песни[185]. Благодаря «escraches» гражданские акции в Аргентине обогатились элементами традиционных для местной культуры карнавальных шествий и публичных действ, добавив им силы и убедительности.
Общество было «разогрето» дискуссиями о прошлом, когда тема памяти о преступлениях нашла поддержку с совершенно неожиданной стороны. В 1995 году достоянием общественности становятся рассказы офицера аргентинской армии Адольфо Силинго, служившего в ESMA: о пытках заключенных и о «полетах смерти». Эти признания разрушили круговую поруку молчания военных и породили цепную реакцию новых свидетельств («эффект Силинго»).
Целью Силинго было не покаяться в преступлениях; им двигали не муки совести. Он стремился защитить честь военных, заставив командование признать ответственность за террор времен диктатуры. Убежденный антикоммунист, согласившийся служить в ESMA ради борьбы с «подрывными силами» и лично выбросивший из самолета 30 человек, Силинго в какой-то момент стал терять веру в правоту своего дела. Хотя даже тюремные священники отпускали военным грехи, называя «полеты» «христианской формой смерти». Он уволился из армии, но устроиться в мирной жизни так и не смог. Последней каплей, заставившей Силинго заговорить, стало решение Сената демократической Аргентины возложить ответственность за нарушения прав человека на действующих офицеров ВМФ.
Силинго увидел в этом стремление военного руководства, главного ответственного за «устранение подрывных сил», свалить вину на офицеров, «честно исполнявших свой долг». Когда его попытки достучаться до главы ВМФ в отставке Хорхе Виделы и президента Менема ни к чему не привели, он решил рассказать правду известному журналисту Орасио Вербицки. Трансляция по телевидению свидетельств Силинго, вскоре изданных Вербицки в виде книги «Полет» (1995, английский перевод вышел в 1996 году), произвела эффект разорвавшейся бомбы[186]. С подобными свидетельствами стали выступать все новые офицеры. Начальник аргентинского генштаба Марин Блаза вынужден был официально признать ответственность вооруженных сил за преступления и попросить у граждан Аргентины прощения.
Благодаря свидетельствам Силинго и других военных «полеты смерти» стали важной частью аргентинской коллективной памяти. В 1999 году режиссер Марко Бечис, сам переживший тюрьму в 1977 году, изображает их в своем фильме «Гараж „Олимпо“». Лента рассказывает о молодой женщине, которую похищают военные и пытают в тайной тюрьме в центре Буэнос-Айреса. Два года спустя Бечис вновь возвращается к этой теме в фильме «Сыновья и дочери», истории брата и сестры, разлученных детьми в годы правления хунты и разыскивающих друг друга.
ДАВЛЕНИЕ ПРАВДЫ: НЕСТОР КИРШНЕР И ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С конца 1990‐х годов аргентинские власти чувствуют на себе резко усилившееся давление общества и правозащитных организаций — и местных, и международных, которые требуют привлечь преступников к ответственности. Федеральный суд все охотнее помогает родственникам жертв в поиске информации о близких, а Аргентинская ассоциация судебной антропологии (EEAF) участвует в идентификации останков.
В 1997 году испанский судья Бальтасар Гарсон, специализирующийся на использовании универсальной юрисдикции для исков, связанных с преступлениями против человечности, потребовал ареста и экстрадиции 45 аргентинских военных и 1 гражданского по обвинениям в военных преступлениях, геноциде, государственном терроризме и пытках. Среди обвиняемых был и Адольфо Силинго, согласившийся поехать в Испанию и дать показания; в Аргентину он больше не вернется. Выдачи виновных в гибели своих граждан требует также Италия.
Поддержка международными организациями (в частности, Межамериканской комиссией по правам человека) исков Матерей и Бабушек площади Мая, учреждение в 2002 году Международного уголовного суда и другие примеры того, что американский социолог Даниэль Леви назвал «космополитизацией прав человека»[187], усиливают давление на правительство Аргентины; военные оказываются в меньшинстве.
Алехандро Бэр и Натан Шнайдер говорят в связи с этим о формировании коллективной памяти, основывающейся на представлении об универсальной ценности прав человека и оказывающейся все более заметным фактором политики:
Когда государство теряет привилегированную позицию в качестве законодателя коллективных ценностей, память о защите прав человека становится более связной в политическом и культурном плане. Именно это произошло в Аргентине[188].
В 2003 году президентом Аргентины становится Нестор Киршнер, в студенческие годы близкий к Montoneros, боевикам левоперонистского толка. Вскоре Конгресс признает законы об амнистии юридически ничтожными. Процессы против военных начинаются вновь, и теперь уже в полную силу.
24 марта 2004 года Нестор Киршнер и мэр Буэнос-Айреса Маурицио Макри распоряжаются передать 17 гектаров в центре столицы, на которых располагается ESMA, из ведения ВМС в федеральное подчинение для организации там музея. Территория ESMA превращается в «Пространство памяти, популяризации и защиты прав человека», там размещаются музеи и представительства правозащитных организаций. В прежнем виде сохраняется только «офицерское казино», где производились пытки: это место до сих пор служит доказательством в продолжающихся судах.

Ил. 12. Гектор Пантусо (слева) обнимает Адриану де Гарньер, дочь двух активистов, его близких друзей, убитых в 1976 году. Адриана стала 126‐й из тех, кто благодаря усилиям Бабушек площади Мая нашел своих родных, будучи в детстве разлучен с родителями и отдан на воспитание в чужую семью. Буэнос-Айрес, 2017 год
В 2005 году Верховный суд Испании приговаривает Силинго за убийство 30 человек и пытки к 640 годам тюремного заключения; в 2007 году его срок увеличен до 1084 лет. В июле 2012 года в Аргентине 87-летний Хорхе Видела и 84-летний Рейнальдо Биньоне приговариваются к 50 и 15 годам тюрьмы соответственно.
В 2007 и 2009 годах в Аргентине проходят процессы над обвиняемыми в преступлениях, совершенных на базе ESMA. В 2012 году в Буэнос-Айресе начался третий, самый масштабный в истории страны процесс над виновными в преступлениях «грязной войны». На скамье подсудимых оказались несколько десятков военных и гражданских лиц, которые обвиняются в совершенных на базе ESMA преступлениях против 789 жертв. Среди подсудимых — «Белокурый ангел смерти» Альфредо Астис и комендант ESMA Хорхе Акоста по прозвищу «Тигр».
Как и полагается эпохальному трибуналу, он занял много лет. Приговор был оглашен только в ноябре 2017 года. Из 54 обвиняемых 29 были приговорены к пожизненному заключению, 19 осуждены на тюремные сроки от 8 до 25 лет, 6 человек оправданы.
Всего, по данным аргентинской прокуратуры, к ноябрю 2017 года за преступления, совершенные в годы правления хунты, обвинения предъявлены 2971 человеку, 818 из которых осуждены, а 99 оправданы. 533 человека находятся под домашним арестом — мера, предусмотренная в некоторых случаях аргентинскими законами для подсудимых или осужденных старше 70 лет[189].
СУДЬБЫ ЛИДЕРОВ ХУНТЫ
Хорошей иллюстрацией сложной истории аргентинской проработки прошлого, в которой движение вперед периодически чередовалось с откатами, служит судьба главных руководителей хунты в 1976–1982 годах.
Хорхе Рафаэль Видела был диктатором Аргентины в 1976–1981 годах. В 1985‐м он был приговорен к пожизненному заключению за нарушения прав человека в годы его правления. В 1990 году был помилован президентом Аргентины Карлосом Менемом. Вновь арестован в 1998 году по обвинению в похищении детей политических противников и незаконном усыновлении их военными. Ордера на его арест были выданы Германией и Швейцарией. Он был приговорен к тюремному заключению, но через месяц из‐за ухудшения здоровья был переведен под домашний арест. 30 октября 2008 года ему были предъявлены новые обвинения, он был помещен в военную тюрьму на время расследования и суда. В 2010 году вторично приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства 31 политзаключенного. В 2012 году в рамках процесса, связанного с похищениями детей у женщин-заключенных, Хорхе Видела был приговорен еще к 50 годам тюремного заключения. Видела умер в заключении в возрасте 88 лет.
Эмилио Эдуардо Массера — один из членов хунты, в непосредственном ведении которого находилась тюрьма ESMA. В 1985 году осужден за нарушение прав человека, убийства, пытки и незаконное лишение свободы, приговорен к пожизненному заключению. В 1990 году помилован президентом Карлосом Менемом. В 1998 году ему предъявлены новые обвинения, связанные с похищением и сокрытием несовершеннолетних, он был возвращен в тюрьму. Умер от остановки сердца 8 ноября 2010 года в военном госпитале в Буэнос-Айресе.
Роберто Эдуардо Виола — диктатор Аргентины в 1981 году. В 1985 году приговорен к 17 годам тюремного заключения. Освобожден в 1990 году президентом Карлосом Менемом. Умер в 1994 году, похоронен на кладбище Ла-Чакарита в Буэнос-Айресе.
Армандо Ламбрускини — бывший адмирал ВМФ Аргентины, член хунты в 1978–1981 годах. В 1985 году приговорен к 8 годам заключения. В 1990 году освобожден из-под стражи и восстановлен в звании адмирала. В 1994 году решением суда ему было предписано выплатить 1 млн долларов родственникам похищенных и убитых. В 1997 году заочно осужден итальянским судом. В 2003 году приговорен к домашнему аресту, в 2004‐м умер.
Орландо Рамон Агости — член хунты в 1976–1981 годах. В 1985 году приговорен к 4,5 года лишения свободы. После апелляции срок заключения был сокращен до трех лет и девяти месяцев. Освобожден из тюрьмы 9 мая 1989 года. В 1990 году помилован президентом Карлосом Менемом. Умер от рака в 1997 году в авиационном госпитале в Буэнос-Айресе.
Омар Граффинья и Басилио Лами Досо — главнокомандующие ВВС в 1976–1981 и 1981–1982 годах. В 1985 году обвинены в пытках, похищениях людей, подделке документов. Суд решил рассматривать отдельно вину каждой из трех ветвей Вооруженных сил Аргентины в каждом отдельном случае, и оба они были оправданы по всем пунктам обвинения. В 1989 году Лами Досо приговорен к 8 годам заключения за преступления, совершенные в ходе Фолклендской войны. В 1990 году помилован президентом Карлосом Менемом с возвращением всех званий. В 2003 году Испания (в лице судьи Бальтасара Гарсона) потребовала экстрадиции Граффиньи и Лами Досо в связи с обвинениями в преступлениях против человечности. Премьер-министр Хосе Мариа Аснар признал экстрадицию неправомерной, но в 2005 году испанский Верховный суд отменил это решение и инициировал процедуру экстрадиции. В сентябре 2016 года Граффинья осужден в Аргентине на 25 лет за похищение и пытки семейной пары. Досо умер в начале 2017 года, Граффинья — в декабре 2019 года.
Леопольдо Галтьери — диктатор Аргентины в 1981–1982 годах. В конце 1983 года арестован и предан суду военного трибунала за нарушение прав человека (по этому обвинению был оправдан) и за неудачное руководство аргентинскими войсками в войне за Фолклендские острова (осужден в 1986 году к тюремному заключению). Помилован в 1991 году. В 2002 году против него выдвинуты новые обвинения в похищениях и убийствах оппозиционеров и иностранных граждан. Помещен под домашний арест, где и умер от инфаркта. Похоронен на кладбище Ла-Чакарита в Буэнос-Айресе.
Хорхе Исаак Анайа — главнокомандующий ВМФ в 1981–1982 годах. В 1985 году обвинялся в пытках, похищении людей, подделке документов, но был оправдан. В 1997 году его экстрадиции потребовала Испания, в 2005 году процесс экстрадиции был инициирован официально. В 2006 году перед допросом пережил сердечный приступ, был помещен в военный госпиталь, а потом под домашний арест. Умер под арестом в 2008 году.
Рейнальдо Биньоне — последний диктатор Аргентины, самоназначенный президент в 1982–1983 годах. В 1985 году был обвинен в пытках, похищениях и убийствах и освобожден в 1986 году. В январе 1999 года признан виновным по новым обвинениям, но из‐за слабого здоровья помещен под домашний арест. В 2007 году ему были предъявлены новые обвинения, по которым в 2010 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы. В июле 2012 года Биньоне вместе с Виделой признан виновным в похищения детей и приговорен к 30 годам тюремного заключения. В мае 2016 года Биньоне приговорен еще к 20 годам заключения. Умер в марте 2018 года.
Последний из живых на сегодня[190] руководителей хунты — 96-летний Сантьяго Омар Риверос, руководивший военными подразделениями, охранявшими площадь Мая. В его непосредственном подчинении находились несколько крупных тайных тюрем. Осужден в 1985 году, в 1989‐м помилован. В 2009 году приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в более чем 40 преступлениях против человечности. С начала 2010‐х Риверос был осужден на несколько десятков лет тюрьмы и несколько пожизненных заключений в рамках восьми судебных процессов. Последний суд, приговоривший Ривероса к очередному пожизненному заключению, прошел в 2017 году.
***
Свидетельством того, что память о трудном прошлом в Аргентине сохраняется и работает по принципу «Никогда больше», стала реакция общества на исчезновение в августе 2017 года гражданского активиста Сантьяго Мальдонадо. Молодой человек был задержан полицией после акции протеста, а затем пропал без вести. (Через несколько месяцев его тело было найдено. Он не был похищен; его смерть, вероятнее всего, произошла в результате несчастного случая.) С требованием сообщить о его местонахождении на улицы Буэнос-Айреса и других городов Аргентины вышли тысячи людей. Среди лозунгов был и такой: «30 000 исчезнувших начались с одного». Мальдонадо был посвящен традиционный марш Матерей площади Мая. С призывом найти активиста к властям обратились многочисленные аргентинские и международные правозащитные организации[191].
В последние годы в Аргентине идет больше судов по нарушениям прав человека, чем в любой другой стране мира; Аргентина переживает самый долгий период демократического правления в своей истории. Это хороший аргумент в пользу того, что даже самое усердное «ворошение прошлого» не приводит к дестабилизации. Наоборот, оно укрепляет доверие граждан к государственным институтам.
2. Испания, или преодоление молчания
2 июля 2017 года на мадридском кладбище Альмудена была перевернута страница семейной истории, имеющая значение для всей Испании. После многих лет борьбы 91-летняя Асенсьон Мендьета добилась от испанских властей перезахоронения останков своего отца. Тимотео Мендьета был расстрелян франкистами в 1939 году и похоронен в братской могиле в Гвадалахаре. Хотя после смерти Франко и начала демократического транзита в Испании прошло больше сорока лет, случай Асенсьон стал первым, когда государство удовлетворило иск родственников жертвы террора, сопровождавшего Гражданскую войну, и согласилось на эксгумацию и идентификацию останков.
История Асенсьон не только символизирует путь, который прошло испанское общество за последние четыре десятилетия, но и обнаруживает параллели с важнейшими сюжетами переосмысления прошлого в других посттоталитарных обществах. Иск против Испании был подан в Аргентине, среди его инициаторов были «Матери площади Мая».
Главной характеристикой «испанской модели» преодоления трудного прошлого принято считать согласие общества забыть о былых разделениях ради сохранения единства нации, достижения гражданского мира и совместного движения в будущее. В этом смысле испанская модель куда ближе России, чем так часто ставящаяся ей в пример германская. В отличие от Германии, в Испании не происходило слома государственности, страна не была завоевана иностранными державами, период диктатуры длился не 12, а 40 лет. В то же время, в отличие от СССР, именно в период диктатуры Франко Испания достигла долгожданной социальной и политической стабильности и экономического процветания.

Ил. 13. Асенсьон Мендьета на церемонии перезахоронения останков отца. Мадрид, кладбище Альмудена, 2017 год
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1936–1939): НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
Гражданская война 1936–1939 годов была последним всплеском в длинном ряду социально-политических катаклизмов, сотрясавших Испанию больше сотни лет. Это во многом объясняет отношение испанского общества к диктатуре Франко как ко времени долгожданной стабильности. Войны и нестроения первой половины XIX века, Славная революция (1868), Первая республика (1873–1874), период реставрации Бурбонов (1874–1931) — все это почти непрерывная череда государственных переворотов и восстаний разного масштаба. Краткая история Второй республики, предшествовавшая Гражданской войне, тоже полна мятежей и вооруженных столкновений.
Один из таких мятежей (военный путч 17–18 июля 1936 года) и стал началом Гражданской войны. Против сторонников Республики — их главной политической силой было лево-либеральное движение «Народный фронт» — выступали правые националисты-консерваторы и их главная сила — радикальная партия «Испанская фаланга». В ходе войны их возглавил сделавший военную карьеру в Марокко генерал Франсиско Франко (1892–1975). Военную помощь республиканцам оказывал СССР (в Испании сражается главный герой романа Каверина «Два капитана»). Большинство европейских государств и США объявили о нейтралитете, и сочувствовавшие идеям Республики добровольцы из разных стран воевали в составе «интербригад»: история одного из бойцов рассказана в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол». Видя в республиканцах опасность распространения коммунизма в Европе, помощь Франко оказывали нацистская Германия, Италия и Португалия.
Особенно упорно сопротивлялась националистам Каталония — и современные сепаратистские тенденции этого региона во многом связаны с наследием Гражданской войны. Националисты с самого начала настаивали на отмене каталонской автономии и запрете каталонского языка. Кроме того, из‐за развития промышленности Каталония была районом с сильными левыми настроениями и развитым профсоюзным движением. Именно туда отправился воевать с фашизмом британский анархист Эрик Артур Блэр, описавший (под псевдонимом Джордж Оруэлл) свой опыт в вышедшей в 1936 году повести «Памяти Каталонии»[192].
Точное число жертв Гражданской войны и последующей диктатуры не установлено до сих пор. Оценки меняются в зависимости от партийной принадлежности спорящего. По наиболее взвешенным данным, около 200 тысяч погибли в боях (110 тысяч со стороны республиканцев и 90 тысяч со стороны националистов). Авиация Германии и Италии бомбила территории под контролем республикацев, в результате чего погибли около 10 тысяч мирных жителей, еще порядка 25 тысяч умерли от истощения в районах, подвергнутых националистами экономической блокаде. Жертвами «красного террора» стали, по приблизительным подсчетам, 50 тысяч человек, в том числе почти 7 тысяч служителей церкви (епископов, священников, монахов и монахинь). Жертвами «белого террора» — от 130 тысяч до 200 тысяч человек в годы Гражданской войны и еще примерно 40 тысяч после ее окончания (последний приговор был приведен в исполнение за несколько месяцев до смерти Франко). Еще около 600 тысяч человек покинули страну после падения Республики в 1939 году.
Среди жертв «белого террора» был и Тимотео Мендьета, отец семерых детей, одной из которых была та самая Асенсьон. Он был мясником и возглавлял профсоюзную ячейку в родном городке Саседон под Гвадалахарой. Националисты жестко подавляли профсоюзное движение, так что Тимотео едва ли мог рассчитывать на снисхождение.
РЕЖИМ ФРАНКО (1939–1975): ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ПОПЫТКИ ПРИМИРЕНИЯ
Победа националистов привела к установлению диктатуры Франко, которая сохранялась до его смерти в 1975 году. Были запрещены все политические партии, кроме Фаланги, все независимые профсоюзные движения и газеты. Противников режима отправляли в тюрьмы или выдавливали из страны. Режим начинался как фашистский и изоляционистский, опиравшийся на фашистскую по идеологии Фалангу, но уже в ходе Второй мировой войны (в которой Испания старалась занимать нейтральную позицию) Франко начал процессы дерадикализации режима. Если раньше опорой режима была вполне фашистская по идеологии Фаланга и мобилизационная риторика, то с начала 1950‐х режим приобретает в большей степени национал-католическую окраску, риторика становится умереннее. В конце 1950‐х руководство страны взяло курс на преодоление экономической изоляции и либерализацию экономики. В 1959 году ключевые посты в правительстве занимают технократы, близкие к католической организации Opus Dei. Реформы оказались успешными: в 1960‐х по темпам экономического роста Испания опережала все страны мира, за исключением Японии.
Попытки «национального примирения сверху» предпринимались уже в годы правления Франко: режим старался зафиксировать выгодную ему версию прошлого. Власти осознавали, насколько серьезны нанесенные войной раны и насколько сильно разделение общества. Об этом свидетельствуют многочисленные указы о помиловании сторонников Республики, выпускавшиеся Франко с завидной регулярностью (в 1945, 1946, 1947, 1952, 1954, 1958, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1971 годах).
Самым масштабным из них стал указ 1969 года, декриминализировавший преступления республиканцев в годы войны и облегчивший режим возвращения для беженцев. «Мы окончательно похоронили остатки последних разделений и завершили нашу последнюю Гражданскую войну», — заявил один из членов правительства, комментируя это решение.
На деле это было далеко не так. Это были лишь локальные проявления милости победителей к побежденным. «Сознавая свою силу и поддержку народа, — говорилось в указе 1945 года, — правительство готово предпринять еще один шаг навстречу дальнейшей нормализации жизни испанцев». Участники Гражданской войны, сражавшиеся на стороне Республики, и после этих указов испытывали трудности с трудоустройством; инвалиды войны, вдовы и дети погибших республиканцев не получали компенсаций или пенсий. Зато ветераны боевых действий на стороне националистов получали льготы при устройстве на работу, повышенные зарплаты и пенсии, льготное медицинское обслуживание и право перезахоронить родных, погребенных в братских могилах. Близкие погибших из числа республиканцев такого права не имели — семья Тимотео Мендьеты опасалась даже разыскивать его могилу, не говоря уже о том, чтобы требовать от властей его перезахоронения.
В 1959 году, к 20-летию окончания войны, в 58 км от Мадрида был открыт гигантский мемориал жертвам Гражданской войны, получивший название «Долина павших». В его строительстве принимали участие заключенные сторонники Республики. Центром мемориала служит вырубленная в скале базилика, превосходящая размерами собор Святого Петра в Риме; в алтаре помещена гробница Хосе Антонио Примо де Риверы, одного из идеологов националистического движения (основателя Фаланги и сына Мигеля Примо де Риверы, диктатора Испании в 1923–1930 годах). В 1975 году рядом с ним был похоронен и сам Франко. Слева и справа от алтаря захоронены останки погибших с обеих сторон конфликта (около 20 тысяч человек к моменту открытия, позднее число захороненных достигло 70 тысяч).
Распространенное мнение, что базилика в Долине павших задумывалась Франко именно в качестве мемориала примирения, не соответствует действительности. Диктатор строил мемориал победе в крестовом походе против коммунизма и безбожия (La Cruzada — преобладающее название Гражданской войны в политической риторике франкизма); решение переосмыслить мемориал как символ примирения и перезахоронить туда останки республиканцев было принято лишь перед окончанием строительства и под влиянием церкви (сам Франко, по свидетельствам биографов, не разделял этого подхода)[193].

Ил. 14. Мемориал в Долине павших
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ (1975–1982): ПАКТ О ЗАБВЕНИИ
В 1975 году Франко умирает, не оставив преемника: его ближайший помощник Луис Карреро Бланко был убит баскскими террористами в 1973 году. Период, который принято называть «транзитом» (la transición), начался со смерти Франко и закончился выборами социалистического парламента в 1982 году. Переговоры о политическом транзите начали политики франкистского толка, главным образом Адольфо Суарес, первый премьер-министр и глава правоцентристской партии после первых демократических выборов в 1977 году. Они увенчались принятием демократической конституции в 1978‐м.
Переход от диктатуры к демократии в Испании совершился быстро и безболезненно, но оказался во многом вынужденным и косметическим, а установившаяся демократия — «договорной». Это был не свободный выбор демократического пути развития как наилучшего и отвечающего ценностям большинства, а скорее сговор политических элит, согласившихся на переход к видимости демократии во избежание новых катаклизмов и при негласных гарантиях сохранения политической гегемонии консерваторами и центристами. Это вполне устраивало общество, более озабоченное сохранением стабильности, чем реальными демократическими реформами.
Фиксацией общественного консенсуса, обеспечившего переход к демократии устраивающим обе стороны способом, стал Закон об амнистии, принятый испанским парламентом 15 октября 1977 года. Этот закон обеспечивал иммунитет за политические преступления, совершенные до декабря 1976 года. Закон об амнистии стал юридическим воплощением более широкого общественно-политического процесса, который получил название «пакта о забвении» (el pacto del olvido). В рамках пакта все политические силы страны договорились забыть о Гражданской войне ради сохранения гражданского и политического единства. Некоторые исследователи полагают, что «пакт о забвении» был не решением забыть прошлое, а решением не позволить ему отравлять будущее: таким образом, он оказывается аналогом «коммуникативного умолчания» в Германии (продолжавшегося с 1945 года до выхода на сцену поколения 1968-го).
Такая договоренность была призвана обеспечить мягкий переход от диктатуры к демократии. Ответственность за преступления, совершенные в ходе Гражданской войны и в годы диктатуры, решено было не возлагать на какую-то определенную общественную или политическую силу. На практике это предполагало подавление болезненных воспоминаний, связанных с разделением общества в годы диктатуры, на победителей и побежденных. С одной стороны, лица, ответственные за массовые репрессии, не стали объектом юридического преследования. С другой — мемориалы эпохи Франко (прежде всего, Долина павших) перестали использоваться для официальных церемоний.
Форма этого перехода к демократии — так называемый «переход в соответствии с пактом» — когда-то восхвалялась зарубежными комментаторами как образец компромисса и сотрудничества между былыми непримиримыми врагами, — пишет британский специалист в области судебной археологии Лейла Реншоу, много лет изучавшая массовые захоронения жертв Гражданской войны. — Теперь же критики левого толка все чаще утверждают, что в действительности прежний режим вынужденно поступился властью в основном ради самосохранения, дабы предотвратить массовые народные восстания по образцу греческих или португальских. Весьма симптоматична риторика переходного периода. Закон о политической амнистии в народе называли punto final — «закон, подводящий черту», позволяющий начать с чистого листа. Установившийся в этот период консенсус сами испанцы неформально именуют «пактом молчания» или, что еще красноречивее, «пактом амнезии». Современные критики считают, что левые зря пошли навстречу своим противникам ради получения официального юридического статуса и права участвовать в переходе к демократии. Компромиссы и уступки на деле лишь парализовали и выхолостили эти партии и, более того, скомпрометировали их в нравственном отношении. Сделавшись соучастниками замалчивания репрессий и убийств мирных граждан в годы гражданской войны и диктатуры, левые утратили свое реноме и предназначение — роль партий народного сопротивления. Собственно, сговор с противниками — не что иное, как предательство по отношению к жертвам франкизма, полагают критики[194].
Формально демократический транзит продолжался с 1975 по 1981 год, но по существу «пакт забвения» действовал до конца 1990‐х. Крупнейший исследователь испанской памяти Палома Агилер Фернандес описывает этот период как «амнистию и репарации без признания ответственности и раскрытия правды о преступлениях прошлого»[195], а испанский политолог Омар Энкарнасьон — как «демократию без справедливости»[196].
Испанское правительство тратило огромные средства на компенсации и пенсии жертвам Гражданской войны с республиканской стороны. В начале 1990‐х на это уходила четверть бюджета страны. В то же время в 1975–2000 годах в Испании не было предпринято ни одной из мер, считающихся необходимыми в теории правосудия переходного периода:
Не проведено ни одного суда над преступлениями режима Франко.
Не было осуществлено ничего даже отдаленно напоминающего люстрации: бенефициары прежнего режима не были отстранены от участия в политике и общественной жизни. Самая многочисленная в современной Испании Народная партия — наследница Народного альянса, правоцентристской партии, которая объединила франкистских чиновников, признавших значение демократических свобод.
За исключением профсоюзов и партий никому не была возвращена собственность, отнятая в годы войны или диктатуры. При этом потомки Франко не только унаследовали его имущество, но до сих пор владеют собственностью, ранее принадлежавшей государству.
Не было организовано государственной Комиссии правды и примирения. С этим связано, в частности, отсутствие официальных данных о числе жертв Гражданской войны и диктатуры.
Жертвам франкизма не было установлено памятников, кроме одного на площади Леальтад в Мадриде. Но он посвящен памяти всех погибших в Гражданскую и не воспринимается испанцами как символически значимый.
ПОПЫТКА ПУТЧА 23 ФЕВРАЛЯ
Неудавшаяся попытка путча сторонников реставрации франкизма 23 февраля 1981 года — хорошая иллюстрация шаткого равновесия, в котором пребывало испанское государство и общество, и красивая история про личное мужество и настоящий патриотизм. В этот день части Гражданской гвардии во главе с полковником Антонио Техеро ворвались в зал заседаний испанского парламента и, открыв стрельбу, потребовали от всех присутствующих лечь на пол. Только три человека не подчинились этому требованию. Это были Адольфо Суарес, первый премьер постфранкситского правительства, при котором Испания совершила переход от авторитаризма к демократии (за месяц до путча он ушел в отставку, в том числе и из‐за сильно испортившихся отношений с военными), его первый заместитель генерал Мануэль Гутьеррес Мельядо и лидер испанских коммунистов Сантьяго Каррийо. Последние двое в годы Гражданской войны воевали по разные стороны баррикад.

Ил. 15. Мануэль Мельядо (в центре) и Адольфо Суарес (слева) противостоят путчистам 23 февраля 1981 года. Кадр видеосьемки
Мельядо сделал военную карьеру при Франко, хотя со временем эволюционировал в либеральную сторону. После смерти Франко он возглавил вооруженные силы страны и занялся их реформированием. 23 февраля Мельядо не просто не лег на пол, но бросился на вооруженных путчистов, требуя сложить оружие и сопротивляясь их попыткам силой усадить его на скамью. На тот момент Мельядо было 70 лет. Эпизод с попыткой захвата парламента оказался снят на видеокамеру. Когда страна увидела сцену противостояния Мельядо путчистам, он стал национальным героем, причем именно как защитник демократии.
Этому эпизоду посвящен роман-эссе «Анатомия мгновения» Хавьера Серкаса, одного из главных авторов «литературы испанской памяти».
ИСПАНСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ФРАНКО И ПОСЛЕ
Франко установил свою власть в значительной степени благодаря опоре на Католическую церковь. Во время его правления она оставалась важнейшей «скрепой», обеспечивавшей стабильность государства и поддержку населения. Союз Франко и церкви облегчала резко антикатолическая политика республиканцев; они расстреливали священников и монахов, считая их не только идеологическими, но и политическими врагами Республики. Впрочем, и в рядах националистов в годы Гражданской войны католикам было не просто. Это иллюстрирует история иезуитского священника Фернандо Поланко, которую рассказывает Пол Престон в книге «Испанский Холокост» — одной из лучших работ про Гражданскую войну в Испании[197]. Поланко служил капелланом в рядах националистов. В 1937 году он погибает под обстрелом «красных». Десять лет спустя орден Иезуитов начинает процесс его беатификации, а для этого исследует обстоятельства жизни и смерти священника. Выясняется, что он активно выступал против расстрелов пленных и даже писал по этому поводу Франко гневные письма, а убит был, вероятнее всего, не шрапнелью со стороны «красных», как гласила официальная версия, а выстрелом в спину своих, уставших от его принципиальности. После этого, пишет Престон, Ватикан приостановил разбор его дела.
Постепенно гармония церкви и государства становилась все более шаткой. Одним из факторов, осложняющих их отношения, стало развитие католического синдикализма. Энергия служения церкви в миру приводила к усилению миссии среди рабочих (в числе прочего направленной против усиления марксистских настроений), и возникавшие благодаря этому католические рабочие движения (прежде всего «Рабочие братства католического действия», HOAC) оказывались в оппозиции единому и подконтрольному государству рабочему профсоюзу. Другим фактором было усиление национального самосознания среди каталонских и баскских католиков. В начале 1960‐х стали все громче звучать проповеди и открытые письма священников, обличавших режим Франко, монастыри Аранзазу в Стране Басков и Монтсеррат в Каталонии становятся символами националистического антифранкистского католицизма. Важную роль сыграл тут и Второй Ватиканский собор (1962–1965): в годы, когда режим слабел, церковь подняла на щит идеи свободы и демократии.
17 апреля 1975 года, в год смерти Франко и в год, торжественно названный церковью годом примирения, испанские прелаты подписали коллективное пастырское послание, озаглавленное «Примирение в церкви и в обществе». В нем изложен целый ряд этических положений, направленных на объединение испанцев по обе стороны баррикад — задача, которая так и не была решена со времен гражданской войны. Примирение требовало истинной демократизации и полного признания гражданских прав, особенно свободы «слова, собраний и объединений», чтобы «избавиться от искушения разрешать политические проблемы через применение насилия». Другие важные требования заключались в юридическом признании регионального разнообразия Испании, права на критику как фундаментальную ценность демократии и права на политический плюрализм, который дает возможность естественным образом разрешать социальные конфликты[198].
Результатом сознательно занятой церковью продемократической позиции стало ее решение сохранять нейтралитет на первых демократических выборах 1977 года. Священники призывали католиков не создавать конфессиональные партии и даже не включать в названия создававшихся политических объединений эпитет «христианский». Это только обострило бы существующие разделения, превратив церковь из авторитетной силы, способной объединить общество, в еще один фактор разделения. Эта позиция была закреплена в Конституции 1978 года, согласно которой Испания стала неконфессиональным государством. Это было еще раз подтверждено в подписанном в 1979 году соглашении между государством и церковью.
Опыт Испании в этом смысле уникален: фактически церковь сама настояла на своем отделении от государства. Благодаря позиции епископата в стране не появилось ни католической партии, ни католической политической доктрины.
НАСТРОЕНИЯ ИСПАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ТРАНЗИТА
Отказ давать оценку преступлениям прошлого на государственном уровне был не только политикой, спускаемой сверху. Во многом он соответствовал настроениям испанского общества. На них влияло то, что диктатура Франко принесла Испании стабильность и экономическое благополучие. А разговор о прошлом включал комплекс болезненных переживаний, угрожавших разрушить с таким трудом достигнутый баланс сил. В то же время, по данным опросов, память о прошлом не только никуда не уходила, но, напротив, все настойчивее заявляла о себе. Так, в 2000 году только 42% испанцев считали разделения времен Гражданской войны забытыми, а 67% ощущали в настоящем глубокий отпечаток франкистского прошлого (ил. 16)[199]. Впрочем, еще большее число респондентов считали, что «образ мысли людей мало зависит от прошлого».
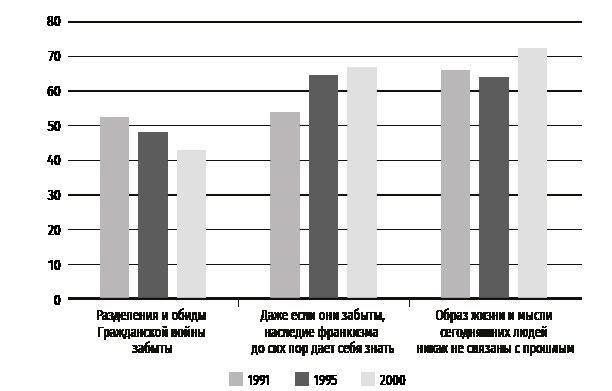
Ил. 16. Отношение испанцев к разделениям Гражданской войны
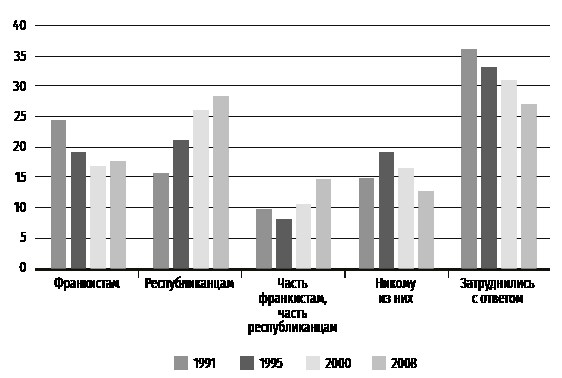
Ил. 17. Ответы на вопрос: «Какой из сторон Гражданской войны больше симпатизировала ваша семья?»
С каждым годом число готовых признать, что их родные воевали на стороне националистов, уменьшалось, а число готовых признать, что их родные воевали на стороне республиканцев, увеличивалось (ил. 17).
Хотя за годы «демократии молчания» оценка франкизма респондентами постепенно становилась все более негативной, большая часть респондентов характеризовала этот период истории как время, не лишенное достоинств (ил. 18).
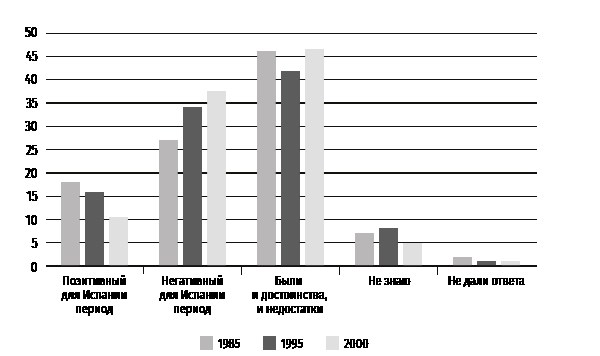
Ил. 18. Оценка франкистского периода
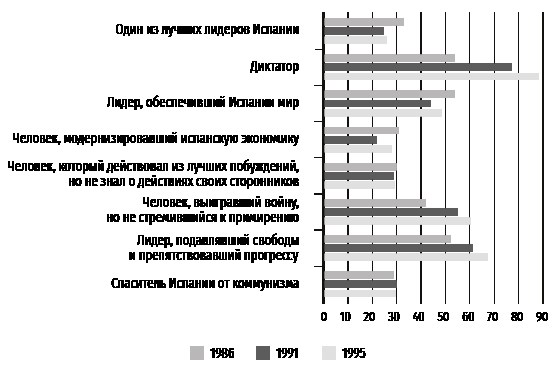
Ил. 19. Отношение к Франко
Амбивалентная оценка прошлого характеризовала и отношение к самому Каудильо. В 1995 году 48% испанцев называли его гарантом мира в стране, 28% ставили ему в заслугу модернизацию экономики, при этом 88% считали его диктатором (в 1986‐м таких было только 54%) и 67% возлагали на него ответственность за многолетнее ущемление свобод и помехи развитию страны (ил. 19).
ИСПАНСКИЙ ТРАНЗИТ В ЛИЦАХ: ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ ФРАНКО И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Сложность и амбивалентность политического процесса в Испании и его зависимость от неразрешенных конфликтов прошлого хорошо иллюстрирует список испанских премьеров начиная с 1976 года, их политическая карьера и семейные корни.
1976–1981: Адольфо Суарес. В годы правления Франко функционер «Национального движения», в которое в 1956 году была переименована Фаланга, с 1975 года и до роспуска его генеральный секретарь. В 1969–1973 годах возглавлял испанское радио и телевидение. В 1975 году создал партию «Союз демократического центра».
1981–1982: Леопольдо Кальво-Сотело и Бустело (Союз демократического центра). Дядя премьера, Хосе Кальво Сотело, был главой администрации и министром финансов в годы диктатуры Мигеля Примо де Риверы. В годы Второй республики (1931–1939) он был одним из лидеров правой оппозиции. Убийство Хосе Сотело в 1936 году стало одним из поводов для путча 17 июля. При Франко он считался национальным героем и «первомучеником Национального движения».
1982–1996: Фелипе Гонсалес Маркес (Испанская социалистическая рабочая партия, ИСРП). С 1964 года — член Социалистической рабочей партии, существовавшей при Франко на нелегальных основаниях, с 1974 года — ее генеральный секретарь, к моменту смерти Франко — глава оппозиции. 14 лет на посту премьера при поддержке подавляющего большинства в парламенте позволили Маркесу провести полноценные демократические реформы.
1996–2004: Хосе Мария Аснар (Народная партия, созданная в 1976 году бывшими членами Национального движения). Отец Аснара при Франко возглавлял Национальную ассоциацию радио и телевидения; его дед, Мануэль Аснар Субикарай, был одним из самых заметных «медиаменеджеров» режима Франко, первым биографом Каудильо, автором официальной истории Гражданской войны, основателем нескольких ведущих испанских изданий, послом Испании в США и ООН.
2004–2011: Хосе Луис Родригес Сапатеро (ИСРП). Дед Сапатеро, офицер испанской армии, был расстрелян националистами в 1936 году за отказ присоединиться к восстанию.
2011–2018: Мариано Рахой (Народная партия). Дед Рахоя в годы Второй республики был одним из авторов Устава автономии Галисии, после путча 1936 года и до начала 1950‐х был отстранен от преподавания в Университете Сантьяго де Компостела.
С 2018: Сменивший Рахоя на посту премьера после правительственного кризиса Педро Санчес (ИСРП) 1972 года рождения принадлежит к новому поколению испанских политиков. Это первый премьер с момента перехода к демократии, семейное прошлое которого напрямую не связано с историей режима Франко.
НАРУШЕНИЕ ПАКТА МОЛЧАНИЯ: ЭКСГУМАЦИИ МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ И ЗАКОН ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Принятое испанскими политиками решение забыть болезненное прошлое, не решая проблемы, только откладывает их и со временем оборачивается «прорывами памяти»[200]. В конце 1990‐х — начале 2000‐х на общественную и политическую сцену выходит поколение внуков участников Гражданской войны, выросшее в условиях демократии. В гораздо большей степени, чем их отцы и матери, представители этого поколения склонны формировать отношение к болезненному прошлому исходя из представлений о праве и справедливости и в меньшей степени — под влиянием страхов и стремления «не ворошить прошлое». Одна из представительниц этого поколения, дочь Асенсьон Мендьеты по имени Сон, убедила мать добиваться у властей обнаружения останков Тимотео.
Наиболее заметным «прорывом» такого рода стало общественное движение по установлению имен жертв франкистов и эксгумации братских могил. Главным эпизодом тут стало формирование ARMH — Ассоциации восстановления исторической памяти (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica). Ее деятельность за несколько лет буквально разбудила страну.
Своим созданием ARMH была обязана стечению обстоятельств. В 1999 году мадридский журналист Эмилио Сильва уволился с работы, чтобы посвятить себя написанию романа на основе истории своей семьи (его дед погиб, воюя на стороне республиканцев). Для этого он стал интервьюировать участников Гражданской войны и политзаключенных в годы правления Франко. Один из них рассказал ему о кладбище в деревне Приаранса-дель-Бьерсо в провинции Леон, где, предположительно, похоронен его дед, тоже Эмилио Сильва, казненный франкистами в 1936 году вместе с 12 другими республиканцами. Сильва написал статью, которая буквально раскрутила маховик розысков.
В сентябре 2000 года я опубликовал в газете «La Cronica — El Mundo» статью под названием «Мой дед — тоже Desaparecido» («Исчезнутый». — Н. Э.), — рассказывает Сильва, — где подчеркнул: Испания приветствовала арест Пиночета, Гарсон начал судебные процессы в Аргентине и Чили, то же самое происходит в Гватемале. Но в нашей собственной стране ничего подобного не делается, хотя и у нас были свои Desaparecidos. Я писал эти строки, еще ничего не зная о масштабах проблемы, — просто изливал свое возмущение[201].
Через месяц в Приаранс-дель-Бьерсо успешно провели эксгумацию останков казненных. А уже в декабре того же года Эмилио Сильва вместе с гражданским активистом Сантьяго Масиас основали ARMH, зарегистрировав ее в качестве благотворительной организации в Министерстве внутренних дел. Сильва и Масиас начали получать письма со всей Испании. В основном люди просто выражали солидарность с их делом, но некоторые, разыскивающие тела своих пропавших без вести родственников, просили совета и помощи. Силами гражданских активистов были проведены эксгумации захоронений жертв войны в других местах — деятельность организации становилась все более известной, и родственники жертв настойчиво писали Сильве и Масиасу с просьбами о помощи. К концу 2005 года произведено более 60 эксгумаций и найдены останки более 500 человек, к концу 2010‐го число идентифицированных жертв уже достигало 3 тысяч.
Благодаря вниманию прессы и растущей активности в интернете региональные организации начали расти как грибы. Некоторые привлекли к работе ученых и специалистов-историков, которые записывают воспоминания очевидцев — археологов, антропологов и патологоанатомов. Эксгумации силами добровольцев производились по всей Испании. В итоге был обнаружен прах примерно 3 тысяч человек. То был кардинальный разрыв с политикой памяти, которая доселе доминировала в Испании. Фернандес де Мата назвал его «феноменом массовых захоронений», подчеркнув ключевую роль эксгумации для изменения положения вещей[202].
К концу 2018 года ARMH провела раскопки и эксгумации более чем в 740 массовых захоронениях из более чем 2500, известных на сегодня в Испании. Эксгумации подверглись порядка 9000 тел из, предположительно, 120 000 захороненных[203]. Феномен массовых захоронений сыграл и продолжает играть огромную роль в изменении отношения к прошлому. Не в последнюю очередь это связано с сильнейшим психологическим эффектом, который оказывают эксгумации на всех участников процесса.
Преследования республиканцев часто служили целью не только уничтожить врага физически, но и опозорить жертву и ее семью перед членами общины (женщин раздевали и остригали наголо, чтобы прогнать в таком виде строем по их родным деревням). Поэтому память о франкистских репрессиях блокировалась не только политикой, но и психологическими механизмами. Раскрытие могил при большом скоплении зрителей и широком освещении в СМИ — это способ «распечатать» не только останки убитых, но и глубоко запрятанные воспоминания о бесчестье.
Этот глубоко личный процесс превращается в публичный ритуал восстановления чести, оплакивания и почетных проводов. Общество оказывается буквально вынужденным «ворошить прошлое», но из мучительной процедуры это превращается в важный для всех ритуал. Отсюда странное на первый взгляд стремление членов семей убитых фотографироваться с костями родственников или даже в их могилах.
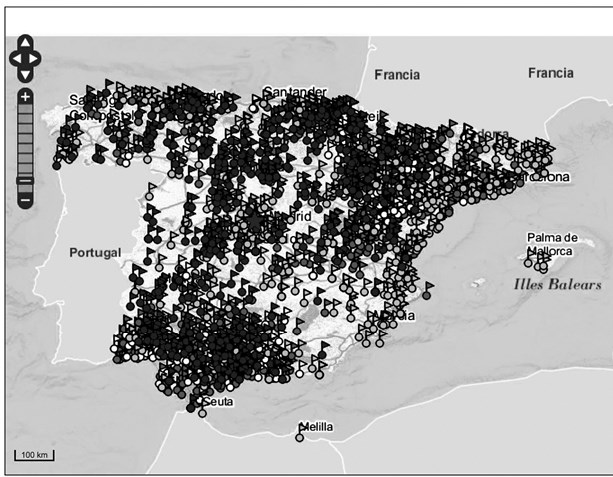
Ил. 20. Карта массовых захоронений с сайта Министерства юстиции Испании. Темно-серым отмечены захоронения, не подвергшиеся эксгумациям; белым — остающиеся не обнаруженными; светло-серым — перенесенные Франко в Долину павших; черным — полностью или частично эксгумированные с начала века
Эксгумация вызывает катарсис прежде всего благодаря тому, как выглядит вскрытая могила, особенно при освещении в СМИ, и когда рассказ сопровождается визуальным рядом. В Испании эксгумации отличаются открытостью и публичностью: собираются представители самых разных социальных слоев общины, родственники убитых приносят цветы, устраивают свои собственные бдения и поминки. Способы коммуникации и вспоминания, органично формирующиеся у тех, кто собрался около могилы, означают, что появилась новая дискуссионная площадка, не только в метафорическом, но и в буквальном смысле. На этом принципиально новом социальном форуме могут возникать новые разновидности социальных взаимодействий, а старые запреты на память — отодвигаться в прошлое[204].
Разрыву пакта молчания парадоксальным образом способствовала потеря социалистами большинства в парламенте. Оказавшись в оппозиции и уступив власть Народной партии, препятствовавшей переосмыслению прошлого, социалисты оказались вынуждены действовать решительнее, чем раньше. Ища поддержки у граждан, они стали обращать больше внимания на проблемы прошлого. Повлияла на это и общая эволюция инструментов международного права (в частности, арест в Лондоне в 1998 году чилийского диктатора Аугусто Пиночета по иску Бальтасара Гарсона), и рост авторитета правозащитных организаций. ARMH добилась, чтобы ООН признала пропавших без вести в годы Гражданской войны в Испании жертвами репрессий. Вместе с Amnesty International ARMH составила рекомендации для правительства Испании: какие меры следует принять в связи с фактами политических репрессий в годы Гражданской войны и диктатуры.
ПРОРЫВ МОЛЧАНИЯ В ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО
«Пакт молчания», действовавший в политике и в общественной жизни, не распространялся на испанскую культуру. Травма Гражданской войны стала главной темой испанской литературы и кино еще до смерти Франко. Но если раньше об этом говорилось языком аллегорий, как в классических фильмах «Дух улья» (1973) Виктора Эрисе и «Выкорми ворона» (1976) Карлоса Сауры, то теперь эта тема трактуется напрямую.
В литературе, как и в обществе, этот прорыв происходит в начале 2000‐х. Главная книга, посвященная памяти о Гражданской войне в Испании, — «Солдаты Саламина» Хавьера Серкаса (2001). Книга получила все возможные испанские литературные премии, высокую оценку М. Варгаса Льосы, Дж. М. Кутзее и Сьюзан Зонтаг, была переведена на 20 языков (русского в их числе до сих пор нет), в 2003 году по ней был снят фильм. В центре сюжета — судьба двух человек: убежденного фалангиста, сподвижника Примо де Риверы, и неизвестного солдата республиканских войск, члена расстрельной команды, спасшего ему жизнь в конце Гражданской войны.
Тема памяти о войне формирует целое направление в испанской литературе рубежа веков. Среди его лучших образцов — «Карандаш плотника» (1998) Мануэля Риваса, «Долгое молчание» (2000) Анхелес Касо, «Спящий голос» (2002) Дульче Чакон, «Тринадцать роз» (2003) Хесуса Ферреро, «Призраки зимы» (2004) Луиса Матео Диеса.
Кино не отстает от литературы. В 2000 году выходит посвященный последствиям Гражданской войны фильм Мончо Армендариса с красноречивым названием «Нарушенное молчание», в 2001‐м — фильм Гильермо дель Торо «Хребет Дьявола». Тема призраков Гражданской войны была продолжена дель Торо в фильме «Лабиринт Фавна» (2006).
ЗАКОН ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Власти вынуждены были откликнуться на растущее давление общественных активистов и правозащитников. В 2002 году конституционная комиссия парламента принимает декларацию, осуждающую преследование политических противников. В 2003 году парламент проводит акцию поминовения жертв диктатуры (члены правящей Народной партии отказались к ней присоединиться). На выборах 2004 года социалисты вновь получают большинство и сразу же формируют Межведомственную комиссию по изучению положения жертв Гражданской войны и франкизма под председательством вице-президента правительства. Парламент объявляет 2006 год Годом исторической памяти. В обществе разворачивается «война некрологов»: родственники погибших публикуют некрологи жертвам франкизма в испанских газетах. Наконец, 31 октября 2007 года после горячих споров парламент принимает «Закон об исторической памяти».
Этот закон формально признал жертвы с обеих сторон конфликта, но фактически был призван восстановить справедливость в отношении жертв режима Франко. Инициатива его принятия принадлежала правительству социалистов во главе с Хосе Луисом Сапатеро и вызвала несогласие как со стороны консерваторов (Народной партии), так и со стороны республиканцев (левые Каталонии). Первые увидели в нем использование памяти о войне в пропагандистских целях, вторые — поверхностные и косметические меры.
Среди положений закона:
— осуждение режима Франко и признание жертв политического, религиозного и идеологического насилия с обеих сторон в годы Гражданской войны и режима Франко;
— признание незаконными судов, действовавших во время Гражданской войны и в годы диктатуры Франко, и вынесенных ими приговоров;
— устранение франкистской символики с общественных зданий и сооружений, запрет на политические акции в Долине павших;
— выплата компенсаций жертвам и потомкам жертв Гражданской войны и режима Франко; участие государства в розыске и эксгумации жертв франкистских репрессий;
— предоставление испанского гражданства выжившим членам интербригад (без требований отказа от имеющегося гражданства) и потомкам тех, кто вынужденно отправился в изгнание в 1936–1955 годах.
Закон об исторической памяти стал новой рамкой разговора о франкистском прошлом в испанском обществе. Политики правого толка могли годами бойкотировать его исполнение, однако тем самым они только помогали своим оппонентам набирать очки. Отныне тема ответственности за преступления диктатуры стала отчетливым фактором политики.
ОТ БАЛЬТАСАРА ГАРСОНА ДО АСЕНСЬОН МЕНДЬЕТЫ
16 октября 2008 года Бальтасар Гарсон, судья Верховного криминального суда Испании, начал расследование по делу пропавших без вести в годы Гражданской войны и диктатуры. Эта дата была выбрана не случайно: ровно 10 годами раньше по иску Гарсона в Лондоне был арестован чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Тот арест стал громким примером успешного применения международной юрисдикции в иностранных судах, послужив одним из факторов, запустивших упомянутый в прошлой главе процесс «космополитизации прав человека». Гарсон поддержал иски 15 общественных организаций, оценив общее число «пропавших без вести» в 114 тысяч человек, и впервые поставил вопрос о юридической квалификации преступлений режима Франко.
В апреле 2010 года Гарсон был обвинен в превышении должностных полномочий при расследовании совершенных франкистами преступлений: на них распространяется действие Закона об амнистии 1977 года. Эти обвинения вызвали многочисленные протесты в Испании и других странах, в том числе со стороны правозащитных организаций. В митинге в поддержку Гарсона, прошедшем в Мадриде 24 апреля, приняли участие около 100 тысяч человек. В 2012 году Гарсон был оправдан по делу о превышении полномочий, но его признали виновным в незаконном прослушивании телефонных переговоров при расследовании коррупции среди членов Народной партии Испании. Верховный суд Испании единогласно лишил Гарсона права работать в суде на 11 лет.
Реагируя на попытку государства блокировать осуждение преступлений франкистов в испанском суде, правозащитники решили действовать при помощи международных юридических механизмов. В 2010 году несколько испанских и аргентинских правозащитных организаций, в том числе легендарные «Матери площади Мая», вместе с лауреатом Нобелевской премии мира Адольфо Пересом Эскивелем подали иск в суд Буэнос-Айреса с требованием расследовать преступления режима Франко против человечности. На эту категорию преступлений распространяется правило универсальной юрисдикции: они могут расследоваться безотносительно к месту их совершения.
Аргентина несколько раз обращалась к Испании с требованием выдачи причастных к массовым расстрелам, но Испания все время отвечала отказом. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 2013 году к иску присоединилась Асенсьон Мендьета, специально для этого отправившаяся в Аргентину (в самолете она отметила свое 88-летие). В 2016 году в рамках расследования по иску Асенсьон суд Мадрида постановил эксгумировать останки Тимотео Мендьеты. Останки были идентифицированы со второй попытки, и в июле 2017 года 91-летняя Асенсьон смогла наконец должным образом похоронить своего отца.
Этот случай стал важнейшим прецедентом. В процессе поиска захоронения Тимотео Мендьеты были идентифицированы останки еще нескольких человек. Теперь перед глазами у их родных и тысяч им подобных есть обнадеживающий пример. Истории Асеньсьон и других потомков репрессированных в годы Гражданской войны посвящен документальный фильм Амульдена Караседо и Роберта Бахара «Молчание других», получивший спецприз на Берлинском кинофестивале в 2018 году.
***
Настойчивость Асенсьон в отстаивании справедливости по отношению к своему отцу — пример, работающий и в масштабах всей Испании. В мае 2017 года парламент, большинство в котором составляла левая оппозиция, проголосовал за резолюцию (не имевшую, впрочем, обязательной силы), призывающую вынести останки Франко из базилики в Долине павших. Летом 2018 года возглавляемая премьером Мариано Рахоем Народная партия оказалась замешана в коррупционном скандале. Рахой и его правительство, фактически блокировавшее выполнение Закона об исторической памяти, вынуждены были уйти в отставку. Одним из первых решений нового правительства во главе с молодым премьером-социалистом Педро Санчесом стали поправки в Закон об исторической памяти, согласно которым останки Франко должны быть эксгумированы и перезахоронены в любом другом месте по усмотрению семьи. «Испания, как устоявшаяся европейская демократия, не может позволить себе символов, разделяющих испанцев», — заявил испанский премьер. 24 октября 2019 года в присутствии министра юстиции Испании, католического духовенства и потомков Франко останки диктатора были перенесены из Долины павших и захоронены на кладбище Эль-Пардо под Мадридом.
Однако вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Даже перестав быть местом упокоения Франко, мемориал в Долине павших остается памятником торжеству диктатуры и ее благословению со стороны церкви. Те, кто участвовал в преступлениях режима Франко — например, обвиняемый в пытках заключенных бывший инспектор мадридской полиции Антонио Пачеко по прозвищу Билли-малыш, — по-прежнему на свободе. Испанское общество все еще разделено в отношении к франкистскому прошлому.
3. ЮАР, или прощение вместо правосудия
24 июня 1995 года на центральном стадионе Йоханнесбурга проходил финальный матч чемпионата мира по регби. Но в историю этот день вписала не победа «Спрингбоков», южноафриканской сборной, над объективно более сильными новозеландцами, а появление на стадионе избранного год назад на пост президента Нельсона Манделы, облаченного в зеленую форму национальной команды. Регби традиционно был в ЮАР спортом белой элиты — не менее важной частью их самоидентификации, чем принадлежность к Голландской реформатской церкви. В болезненно разделенной по расовому принципу стране эта игра вызывала раздражение черного большинства. На международных чемпионатах небольшой сектор для черных был всегда полон, они считали своим долгом прийти и поболеть за команду противника.
Но в этот день, увидев на стадионе Манделу, одетого в форму «Спрингбоков», весь белый стадион (черные составляли только одну тысячу из 63 тысяч) встал, скандируя «Нельсон! Нельсон!» и «Мадиба! Мадиба!» (клановое, «черное» имя Манделы). Когда после игры капитана сборной Франсуа Пиенара спросили, каково это — ощущать поддержку 63 000 человек, он сказал: «Сегодня мы почувствовали поддержку не 64 тысяч, а 42 миллионов человек», имея в виду все население страны, а не только белое меньшинство. Вручая ему кубок, Мандела сказал: «Спасибо вам большое за то, что вы сделали для нашей страны!» Пиенар ответил: «Господин президент, это ничто по сравнению с тем, что вы сделали для нашей страны». Архиепископ Десмонд Туту, «крестный отец» южноафриканского примирения, назвал произошедшее в этот день «разворотом страны»: «Это было невероятное превращение. Что-то исключительное. Мы словно бы услышали: да, стать единой нацией действительно возможно».

Ил. 21. Нельсон Мандела вручает Франсуа Пиенару кубок чемпионов мира по регби, 1995 год
Удалось ли реализовать эту возможность, до сих пор не вполне очевидно. Но южноафриканская модель — интереснейшая и очень достойная попытка, важная сразу по нескольким причинам. Прежде всего — это пример предельно разделенного общества, сумевшего запустить внутри себя процесс примирения. Сделано это было благодаря довольно своеобразному применению инструментов правосудия переходного периода. Главным механизмом объединения общества в ЮАР стали правда и попытка простить преступления прошлого.
КОРНИ АПАРТЕИДА
Идеология расовой сегрегации — важная составляющая африканерского[205] национализма. Она намного старше и апартеида, и самой Южно-Африканской Республики. Эта идеология сформировалась в первую очередь под влиянием не антинегритянских, а антибританских настроений. Она была неотделима от движения потомков европейских эмигрантов к независимости[206]. Эти идеи сложились в политико-религиозную систему в XIX веке, в период острого конфликта с Британией, спровоцировавшего сначала массовый исход буров из подчиненной Британией Капской колонии на восток, получивший название Великого трека (Great Track), а потом англо-бурские войны. Для кальвинизма африканеров было характерно считать себя избранным народом, обетованной землей для которого является Южная Африка, и трактовать собственную историю в духе истории библейской — видя в Великом треке подобие Исхода, в битве на Кровавой реке подобие битв евреев с филистимлянами, а в Англо-бурских войнах — с римлянами[207].
В основе этой идеологии лежит представление о том, что белым африканцам Богом назначено привести Южную Африку к процветанию. Для этого они должны быть независимы (господство британцев в экономике и политике считалось таким же отходом от собственного предназначения, как излишнее влияние черных), не должны смешиваться с местными жителями (практика смешанных браков была широко распространенной среди буров Капской провинции, дав начало так называемым «цветным» южноафриканцам). Все национальные группы должны существовать компактно в интересах процветания каждой из них, но под управлением и господством белых.
«Существует сила, достаточно могущественная, чтобы повести нас по дороге судьбы Южной Африки, — говорил на стотысячном митинге в честь столетия Великого трека Даниэль Франсуа Малан, кальвинистский проповедник, лидер Национальной партии и премьер-министр Южно-Африканского Союза в 1948–1954 годах. — Это сила Всевышнего, которая создает нации и определяет их судьбу. Целенаправленно объедините эту силу в могучем акте спасения, и тогда будет спасена белая цивилизация».
Когда в 1910 году четыре британские колонии — Капская колония, Наталь, Колония Оранжевой реки и Трансвааль — объединяются в Южно-Африканский Союз, становящийся доминионом Британской империи (то есть самоуправляемым государством в ее составе), именно африканеры оказываются силой, наиболее последовательно выступающей за независимость. Созданная в 1915 году бурская Национальная партия (и ее радикальное политико-религиозное крыло «Братство африканеров») с переменным успехом борется за власть с пробританской Южноафриканской партией. Одним из важных противоречий стал вопрос об участии страны во Второй мировой войне. Африканерские националисты, сочувствовавшие Третьему рейху, отказались вступать в войну на стороне Британии. В 1948 году Национальная партия побеждает на выборах и начинает реализовывать свою политическую программу. Это и становится началом создания в стране системы апартеида (на языке африкаанс apartheid — «раздельность»).
АПАРТЕИД (1948–1993) И ВООРУЖЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕМУ
Основой политики апартеида стали меры, призванные на законодательном и институциональном уровне запретить контакты между четырьмя группами населения. Введена расовая классификация, в рамках которой каждый житель страны должен был регистрироваться в качестве представителя одной из четырех групп: белые, черные (туземцы или банту), цветные (исторически сложившиеся группы смешанного происхождения) и азиаты (преимущественно этнические индусы). Законом воспрещались не только смешанные браки, но даже межрасовые сексуальные контакты. Основой апартеида стал принятый в 1950 году Закон о групповых областях, по которому черное население (составлявшее 80%) должно было переселиться в специально выделенные резервации (занимавшие 20% территории страны). Их называли «хоумлендами», или «бантустанами».
Формально речь шла не о дискриминации, а именно о сегрегации. Черные не были лишены гражданских прав, но становились гражданами хоумлендов, где имели право на образование, работу, медицинское обслуживание и даже самоуправление. Белые тоже были «поражены в правах» на территории хоумлендов: им было запрещено появляться в пределах их границ, черные не могли нанимать белых на работу и т. д. На деле «Белой Южной Африкой» признавались все важные города и экономические центры, а черные вытеснялись в плохо приспособленные для жизни районы, на их образование и здравоохранение правительство тратило непропорционально меньшие средства.

Ил. 22. «Только для белых». Указатель на пляже в пригороде Кейптауна, 1985 год
Провозглашение апартеида официальной политикой и репрессии против небелого населения (в том числе насильственные переселения) заставили активизироваться политические движения черных. Это был прежде всего Африканский национальный конгресс, созданный в 1912 году на волне сопротивления дискриминации местных жителей Земельным актом 1913 года. До этого придерживавшийся умеренной политики, АНК начинает призывать к забастовкам, протестным шествиям и кампании гражданского неповиновения. Одним из ее организаторов становится молодой юрист Нельсон Мандела.
21 марта 1960 года полиция расстреляла чернокожих демонстрантов в городе Шарпевиль; были убиты 69 человек. После этого Мандела создает боевое крыло АНК «Умкото ве сизве» (на языке зулу «Копье нации»), задачей которого стала вооруженная борьба с правительством и режимом апартеида. Члены организации устраивают взрывы правительственных зданий и учреждений, «олицетворяющих политику апартеида» (паспортные столы, мировые суды), стремясь не допускать человеческих жертв.
В августе 1962 года Мандела попадает в руки полиции. Сначала его осуждают на пять лет тюрьмы за подстрекательство рабочих к забастовке и незаконное пересечение границы. Вскоре были добавлены обвинения в вооруженном мятеже с целью свержения правительства, что позволило переквалифицировать приговор на пожизненное заключение. Так начинается заключение Манделы, продлившееся 27 лет (18 из них — в одиночной камере) и сделавшее его самым известным заключенным в мире.
Усиливается международное давление на власти страны. Санкции, которые ООН вводит против ЮАР с 1962 года, со временем становятся все более ощутимыми. Усиление волнений в стране, война в Анголе, коррупционный скандал в Министерстве информации, обернувшийся отставкой премьер-министра Балтазара Форстера и глав силовых ведомств, заставляют власти начать смягчение режима апартеида. Пришедший на смену Форстеру в 1978 году Питер Бота (1977–1989) продолжал жесткую политику в отношении оппозиции, но пошел на смягчение наиболее одиозных норм апартеида (разрешены межрасовые браки, отменены пропуска для черных и множество мелких бытовых ограничений), а в 1983 году начал политические реформы. Новая конституция предполагала наличие трехпалатного парламента, в котором помимо белых получали представительство цветные и азиаты (но не черные: им дали больше прав самоуправления в хоумлендах).
Однако для стабилизации обстановки этого оказалось недостаточно. Кампания АНК, призванная сделать страну неуправляемой, оказывается успешной. В 1985 году напряжение в стране нарастает до предела, происходящее все больше напоминает тлеющую гражданскую войну. Насилие было главным образом направлено на представителей власти и полицию. Одновременно с середины 1980‐х (как выяснилось позже, не без целенаправленных усилий властей по разделению общества) начинают вскрываться прежде подавлявшиеся противоречия между племенными группами черного населения. В прямое вооруженное противостояние с АНК, который считался представителем интересов народа коса, вступает Партия свободы Инката, объединяющая представителей народа зулу[208]. Только в 1990 году жертвами конфликта АНК и ПСИ становятся не менее 150 человек. В этих условиях Питер Бота вводит в стране чрезвычайное положение и начинает переговоры с Нельсоном Манделой об условиях его освобождения, но Мандела отказывается от торга.
ДЕМОНТАЖ АПАРТЕИДА (1989–1995): ЖЕРТВЫ АПАРТЕИДА И ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЕМУ
В 1989 году после резкого ухудшения здоровья Боты президентом становится Фредерик де Клерк, до этого министр образования. Под давлением изнутри страны и со стороны международной общественности он начинает демонтаж апартеида. Снимается запрет с деятельности АНК и Панафриканского конгресса. Происходит масштабная амнистия — из тюрем выходят около тысячи политзаключенных, в том числе Мандела, более 6 тысяч возвращаются из эмиграции. Но поскольку эти уступки не предполагали давно назревших политических реформ, ситуация продолжает быстро накаляться. Учащаются нападения на белых, и теперь уже белые начинают самоорганизовываться для вооруженной борьбы. В 1991–1993 годах страна снова балансирует на пороге гражданской войны. Единственным выходом для правительства де Клерка остается проведение свободных выборов, в подготовке которых полноценно участвует Мандела. Выборы проходят в 1994 году, АНК получает 63% голосов, Национальная партия — 21%, а Партия свободы Инката — 10%. Президентом становится Нельсон Мандела.

Ил. 23. Фредерик де Клерк и Нельсон Мандела. Кейптаун, 1994 год
Специфика южноафриканской ситуации в том, что число жертв апартеида в ЮАР было меньше, чем число жертв насилия, разразившегося в стране накануне и в процессе его демонтажа. Жертвами полицейского насилия с 1960‐х по 1990 год стали до 5000 человек; более 2500 были казнены в тюрьмах. Число жертв неправосудных приговоров доходит до 80 тысяч человек; сотни тысяч подверглись депортациям в бантустаны. В то же время, по данным южноафриканских правозащитных организаций, 8580 из 9325 убитых с 1990 по 1993 год стали жертвами внутриплеменных конфликтов черного большинства[209].
Кроме того, в годы апартеида насилие далеко не всегда было обращено белыми против черных. Число жертв самых известных массовых расправ эпохи апартеида — расстрела мирной демонстрации в Шарпевиле в 1960 году и подавления восстания в Соуэто в 1976 году — не превышает 250 человек. В то же время жертвы террора со стороны «Умкото ве сизве» исчисляются тысячами. Общее число жертв политически обусловленного насилия только в 1984–1989 годах составило 5707 человек.
Но было бы неверно делать отсюда вывод, что демонтаж апартеида принес больше вреда, чем пользы. Жертвы апартеида, пусть сравнительно немногочисленные, — это жертвы именно узаконенного и институционального насилия, представлявшего собой государственную политику, тогда как всплеск насилия 1980–1990‐х — результат фактического распада государства, к которому привела в первую очередь именно политика разделения общества и одобряемого государством беззакония.
КОМИССИЯ ПРАВДЫ И ПРИМИРЕНИЯ (1995–2002)
Ведя переговоры о демонтаже апартеида, Мандела и де Клерк оказались в очень трудном положении. Страна балансировала на грани открытой гражданской войны, точек соприкосновения у разных партий не было: каждая из них считала свою войну «священной». Передача власти по аргентинскому образцу — с пусть формальным, но показательным судом над преступниками — была здесь невозможна. Преступники были с обеих сторон противостояния, и оснований для взаимовыгодной сделки не просматривалось.
Выборы с участием всех политических сил (Мандела с огромным трудом убедил Партию освобождения Инката не бойкотировать их) стали лишь необходимым шагом по фиксации ситуации. Дальше надо было предложить элитам модель сделки, а обществу — модель формулы согласия. Ею стала «покупка правды в обмен на правосудие» (trade justice for truth), по определению Джона Торпи, автора одной из лучших книг начала 2000‐х о переходном правосудии[210]. Этот принцип стал главным в работе южноафриканской Комиссии правды и примирения (далее TRC). Нащупать эту модель, как ни странно, помог де Клерк, освободивший без всяких условий Манделу, в прошлом руководителя террористического крыла АНК. Нобелевская премия мира, врученная де Клерку и Манделе в 1993 году (то есть за год до выборов) «за работу по мирному прекращению режима апартеида и подготовку основы для новой демократической ЮАР», фиксирует важность этих предварительных поисков компромисса.
Южноафриканская Комиссия правды и примирения считается одной из наиболее удачных комиссий такого рода. Но она же вызывает больше всего критики. TRC хвалят и ругают за одно и то же: не имея удовлетворительных юридических и политических механизмов, она выдвинула на первый план моральные. Благо, что моральный авторитет — это единственное, чем в полной мере обладал Мандела. По словам политолога Ольги Малиновой, в случае южноафриканской комиссии «речь идет о своеобразном публичном моральном шоу, целью которого является не наказание, а установление истины и достижение коллективного катарсиса»[211].

Ил. 24. Заседание южноафриканской Комиссии правды и примирения
Главной задачей TRC было не наказание виновных, а обнаружение правды о преступлениях, которая способствует прощению и примирению. Согласно закону, TRC получала полномочия амнистировать отдельных лиц, расследовать предпосылки преступлений и требовать представления доказательств, вызывать свидетелей и обеспечивать им полноценную защиту. Жертвы преступлений, совершенных в годы апартеида, и их родные имели право апеллировать к TRC, требуя вызова предполагаемых преступников для дачи показаний. Те, на ком лежит вина за преступления, совершенные в годы апартеида, имели право просить об амнистии. Для этого они должны были быть готовы публично признаться в содеянном и рассказать все, что знают. Если комиссия считала, что их свидетельства хорошо раскрыли обстоятельства случившегося, а их действия были политически мотивированы, а не диктовались личной ненавистью, то их оправдывали. Ответственность тем самым снималась с людей и перекладывалась на политическую систему апартеида.
Таким образом решались сразу две важнейшие задачи. Во-первых, установление фактов преступлений, их расследование и придание им максимальной публичности. Фактически это означало общественное осуждение апартеида как системы. Именно поэтому так важно было показать, что преступления апартеида — результат государственной политики, а не злоупотреблений отдельных исполнителей. Во-вторых, оказывался найден своеобразный третий путь, средний между забвением прошлого (когда совершенные преступления остаются болезненным и не пускающим вперед грузом) и полноценным уголовным преследованием всех виновных (что было невозможно с учетом градуса насилия и числа виновных с обеих сторон). Этот третий путь сближал разделенные стороны конфликта и обеспечивал минимально возможное взаимное доверие.
Комиссию возглавил самый знаменитый и авторитетный после Манделы человек в стране — лауреат Нобелевской премии мира, известный борец с апартеидом и первый черный англиканский архиепископ ЮАР Десмонд Туту. Бюджет TRC составил 42 млн долларов США (на 2,5 года), в ее распоряжении было 300 человек и несколько отделений по всей стране. Туту, отвечая критикам, так объяснил акцент комиссии на прощении:
Мы совершаем ошибку, сводя все виды правосудия к карательному: существует еще и восстановительное правосудие. Именно к этому варианту мы прибегли. Но это именно правосудие. Никто не оставляет преступников без наказания. Они должны публично, перед телекамерами, признаться в тех ужасных поступках, которые совершили. И это трудно, очень трудно[212].

Ил. 25. Десмонд Туту вручает Нельсону Манделе пять томов с докладом Комиссии. Претория, 1998 год
Следствием установки на «моральное шоу» были основные особенности работы комиссии. Эффективность работы TRC обеспечила ее беспрецедентная публичность. Во все время ее работы сообщения об очередных слушаниях TRC предваряли выпуски новостей по радио и телевидению, публиковались в прессе. По радио передавались ежедневные 5-часовые прямые эфиры слушаний. Передача «Commission report», выходившая на южноафриканском телевидении в субботу вечером, стала самой рейтинговой новостной передачей в стране.
TRC рассмотрела свидетельства более 21 000 жертв, 2000 из них лично явились на слушания. Прошения о помиловании заявили более 7000 человек, из которых было рассмотрено в итоге 2500. По результатам слушаний 1167 человек было амнистировано, еще 145 получили частичную амнистию. И хотя, как уже было сказано, главным предметом критики в отношении комиссии было предпочтение правосудию прощения (причем нередко, как в случае амнистии 37 высокопоставленных членов АНК, такое прощение давалось заочно), даже амнистии сыграли свою роль, став инструментом раскрытия правды.
Свидетельством сравнительной объективности TRC стало то, что публикации ее отчетов[213] старались помешать как черные, так и белые элиты. Первые пять томов отчета были опубликованы в 1998 году, вызвав недовольство обеих партий. Бывший президент де Клерк добился запрета на публикацию в отчете информации о нем, АНК пытался заблокировать выпуск отчета на правительственном уровне. Судебное решение в пользу публикации было вынесено за несколько часов до отправки томов в типографию. Отчет обсуждался в парламенте, и вице-президент (и председатель АНК) Табо Мбеки говорил, что «открытия комиссии могут в значительной степени делегитимировать или криминализировать борьбу нашего народа за свободу». 6‐й и 7‐й тома были закончены в 2002 году и вышли к 2003‐м. Задержка была связана еще с одним иском против публикации, теперь уже от Партии свободы Инкаты и ее лидера Мангосуту Бутелези, занимавшего в это время пост министра внутренних дел.
Политической воли к поддержанию и развитию решений комиссии в государственной юридической практике не было. Через два месяца после выхода последнего тома отчета Мбеки, к тому времени уже президент, амнистировал 33 не помилованных Комиссией (членов АНК и Панафриканского конгресса), дискредитировав зарабатывавшийся с таким трудом авторитет TRC.
КОМПЕНСАЦИИ
По результатам работы комиссии была разработана программа денежных компенсаций жертвам. В 2000 году был создан Президентский фонд, однако намеченные выплаты до сих пор произведены не полностью. Первый этап выплат проходил в 1998–2001 годах, за это время было выплачено компенсаций на сумму в 44 млн рэндов (5,5 млн долларов США по тогдашнему курсу) примерно 14 тысячам жертв; каждый получил от 2000 до 5600 рэндов (250–700 долларов). Для сравнения, годовой доход семьи из пяти человек в 2001 году в ЮАР составлял порядка 22 000 рэндов (2700 долларов США) у черных и 194 000 рендов (24 000 долларов) у белых.
Второй этап выплат был произведен в 2003 году, выплаты составили в общей сложности 571,5 млн рэндов (76,2 млн долларов). Но даже эта сумма более чем в пять раз ниже первоначально рекомендованных TRC выплат. По словам южноафриканского юриста Думисы Нцебезы, в прошлом члена Комиссии, к концу 2017 года компенсации были выплачены 17 408 заявителям из 21 676. Между тем, по мнению правозащитников, число имеющих право на компенсации может превышать 100 000. Иски пострадавших и их родных к государству с требованием компенсаций — до сих важный пункт повестки южноафриканских правозащитников и фактор, влияющий на внутреннюю политику.
ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ: УБУНТУ И ПРОЩЕНИЕ
В качестве ценностной основы национального примирения и объединения южноафриканской нации создатели TRC предложили философию убунту. Убунту — слово, представляющее собой сокращение косской пословицы «человек может быть человеком только благодаря другим людям» (Umuntu ngumuntu ngabuntu). Философия убунту строится на представлении о человечности как взаимосвязи всех членов общества. По определению Десмонда Туту, «человек, обладающий убунту, открыт и доступен для других, принимает других людей, не видит для себя опасности в том, что другие талантливы и добры; он твердо уверен в себе, понимая, что является частью большего целого; когда же других оскорбляют или унижают, пытают или угнетают, человек, обладающий убунту, сам унижен и подавлен»[214].
Благодаря комиссии идеи убунту оказались настолько популярны, что в 2004 году этим именем назвали операционную систему, созданную на принципах свободного программного обеспечения, доступного для всех на равных условиях и тем самым привносящую — как сказано на сайте производителя — «дух убунту в мир компьютерных технологий». Философия убунту помогает преодолеть разделения по принципу расы, религии и благосостояния, рассматривая всякого «другого» как часть единого сообщества.
Эта философия имела ряд важных особенностей, делающих ее идеальным объединяющим основанием. Во-первых, она была «родной» для африканцев, доверие которых к государственной политике было подорвано, во-вторых, не была религией, что позволяло апеллировать к ней приверженцам разных направлений христианства и местных культов, а в-третьих, акцентировала основания гуманизма и взаимосвязи, ослабленные за годы взаимной ненависти и розни.
Как было сказано в Переходной конституции ЮАР, действовавшей в 1994–1997 годах, национальное примирение — необходимое условие объединения нации и построения общества на новых основаниях (reconstruction). Для решения этой задачи необходимо основываться на предпочтении «понимания перед местью, возмещения перед расплатой, убунту перед виктимизацией»[215].
В условиях взаимной ненависти и вражды дегуманизации подвергаются не только жертвы насилия и злоупотреблений, но и преступники. Но принцип глубокой взаимосвязи всех членов сообщества, заложенный в философии убунту, предполагает восстановление человеческого достоинства и жертвы, и палача. Только так можно восстановить в обществе доверие и наметить путь к социальной гармонии. Встреча жертвы и палача, обусловленная готовностью видеть друг в друге прежде всего человека, возможна в акте испрашивания и дарования прощения. Это неотъемлемая часть процесса «выяснения правды».
Именно с этим связано возникновение в ЮАР периода работы TRC уникальной «культуры прощения» (или идеологии прощения). Прощение как главный инструмент примирения стало важной темой для всего южноафриканского общества: ее обсуждали в новостях, о ней снимали фильмы и писали книги. Главными проповедниками культуры прощения были Нельсон Мандела и Десмонд Туту. Заметным членом TRC стала Нумла Гободо-Мадикизела, клинический психолог и правозащитник. Наблюдая взаимоотношения жертв и преступников, она разработала концепцию «прощения непростительного» (forgiveness of the unforgivable): принципиально новый и неисследованный механизм преодоления травмы.
Гободо-Мадикизела спорит с Ханной Арендт, для которой «радикальное зло» Холокоста, будучи чем-то несоизмеримым, превышает возможности и прощения, и наказания. Но для Гободо — и тут она сближается с Жаком Деррида и Полем Рикёром — прощение всегда представляет собой преодоление невозможного (это всегда прощение непростительного). Отличие южноафриканской ситуации от Третьего рейха не в масштабах трагедии — такие вещи невозможно сравнивать количественно, — а в том, что тогдашний контекст в Германии не ставил вопроса о прощении и примирении: еврейская община в Германии была почти полностью уничтожена. Между тем в ЮАР и Руанде этот вопрос встает в полный рост. По Гободо, прощение как результат встречи с обидчиком и его покаяния — это единственное реальное средство проработки травмы, которое может служить важной моделью для отдельной личности и всего травмированного общества.
ВСТРЕЧА ЖЕРТВЫ И ПАЛАЧА
Теория Гободо-Мадикизелы не осталась кабинетным рассуждением, но была проверена ею «экспериментально». После окончания работы в TRC она решает встретиться с сидящим в тюрьме по многочисленным обвинениям в похищениях, пытках и убийствах Юджином де Коком. В 1980‐х и начале 1990‐х он руководил подразделением полиции по борьбе с вооруженным сопротивлением, лично участвовал в пытках и убийствах и за особую жестокость получил прозвище «Высшее зло» (трудно не увидеть рифму с «радикальным злом» Арендт и ее книгой об Эйхмане).
Де Кок давал показания Комиссии, в частности обвинил ряд высших руководителей страны в санкционировании деятельности эскадронов смерти. По большинству эпизодов де Кок был амнистирован (его вклад в дело примирения даже отмечен в отчете TRC), но нескольких оставшихся эпизодов хватило для того, чтобы все же приговорить его к нескольким пожизненным заключениям. В тюрьме де Кок выражал раскаяние и даже искал встреч с родственниками своих жертв — это и заинтересовало Гободо-Мадикизелу. После сорока с лишним бесед с де Коком, которые легли в основу ее книги «В ту ночь умер человек» (2003)[216], она поддержала прошение де Кока о помиловании (в тот момент прошение не было удовлетворено). Книга стала международным бестселлером, получившим престижные награды в ЮАР и США.
Еще один важный документ «культуры прощения» — документальный фильм Деборы Хоффман и Фрэнсис Рейд «Долгий путь из ночи в день» (2000), рассказывающий четыре истории прощения.
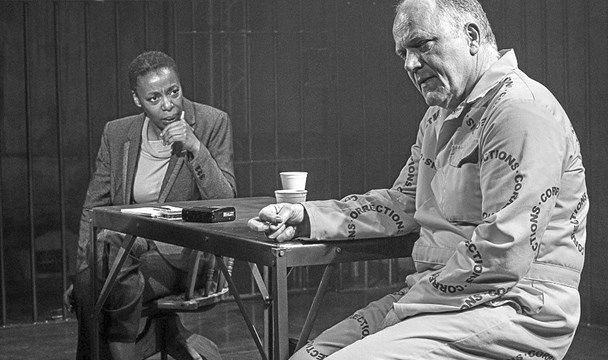
Ил. 26. Сцена из пьесы по книге Гободо-Мадикизелы в лондонском театре Хэмпстед
Первая из них началась 14 июня 1986 года, когда в результате взрыва бомбы в популярном у полицейских баре «Why Not» в городе Дурбан погибли 3 женщины и 69 человек получили ранения. Бомбу заложил член «Умконто ве сизве» Роберт Макбрайд. Через год он был приговорен к смертной казни, но приговор был отложен, а позднее Макбрайд заявил о желании дать показания перед Комиссией. Прося прощения у сестры одной из убитых взрывом, он говорил, что его поступки были политически мотивированы: бар был местом встреч белых сотрудников полиции, а лично против жертв он ничего не имеет. Комиссия признала Макбрайда виновным в «масштабных нарушениях прав человека»: он не мог не знать, что взрывает множество ни в чем не повинных гражданских лиц. И все же он был освобожден.
27 июня 1985 года сотрудники южноафриканских спецслужб убили четверых активистов из города Крэдок, а трупы пытались сжечь. Похороны «Четверки из Крэдока», в которых участвовали тысячи людей со всей страны, стали одним из ярких примеров выхода ситуации в стране из-под контроля властей. В 1996 году трое белых сотрудников полиции заявили о желании выступить перед Комиссией с признательными показаниями в обмен на помилование. Эрик Тэйлор рассказывал, что сделать это его побудил фильм Алана Паркера «Миссисипи в огне» (рассказывающий о расследовании убийства трех черных гражданских активистов в США 1960‐х) и чтение автобиографии Манделы. Это коренным образом изменило его взгляд на мир. Вдова одного из убитых отказалась прощать убийц мужа, вдова другого заявила, что прощает их, не желая отвечать злом за зло. В 1999 году Комиссия отказала Тэйлору и его подельникам в амнистии, но они все же остались на свободе.
3 марта 1986 года в Гугулету под Кейптауном полиция расстреляла семерых человек. Официально они были убиты в ходе антитеррористической операции. Как выяснилось позже, внедрив в среду самодеятельных борцов с апартеидом своих агентов, полицейские сами вырастили из них боевую организацию и подстроили расстрел, стремясь выслужиться перед руководством. Похороны Семерки из Гугулету, на которые пришли от 30 до 40 тысяч человек, превратились в одно из самых массовых выступлений против апартеида. Родные убитых безрезультатно добивались расследования инцидента, а в 1996 году попросили Комиссию рассмотреть их дело, пригласив в суд ответственных за полицейскую операцию. Из более десятка организаторов операции только двое (оба были сотрудниками центральных структур) попросили об амнистии в обмен на готовность рассказать о деталях. Черный констебль Тапело Мбело, внедрившийся в состав семерки и работавший провокатором, попросил о личной встрече с матерями убитых, чтобы попросить у них прощения. «Сынок, — говорит ему одна из них в самой поразительной сцене фильма, — ты ровесник моего сына, Кристофера. И я хочу сказать тебе сегодня, что как мать Кристофера, я прощаю тебя, сынок. Иди с миром». И хотя далеко не все матери готовы с ней повторить эти слова, встреча заканчивается тем, что Мбело по очереди обнимает их всех. Беллинген и Мбело были амнистированы в 2002 году.

Ил. 27. Мемориал Семерке из Гугулету
6 лет спустя после гибели Семерки из Гугулету, 25 августа 1993 года, там же четверо местных жителей убили 26-летнюю Эми Бил, студентку из Стэнфорда, приехавшую в ЮАР изучать борьбу с апартеидом и участвовать в ней. Ранее в этот день убийцы участвовали в собрании местной ячейки «Панафриканской студенческой организации» (PASO), на которой шла речь о том, что задача активистов — сделать страну неуправляемой. Всех четверых судили, они получили от 18 до 22 лет тюрьмы. В 1995 году они подали прошение, чтобы выступить перед Комиссией правды и примирения, заявив, что совершили преступление по политическим мотивам и глубоко раскаиваются.
В 1997 году родители Эми приехали в ЮАР, чтобы встретиться с семьями убийц и сказать, что прощают их. На заседании TRC в 1998 году родители Эми заявили, что, отдавая дань уважения дочери, считавшей примирение южноафриканского общества делом своей жизни, они просят Комиссию помиловать ее убийц:
Эми приехала в ЮАР студенткой и была впечатлена нарисованным Манделой образом «Радужной нации», примиряющей разнородное. Мы глубоко чтим его как образ прощения и примирения. <…> Самое важное средство примирения — это открытый и честный диалог. И мы здесь, чтобы примириться вокруг одной человеческой жизни, которую отняли, лишив возможности вступить в диалог. Когда мы сделаем это, мы должны идти дальше, взявшись за руки.

Ил. 28. Линда и Питер Бил с убийцами их дочери. Кейптаун, 1999 год
«Идеология прощения» помогла удержать ЮАР от скатывания в междоусобицу, как это было во множестве африканских стран. Но «покупка правды в обмен на правосудие», помогая избежать большой крови, часто оставляет старые раны кровоточить. Вскоре после освобождения Роберт Макбрайд, взорвавший посетителей бара «Why Not», был взят на работу в полицию и сделал блестящую карьеру, возглавив в конце 1990‐х полицейский департамент одного из муниципалитетов. В 2015 году, после 20 лет заключения, Юджин де Кок был помилован и вышел из тюрьмы. Позднее стало известно, что он был вынужден покинуть частный дом престарелых в Претории, потому что сотрудники, узнав его, отказались его обслуживать. В марте 2016 года покончил с собой 54-летний Жерар Лотц, один из убийц «Четверки из Крэдока». Родные убитых признались, что рады такому исходу. «Нам сказали простить, но я не простила, — сказала журналистам сестра одного из них. — Я вернусь в Крэдок, на могилу матери, и скажу ей, что теперь она может покоиться с миром».
Способны ли публичные покаяния, широко освещаемые в СМИ и обычно заканчивавшиеся амнистией, решить задачу излечения травм прошлого? Об этом в книге «Тревожащие свидетельства»[217] рассуждает известный оксфордский социолог Ли Пэйн. Многие критики южноафриканской модели уверены, что исцеления не происходит. Вместо успокоения возникают новые ожесточенные споры. Однако, как замечает Пэйн, сами эти споры — и публичные исповеди как их спусковой крючок — лучше всего прочего служат выстраиванию демократического сознания, механизмов гражданского участия, способствуют созиданию культуры свободной дискуссии и конкуренции политических программ.
УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ?
Вопрос об исторической памяти в условиях современной ЮАР звучит так: увенчались ли успехом усилия по примирению и объединению общества? Чем больше времени проходит после завершения работы Комиссии, тем более скептически говорят о ее результатах. Причем больше всего скепсиса в самой ЮАР.
Главный аргумент скептиков — резкое увеличение преступности и неравенства по сравнению с периодом апартеида и массовая эмиграция белых. Действительно, в 1990‐е число убийств по сравнению с 1950–1970‐ми годами выросло катастрофически: с 25–30 на 100 000 человек до 70–80. В 2010‐х этот уровень снизился до 35 человек, почти вернувшись к прежним показателям. По оценкам ООН, уровень насильственных преступлений за последние 10 лет снизился на 40%, а имущественных — на 24%. Уровень неравенства, традиционно высокий в ЮАР, после отмены апартеида продолжал расти, особенно активно после 2011 года (в 2018 году ЮАР возглавила рейтинг неравенства Всемирного банка)[218]. Однако в значительной степени продолжающийся рост бедности является результатом неравенства возможностей — фактора, заложенного в годы апартеида. С другой стороны, за прошедшие годы роль расового фактора как определяющего бедность снизилась, а роль образования и конъюнктуры рынка труда выросла. Куда однозначнее статистика, касающаяся соотношения черного и белого населения ЮАР. Если в 1986 году оно выглядело примерно как 5 к 1[219], то в 2015‐м — уже 10 к 1. После 1994 года ЮАР пережила настоящий исход белого населения. Но даже эти цифры стоит воспринимать, имея в виду ситуацию в соседних Анголе, Мозамбике и Зимбабве, где белых почти не осталось[220].
Пожалуй, самое пронзительное выражение этого скепсиса — роман южноафриканского писателя Джона Кутзее «Бесчестье» (1999). Писатель получил за него вторую в своей карьере Букеровскую премию, а в 2003 году, по совокупности написанного, и Нобелевскую. В 2008 году Стив Джейкобс экранизировал книгу, главную роль в фильме сыграл Джон Малкович. Роман рассказывает о злоключениях Дэвида Лури, белого университетского профессора из Кейптауна, преподающего английскую литературу и принуждающего к сексу студенток. Из-за жалобы одной из них он теряет работу и репутацию. Покинув Кейптаун, он селится на ферме у дочери Люси на территории бывшего бантустана. На ферму нападают хулиганы, Люси насилуют, в результате чего она беременеет.

Ил. 29. Кадр из фильма Стива Джейкобса «Бесчестье» по роману Джона Кутзее
Несмотря на настояния отца, она отказывается обращаться в полицию или уехать в Голландию, как многие белые. Она решает жить на земле, которую выбрала, и оставить ребенка. Одним из насильников, предполагаемым отцом ребенка, оказывается племянник соседа, который предлагает Люси свое покровительство, если она станет его третьей женой и запишет ферму на него. «Вы говорите, это плохо, — то, что произошло, — говорит этот сосед главному герою, пародируя формулу южноафриканской Комиссии. — И я говорю, что плохо. Плохо. Но с этим покончено»[221]. Таковы условия «примирения», и Лури, всю жизнь сам диктовавший условия окружающим, вынужден их принять. Сам Кутзее, в годы апартеида бывший одним из убежденных его критиков, в 2002 году эмигрировал в Австралию.
Однако при всех многочисленных оговорках главный тезис Десмонда Туту о том, что правда ведет к примирению, в случае ЮАР работает. Политолог Джеймс Гибсон в прекрасно выстроенной и аргументированной книге «Преодолевая апартеид: может ли правда примирить разделенную нацию»[222] (она получила приз Американской политологической ассоциации и стала академическим бестселлером) показывает, что в той мере, в какой южноафриканское общество признало факты, вскрытые и опубликованные Комиссией, отношения между его членами изменились к лучшему.
Если попытаться определить слишком широкое и многозначное понятие «примирение» в смысле социально-политического процесса, окажется, что речь идет о нескольких вполне конкретных условиях, и «развязывание узлов» между конкретными жертвами и преступниками — только одно и, ввиду немногочисленности жертв, — не самое весомое условие. Куда важнее преодоление укорененного с колониальных времен и укрепленного апартеидом разобщения между жителями страны, считающими «своими» только представителей собственной расы, а потому фактически не способных брать ответственность за положение в стране в целом и видеть себя в полном смысле ее гражданами.
Не менее важное условие «примирения» — создание культуры терпимости к иным политическим взглядам, уважения к демократическим институтам и правам человека. Ведь нетерпимость была прямым следствием политики сегрегации. Как сказано в отчете Комиссии, «примирение требует, чтобы все южноафриканцы взяли на себя моральную и политическую ответственность за выстраивание культуры прав человека и демократии, в рамках которых социально-экономические конфликты разрешаются осторожно и без применения насилия»[223]. Поэтому «примирение» означает признание всеми гражданами ЮАР легитимности политических институтов, созданных после демонтажа апартеида.
С учетом того, что в 1980‐х отчуждение в южноафриканском обществе достигло максимума, как белые, так и черные считали противостояние с оружием в руках «справедливой войной», даже незначительные подвижки в направлении налаживания взаимопонимания стоит считать успехом. Страна не только не скатилась в гражданскую войну, но значительная часть общества сделала заметный шаг на пути к взаимопониманию. По данным социологического исследования, проведенного Гибсоном, уже в 2001 году 94% черных и 73% белых южноафриканцев считали апартеид преступлением против человечности. А 76% черных и 74% белых признавали, что и апартеид, и борьба против него обернулись преступлениями. Об отсутствии недоверия и стереотипов по отношению к противоположной расовой группе сообщили 37% черных и 57% белых. Хотя принципы политической терпимости разделяют только 21% черных и 35% белых, о доверии политическим институтам говорят 81 и 62% соответственно, а о поддержке принципов прав человека — 45 и 77%.
В 2006 году, подводя итоги президентства Табо Мбеки, Десмонд Туту писал, что в переходе к демократии в ЮАР при всех его недостатках нельзя не видеть важной победы, тем более очевидной на фоне стран (Руанда, Шри-Ланка, Бурунди, Судан и др.), которые скатились в кровь и междоусобицы, не сумев преодолеть разделений, уходящих корнями в трудное прошлое:
Урок южноафриканского перехода к демократии состоит в том, что любое разделенное государство лишено будущего, если пытается двигаться вперед без восстановления правды и прощения. <…>
Преступление нельзя похоронить. Политические преступления не забываются. Мы не забыли, что делали с простыми черными людьми во имя апартеида. Открыв Комиссию правды и примирения, мы знаем куда больше об ужасах той эпохи, чем если бы стремились привлекать виновных к уголовной ответственности или просто двигаться вперед как ни в чем не бывало. Правда сделала нас свободными, позволив примириться с самими собой. Память и прощение позволили нам навсегда оставить в прошлом не дававший нам покоя кошмар. Я искренне надеюсь, что граждане Ирака и других стран, преследуемые своим прошлым, смогут найти возможность жить в мире и с миром в душе[224].
Спустя 10 лет с ним трудно не согласиться. Современная ЮАР, со всеми ее проблемами и противоречиями, — пример страны, наметившей для себя новое будущее в ситуации, когда будущего могло не быть совсем.
В сентябре 1995 года, в 56-ю годовщину вторжения СССР в Польшу, на пересечении улиц Мурановской и Генерала Андерса был открыт мемориал «Павшим и убитым на Востоке». Мемориал изображает стоящий на рельсах вагон, наполненный крестами (среди крестов есть также мусульманские и иудейские символы). На шпалах уходящей в даль железной дороги выбиты названия населенных пунктов, жители которых были депортированы или расстреляны в СССР, названия лагерей и мест ссылки. Мемориал производит сильное впечатление. В 1999 году перед ним молился Иоанн Павел II. И только небольшой информационный стенд с другой стороны площади напоминает, что именно здесь в апреле 1943 года произошло главное сражение Восстания варшавского гетто — оборона Мурановской площади.
Поражающий воображение мемориал и небольшой стенд — сочетание довольно красноречивое. Сказать, что одна память вытесняет и заслоняет собой другую, было бы натяжкой. В 15 минутах ходьбы от Мурановской площади располагается Памятник героям гетто и Музей истории польского еврейства, в 2016 году получивший самую престижную в музейном сообществе награду European Museum of the Year Award. Но наличие одного из лучших в мире музеев, убедительно рассказывающего об ужасах Холокоста, не мешает Варшаве быть столицей государства с крайне высоким уровнем антисемитизма, граждане которого собираются в многотысячные националистические марши, проходящие в нескольких кварталах от места, где располагалось самое большое в Европе еврейское гетто.
Польша — страна, до краев наполненная памятью. Именно к ней более всего приложимо название книги Тины Розенберг о постсоветской Восточной Европе — Haunted Land, «Земля, населенная призраками прошлого»[225]. Но эти памяти существуют в Польше вне связи друг с другом, наслаиваясь, но не смешиваясь. В результате самая гомогенная страна Европы (по данным на конец 1990‐х годов, 96% католиков и 95% этнических поляков) существует в постоянном внутреннем напряжении, живет сразу в нескольких реальностях, переключаясь из одной в другую в зависимости от обстоятельств.
История Польши состоит из постоянного болезненного взаимодействия с соседями. Речь Посполитая располагалась в XVI–XVIII веках на территориях нынешних Польши, Литвы, Украины, Белоруссии и России, что оборачивалось крайне сложными отношениями с этими нациями. Освобождение от советской диктатуры в 1989 году неизбежно обернулось, как в других новых демократиях, необходимостью развязывать исторические узлы и осмыслять противоречия, лежащие в плоскости исторической памяти. Польско-германские, польско-российские, польско-литовские, польско-украинские и польско-белорусские противоречия[226] — вот необходимый минимум, без которого невозможно полноценное обсуждение польской памяти. Сколько-нибудь внятное изложение такой комплексной картины в рамках предпринимаемого здесь краткого очерка невозможно. Поэтому при описании польской модели мы сосредоточимся только на двух линиях: работе с социалистическим прошлым и теме ответственности за преступления против польских евреев — главном и наиболее болезненном элементе собственно трудного прошлого Польши.

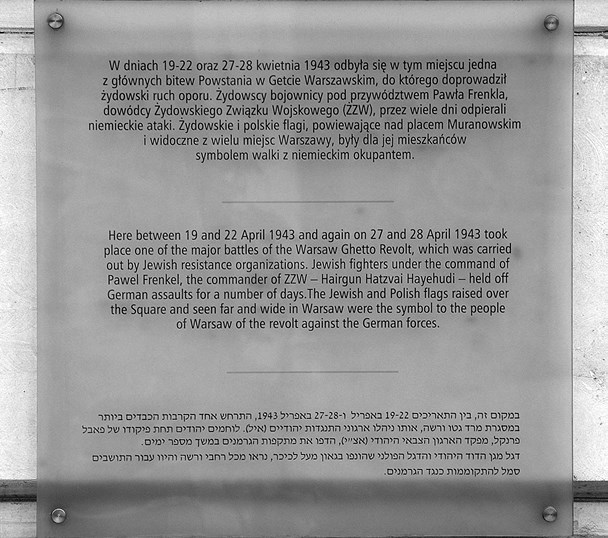
Ил. 30. Мемориал «Павшим и убитым на Востоке» и информационная табличка в память об обороне Мурановской площади
«ХРИСТОС НАРОДОВ»: ОБРАЗ ЖЕРТВЫ КАК ОСНОВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Ключевая особенность польской модели работы с трудным прошлым связана со сформированной столетиями непростых отношений с соседями идентификацией себя как жертвы внешних сил, с болезненным акцентом на независимости и представлении о национальной измене как самом страшном преступлении. «Независимость — центральная тема истории Польши, страны, неудачностью местоположения уступающей разве только Израилю, многие периоды своей истории существовавшей в виде подпольного заговора, а с 1795 по 1989 год знавшей всего двадцать лет подлинной независимости», — пишет Тина Розенберг[227].
Роль Польши как защитницы европейского христианства и прибежища свободы, утвержденная победой над турками под стенами Вены в 1683 году и воспетая национальным поэтом Веспасианом Коховским, довольно быстро сменилась ролью жертвы. После (третьего по счету) раздела Речи Посполитой в 1795 году между Россией, Пруссией и Австрией Польша исчезла с европейской карты более чем на сотню лет. Гимн Польши, написанный в 1797 году в Италии, — свидетельство не торжества и гордости, а упорства по ту сторону отчаяния. Восстания сторонников национальной независимости жестоко подавлялись властями Российской империи. Жертвами подавления восстания 1830–1831 годов стали 40 тысяч человек (включая раненых), а восстания 1863–1864 годов — от 20 до 30 тысяч человек (только погибшие).

Ил. 31. Популярная почтовая карточка (ок. 1891). Польша изображена в виде Иисуса, утешаемого Девой Марией. На заднем плане краковский замок Вавель. Надпись на кресте: «Время искупления еще не пришло». В нижней части картины — даты трех разделов Польши (1772, 1793, 1795), на перекладине — столетие Конституции Третьего мая (1791–1891); на покрове Девы Марии — даты главных восстаний
Столетиями существуя под диктатом гораздо более сильных соседей, поляки нуждались в романтическом мифе, осмысляющем свою роль как искупительной и спасительной жертвы[228]. Центральный образ этого мифа — Польша как «Христос народов» — обязан своим рождением сцене из драматической поэмы самого выдающегося польского поэта-романтика Адама Мицкевича «Дзяды», написанной под впечатлением от подавления Россией польского восстания 1830–1831 годов. Один из героев поэмы в своем видении видит народ Польши в образе человека, ведомого на казнь и распинаемого («„Я жажду“, — стонет он, / глотка воды он просит, / Но уксус Пруссия, желчь — Австрия подносит, / У ног Свобода-мать стоит, скорбя о нем»[229]) — а после воскресающего и приносящего европейским народам спасение и освобождение от тирании («Народов и царей превыше вознесенный, / На три короны стал, но сам он без короны»).

Ил. 32. Пленные польские военные под охраной красноармейцев
Укрепленный столетиями несвободы, этот миф стал основой коллективной самоидентификации поляков. Среди составляющих такой самоидентификации 1) героизация страданий, которые воспринимаются как мессианские и очистительные для других; 2) сакрализация измены (национального предательства) как самого страшного и не имеющего прощения преступления; 3) исключительность именно польских страданий и восприятие других претендентов на роль жертвы как конкурентов; 4) базовое недоверие к любым внешним силам: они явно или скрыто посягают на независимость Польши; 5) связь представления о независимости с моноэтничностью и ориентация на построение свободной Польши как национального государства.
Этот миф оказывается рамкой для интерпретации поляками драматических событий своей истории XX века, подкрепляющей их жертвенную идентичность. Вторая мировая война в его свете интерпретируется как «четвертый раздел Польши», а послевоенная советизация — как пятый.
Краткий период независимости Польши, продолжавшийся с ноября 1918‐го по сентябрь 1939 года, только раззадорил собиравшихся с новыми силами соседей. Размах репрессий в отношении советских поляков в 1930‐х и 1940‐х был во многом вызван памятью о поражении в советско-польской войне 1919–1921 годов. Оправданием массовых (не менее 100 тысяч человек) депортаций поляков, населявших территорию Украины в середине 1930‐х, и «Польской операции» НКВД (одной из самых кровавых операций Большого террора 1937–1938 годов: в ее ходе было расстреляно не менее 85 тысяч поляков, около 30 тысяч отправлены в лагеря) стал миф о Польской военной организации, действительно существовавшей в годы советско-польской войны и разгромленной ЧК в 1921 году[230]. Среди причин волынской резни, когда в 1943 году украинские националисты уничтожили 70 тысяч поляков, — память о польско-украинской войне 1918–1919 годов.
В сентябре 1939 года с разницей в две недели на Польшу обрушиваются всей своей мощью две наиболее агрессивные силы тогдашнего мира, нацистская Германия и СССР. Драматизм положения на раздираемых между двумя империями «кровавых землях» отразил Анджей Вайда в первой сцене своего фильма «Катынь»: 17 сентября 1939 года, в день ввода в Польшу войск Красной армии, на мосту, отделяющем советскую зону от немецкой, сталкиваются поляки, бегущие навстречу друг другу от немцев и от русских. В своей книге «Кровавые земли» американский публицист и историк Тимоти Снайдер упоминает поразительный по трагизму эпизод. 22 июня 1941 года эшелоны с депортированными польскими гражданами, двигавшиеся уже по территории СССР, попали под немецкую бомбардировку: около 2000 погибших стали в буквальном смысле жертвами обоих режимов.
С началом войны с западной стороны линии Молотова — Риббентропа действуют нацистские «айнзац-группы», задачей которых была расправа с мирным населением и «расово неполноценными», с восточной — Красная армия и НКВД. Именно в 1939–1940 годах тут разворачиваются события, которые позже станут известны как Катынское преступление.
В 2009 году польский Институт национальной памяти (далее ИНП) оценил потери страны во Второй мировой войне в 5,6–5,8 млн человек. Из них 2,7 млн — этнические поляки, пострадавшие от немецкой оккупации, от 2,7 до 2,9 млн человек — евреи — жертвы Холокоста, 150 тысяч человек — жертвы советских репрессий.
Одним из сосланных из оккупированных СССР территорий был семнадцатилетний Войцех Ярузельский, будущий генерал и самый могущественный руководитель советской Польши. По пути в Сибирь вместе с сестрой и матерью он думает о том, что, возможно, этим же путем следовал когда-то его дед, сосланный сюда за участие в восстании 1863 года. В 1942 году в Бийске Ярузельский хоронит недавно освободившегося из лагеря отца и мобилизуется в польский корпус Красной армии под руководством генерала Зигмунта Берлинга. В сентябре 1944 года Ярузельский в составе польского Первого дивизиона сидит в захваченном Красной армией варшавском районе Прага и наблюдает, как в нескольких сотнях метрах по ту сторону Вислы части вермахта подавляют Варшавское восстание — самый масштабный в истории Второй мировой мятеж против нацистов.
«Две политики столкнулись там, и Варшава пала их жертвой», — писал Ярузельский в своих воспоминаниях. Образом отчаянной безысходности Варшавского восстания стал финал раннего фильма Вайды «Канал» (1957), в котором последние герои сопротивления, уходя от нацистов по туннелям канализации, натыкаются на смотрящий на Вислу выход, забранный решеткой.
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЛЬША: ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Окончание войны не стало для Польши освобождением в полном смысле этого слова. Когда в январе 1945 года советские войска все-таки перешли Вислу и заняли Варшаву, среди немногих сохранившихся зданий были постройки варшавского концлагеря, построенного нацистами на месте разрушенного гетто. Он перешел в ведение НКВД, став второй по величине (после Мокотува) тюрьмой, где содержали и расстреливали деятелей подполья и солдат Армии Крайовой (подпольная военная организация, боровшаяся против немецкой оккупации и подчинявшаяся польскому правительству в изгнании).
За разделом Польши между Германией и СССР без зазора следует новый раздел, вот только на этот раз активное участие в нем принимают сами поляки (среди наиболее рьяно проводящих политику советизации оказывается глава Польской рабочей партии Владислав Гомулка). Существенной частью внутренней политики новой Польской Народной Республики становится уничтожение подполья как наиболее непримиримой части оппозиции. Но теперь это делается не столько силами НКВД, сколько силами польских следственных и карательных органов. С 1944 по 1956 год 6 тысяч деятелей подполья приговариваются к смерти, около 300 тысяч оказываются в заключении, порядка 20 тысяч из них там и погибают.
Среди приговоренных к смерти был и ротмистр Витольд Пилецкий, человек невероятной судьбы. Создатель «тайной польской армии» в 1939 году, в 1940‐м он намеренно сдается немцам и становится заключенным Аушвица, налаживает там подпольную сеть и на протяжении трех лет шлет оттуда донесения, впервые открывающие внешнему миру информацию о Холокосте (донесения становятся основанием одного из рапортов, переданных на Запад)[231]. В 1943 году он бежит из Аушвица, участвует в Варшавском восстании, попадает в немецкий плен, после чего возвращается в Польшу и работает в подполье. В 1947 году он был арестован польской госбезопасностью и подвергнут пыткам. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и подготовке убийства сотрудников госбезопасности. На суде за него отказывается ходатайствовать Юзеф Циранкевич, вместе с ним организовывавший сопротивление в Аушвице. Пилецкого расстреливают, а Циранкевич, незадолго до этого возглавивший правительство ПНР, сохраняет этот пост до 1970 года (с коротким перерывом), дольше, чем кто-либо еще в истории Польши[232].
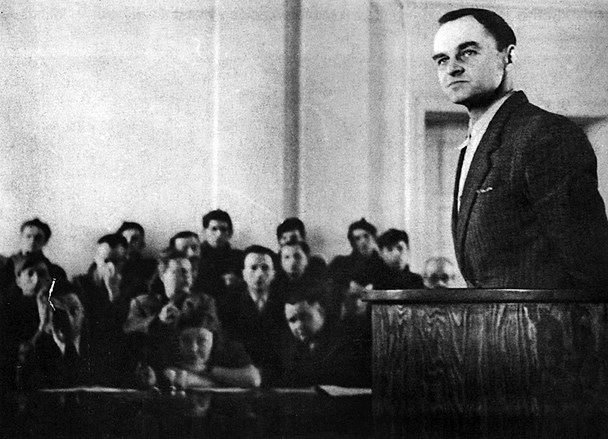
Ил. 33. Ротмистр Витольд Пилецкий на суде. Ок. 1947–1948 года
Герои Варшавского восстания в послевоенной Польше становятся «проклятыми солдатами» (Żołnierze wyklęci — общее название для всех членов вооруженного антикоммунистического движения). Память о них старательно замалчивается, их место занимают герои Восстания в гетто, из представителей еврейской общины превратившись в официальной риторике в героев-антифашистов. Памятник Героям гетто был открыт уже в 1946 году и обновлен в 1948‐м.
Смягчение курса происходит в 1956 году, на фоне политики десталинизации в руководстве СССР и социальной напряженности в польском обществе. Свидетельством кризиса стали познанские протесты против коммунистической политики, при подавлении которых погибли несколько десятков человек и около 500 получили ранения. Польское руководство (в него возвращается пребывавший в опале с 1948 года Гомулка) начинает разыгрывать патриотическую и националистическую карту: амнистированы 35 тысяч бывших солдат Армии Крайовы, начинает легитимизироваться память о Варшавском восстании (в 1956 году принято решение об установлении памятника «героям Варшавы», но сделано это будет только в 1964‐м). В середине 1960‐х ветеранскую организацию «Союз борцов за свободу и демократию» (ZBoWiD) возглавляет министр внутренних дел и борец с евреями в партийном руководстве Мечислав Мочар. В «Союз» начинают принимать ветеранов Армии Крайовой, и число членов организации начинает стремительно расти.
Использование националистических настроений в ситуации кризиса оказывается удобной для властей ПНР стратегией. Она используется в 1968 году, когда на фоне экономического кризиса и студенческих волнений врагами объявляются евреи, а затем в 1981‐м, когда на фоне резкого усиления забастовочного движения и формирования профсоюза «Солидарность» Войцех Ярузельский объявляет военное положение не в качестве главы ПОРП, а от имени «Военного совета национального спасения».

Ил. 34. Забастовка на Гданьской судоверфи, август 1980 года
На фоне протестов на Гданьской судоверфи имени Ленина формируется «сторона переговоров» с властью в виде профсоюза «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой. Уже на момент его регистрации в сентябре 1980 года число членов профсоюза достигает 7 млн человек, а в мартовской забастовке 1981 года принимают участие 13 млн (при населении Польши в 35,5 млн). Последней попыткой действовать недоговорным образом стало введение правительством Войцеха Ярузельского военного положения. Это решение было принято под давлением СССР, угрожавшего военным вторжением в случае отказа польских властей ввести режим военного положения. Хотя ситуацию удается временно заморозить, объявив «Солидарность» вне закона и изолировав лидеров оппозиции, экономический кризис углубляется, усиленный введенными США санкциями против СССР, а оппозиция находит силы для сопротивления, воодушевленная визитом в 1983 году в Польшу польского папы Иоанна Павла II и присуждением Леху Валенсе Нобелевской премии мира.
Постоянным «конструктивным фоном» польского транзита, перехода от однопартийной коммунистической диктатуры к либеральной демократии и капитализму, становятся события, разворачивающиеся в СССР. В мае 1985 года, через два месяца после назначения Михаила Горбачева на пост главы ЦК КПСС, он заявил, что «отношения с братскими социалистическими странами вступили в новый исторический этап <…> водить их на помочах нельзя» и призвал «уважать суверенитет, достоинство союзников, в том числе малых, отказываться от иллюзий, что мы можем всех учить». Всего годом раньше Константин Черненко требовал от Ярузельского «искоренить антисоциалистические элементы» и т. д. Это было сказано за четыре года до официальной смены «доктрины Брежнева», предполагающей вмешательство СССР во внутренние дела союзников по Восточному блоку, «доктриной Синатры», предоставлявшей им действовать на свое усмотрение.
Польскому руководству было предоставлено самостоятельно разбираться с последствиями Военного положения. Катастрофически теряющие популярность в условиях сильнейшего экономического кризиса и лишенные прежней поддержки СССР, польские власти начинают переговорный процесс с оппозицией. Движение к нему начинается масштабной амнистией политзаключенных летом 1986 года (под ее действие попали 1500 человек) и увенчивается сначала кулуарными переговорами лидеров ПОРП с лидерами «Солидарности» в Магдаленке в сентябре 1988 года и затем Круглым столом 1989 года. На Круглом столе принимается решение об организации «полусвободных выборов»: «Солидарность» получает доступ к выборам при гарантированном большинстве ПОРП в новом парламенте, а Ярузельскому гарантируется 5 лет в качестве президента. Однако выборы лета 1989 года опрокинули расчеты сторон: «Солидарность» получила все возможные места в Сейме и почти все в новообразованном Сенате; коммунистам оставалось только самораспуститься. На свободных президентских выборах 1990 года побеждает глава «Солидарности» Лех Валенса.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
Круглый стол был классическим примером компромиссного переходного механизма (напоминая договоренности демократических сил с военными в Аргентине и Испании и договоренности Манделы с де Клерком в ЮАР): задачей сторон на нем было не разбирательство с прошлым и наказание преступников, а будущее и решение текущих неотложных проблем. Задачей переговоров была организация «не-конфронтационных выборов» для легитимации разделения властных полномочий, и любая попытка намекнуть на ответственность оппонентов за преступления и ошибки сделала бы переговоры невозможными. Отсюда программное заявление в первой речи перед Сеймом первого посткоммунистического премьера Тадеуша Мазовецкого о «проведении жирной черты между настоящим и прошлым», во многом аналогичное испанскому «пакту о забвении» и аргентинскому punto finale.
Впрочем, «жирная черта» Мазовецкого не означала полную амнистию. Решением Сейма в 1990 году была упразднена Служба безопасности, коммунистическая тайная полиция, а ее сотрудники, чтобы сохранить работу, должны были пройти процедуру «верификации», предполагавшую проверку на причастность к нарушениям прав человека. Из 24 тысяч бывших сотрудников на верификацию решились 14 500 человек и 12 тысяч были приняты на работу в новые структуры. Имели место проверки сотрудников и в других ведомствах: так, своих должностей в 1990 году лишились 10% польских прокуроров и 33% сотрудников Генпрокуратуры[233].
Компромиссный характер транзита позволил коммунистическим элитам сохранить свои позиции и влияние, исключив сколько-нибудь широкую люстрацию и привлечение к ответственности прежнего руководства. Поскольку коммунистические элиты комфортно устранились от власти и ответственности, а «Солидарность» вынуждена была выводить страну из экономической катастрофы, именно демократы собрали на себя все недовольство общества, а посткоммунисты обеспечили себе возможность реванша. В 1989 году рейтинг ушедшего в отставку лидера советской Польши Войцеха Ярузельского и ПОРП был критически низким, но уже в 1994 году его рейтинг вдвое превышает рейтинг Валенсы, а 71% поляков называет введение Военного положения оправданным. В 1992 году министр внутренних дел Антоний Мацеревич, один из инициаторов закона о люстрации, выступил в Сейме с докладом, в котором упоминалось о сотрудничестве со спецслужбами десятков высокопоставленных политиков, включая президента Леха Валенсу. Большинство депутатов увидели в этом стремление свести счеты: доклад стал одним из причин отставки правительства.

Ил. 35. Лех Валенса и Чеслав Кищак, сентябрь 1988 года
Тоска по стабильности становится настроением большинства — к 1993 году парламент контролируют уже бывшие коммунисты (Союз демократических левых сил был создан из осколков ПОРП и профсоюзных организаций), а в 1995 году президентом становится бывший член ПОРП Александр Квасьневский. В этой ситуации серьезный разговор об ответственности за коммунистическое прошлое оказывается невозможным.
Первый закон о люстрации, который, впрочем, все признавали скорее уступкой радикальным антикоммунистам, был принят только после усиления позиций правых в 1997 году (а начал действовать в 1999‐м). По закону, лица, занимавшие государственные должности или претендовавшие на них, должны были подать декларацию, указав, являлись ли они сотрудниками или осведомителями коммунистической Службы безопасности. Те, кто скрывал факт сотрудничества или указывал недостоверные сведения, лишались должности на 10 лет: наказывался не факт сотрудничества, а установленный факт лжи в декларации[234]. Круг должностей, подлежащих такой процедуре, с тех пор остается предметом дискуссии. Еще одним завоеванием правых конца 1990‐х было открытие в 1998 году Института национальной памяти, который должен был стать аналогом германского Ведомства Гаука. В отличие от него, ИНП сосредоточил в себе сразу несколько функций. Во-первых, архивную: получив в свое распоряжение все архивы спецслужб коммунистической Польши, ИНП стал крупнейшим архивом Восточной Европы. Во-вторых, судебную: в ИНП влилась Главная комиссия по расследованию преступлений против польского народа; в 1998–2012 годах институт провел более 9200 расследований (70% касаются преступлений коммунистов, 20% — нацистов, остальное — военные преступления), более 400 человек были привлечены к суду, 148 признаны виновными[235].
В-третьих, исследовательскую и просветительскую: институт проводит сотни выставок, разрабатывает образовательные программы, учебные материалы, проводит публичные лекции и т. д. Наконец, в 2007 году в рамках нового закона о люстрации ИНП был назначен ответственным и за этот процесс (одна из функций сотрудников — рассмотрение десятков тысяч люстрационных деклараций: к 2012 году их было подано порядка 150 тысяч). Новый закон расширил список должностей, подлежащих проверке: если под действие закона подпадали порядка 27 тысяч человек, то с 2007 года это число возросло до 700 тысяч. Сразу после принятия новой версии закона Конституционный суд оспорил это положение, но список по-прежнему довольно широк.
Попытки призвать к ответственности виновных во введении военного положения и связанных с ним нарушениях прав человека, предпринимавшиеся сначала отдельными членами Сейма, а затем ИНП, не имели заметного успеха. Процесс над Войцехом Ярузельским, Чеславом Кищаком (глава МВД в 1989–1990 годах), Станиславом Каней (глава ЦК ПОРП во время военного положения) и другими, шедший с перерывами в 2007–2011 годах, был прекращен по состоянию здоровья обвиняемых (Каня был оправдан).
Примечательно, что основным аргументом защиты Войцеха Ярузельского был довод о том, что военное положение, стоившее стране около сотни жизней и довольно умеренных по меркам Восточной Европы репрессий, позволило предотвратить иностранное вторжение, которое в лучшем случае превратило бы Польшу в еще одну советскую казарму, а в худшем утопило бы страну в крови. Обвинители Ярузельского, напротив, стремились представить его национальным предателем и марионеткой СССР. Фактически разговор об ответственности руководителей ПНР за преступления и ошибки советского периода свелся к выяснению, были ли они защитниками от советской угрозы или же ее проводниками.
В 2000‐х годах политическое противостояние идет уже не между наследниками коммунистов и антикоммунистами, а между проевропейскими либералами (партия «Гражданская платформа») и националистами-евроскептиками («Право и справедливость»). При этом отношение к коммунистическому наследию по-прежнему оставалось важнейшим предметом споров среди политиков. Ядро ПиС формируется из радикальных антикоммунистов, в 1989 году не принявших переговоры в Магдаленке и Круглый стол, и считавших лидеров «Солидарности» во главе с Валенсой коллаборантами и предателями.
В то же время польское общество в начале 2000‐х демонстрирует скорее усталость от темы люстрации и вообще предпочитает «не ворошить прошлое». С 1998 по 2003 год число поляков с высшим образованием, не интересующихся прошлым, выросло с 5,7 до 23,3%. В 2005 году 52% поляков считали, что люстрация ухудшит политический климат в стране. Неудивительно поэтому, что победа в октябре 2015 года ПиС оказалась для многих неожиданной. Она становится понятной в качестве защитной реакции на усиливающееся (по мере интеграции страны в ЕС) влияние распространенного в Западной Европе критического подхода к своему прошлому. Ключевой для польской коллективной памяти миф о Польше как стране — мученике и жертве внешних сил легко мирится с пережитками советского прошлого, но тема польской вины угрожает самому его существованию и вызывает сильнейшую защитную реакцию. Именно поэтому критический подход к истории активнее всего блокируется (и даже криминализуется) в рамках новой исторической политики «Права и справедливости».
Поэтому дискуссии о польском антисемитизме, разразившиеся в 2000‐х и 2010‐х годах, оказываются важнейшей составляющей польской модели памяти.
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС КАК ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ЖЕРТВЫ
Сегодняшняя Польша — страна с самым низким в Европе процентом еврейского населения, но очень сильными антисемитскими настроениями. По данным Pew Research, который в 2015 году исследовал[236] шесть государств Европы, Польша оказалась наименее дружелюбно настроенной к евреям страной. Только 59% опрошенных относятся к евреям положительно (в среднем в 6 странах по Европе 78%) и 28% отрицательно[237]. По данным Центра исследования предрассудков Варшавского университета[238], в 2014–2016 годах в польском обществе заметен рост антисемитских настроений. Хотя еврейская община насчитывает сегодня не более 10 тысяч человек (0,1% населения 38‐миллионной Польши) и 85% опрошенных признаются, что лично никогда не сталкивались с евреями, они все менее готовы терпеть евреев в качестве коллег (15% в 2016‐м против 10% в 2014 году), соседей (32 против 26%) или членов семьи (55 против 45%)[239]. Такие настроения в стране, без малого 80 лет назад ставшей ареной наиболее кровавых событий Холокоста, — как минимум крайне интересная тема для исследователей памяти.

Ил. 36. Реконструкция интерьера синагоги в Гвоздце. Вторая половина XVII века, экспозиция музея ПОЛИН, Варшава

Ил. 37. Варшава, 1926 год
Рассмотрение этой темы потребует небольшого исторического экскурса.
Польша и евреи: предыстория
С конца XIII века евреи, изгоняемые из Центральной и Западной Европы, находят прибежище в Польше, особенно в правление Казимира III Великого. По переписи 1931 года, в Польше жил 3 130 581 еврей, к 1939 году их число оценивалось уже в 3 474 000, то есть они составляли около 10% всего населения страны. В Варшаве и Лодзи — двух самых важных еврейских городах Польши — евреи составляли треть населения (по абсолютному числу еврейского населения Варшава уступала только Нью-Йорку), во Львове и Вильно — больше 40%.
При этом еврейская община Польши была наименее ассимилированной. Евреи могли жить отделенно от поляков-католиков, сохраняя свою идентичность: в межвоенный период только 10% польских евреев можно было считать ассимилированными, тогда как 80% отчетливо сохраняли все признаки самобытности. В 1931 году 79% евреев назвали своим первым языком идиш и только 12% польский, а еще 9% иврит. Для сравнения, для подавляющего большинства немецких евреев в это время первым языком был немецкий. В 226 начальных и 12 старших школах Польши преподавание велось на идише или иврите. До войны Институт исследования идиша (позже переехавший в Нью-Йорк) располагался в Вильно (в то время польском городе) и Варшаве. Еврейские партии левой (прежде всего «Бунд», или Еврейский рабочий союз) и правой ориентации были представлены в Сейме. В Польше действовало 15 театральных трупп, игравших на идише, существовали еврейские спортивные клубы.
Резкий рост числа евреев, их изолированное существование и нежелание ассимилироваться, начало индустриализации, потеснившей еврейский «малый бизнес», и смерть в 1935 году Юзефа Пилсудского, боровшегося с антисемитизмом на государственном уровне, привели к усилению антисемитских настроений в конце 1930‐х годов. Национально-демократическая партия (Эндеция) стала выступать с призывами бойкотировать еврейские магазины, было развернуто общенациональное движение против забоя скота по правилам кашрута, среди католиков вновь распространилась вера в кровавый навет, в университетах появились неофициальные квоты и сегрегационные правила. В результате всего этого только с 1935 по 1937 год в Польше были убиты 79 евреев и 500 были ранены в антиеврейских инцидентах. Если в 1928 году евреи составляли 20,4% польских студентов, в 1937‐м их было уже 7,5%.
Вторая мировая и первые послевоенные годы: убийцы и праведники
Последовавшие за несколько недель одно за другим в сентябре 1939 года нападения Германии и СССР ознаменовали начало Холокоста на территории Польши. В зоне влияния Германии евреи уничтожались, но и в зоне влияния СССР их жизнь не была безопасна. Евреев, отказывавшихся получать советские паспорта, депортировали в Сибирь и Казахстан вместе с поляками. Из 78 339 депортированных органами НКВД с территории Польши в июне 1940 года около 84% были евреями[240]. Тем не менее после занятия немцами территорий, прежде оккупированных СССР, обвинения в сотрудничестве с советами стали дополнительным фактором, усилившим антисемитские настроения среди местного населения. По данным Института национальной памяти, в 1941 году на территориях Северо-Восточной Польши имело место не менее 30 случаев массового насилия над евреями, в которых, с молчаливого согласия или при прямом потворстве нацистов, участвовало польское население. В 22 населенных пунктах происходили массовые избиения и убийства; тысячи евреев, считавшихся в послевоенные десятилетия жертвами нацистов, в действительности были убиты поляками[241]. Наиболее известным и кровопролитным примером массового убийства поляками евреев стал погром в городке Едвабне, где в июле 1941 года, после ухода советских войск и прихода нацистов, местные жители сожгли живыми несколько сот своих соседей.

Ил. 38. Немецкие солдаты в присутствии местных жителей заставляют одного еврея брить бороду другому. Томашув-Мазовецки, 1939 год
История Второй мировой войны, в ходе которой Польше была назначена роль территории уничтожения европейских евреев, помимо примеров соучастия поляков в этом уничтожении, полна примерами героического спасения евреев поляками. За годы войны в Польше было спасено 120 000 евреев. В этом принимали участие до 350 000 (по некоторым данным — до миллиона) поляков. По данным канадского историка Гуннара Паулсона, исследовавшего оккупацию Варшавы, число поляков, спасавших евреев, во много раз превосходило число «шмальцовников» (поляков, выдававших евреев нацистам или наживавшихся, угрожая выдать)[242]. За годы оккупации Варшавы первых насчитывалось 70–90 тысяч, вторых — всего 3–4 тысячи. Эти цифры тем более впечатляют, что Польша была единственным из оккупированных государств, где наказанием не только за укрывание евреев, но даже за снабжение их едой и продажу им продуктов была смертная казнь. За годы оккупации за помощь евреям было расстреляно не менее 5 тысяч поляков. 6620 поляков признаны институтом «Яд Вашем» праведниками народов мира — это больше, чем граждан какой-либо другой страны.
В 1942 году участник польского движения сопротивления, поляк и католик Ян Карский был послан руководством Армии Крайовой в Лондон, чтобы убедить международное сообщество в необходимости спасения польских евреев. Перед этим Карский, переодевшись немецким военным, лично побывал в Варшавском гетто. Глава польского правительства в изгнании Владислав Сикорский написал письмо с призывом выступить в защиту поляков и евреев папе Пию XII и направил доклад Карского руководству Великобритании и США. В 1943 году Карский встретился с президентом США Франклином Рузвельтом и другими видными политиками и деятелями культуры, рассказав им о масштабах Холокоста. Но ему не поверили.
В том же 1942 году деятели сопротивления из числа католиков при участии еврейских активистов создали организацию «Жегота», призванную содействовать спасению евреев. «Жегота» изготовила более 60 тысяч фальшивых документов, с помощью которых евреи могли выдавать себя за поляков. Только в Варшаве благодаря деятельности «Жеготы» были спасено от 8,5 до 28 тысяч евреев. 700 членов «Жеготы» и около 2 тысяч человек, связанных с ней, были казнены нацистами. Наиболее известный член «Жеготы» — Ирена Сендлер, врач, лично вывезшая из Варшавского гетто 2,5 тысячи детей. Другой пример, ставший широко известным благодаря фильму Ники Каро «Жена смотрителя зоопарка» (2017)[243], — история директора Варшавского зоопарка Яна Жабинского и его жены Антонины, в годы оккупации прятавших в своем доме на территории зоопарка около 300 евреев.
Поражение Германии во Второй мировой не положило конец страданиям польских евреев. Подозрения евреев в сотрудничестве с новыми властями, а также нежелание поляков возвращать присвоенное имущество евреев обернулись новым всплеском антисемитских акций сразу после войны. С сентября 1944‐го по сентябрь 1946 года зафиксировано 130 случаев насилия, убито по меньшей мере 327 человек. По оценкам Яна Томаша Гросса, число евреев, убитых с момента освобождения Польши от нацистов до конца 1947 года, составило от 500 до 1500 человек[244].
Наиболее известным эпизодом считается погром в Кельце (в 170 км к югу от Варшавы) 4 июля 1946 года. В ходе погрома были убиты от 40 до 47 евреев и 2 поляка, пытавшихся противостоять погромщикам. Несмотря на быстрое и суровое наказание виновных (уже 11 июля 10 человек были приговорены к смерти, еще один к пожизненному заключению, и двое — к длительным срокам), погром в Кельце вызвал волну массовой эмиграции евреев из Польши. Только в июле и августе 1946 года страну покинули 54 тысячи человек (для сравнения, в мае — июне того же года, до погрома, уехало 11 500 человек). Всего c 1945 по 1948 год Польшу покинули более 100 тысяч евреев.

Ил. 39. Собрание на Заводе имени Ленина. Краков, март 1968 года
Кампания 1968 года
Последняя волна антисемитизма была, в отличие от предыдущих, спровоцирована властями и проявлялась в политическом и пропагандистском давлении на ассимилированное еврейское меньшинство. В 1968 году на фоне политического кризиса и студенческих волнений правительство Владислава Гомулки решило разыграть антисемитскую карту, чтобы отвлечь внимание общества и канализировать общественное недовольство. В разжигании волнений были обвинены «сионисты», евреи были изгнаны из «Польской объединенной рабочей партии» и с преподавательских должностей в школах и университетах. Под политическим, экономическим и полицейским давлением с 1967 по 1971 год Польшу покинули более 14 000 евреев[245].
Попытки осмысления: от Едвабне до «Иды»
До начала XXI века критический взгляд на отношение поляков к евреям был скорее исключением. К числу таких исключений принадлежит, например, написанное в 1943 году стихотворение Чеслава Милоша «Campo di Fiori». Милош описывает контраст между праздником на рыночной площади (разгар боев в гетто пришелся на католическую Пасхальную неделю) и расстрелом гетто:
Залпы за стенами гетто
Глушила лихая полька,
И подлетали пары
В весеннюю теплую синь.
А ветер с домов горящих
Сносил голубками хлопья,
И едущие на карусели
Ловили их на лету.
Трепал он девушкам юбки,
Тот ветер с домов горящих,
Смеялись веселые толпы
В варшавский праздничный день.
(Перевод Н. Горбаневской)
Стихотворение Милоша 1945 года «Бедный христианин смотрит на гетто» впервые подняло тему ответственности за Холокост. Много лет спустя, в 1987 году, оно вдохновило Яна Блонского на эссе[246], запустившее первую заметную дискуссию, переомысляющую стереотип польского народа как невинной жертвы истории.
Пример объединяющего общество разговора о трагедии польских евреев — фотоальбом «И я все еще вижу их лица», составленный польской актрисой еврейского происхождения Голдой Тенцер[247]. Альбом составлен из фотографий, присланных в ответ на призыв Тенцер к евреям в Польше и за границей сохранить память о довоенном мире польских евреев. Среди откликнувшихся на призыв было много поляков, сохранивших память о своих друзьях и близких из числа евреев, погибших в годы Холокоста или покинувших Польшу впоследствии.
По-настоящему масштабная дискуссия развернулась после публикации в 2000 году (по-английски в 2001‐м) книги американского историка польского происхождения Яна Томаша Гросса «Соседи»[248] и трансляции по польскому телевидению документального фильма Ангешки Арнгольд «Где брат мой Каин?». В книге и фильме убедительно доказывается, что погром в Едвабне был делом рук не нацистов, а поляков из числа местных жителей.
Публикация книги (через несколько месяцев по телевидению был показан одноименный фильм Арнгольд), вызвала ни с чем не сопоставимую реакцию. Только в 2000 году в польских СМИ было опубликовано более 130 статей о Едвабне. По подсчетам газеты Rzeczpospolita, в марте 2001 года об этом погроме знали 50% населения Польши (а среди людей с высшим образованием — до 81%). Расследование погрома в Едвабне стало первым, которым занялся по распоряжению Сейма ИНП. Расследование установило, что хотя поляки принимали «решающее участие» в погроме, инспирирован он был немцами, на которых, таким образом, лежит значительная часть ответственности. Данные Гросса о 1600 погибших эксперты ИНП сочли завышенными; по их данным, речь может идти о как минимум 340 жертвах, непосредственными исполнителями было не менее 40 человек[249]. В 2004 году в издательстве Принстонского университета вышла книга, собравшая наиболее важные публикации о Едвабне[250]. В июле 2001 года, в 60-ю годовщину трагедии, на месте гибели жертв был установлен новый камень «В память евреев Едвабне и окрестностей, мужчин, женщин и детей, хозяев этой земли, убитых и сожженных заживо на этом месте 10 июля 1941 года» (на камне, установленном в 1961 году, значилось: «Место убийства еврейского населения. Здесь 10 июля 1941 года гестапо и немецкая военная полиция сожгли заживо 1600 человек»). Мемориальную церемонию посетил президент Польши Александр Квасьневский, в своей речи признавший ответственность поляков за убийство и попросивший прощения у еврейского народа.
Извинения Квасьневского вызвали смешанную реакцию среди поляков. По данным опросов, их одобряли 40% граждан страны (35% не одобряли) и 44% считали в той или иной мере необходимыми (35% не считали таковыми)[251]. Через несколько месяцев после установки нового камня на месте трагедии в центре Едвабне появился мемориал полякам, высланным в Сибирь и Казахстан и погибшим там, подписанный «„Сибиряки“ и польские патриоты Едвабне». Этот «ответный мемориал» не вызывал бы вопросов, если бы не столь распространенный среди оправдывающих еврейские погромы поляков тезис, что эти погромы были местью за сотрудничество евреев с Советами.

Ил. 40. Президент Александр Квасьневский в Едвабне, 2001 год
Дискуссия вокруг Едвабне, роль которой в поиске национальной идентичности сравнивают с ролью дела Дрейфуса для Франции рубежа XIX–XX веков, показала, что польская политическая элита, существующая в реальности взаимодействия с ЕС, куда в большей степени готова к критическому взгляду на прошлое страны, чем рядовые поляки. В июле 2011 года, в 70-ю годовщину событий, прощения попросил уже президент Бронислав Коморовский, а через месяц после этого мемориал был разрушен, а на камне появилась надпись: «Мы не сожалеем о Едвабне».
В 2012 году на экраны выходит художественный фильм Владислава Пасиковского «Колоски», а в 2013 году — фильм Павла Павликовского «Ида»; оба отчасти основаны на истории погрома в Едвабне. Фильмы получают признание польской критики, а их создатели — анонимные угрозы. Обе картины номинируются на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», и «Ида» получает его. В 2013 году в Варшаве открывается музей «Полин», посвященный истории польского еврейства. В его экспозиции уделено значительное внимание польскому антисемитизму; погрому в Едвабне посвящен специальный стенд. Отдельное внимание уделено антисемитизму в сегодняшней Польше: в конце экспозиции размещены интерактивные экраны, на которых записаны ответы ученых и деятелей культуры на «трудные вопросы», касающиеся польско-еврейских отношений.
Однако политическая злоба дня, апелляции к консервативным и ксенофобским настроениям сильнее влияют на климат в обществе, чем просветительские усилия. Усиление антисемитских настроений в середине 2010‐х годов показывает, что годы активного обсуждения темы польской ответственности за убийства евреев обернулись скорее ростом раздражения и усталости польского общества от этой темы, но не реальным признанием этой ответственности. Именно эти настроения использовало «Право и справедливость» для победы на выборах в 2015 году. В ходе предвыборных дебатов будущий президент Анджей Дуда заявил, что извинения за Едвабне — это «попытка разрушить доброе имя Польши».
МИФЫ В ДЕЙСТВИИ: ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖЕРТВЫ
Именно забота о «добром имени» страны становится одним из главных принципов политики нового президента. Эта забота выражается прежде всего в настойчивом продвижении «аффирмативно-националистического» образа прошлого и блокировании критического подхода к собственной истории. Все более заметен акцент на сюжетах, связанных с героическим прошлым: именно Дуда начал широко праздновать день памяти «проклятых солдат». В 2016 году было объявлено о создании их музея в бывшей тюрьме Мокотув. Запланировано открытие музеев польской истории в Варшаве, музея Юзефа Пилсудского, расширение экспозиции музея Варшавского восстания, представляющего его как моральную победу и пример предательства со стороны СССР. В марте 2016 года в деревне Маркова в Подкарпатье был открыт Музей поляков, спасавших евреев в годы Второй мировой. Нет оснований видеть в этом пример тенденциозного продвижения определенной исторической политики, сказал замминистра культуры Ярослав Селин, предложивший в феврале 2018 года открыть филиал музея на Манхэттене, «где живет больше всего в мире евреев».
Ярким примером столкновения двух исторических политик стал конфликт вокруг Музея Второй мировой войны в Гданьске, разразившийся в 2018 году. Созданный в городе, в котором произошли одни из первых боев Второй мировой, он был призван представить универсалистский взгляд на войну, рассказывать ее историю не с точки зрения исключительно Польши, но поместив в общеевропейский контекст. Идея создания музея принадлежала Дональду Туску, проевропейски ориентированному премьер-министру Польши в 2007–2014 годах (с 2014 года — председатель Европейского совета); в разработке концепции музея приняли участие всемирно известные историки Тимоти Снайдер и Норман Дэвис. Однако открылся музей в 2017 году уже при новом правительстве, и над ним сразу же нависла угроза закрытия. Распоряжением министра культуры (представителя «Права и справедливости») музей был объединен с существовавшим только в проекте Музеем обороны Вестерплатте, который должен делать акцент на польской героической оборонительной войне 1939 года. Это позволило уволить прежнее руководство Музея, заменив его «национально-ориентированными историками». При этом первый камень в основание нового музея был заложен только в сентябре 2019 года.

Ил. 41. Президент Анджей Дуда с семьей на открытии мемориала в Маркове
Образ Польши как жертвы сначала Второй мировой войны, а потом советской диктатуры оказывается священным, попытки критического подхода к прошлому рассматриваются как посягательство на святое. В 2016 году Ян Томаш Гросс был вызван на допрос в прокуратуру по поводу его высказывания в прессе о том, что во время Второй мировой войны поляки убили больше евреев, чем нацистов. Против ученого было заведено дело по статье «Открытое оскорбление нации или Польской Республики». Канцелярия президента обратилась в Министерство внешней политики с запросом о лишении Гросса ордена за заслуги, полученного им в 1996 году (в случае положительного решения историк Тимоти Снайдер, много писавший о страданиях польского народа, пообещал вернуть свой орден за заслуги). Дело было закрыто в 2019 году ввиду невозможности установить точные цифры жертв среди евреев и немцев.
В феврале 2016 года показ по польскому телевидению фильма «Ида» предварялся выступлениями официальных комментаторов, говоривших, в частности, о том, что фильм снят с еврейской точки зрения, а у режиссера есть еврейские корни. В декабре 2016 года «за излишнее внимание к еврейской теме» лишается своего поста директор польского культурного центра в Берлине. Тогда же новый директор ИНП Ярослав Шарек, известный несогласием с результатами расследования 2002 года по Едвабне, увольняет Кшиштофа Персака, одного из авторов доклада[252].
Вершиной такой политики стало принятие в феврале 2018 года поправок к закону 1998 года о полномочиях ИНП. СМИ назвали эти поправки «законом о Холокосте». Поправки 2018 года дополнительно к функциям проведения люстрационных процедур возлагают на ИНП задачу «охраны доброго имени Польской Республики и польского народа» и расширяют список преступлений, отрицание которых предполагает уголовную ответственность. Помимо нацистских преступлений, к ним относятся теперь «другие преступления, представляющие собой преступления против мира, человечности или военные преступления». Летом того же года, после волны критики со стороны международного сообщества, «закон о Холокосте» был смягчен: уголовная ответственность по нему была отменена.
Иллюстрацией исторической политики «Права и справедливости», отражающей культивирование образа жертвы, стало заявление известного польского журналиста и писателя Марека Кохана. В рамках дискуссии вокруг нового закона он предложил создать «музей Полокоста»:
Израиль с большим успехом утверждает нарратив, сводящий жертв войны к жертвам Холокоста, — заявил Кохан в колонке в газете «Речьпосполита». — Каждое государство имеет право на свою историческую политику. Полокост — это не Холокост, но в этом случае речь также идет об угрозе существованию целого народа. Польские жертвы также имеют право на то, чтобы о них помнили[253].
РЕВОЛЮЦИЯ СОМНАМБУЛ: КОМПЛЕКС ЖЕРТВЫ КАК БЛОКИРОВКА РАЗГОВОРА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Два рассмотренных нами сюжета — болезненная память о соучастии в уничтожении еврейского населения и о социалистическом прошлом, которое невозможно полностью списать на СССР, — тесно связаны друг с другом. О том, что они представляют собой части единого пазла, свидетельствует, в частности, вызвавшая большой резонанс в Польше книга польского культуролога и психотерапевта Анджея Ледера «Революция сомнамбул»[254].
По Ледеру, с 1929 по 1956 год в Польше совершился радикальный социальный слом, причиной которого стало воздействие внешних сил. C началом Второй мировой войны немецкая армия уничтожила еврейское население, а позднее советская армия выдавила немецкое население с запада страны, в том числе с земель, прежде принадлежавших Германии. Поскольку евреи и немцы в Польше этого времени в значительной степени составляли мелкую буржуазию, или средний класс (этносоциальное разделение функций — наследие еще классической Речи Посполитой), это означало фактически выветривание среднего класса. Затем коммунисты уничтожили польскую аристократию — прежде всего это были крупные землевладельцы — сначала путем террора, затем национализацией земли. Последним этапом стала аграрная реформа и индустриализация, которую Ледер называет «индустриальным террором». Для крестьянства — преимущественно этнических поляков — занятие опустевшей социальной ниши, часто включавшей буквально заселение в опустевшие дома и захват бесхозной собственности, стало мощнейшим социальным лифтом. Фактически социализм открыл для них прежде недоступные возможности, и общество, особенно выстраивавшееся на западе страны, было гораздо менее иерархичным, чем довоенное. Складывание общества среднего класса, которое стало базой поддержки «Солидарности» и двигателем преобразований рубежа 1980‐х и 1990‐х, было определено именно этой революцией.
Однако особенность этого сдвига в том (тут Ледер выступает не столько как культуролог, сколько как психотерапевт, указывая на момент, особенно интересный для исследователей памяти), что польский средний класс вытеснил память о том, как именно он стал тем, чем стал. Место болезненного сознания подлинных обстоятельств возникновения среднего класса заняло представление о себе как о жертве внешних сил. Это перенос по смежности: описанная трансформация действительно была вызвана действием внешних обстоятельств, причем бенефициары этих изменений фактически оказались лишены возможности действовать самостоятельно. Поэтому и ответственность за произошедшее оказывается экстериоризирована. По Ледеру, проблема тут в том, что, блокируя осознание произошедшей революции, польский средний класс не может в полной мере воспользоваться и ее плодами.
Культивирование национальных мифов, сосредоточенность на защите своего доброго имени и страх критического подхода к прошлому — свидетельство признания того, что это прошлое представляет для настоящего серьезную опасность.
История общества, — пишет Ян Томаш Гросс в эпилоге «Соседей», — это не что иное, как коллективная биография. <…> И если в каком-то пункте биографии есть ложь, то все, что произойдет позже, тоже будет каким-то образом не подлинное, проникнутое беспокойством и неуверенностью. И в результате вместо того, чтобы жить собственной жизнью, мы будем недоверчиво оглядываться, пытаясь догадаться, что о нас думают другие, отвлекать внимание от стыдных эпизодов в прошлом и все время защищать свое доброе имя, усматривая в каждой своей неудаче заговор чужаков. Польша в этом отношении не исключение в Европе. И, как и в случае обществ нескольких других стран, чтобы обрести собственное прошлое, мы будем должны рассказать о нем себе заново.
Ключевая черта польского мифа, мешающая такому трезвому рассказу, — культивирование образа жертвы внешних сил, превращающее политику декоммунизации и любой разговор о прошлом в защиту от внешних и внутренних врагов[255]. Принимая во внимание историю Польши (и агрессивную политику России последних лет), сосредоточенность на этом мифе очень понятна. Но культивация комплекса жертвы внешней агрессии крайне вредна для самой Польши. Оказываясь для многих легким способом уйти от собственной ответственности за прошлое, эта культивация опасна не тем, что мешает реализовывать «правильную», либеральную или универсалистскую политику, а тем, что тормозит развитие страны и общества.
В похожей ситуации оказалась Австрия, которой роль жертвы Второй мировой позволила в значительной мере сгладить разговор о собственной ответственности за преступления нацистов. В итоге национализм в Австрии сегодня распространен куда сильнее, чем в Германии. Культивирование образа жертвы не позволяет модернизировать общество — поставить ответственную, самостоятельную личность в центр горизонтальных общественных связей, которые, собственно, и формируют гражданское общество.
В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить <…>, — писал по другому поводу хорошо знавший и любивший Польшу и польскую культуру Иосиф Бродский. — В конце концов, статус жертвы не лишен своей привлекательности. Он вызывает сочувствие, наделяет отличием, и целые страны и континенты нежатся в сумраке психологических скидок, преподносимых как сознание жертвы[256].
5. Германия, или от вины к ответственности
В 1984 году мир обошла новость о том, что в архивах Имперского военного музея в Лондоне обнаружен до сих пор неизвестный документальный фильм о Холокосте, снятый самим Альфредом Хичкоком. Фильм снимался по заказу британского министерства информации, его продюсером был британский медиамагнат Сидни Бернстайн. C начала 1930‐х годов он помогал германским кинематографистам, не желавшим сотрудничать с нацистами, уехать из Германии и найти работу в Британии и США, а с конца 1930‐х продюсировал антифашистские ленты.
В 1945 году Бернстайн пригласил Хичкока, с которым сдружился в годы войны, участвовать в работе над фильмом под рабочим названием «Память о лагерях». Фильм должен был стать частью британо-американской программы «перевоспитания» населения Германии (она также включала принудительные «экскурсии» в лагеря и захоронение трупов заключенных). Основой фильма были кадры, снимавшиеся британскими, американскими и советскими операторами при входе военных частей союзников на территорию концлагерей Берген-Бельзен и Аушвиц весной 1945 года.
При съемке лагерей Хичкок требовал от операторов делать как можно более долгие планы, показывая соседство лагерей и их невероятной реальности с окружающей их обычной жизнью и узнаваемыми пейзажами. Это позволяло сделать изображение убедительным, а кроме того, лишало Германию возможности сказать, что съемки были постановочными и производились в павильонах. Первые впечатления «мастера ужасов» были настолько сильными, что он вынужден был на неделю приостановить работу, чтобы прийти в себя. Не меньше были впечатлены сотрудники британского МИДа; просмотрев отснятый материал, они сочли его излишне «провокационным», и фильм уже в 1945 году был положен на полку, где пролежал десятки лет[257].

Ил. 42. Кадр из фильма «Память о лагерях», 1945 год
История немецкого переосмысления прошлого давно стала одним из важных учредительных мифов послевоенного миропорядка, будучи многообразно вплетенной в самые разные сферы культуры и сильно изменив интеллектуальный климат в Европе и во всем мире. Именно в рамках работы с прошлым в Германии были впервые продуманы концепции тоталитаризма, преступности государства, типов вины и ответственности; и именно немецкие слова Vergangenheitsbewältigung («преодоление прошлого») и Vergangenheitsaufarbeitung («проработка прошлого») стали международными терминами. Но как показывает эпизод с фильмом Хичкока, в этой истории до сих пор много нерассказанных сюжетов, а ее триумфальный характер, как это обычно бывает с мифами, сильно преувеличен. В значительной степени это история неудач — неудач в попытках насильно перевоспитать побежденную нацию, отделить чистых от нечистых, снова и снова «закрыть тему» и освободиться от нее. В итоге трудности и проблемы немецкой работы с нацистским прошлым не менее, а, может быть, более важны для тех, кто хочет поучиться на примере Германии.
ПОСЛЕВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ: СУД ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ДИСКУССИИ О ВИНЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Нюрнбергские трибуналы
Ключевым эпизодом процесса восстановления справедливости извне и хрестоматийным образцом правосудия переходного периода стали Нюрнбергские трибуналы[258]. С одной стороны, именно Нюрнберг по праву считается образцом юридического и морального торжества правды и правосудия; там безусловное зло нацизма было не просто побеждено в войне, но и призвано к ответу за содеянное. Виновные оказались на скамье подсудимых перед всем цивилизованным миром — и получили по заслугам. С другой — реальные плоды Нюрнберга и реальное отношение к нему современников сильно отличались от блестящего «нюрнбергского мифа».
Процесс, проходивший в нюрнбергском Дворце правосудия с ноября 1945 года по октябрь 1946 года и рассматривавший дела «главных военных преступников и руководителей Третьего рейха», был первым из 13 подобного рода судов. На первом процессе перед судом предстал 21 обвиняемый; из них 12 были приговорены к смерти, 3 — к пожизненному заключению, 4 — к 10–20 годам тюрьмы, а трое оправданы. На 12 последующих процессах обвинения были предъявлены более чем 5 тысячам человек, вынесено более 800 смертных приговоров, из которых приведено в исполнение около 500.

Ил. 43. Нюрнбергский процесс
Нюрнбергские трибуналы изначально вызвали крайне двойственное отношение как в Германии, так и за ее пределами. С одной стороны, это было очевидным торжеством принципа ответственности и верховенства закона: руководители преступного государства предстали перед судом мировых держав. С другой — суть происходящего во многом противоречила впечатляющей картинке. Нюрнберг стал хрестоматийным примером «суда победителей». Харлан Ф. Стоун, председатель Верховного суда США в 1941–1946 годах, даже назвал его «мошенничеством»: принцип состязательности не соблюдался, допускалось обратное действие законов, индивидуальная ответственность смешивалась с коллективной, преступления союзников (бомбардировки Дрездена, грабежи и изнасилования гражданского населения) не рассматривались. Те, кто олицетворял торжество правосудия, также не всегда годились на эту роль: главные обвинители от СССР Иона Никитченко и Роман Руденко были активными участниками Большого террора; обвинитель от США Фрэнсис Бидл в годы пребывания на посту генерального прокурора санкционировал создание лагерей для интернированных японцев.
О предвзятости нюрнбергского правосудия свидетельствовал и довольно прихотливый выбор обвиняемых. Гейнц Гудериан, легендарный создатель танковых войск Третьего рейха и глава генерального штаба в 1945 году, попавший в плен к американцам, участвовал в процессе как свидетель, в 1948‐м был освобожден, а в 1950‐х годах стал военным советником канцлера Аденауэра. Фридрих Паулюс, главный разработчик плана «Барбаросса» и командующий 6‐й армией, уничтоженной под Сталинградом, где он сам попал в плен, участвовал в процессе как свидетель обвинения (что вызвало негодование подсудимых); прожив многие годы на положении персонального пенсионера в СССР, после смерти Сталина он был отпущен умирать в ГДР. Курт Цейтлер, глава генерального штаба в 1942–1944 годах, попавший в плен к англичанам и тоже оказавшийся на процессе в качестве свидетеля, был освобожден в 1947 году и умер своей смертью в 1963‐м.
Отношение немцев к Нюрнбергским трибуналам хорошо иллюстрируют данные опросов, опубликованные Ричардом Мерриттом, исследовавшим общественное мнение в послевоенной Германии[259]. Хотя подавляющее большинство населения Германии (79%) считало трибуналы справедливыми, их уроки толковались скорее в смысле «мы больше так не будем», чем в духе торжества правосудия: 30% главным выводом считали недопустимость в будущем повиновения диктатору, 26% — недопустимость участия в агрессивной войне; только 3% видели в трибуналах торжество закона и всего 2% — прав человека.
Реальная роль Нюрнбергских трибуналов в осуждении расовой политики Третьего рейха и того, что позже стало именоваться Холокостом, была, в противоположность «мифу о Нюрнберге», крайне скромной, отмечает американский исследователь германской коллективной памяти Джеффри Олик. И даже вклад в юридическую теорию «преступлений против человечности» был преимущественно риторическим: была разработана сама категория, но на практике она проводилась не слишком последовательно[260].
Подлинно революционным было предложение юриста и полковника армии США Мюррея Бернейса, «архитектора нюрнбергских трибуналов», применить к нацистским преступникам обвинение в преступном заговоре (conspiracy). Эта категория, хорошо разработанная в американской юридической системе, в отличие от европейской, позволяла привлечь к ответственности большое количество нацистских руководителей, доказательств прямого участия которых в военных преступлениях могло не быть. Это давало возможность признать преступными целые организации, а также криминализировать преступления нацистов против собственного гражданского населения, совершенные до начала войны. Этот момент был особенно важен для Бернейса, родившегося в России американского еврея. Именно под эту категорию попадали преследования немецких евреев, ведь военными преступлениями можно было считать только преследования евреев на оккупированных территориях в годы войны[261].
Однако концепция преступного заговора использовалась трибуналом лишь в ограниченном смысле. Согласно вердикту Нюрнбергского трибунала, преступления против немецких евреев не подпадают под его юрисдикцию:
До войны 1939 года в Германии самым безжалостным образом проводилась политика преследования, подавления и убийства всех лиц из числа гражданского населения, о которых можно было предположить, что они настроены враждебно по отношению к правительству. Также несомненно является установленным факт преследования евреев в течение того же периода. Действия, инкриминируемые в период до момента начала войны, могут считаться преступлениями против человечности только в том случае, если они совершались в ходе или в связи с любым из преступлений, подлежащих юрисдикции Трибунала. Трибунал считает, что не было с достаточной убедительностью доказано то, что эти действия совершались во исполнение или в связи с любым таким преступлением, насколько бы отвратительными и ужасными многие из них ни являлись. Поэтому Трибунал не может сделать заявления общего характера относительно того, что действия, совершенные до 1939 года, являются преступлениями против человечности в том смысле, как они определены Уставом[262].
Нюрнбергские трибуналы были восстановлением справедливости извне, руками внешних сил. Они помогли рядовым немцам сформировать представление о том, что действительные виновные в преступлениях нацизма определены и наказаны. Вопрос же об ответственности германского общества перед жертвами для подавляющего большинства не стоял. Главными жертвами войны обычные немцы чувствовали себя. Политика денацификации — немецкий историк Йорг Фридрих назвал ее «нюрнбергом обычного человека»[263] — только обострила это ощущение.
Денацификация
В американской, британской и французской оккупационных зонах денацификация выглядела как попытка быстро и эффективно отделить агнцев от козлищ, виновных в сотрудничестве с нацистами от невиновных. В американской зоне на одном из этапов всем гражданам старше 18 лет было предложено (в обмен на право получить талоны на продовольствие) заполнить специальную форму, ответив на вопросы о сотрудничестве с НСДАП. Те, чье прошлое вызывало вопросы, приглашались для разбирательства в импровизированные судебные коллегии (Spruchkammern) в составе одного юриста и двух антифашистов из числа граждан. Из 15 млн жителей американской зоны такую процедуру прошли 4 млн. Коллегии причисляли человека, чье дело слушалось, к одной из пяти категорий — от крупных преступников до «попутчиков» и тех, кто подлежал реабилитации.
Эта процедура неизбежно превращалась в профанацию и давала простор для злоупотреблений. Коллегии, которые тысячами выдавали справки о признании «попутчиками» бывшим высокопоставленным нацистам, стали называть «фабриками попутчиков». Пастор Мартин Нимёллер (именно ему принадлежат знаменитые слова «когда пришли за коммунистами, я молчал, ведь я не был коммунистом» и т. д.) рекомендовал своей пастве не принимать участие в коллегиях. Одной из распространенных практик было заручиться свидетельством тех, кто находился вне подозрения (к их числу относились евреи, члены антифашистского подполья и священники); полученные таким образом свидетельства назывались Persilscheine (по названию марки стирального порошка, хорошо справлявшегося с коричневыми пятнами — цветом, символизировавшим нацизм).

Ил. 44. Кадр из фильма «Европа», 1991 год. В центре на втором плане Ларс фон Триер
Отношение к денацификации характерным образом преломилось в раннем фильме датского режиссера Ларса фон Триера «Европа» (1991). Триер исполнил в нем роль еврея, подкупленного, чтобы дать ложные показания в пользу нацистского преступника по имени Макс Хартманн. Герой Триера обнимает его и говорит: «Макс Хартманн мой друг. Он прятал меня у себя в подвале и кормил». Этот эпизод, как и отношение Триера к послевоенной политике союзников, становится понятнее, если учесть, что фамилию Хартманн носил настоящий отец режиссера. В 1989 году режиссер узнал, что его биологическим отцом был не датчанин еврейского происхождения, левак и коммунист Ульф Триер, а немец и католик Фриц Михаэль Хартманн, так и не признавший своего незаконнорожденного сына.
В итоге меры, призванные «обеззаразить» общество, оказались полностью скомпрометированными. Термин «денацификация» стал обозначать технику обеления виновных. Политика денацификации закончилась так же стремительно и под влиянием внешних обстоятельств, как и началась. С приближением холодной войны задача привлечения Западной Германии на свою сторону стала для США более насущной, чем задача очищения и перевоспитания ее населения.
В 1949 году президент Гарри Трумен сократил расходы на Нюрнбергские трибуналы, а в январе 1951‐го помощник военного секретаря США Джон Макклой, один из главных идеологов денацификации, отменил смертные приговоры 10 из 15 осужденных и сократил сроки 64 из 74 приговоренных к тюремному заключению — в том числе всем промышленникам. Альфред Крупп, осужденный на 12 лет за использование труда заключенных Аушвица, вышел через 3 года, сохранив свою промышленную империю. В 1957 году он появился на обложке журнала Time как богатейший человек Европы.
В советской оккупационной зоне денацификацию проводили с большевистской прямотой, не отвлекаясь на попытки «перевоспитания». Обвиненные в сотрудничестве с НСДАП, а заодно и в антикоммунизме, отправились в лагеря интернированных, подчинявшихся НКВД. В 1946–1950 годах в этих лагерях находились более 120 тысяч человек. По разным сведениям, от 40 до 80 тысяч умерли из‐за плохих условий содержания. Те, кто дожил до расформирования лагерей в 1950 году, вскоре предстали перед новыми трибуналами на территории ГДР.
Неготовность общества принять ответственность и начало рефлексии в среде интеллектуалов
Настроения в германском обществе обозначила уже реакция на первую заметную попытку заговорить об ответственности рядовых немцев. В октябре 1946 года Совет Евангелической церкви Германии (состоявший по большей части из членов Исповедующей церкви, в 1934 году открыто воспротивившейся нацистской идеологии и отделившейся от официальной немецкий церкви[264]) выпустил документ под названием «Штутгартское исповедание вины». В этом документе церковь признавала свою ответственность за преступления нацистов. Авторы Исповедания писали:
С глубокой болью мы заявляем: через нас многие народы и страны были ввергнуты в безмерное страдание. То, о чем часто свидетельствовали на своих собраниях, мы ныне объявляем от имени всей Церкви. Многие годы мы боролись во имя Иисуса Христа против духа, нашедшего свое ужасающее выражение в тираническом режиме национал-социализма, но мы обвиняем себя за то, что нашему свидетельству не доставало мужества, молитве — верности, вере — радости, а любви — огня.
Это было первое заявление такого рода, заметно опередившее свое время и первоначально вызвавшее почти единодушно негативную реакцию и в церкви, и за ее пределами. Составители Исповедания получили огромное количество разгневанных писем от простых немцев. Их авторы писали, что немецкий народ — жертва, и винить себя ему не в чем, что союзники ведут себя, как нацисты, что роль Церкви — не призывать к покаянию тех, кому не в чем каяться, а умирять дух ненависти, разделяющий оппонентов. Показательнее всего письмо некоего господина Д. из Ганновера, разгневанного в первую очередь ключевой формулой «через нас». Подлинной причиной прихода к власти нацистов и их злодеяний он называет «преступления Версаля»:
Неужели авторы этого признания вины совершенно забыли о бесконечных страданиях, на которые обрекли народ Германии враги, начиная с голодной блокады времен [Первой] мировой войны и преследований немцев по всему миру и заканчивая бомбовыми ударами (чего стоит один Дрезден!) и миллионами беженцев с Востока, сгрудившихся на оставшихся [западных] территориях, не в силах обеспечить себя?[265]
Человеком, настоявшим на формулировке «через нас», был уже упоминавшийся Мартин Нимёллер, один из самых уважаемых пасторов послевоенной Германии, сам проведший 7 лет в нацистских лагерях за открытую критику Гитлера. В знак уважения город Лотте принял решение вручить ему ключи от города, но после публикации Исповедания это решение было отозвано[266].
Первые послевоенные годы, ставшие для большей части германского общества временем шока и первичной травматизации, были в то же время отмечены нараставшей быстрыми темпами дискуссией о вине и ответственности в среде интеллектуалов. Книга исследователя Джеффри Олика «В доме повесившего», посвященная этим дискуссиям 1945–1949 годов, похожа на энциклопедию послевоенной германской мысли[267]. Томас и Генрих Манны, Карл Ясперс и Бертольд Брехт, Теодор Адорно и Карл Барт, Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт — это только самые известные из участников описанных в книге дискуссий.
Стройному хору тех, кто называл главными жертвами самих немцев, страдавших сначала от беззаконий нацистов, а потом от бомбежек союзников, уже с начала 1940‐х отвечали немногие, но сильные голоса представителей цвета немецкой мысли. Одним из самых горьких высказываний о Германии этого времени был роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» (работа над ним велась с 1943 по 1946 год). История сделки с дьяволом, рассказываемая в романе, оказывается метафорой великой германской культуры, отравленной сотрудничеством со злом.
Заокеанский генерал приказывает населению Веймара продефилировать перед крематорием тамошнего концлагеря, объявляет (так ли уж несправедливо?) всех этих бюргеров — по видимости честно продолжавших заниматься своими делами, хотя ветер и доносил до них зловоние горелого человеческого мяса, — соответчиками за совершенные злодеяния и требует, чтобы они своими глазами все это увидели. Пусть смотрят, я смотрю вместе с ними, мысленно бок о бок с ними прохожу в тупо молчащих или содрогающихся от ужаса рядах. Взломаны толстые двери застенка, в который превратила Германию власть, с первых же дней обреченная ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира <…> Я говорю: наш позор. Ибо это не ипохондрия говорить себе, что все немецкое — и немецкий дух тоже, немецкая мысль, немецкое Слово — ввергнуто в пучину позора, справедливо взято под сомнение, обесчещено тем, что сейчас выставлено напоказ. И не болезненное самоуничижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявлять на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?
Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершили преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман, к народу, запутавшемуся в собственных тенетах, духовно сожженному, откровенно отчаявшемуся в умении управлять собой, к народу, которому кажется, что стать колонией других держав для него еще наилучший исход, к народу, который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими[268].
Ко времени выхода романа Манн, в 1933 году эмигрировавший в Швейцарию, в 1936‐м лишенный за критику нацистов гражданства, а с 1938 года живущий в США, уже стал олицетворением «другой Германии»[269]. Именно в этом качестве в мае 1945 года он произносит в Библиотеке Конгресса речь «Германия и немцы», намного предвосхитившую работу германской коллективной памяти, и намечает путь работы германского общества с самим собой:
Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание». В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, — во всем этом нет ничего от ученой холодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это я испытал на себе. <…> То, что я здесь — поневоле вкратце — хотел сообщить вам, было образцом немецкой самокритики, и, право же, ни на каком ином пути я не мог бы сохранить большую верность немецкой традиции. Склонность к самокритике, доходившая нередко до самоотрицания, до самопроклинания, — это исконно немецкая черта, и навсегда останется непонятным, как мог народ, в такой степени склонный к самопознанию, прийти к идее мирового господства…[270]
Другой голос, возвышенный за принятие общей для всех немцев ответственности за преступления нацизма, принадлежал психиатру и философу Карлу Ясперсу. Женатый на еврейке, Ясперс в 1937 году был отстранен от преподавания и до конца войны находился в изоляции, ожидая ареста. В 1945 году он возвращается к чтению лекций в университете Гейдельберга. Одним из первых стал курс, посвященный проблеме вины и ответственности Германии.
Прежде всего Ясперс, как подобает философу, разграничивает разные понимания виновности — уголовной, политической, моральной и метафизической. Это разграничение «проясняет смысл упреков со стороны мировой общественности и собственной совести»:
Политическая виновность хоть и означает ответственность всех граждан данного государства за последствия его действия, но не означает уголовной и моральной виновности каждого отдельного гражданина в преступлениях, совершенных именем этого государства. Относительно преступлений — судить судье, относительно политической ответственности — победителю; относительно нравственной виновности можно поистине только в борении любви говорить солидарным между собой людям. Относительно метафизической виновности возможно, вероятно, откровение в конкретной ситуации, в поэтическом или философском произведении, но о ней вряд ли можно что-либо сообщить лично от себя[271].
Нюрнбергский процесс, суд внешних, позорен для Германии, говорит Ясперс. Но это естественный «результат того факта, что не немцы освободили себя от преступного режима, а союзники освободили нас от него». Нюрнберг решает вопрос юридической вины преступников, вынося им наказание, но тем самым только острее ставит вопрос виновности всех немцев. Речь идет не о «коллективной вине», категории абсурдной и предполагающей коллективистский взгляд на общество и нацию, но об ответственности народа на политическом уровне и индивидов на моральном и метафизическом. И здесь только личное признание вины может стать путем к очищению, но лишь при условии, что это будет процесс свободный и внутренне осознанный:
Мы, немцы, стоим здесь перед альтернативой. Либо признание вины, которую остальной мир не имеет в виду, но о которой нам говорит наша совесть, станет главной чертой нашего немецкого самосознания — и тогда наша душа пойдет путем преображения. Либо мы опустимся в заурядность безразличного существования <…> Без пути очищения, идущего из глубинного сознания своей вины, немцу не добыть правды[272].
Важно, что призыв к внутреннему самоочищению вовсе не ограничивается у Ясперса духовной и индивидуальной сферой. Оно необходимо и для политического освобождения:
Очищение — это условие и нашей политической свободы. Ибо лишь из сознания виновности возникает сознание солидарности и собственной ответственности, без которого невозможна свобода[273].
Лекциям Ясперса предстояло заложить основание для последующей дискуссии на тему вины и ответственности во всей Германии, однако первоначально они воспринимались в штыки даже в небольшой университетской аудитории. По свидетельству одного из слушателей, студенты вели себя настолько вызывающе, что Ясперсу приходилось прерывать свои выступления[274]. Германское общество считало себя жертвой внешних сил или старалось не думать о подобных материях.
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ: ОТПУЩЕННАЯ ПРУЖИНА, ПОЛИТИКА ПОДВЕДЕНИЯ ЧЕРТЫ
В мае 1949 года Парламентский совет 11 земель Германии объявил о создании Федеративной Республики Германии на территории британской, французской и американской оккупационных зон и назвал ее единственным легитимным германским государством. Политикой правительства Конрада Аденауэра, первого канцлера независимой Германии, антифашиста и одного из основателей партии христианских демократов, становится стремление нейтрализовать последствия внешнего давления оккупационных властей и объединить расколотое и деморализованное германское общество. Едва ли не единственным, что объединяло в эти годы население ФРГ, было ощущение себя жертвами нацистской диктатуры, войны и жестокостей союзников, а также недовольство политикой денацификации, которая прямо или косвенно коснулась от четверти до двух третей населения ФРГ.
В своей речи после первых демократических выборов летом 1949 года первый президент ФРГ Теодор Хойс заявил о необходимости оставить прошлое позади (Fertigwerden mit der Vergangenheit). По данным опроса, проведенного накануне выборов Алленсбахским иститутом изучения общественного мнения, большинство немцев относились к нацистскому режиму нейтрально, не поддерживая его и не осуждая. Его осуждали 60% немцев с высшим образованием, но таких было не слишком много: интеллектуальная элита покинула Германию перед войной или была изгнана. Участники опроса знали о преследованиях («высылках» и «исчезновениях») евреев и меньшинств, но избегали слова «убийство» и не считали, что все немцы несут ответственность за преступления Третьего рейха. Репарации Израилю признавали необходимыми 54–60%, но только 40% считали, что ответственные за преступления должны отвечать перед судом. Преобладало мнение, что ответственность должно нести государство, но не граждане. Таким образом, дело было не в недостатке знания о преступлениях, а в непонимании, как нести это бремя.
Одной из первых мер нового правительства стало принятие в декабре 1949 года закона об амнистии, по которому от преследования по законам 1945 года освобождалось порядка 800 тысяч бывших членов НСДАП и госслужащих, не прошедших процедур денацификации. В 1951 году был принят «Закон о 131 статье», по которому госслужащие Третьего рейха могли вернуться на посты, с которых они были уволены, а госведомства были обязаны набирать из их числа не менее 20% своего штата. Бывшие госслужащие, потерявшие работу при нацистах, получали право на выплату компенсации и пенсии (похожие меры использовались в Испании после 1975 года). Этот закон был призван «реинтегрировать» старые элиты в строительство нового демократического государства и решить проблему нехватки образованных кадров. В результате в 1950‐х годах от 20 до 60% правительственных чиновников (в зависимости от ведомства) составляли бывшие чиновники Третьего рейха (в МИДе бывших членов НСДАП было 66%). Военными советниками Аденауэра становятся Гейнц Гудериан и Альберт Кессльринг, в его правительстве работают автор официального комментария к нюрнбергским расовым законам 1935 года Ганс Глобке и бывший офицер СА Теодор Оберлендер.
В публичных выступлениях Аденауэр избегает прямой критики прошлого, зато часто упоминает о давлении на Германию западных союзников и СССР. В то же время он поддерживает распространение информации о преступлениях нацистов. Похожим образом ведет себя Аденауэр и в отношении возмещения пострадавшим. С одной стороны, в Германии создаются организации жертв, требующих от государства компенсаций (это в основном жертвы денацификации, репрессий со стороны союзников, высылки с восточных территорий); с другой — власти проводят политику репараций странам, пострадавшим от нацизма.
В сентябре 1951 года, в ответ на требования первого президента Израиля Бен-Гуриона, Аденауэр, выступая в парламенте, признает страдания, причиненные Рейхом евреям и другим народам, и заявляет, что Германия берет на себя моральное и материальное возмещение. Парламент голосует против, но правительство под давлением Аденауэра принимает соглашение о репарациях. Германия обязуется выплатить Израилю 3 млрд марок в течение 14 лет, плюс 450 млн «Конференции по претензиям». Выплаты были завершены в 1965 году и сыграли важную роль в развитии израильской экономики. В Германии репарации поддержали 11% населения, 44% назвали сумму чрезмерной. Это соглашение значительно улучшило международные позиции ФРГ, особенно на фоне ГДР, и способствовало процессам демократизации западногерманского общества[275].

Ил. 45. Давид Бен-Гурион и Конрад Аденауер. Нью-Йорк, 1960 год
Аденауэровской политике — консолидации травмированного войной и оккупацией общества внутри страны и признанию преступлений в отношениях с иностранными партнерами — соответствовал параллелизм в общественной и интеллектуальной жизни. Основой коллективного модуса поведения в германском обществе становится то, что позже немецкий философ Герман Люббе назовет «коммуникативным замалчиванием»[276] — негласной договоренностью о том, что для движения вперед стоит оставить прошлое позади.
Это очень напоминает испанский «пакт забвения», ставший формулой общественного согласия в очень похожих обстоятельствах. Пережившее диктатуру общество оказывается не в силах полноценно справляться с бременем прошлого и предпочитает выстраивать консенсус и двигаться вперед, вытесняя из памяти и публичной сферы упоминания о прошлом как разделяющие. В то же время в интеллектуальной жизни с 1950‐х годов все заметнее критика этого умолчания и скрывающегося за ним тихого одобрения прошлого. Наиболее заметным образцом такой критики стала статья Теодора Адорно «Что значит проработка прошлого» (1959)[277]. В ней Адорно связывает неукорененность демократических ценностей в Германии с неспособностью немцев критически отнестись к собственному прошлому, с желанием уйти от ответственности, защититься от чувства вины.
Непосредственным толчком к размышлениям Адорно и всей последующей дискуссии было исследование, проведенное социологами Франкфуртской школы вскоре после их возвращения в Германию из американской эмиграции[278]. В конце 1940‐х годов власти оккупационных зон ощущали дефицит в объективных данных о том, что на самом деле думают немцы о преступлениях нацистов, о правлении союзных властей и как они относятся к ценностям демократии. Для ответов на эти вопросы специалисты франкфуртской школы — Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Фридрих Поллок и Юрген Хабермас — решили применить разработанные за время работы в США революционные методы опроса общественного мнения в рамках так называемого «Группового эксперимента».
В стихийно организованных групповых интервью в непринужденной обстановке (например, подсаживаясь к группам путешествующих в поездах) исследователи как бы невзначай зачитывали письмо некоего американского военного, якобы живущего в Германии после войны и критически описывающего отношение немцев к евреям, к оккупации, оправдание ими нацистов. Это письмо провоцировало реакции присутствующих, которые исследователи и фиксировали. Результаты таких «замеров общественного мнения» значительно отличались от результатов традиционных опросов, проводившихся оккупационными властями. Они показали, насколько сильны среди обычных немцев обида на союзников, стремление к самооправданию и защите нацистского прошлого и как резко отличаются эти воззрения от декларируемых публично взглядов. Результаты были опубликованы в 1955 году и вызвали оживленную дискуссию среди специалистов, которая вскоре перешла на вопросы более общего и мировоззренческого характера, запустив разговор о «проработке прошлого»[279].
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: НАЧАЛО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В первые годы после обретения Германией независимости приговоров бывшим нацистам не выносилось. Однако к концу 1950‐х, по мере обновления состава судей и появления в их рядах евреев, ситуация начинает меняться. Переломным в этом смысле стал процесс по делу «оперативной группы Тильзит», прошедший в Ульме в 1958 году. Перед судом предстали 10 бывших членов айнзатцгрупп гестапо, обвинявшихся в убийстве более 5500 евреев близ германско-литовской границы. Суд признал их соучастниками преступлений, главными виновниками которых назвал руководство Рейха; они получили от 3 до 15 лет тюрьмы. Согласно опросам, большинство немцев сочли приговоры слишком мягкими.
Все чаще стали раздаваться критика в адрес судебной системы и призывы разобраться с прошлым. Широкую полемику в обществе вызвала статья «Убийцы все еще среди нас», опубликованная в Süddeutsche Zeitung в июле 1958 года. В статье говорилось, что законы об амнистии функционеров прежнего режима служат прикрытием для военных преступников. Через несколько месяцев в городе Людвигсбург под Штутгартом начинает работу Центральное управление по расследованию преступлений нацистов. В 1961 году, после возведения Берлинской стены, по аналогии с этим ведомством создается Бюро регистрации политических преступлений, совершенных на территории ГДР; инициатором его создания был Вилли Брандт, на тот момент мэр Западного Берлина.
Огромным шагом вперед в подготовке общественного мнения к полноценному уголовному преследованию бывших нацистов становится суд над Адольфом Эйхманом, прошедший в Иерусалиме в 1961 году и широко освещавшийся в мировой прессе. Не в последнюю очередь своим резонансом этот процесс был обязан книге Ханны Арендт, которая присутствовала на нем в качестве корреспондента журнала The New Yorker[280].
Одним из тех, кто помог израильским спецслужбам выследить Эйхмана, был Фриц Бауэр, генеральный прокурор федеральной земли Гессен. Бауэр, еврей и антифашист, эмигрировавший из Германии в 1930‐х и в эмиграции сотрудничавший с будущим канцлером ФРГ Вилли Брандтом, был одним из тех, кто вернулся на родину после 1945 года, чтобы помочь в восстановлении ее демократических институтов. В сотрудничестве с юристами из Людвигсбурга Бауэр организует процесс над бывшими сотрудниками администрации и охранниками лагеря Аушвиц, выступая на нем главным обвинителем. Процесс проходил во Франкфурте в 1963–1965 годах, в нем участвовали около 360 свидетелей из 19 стран, включая 210 бывших узников Аушвица.

Ил. 46. Фриц Бауэр, 1960‐е годы
О том, насколько сложным оказался процесс свершения правосудия в первой половине 1960‐х годов, свидетельствовало сопротивление, с которым пришлось столкнуться первопроходцу проработки прошлого в юридической сфере прокурору и судье Фрицу Бауэру, — пишет специалист по переходному правосудию Евгения Лёзина. — Давление исходило как от коллег-юристов («В системе юстиции я живу, как на чужбине», — признавался Бауэр), так и от общества и власти («Когда я выхожу из своего кабинета, я попадаю в чужую и враждебную страну»). В одном из телевизионных ток-шоу 1964 года Бауэр отметил, что, хотя при создании ФРГ и были достигнуты определенные успехи, закреплены демократические основы республики в Основном законе и учреждены демократические органы власти, «но нужны еще люди, которые вдохнут жизнь в конституционные формулировки»[281].
Основываясь на протоколах процесса, немецкий драматург Петер Вайс создал пьесу «Дознание», яркий образец документального театра. «Дознание» стало самой исполняемой современной пьесой в ФРГ в сезоне 1965/66, она была переведена на многие языки. В 1967 году пьеса в постановке Петра Фоменко шла на сцене московского Театра на Таганке; среди исполнителей были Алла Демидова, Николай Губенко, Инна Ульянова и Александр Калягин[282].
Параллельно с Франкфуртским процессом организуются судебные разбирательства в отношении бывших сотрудников концлагерей Белжец (1963–1965), Треблинка (1964–1970), Собибор (1965–1966) и, значительно позже, лагеря Майданек (1975–1981).
Процессы привлекают внимание к истории концлагерей, на их месте начинают открывать мемориалы (в некоторых случаях — по инициативе бывших узников этих лагерей). Такие мемориалы были открыты, в частности, в Берген-Бельзене, Дахау[283] и Бухенвальде. Отзываясь на изменение настроений в обществе, германский парламент принимает обращение к иностранным государствам с призывом присылать свидетельства о преступлениях нацистов в Минюст для расследований. На этот призыв отвечают из Франции, Бельгии, Дании, Югославии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Польши, Чехословакии, СССР, США и Израиля (но не из ГДР, Италии, Румынии и Венгрии).
Дискуссия о вине и ответственности выходит на новый уровень. Книга Ясперса, замеченная в 1946 году только интеллектуалами, переиздается в 1962 году большим тиражом, и новое поколение читает ее с гораздо большим интересом. Расширяется аудитория Адорно и Хабермаса; из «одиноких юродивых» они превращаются во властителей умов немногочисленной, но сплоченной прогрессивной интеллигенции. В 1967 году психологи Александер и Маргарет Митчерлих публикуют книгу «Невозможность скорбеть»[284], в которой констатируют, что стремление вытеснить память о преступлениях нацизма обернулось для немцев потерей эмоциональной связи с прошлым — невозможностью как скорби, так и катарсиса.

Ил. 47. Молодые люди из Ганновера работают на месте бывшего лагеря Майданек у города Люблин. Польша, 1970 год
Одним из свидетельств постепенного изменения общественного мнения и одновременно факторов, способствующих изменению этого отношения снизу, становится увеличение числа гражданских инициатив и неправительственных организаций, отстаивающих права жертв нацизма или координирующих деятельность, связанную с попытками искупления вины. Среди такого рода инициатив — церковно-общественная организация «Акция искупления». Ее создателем был юрист и правозащитник Лотар Крейссиг (1898–1986). В 1933 году он, единственный из немецких судей, отказался вступить в НСДАП, а в 1940 году выступил против нацистской программы эвтаназии умственно отсталых людей и инвалидов и даже инициировал дело об убийстве против Филиппа Боулера, главы канцелярии НСДАП, ответственного за программу.
Фактически открыто заявивший о незаконности нацистских практик[285], Крейссиг был всего лишь отправлен в отставку и — личным распоряжением Гитлера — на пенсию. До конца войны он жил в своем загородном доме, занимаясь сельским хозяйством и укрывая евреев. С 1930‐х годов Крейссиг был членом синода антифашистской Исповедующей церкви и в качестве церковного администратора выступил с инициативой создания «Акции искупления». Используя церковные каналы, организация налаживала контакты со странами, пострадавшими от нацистской оккупации, и направляла туда немецкую молодежь, стремившуюся под влиянием чувства ответственности вести социальную работу в этих странах. К концу 1960‐х «Акция искупление» стала получать широкую поддержку общества и государства, став одним из ключевых участников и популяризаторов процесса примирения.

Ил. 48. Монумент под Фридландом
К концу 1960‐х, ознаменовавшемуся массовыми протестами 1968 года, аденауэровская политика «осторожной консолидации» общества стремительно устаревала. Ее символом стал мемориал, возведенный рядом с городом Фридланд — местом, где после войны располагался транзитный лагерь для немцев, возвращавшихся домой из СССР после плена, депортации и принудительных работ. Символический смысл четырех огромных каменных глыб, прозванных «Аденауэровым стоунхенджем», сводится к памяти о немецком страдании. Кроме таблички с упоминанием 50 млн «убитых и погибших» на разных континентах, ничто не указывает на то, что война принесла страдания не только немцам.
Хотя политика Аденауэра по интеграции беженцев и возвращению домой немецких военных была крайне успешной, — пишет Алейда Ассман в 2018 году, — его монумент таковым не был. Сам канцлер не дожил до его открытия в 1967 году, к этому времени мемориал с его анонимным пафосом, туманными формулировками и настойчивым уходом от вопросов о причинах и последствиях или вине и ответственности уже не отвечал требованиям времени. Несмотря на его монументальный облик, сегодня в Германии он почти неизвестен[286].
Новое время требовало новых «инструментов памяти».
ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: МАСШТАБНЫЕ СДВИГИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ
В конце 1960‐х наследие прошлого, о котором прежде можно было «коммуникативно умалчивать», становится все более заметным фактором политики. В 1968 году журналистка и антифашистка Беата Кларсфельд с возгласом «Нацист!» публично дает пощечину канцлеру Курту Кизингеру: он был членом НСДАП с 1933 года. Год спустя Кизингер проигрывает на выборах, и канцлером становится Вилли Брандт, активный антифашист-подпольщик, в 1938 году (ему было тогда 25 лет) лишенный нацистами немецкого гражданства.
7 декабря 1970 года в ходе визита в Варшаву канцлер Вилли Брандт преклоняет колена перед мемориалом жертвам восстания в гетто, отчетливо связав свою политику с переосмыслением прошлого. Это было первое подобного рода извинение, знаменовавшее новые политические стандарты, а кроме того — политику сближения с Восточной Европой и СССР. В качестве признания важности такого поворота на следующий год Брандт получает Нобелевскую премию мира. Это не было пустой работой на публику: отношение к бывшим нацистам ощутимо меняется. С 1970 по 1989 год обвинения были предъявлены более чем 6 тысячам бывших нацистов; около 200 человек были приговорены к тюремному заключению.

Ил. 49. Варшавское коленопреклонение Вилли Брандта, 1970 год
Политическая судьба Брандта хорошо отражает ситуацию в западногерманском обществе в эти годы. В 1972 году его партия выигрывает выборы в Бундестаг при небывало высокой явке в 91%. В то же время растет недовольство его политикой по отношению к Восточному лагерю и жестким отношением к нацистскому прошлому. В 1974 году, после обнаружения восточногерманского агента в его ближайшем окружении, он был вынужден подать в отставку[287].
В 1975 году в Дюссельдорфе начинается процесс над сотрудниками концлагеря Майданек, продолжающийся до 1981 года. Обвинения предъявлены 16 нацистам, осуждены 8. Это самый долгий и дорогостоящий (474 заседания) из западногерманских процессов, сыгравший важную роль в ознакомлении общества с преступлениями нацизма.
Между тем демократические ценности прививаются и укореняются: по данным Евробарометра, если в 1973 году развитием демократии в стране были удовлетворены 39% респондентов (против 55% неудовлетворенных), в 1979‐м это соотношение было уже 70 к 10%[288].
В 1973 году при содействии федерального президента Густава Хайнемана был учрежден школьный конкурс работ по немецкой истории, предоставивший юным немцам по всей стране возможность исследовать историю Третьего рейха на примере своих родных мест. Этот конкурс со временем станет одним из образцов для конкурса школьных сочинений «Человек в истории», который проводит в России с 1999 года общество «Мемориал».
Но решающему сдвигу в отношении к прошлому способствуют не дискуссии в кругах интеллектуалов и даже не громкие процессы над военными преступниками, оставляющие равнодушной значительную часть общества. Лед в сердцах немцев, по выражению Алейды Ассман, разбивает продукт американской коммерческой культуры. В январе 1979 года по западногерманскому телевидению транслируется четырехсерийный фильм Марвина Чомски (двоюродного брата знаменитого лингвиста и публициста Ноама Чомски) «Холокост» с Мерил Стрип в одной из главных ролей. Фильм рассказывает историю вымышленной семьи немецких евреев с середины 1930‐х до середины 1940‐х годов; в нем упоминаются Хрустальная ночь, восстание в Варшавском гетто и в лагере Собибор, программа эвтаназии, массовые депортации евреев, расстрелы и лагеря уничтожения. Демонстрация каждой серии сопровождалась передачей с участием историков: в студию могли позвонить зрители и задать вопросы об историчности показанных в фильме фактов. Фильм посмотрели 20 млн человек, или 48% взрослого населения Западной Германии[289]. Зрители, разгневанные тем, как такое можно было допустить, оборвали телефоны студии (было зафиксировано 23 тысячи звонков). Правые радикалы пытались подорвать телекоммуникационные вышки, чтобы помешать трансляции фильма.

Ил. 50. Постер сериала «Холокост», 1978 год
Знание о Холокосте, которое до этого ограничивалось кругом интересующихся и неравнодушных, выплеснулось на всю страну. «Общество немецкого языка» объявило «Холокост» словом года. С этого момента изучение Холокоста стало частью школьной программы и постоянным элементом политического дискурса. В 1979 году, ставя точку в двадцатилетней дискуссии, парламент отменил сроки давности преследований за Холокост и геноцид.
ЧЕТВЕРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ПРОРЫВ МОЛЧАНИЯ
Тема нацистского прошлого прочно входит в научный, культурный, образовательный и политический обиход, становится предметом постоянного внимания СМИ. Факты военных преступлений больше всерьез никто не отрицает, акценты широко обсуждаются, растет круг жертв и памятных дней. В 1982 году канцлером становится Гельмут Коль, историк по образованию и председатель ХДС. Он снова пытается проводить политику подведения черты, но теперь эти попытки не только проваливаются, но и провоцируют масштабный прорыв молчания о прошлом.
В инаугурационной речи в Бундестаге Коль говорит, что видит своей задачей сместить фокус разговора о прошлом с вины на ответственность и обратить внимание немцев на послевоенные достижения. Выступая в 1984 году в израильском Кнессете, он напоминает об особой ответственности Германии перед Израилем и о «милости позднего рождения» (Gnade der späten Geburt) как самоощущении нового поколения, непричастного к преступлениям. Акцент на движении вперед заметен и в инициативе Коля начать строительство «Дома истории» (1986) в Бонне — музея, посвященного истории Германии после 1945 года (он будет открыт только в 1994 году).
Но самым ярким эпизодом этой политики прощания с прошлым стало посещение канцлером военного кладбища в Битбурге вместе с президентом США Рональдом Рейганом в рамках празднования 40-летия окончания Второй мировой войны. На этом кладбище похоронены немецкие и американские военные, и его совместное посещение было задумано как свидетельство примирения двух наций. Этот формат казался проверенным: за два года до этого вместе с французским президентом Миттераном Коль посещал кладбища времен Первой мировой. Но оказалось, что память о Второй мировой войне работает иначе. Среди похороненных в Битбурге были солдаты Ваффен-СС, и визит на это кладбище был воспринят общественным мнением как попытка закрыть глаза на то, на что их закрывать не следует. Среди последствий «инцидента в Битбурге», помимо горячих дискуссий в европейской и американской прессе, были попытки самодеятельных раскопок на месте штаб-квартиры гестапо в центре Берлина; позднее там откроется музей «Топография террора».
Общественная атмосфера заметно меняется. Важным фактором оказывается приход поколения 1968 года «с улиц в парламент». В 1982–1983 годах в Бундестаг от Партии зеленых избирается Йошка Фишер, активный участник протестов 1968‐го (20 лет спустя Фишер станет министром иностранных дел объединенной Германии). В 1984 году, после 40-летней неопределенности, участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года («люди 20 июля») официально признаются национальными героями (такую оценку разделяют 60% опрошенных), а не изменниками (12%). Переломить отношение к попытке переворота мешал немецкий легализм — все-таки участники заговора формально выступали против государства.
В 1985 году президент Рихард фон Вайцзеккер в своей речи в Бундестаге назвал 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Всего 15 годами ранее Вилли Брандту не удалось сделать такую трактовку официальной. Нарратив поражения во Второй мировой окончательно сменяется нарративом освобождения. При этом именно окончание войны, а не основание Республики в 1949 году, немцы называют главным событием последних 40 лет.
Переводу разговора на новый уровень послужил так называемый «спор историков» (в действительности, скорее философов), развернувшийся в германской прессе в 1986 году. Одним из непосредственных толчков к нему стала пьеса Райнера Вернера Фассбиндера об антисемитизме и вызвавший скандал комментарий мэра Франкфурта о том, как «могущественны» евреи до сих пор. Философ и историк Эрнст Нольте, считавший фашизм реакцией на куда более агрессивный и потенциально опасный большевизм, предложил освободиться от бремени прошлого: Холокост не был уникальным и вневременным событием, а потому, вместо того чтобы зацикливаться на нем, следует покаяться и идти дальше. Философ Юрген Хабермас, напротив, считал, что уникальность и вневременность Холокоста должна быть постоянной точкой отсчета: это событие нельзя «нормализовать» и «оставить в прошлом». Спор, который Хабермас назвал «дискуссией о самосознании Федеративной Республики», был во многом переосмыслением в новых обстоятельствах вопросов, поставленных в 1940‐х и 1950‐х годах Карлом Ясперсом и Теодором Адорно. Результатом спора, в который оказались прямо или косвенно вовлечены не только ведущие немецкие интеллектуалы, но и многие политики, стал новый общественный консенсус в оценках прошлого.

Ил. 51. Юрген Хабермас и Эрнст Нольте
Когда в начале 1980‐х годов, — отмечает Евгения Лёзина, — инициаторы программы «нормализации» попытались освободить западногерманское общество от «бремени» нацистского прошлого, они невольно вызвали серию публичных дебатов, резко изменивших представления элит и общества о периоде национал-социализма и оказавших долгосрочное влияние на политическую культуру ФРГ. Противостоя намерению консерваторов релятивизировать преступления нацизма и позволить нацистскому прошлому исчезнуть из публичного пространства, левые интеллектуалы настояли на необходимости сохранения критической памяти о Холокосте и других преступлениях нацистского режима. Позицию Юргена Хабермаса и его сторонников поддержало тогда не только большинство средств массовой информации и исторических институтов, но и многие представители различных политических партий. В конечном итоге к концу 1980‐х годов в ФРГ сформировался общественный консенсус относительно критической культуры памяти: память о нацистских преступлениях с тех пор воспринималась как постоянная политическая обязанность немцев практически всеми без исключения элитными группами[290].
Как пишет политолог Аня Мир, «на смену категории коллективной вины в публичной сфере постепенно приходит представление о коллективной памяти, моральной ответственности и общем (неискаженном) нарративе, которые предвосхитили и приблизили Коль и фон Вайцзеккер»[291].
Падение Берлинской стены в 1989 году и объединение Германии в 1990 году не изменило направление, в котором развивалась культура памяти о наследии Третьего рейха, но усложнило «мемориальный пейзаж». Теперь к преодолению последствий 12 лет нацистской диктатуры прибавились усилия по преодолению последствий 40 лет диктатуры СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии).
ПАМЯТЬ О НАЦИЗМЕ В ГДР
На территориях советской оккупационной зоны, в 1949 году получивших название Германской Демократической Республики, власти (голос общества в ГДР был почти не слышен) создали нарратив о государстве-наследнике героического коммунистического антифашистского сопротивления. Травмирующая память о преступлениях нацистов была вытеснена и спроецирована на Западную Германию, которая воспринималась как «наследница» Третьего рейха. Социолог Райнер Лепсиус назвал это «экстернализацией» памяти о трудном прошлом[292]. В свою очередь в ФРГ эта память также была экстернализирована и перенесена на Гитлера и его ближайшее окружение.

Ил. 52. Вальдхаймский процесс, 1950 год
Большую часть истории ГДР память о нацистском прошлом будет оставаться там не основанием для размышлений о вине или ответственности, а инструментом внутри- и внешнеполитических манипуляций. Не будучи в состоянии конкурировать с ФРГ в выплатах компенсаций Израилю в силу размера экономики, ГДР объявила, что не считает необходимым обсуждать репарации со странами, не являющимися ее союзниками (требования репараций со стороны Израиля власти ГДР игнорировали вплоть до 1990 года). При этом власти ГДР сталкивались с тем же недостатком образованных технократов, что и в ФРГ. Поэтому, в противоположность официальной риторике о том, что элиты ГДР сплошь состоят из бывших антифашистов, власти были вынуждены прибегать к услугам бывших членов НСДАП (в 1950 году среди сотрудников госведомств их было до 12%).
ГДР необходимо было противопоставить нюрнбергским трибуналам свидетельства готовности судить бывших нацистов на своей территории. Результатом стали печально знаменитые судебные процессы 1950 года в городе Вальдхайм. Перед судом предстали по большей части заключенные советских лагерей, уже находившиеся под стражей с 1945 года. Суды велись в спешке (в некоторые дни выносилось по 100 приговоров) и были простой формальностью. Среди осужденных были молодые люди, бывшие членами «Гитлерюгенда» в 14-летнем возрасте и уже проведшие за это в заключении 5 лет, и женщина, заворачивавшая продукты в антисовесткую листовку (которую она даже не могла прочесть, так как не знала русского языка). К разным видам наказания были приговорены 3400 человек: 32 к смерти, 146 к пожизненному заключению, 2000 к заключению на 25 лет, остальным дали до 15 лет.
Восточноевропейским ноу-хау в деле экстернализации работы с нацистским прошлым стало превращение категории «фашизм» в пропагандистское клише, описывающее явления настоящего. Когда в июне 1953 года протесты рабочих в Восточном Берлине переросли в забастовки по всей стране и были подавлены с применением советских танков (погибло более 50 человек), это выступление официально было названо «фашистской вылазкой». Когда же в 1961 году власти ГДР вынуждены были перестать изображать демократию и возвели стену, отделив Западный Берлин от Восточного (за 10 лет страну покинули 3 млн человек, или 15% населения), эта стена была названа «антифашистским оборонительным валом».
Разделение Германии на «злую» и «добрую», от которого так настойчиво отговаривал просвещенное человечество Томас Манн в своей речи в Библиотеке Конгресса, стало государственной идеологией Восточной Германии. Отождествление Западной Германии с фашизмом, а себя — с антифашизмом принимало подчас курьезные черты: у мемориала на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен, среди флагов 12 стран, пострадавших от нацизма, был и флаг ГДР.
Даже память о жертвах нацизма оказывалась в ГДР подчинена инструментальным целям. Средства для реставрации крупнейшей в Германии синагоги на Рикерштрассе, разгромленной во время «Хрустальной ночи» 1938 года, были найдены только в конце 1980‐х: холодная война закончилась, и восточногерманскому правительству нужно было срочно начать договариваться с международным сообществом, США и Израилем[293].
1990‐Е. ПРОРАБОТКА НАСЛЕДИЯ «ВТОРОЙ ДИКТАТУРЫ»
Падение Берлинской стены было в первую очередь результатом краха восточногерманской экономики и неспособности СССР поддерживать режим Эриха Хонеккера, и только затем — массового недовольства жителей ГДР и их протестами. Но то, что «мирная революция» с самого начала направлялась восточногерманскими диссидентами и правозащитниками, во многом определило акценты транзитного правосудия в первые годы после объединения.
Наиболее разрушительными и болезненными для общества преступлениями коммунистического режима, требовавшими безотлагательной проработки, были тотальная слежка со стороны Министерства государственной безопасности ГДР, или Штази (сокращение от Ministerium für Staatssicherheit), и убийства мирных граждан, пытавшихся перейти германо-германскую границу. Именно вокруг этих тем в первую очередь группировались меры переходного правосудия после объединения Германии. Вопрос об ответственности руководства ГДР оказался на третьем плане.

Ил. 53. Полоса отчуждения перед Берлинской стеной, август 1961 года
Система массового доносительства, опиравшаяся на разветвленную сеть официальных и неофициальных сотрудников Штази, была основой репрессивного режима СЕПГ. Раздутый до невероятных пределов штат официальных и неофициальных агентов представлял собой специфическую черту восточногерманской диктатуры. По подсчетам исследователей, за период с 1950 по 1989 год общее число официальных сотрудников Штази достигало 274 тысяч, а неофициальных осведомителей — 624 тысячи. В последний год существования ГДР это соотношение составляло 91 тысячу к 189 тысячам человек. То есть в общей сложности в 1989 году на Штази работали 1,7% населения страны, а досье были заведены на 6 млн человек, или более 37,5% населения[294]. Это не могло не оставить следа в культуре: именно в форме дневника человека, знакомящегося со своим досье, британский историк Тимоти Гартон Эш написал книгу о восточногерманской диктатуре «Досье: личная история» (1997)[295], и именно сотрудник Штази, составляющий такие досье на своих подопечных, стал героем во многих отношениях знакового фильма Флориана Доннерсмарка «Жизнь других» (2006).

Ил. 54. В берлинской штаб-квартире Штази после захвата 15 января 1990 года
Неудивительно поэтому, что в декабре 1989‐го и январе 1990 года жители восточногерманских городов штурмовали не правительственные здания, а штаб-квартиры Штази, главное олицетворение диктатуры и хранилище архивов, а одним из самых популярных лозунгов мирной революции 1989–1990 годов был «Свободу моему досье!».
Одним из важных решений правительства объединенной Германии была передача архивов упраздненного Штази в ведение Ведомства по управлению документацией Штази. Оно получило известность под названием «Ведомства Гаука» — его возглавил Йоахим Гаук, лютеранский пастор и диссидент. Хотя очень многие и на западе, и на востоке настаивали во имя сохранения гражданского мира на необходимости уничтожения архивов Штази (за это, в частности, выступали канцлер ФРГ Гельмут Коль и его министр внутренних дел Вольфганг Шойбле), под давлением восточногерманской общественности был принят Закон о документации Штази. Он обеспечил неприкосновенность архивов, политическую независимость Ведомства Гаука, регламентировал доступ к личным досье. Закон давал возможность всем гражданам бывшей ГДР узнать, было ли заведено на них дело и, если да, ознакомиться со своим досье. Закон защищал права третьих лиц (их упоминания заклеивались или вычеркивались), оговаривал особые права доступа к файлам для исследователей и журналистов, а также предполагал особые правила публикации досье, касавшихся публичных лиц. Только за первые два года после принятия закона заявки на ознакомление со своими досье подали более 2 млн человек.
Документы Штази стали основанием для наиболее широкомасштабных мер переходного правосудия: проверок госслужащих на предмет сотрудничества с госбезопасностью. По Закону о документации Штази все служащие госучреждений бывшей ГДР должны были повторно подать заявление о приеме на работу, при этом ответив на вопрос о сотрудничестве со спецслужбами. Работодатель имел право запросить досье своего служащего и, если факт сотрудничества подтверждался, мог отказать в приеме на работу. Таким образом, решение оставлялось на усмотрение работодателя, и наиболее строго подходили к проверке кадров те организации, которые более всего дорожили репутацией и нуждались в публичной легитимации, — в первую очередь университеты, школы и суды. Закрытые и бюрократизированные учреждения оказывались затронуты в наименьшей степени. Обратной стороной стремления очистить репутацию стало то, что все ответственные посты в образовательных, в частности, учреждениях оказались фактически захвачены выходцами с Запада.
По данным на 2014 год, в Ведомство Гаука поступило более 1,5 млн запросов от работодателей, а уволено за сотрудничество со Штази было порядка 55 тысяч человек. При этом на 2000 год 12% действующих офицеров полиции ФРГ (или 7300 человек) являлись бывшими сотрудниками или информаторами Штази, а в 2009 году административные должности в правительствах федеральных земель занимали 17 тысяч бывших сотрудников Штази.
Наиболее важной целью люстрационных процедур было возвращение доверия граждан к власти. «Мы крайне нуждались в этом законе, — писал позднее Йоахим Гаук. — Логически немыслимо, чтобы те, кто служил этому аппарату угнетения, по-прежнему продолжали бы занимать руководящие должности. Нам нужно убедить наш народ в том, что он теперь свободен, и сделать так, чтобы люди прониклись доверием к органам власти на всех уровнях»[296].
В то же время суды над преступлениями коммунистической диктатуры свелись главным образом к процессам над пограничниками, стрелявшими в тех, кто пытался перейти германо-германскую границу. Число убитых при переходе границы с 1957 по 1989 год составило, по разным оценкам, от 500 до 1100 человек (в том числе 27 пограничников)[297]. К тюремным срокам были приговорены 75 тысяч человек за попытку перехода границы, еще около 50 тысяч — за помощь в организации побега. С 1992 по 2004 год приговоры были вынесены 267 обвиняемым — в основном пограничникам и их непосредственным начальникам.
Руководства ГДР и ее репрессивного аппарата суды коснулись в более щадящем режиме. В ноябре 1992 года перед судом предстали генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонеккер, глава Штази Эрих Мильке, премьер-министр Вилли Штоф и члены Совета безопасности Хайнц Кесслер, Фриц Штрелец и Ганс Альбрехт. Хонеккер, Мильке и Штоф были освобождены из-под стражи по состоянию здоровья. Мильке был судим повторно и осужден на 6 лет тюрьмы, но не за похищения людей, пытки заключенных и массовые нарушения прав человека его ведомством, а за убийство двух полицейских, разгонявших демонстрацию коммунистов в 1931 году. Через два года он вышел на свободу и жил в Берлине, получая повышенную пенсию как жертва нацизма. Кесслер, Штрелец и Альбрехт получили от 4,5 до 7,5 лет.
В 1995–1997 годах прошли еще три процесса над 7 членами Политбюро СЕПГ и 15 генералами. В первом из них осуждены были четверо (они вышли на свободу досрочно, проведя в тюрьме от 1 года до 4 лет), генералы получили от 1 года условно до 6,5 года. Еще порядка 200 обвинений было вынесено в первой половине 1990‐х годов сотрудникам восточногерманской судебной системы.
В целом за годы после объединения Германии из почти 100 тысяч человек, в отношении которых предпринимались расследования, перед судом предстали 1400, а были осуждены 756 (или 0,7%), причем в 92% случаев они были приговорены к штрафам или условным срокам. С учетом того, в какой мере люстрации коснулись рядовых учителей, университетских преподавателей и судей, из которых в некоторых землях до 90% вынуждены были оставить свои посты, это производило впечатление непропорционального применения правосудия. Недовольство правозащитников и бывших диссидентов хорошо резюмирует известная формула восточногерманской художницы и правозащитницы Бэрбел Болей: «Мы хотели справедливости, а получили верховенство права».
Задачу информировать людей о преступлениях коммунистического режима и объединить расколотое в годы диктатуры общество были призваны решить две правительственные комиссии, работавшие в 1992–1994 и 1995–1998 годах. В отличие от традиционных комиссий правды и примирения, их задача сводилась к сбору и анализу материала и рекомендациям правительству. Результатом первой комиссии стала публикация 18-томного отчета, результатом второй — создание Фонда осмысления диктатуры СЕПГ и ее последствий[298]. Рекомендации комиссий касались учреждения праздников и мемориальных дат, музеев, выплат компенсаций жертвам коммунистических репрессий, публикации материалов о них и разработки образовательных программ.
Объединение обществ, несколько десятков лет развивавшихся раздельно, не могло не принести трудностей и разочарований. Высокие ожидания жителей бывшей ГДР в плане демократии и благополучия довольно быстро оказались заметно подкорректированы реальностью. Если в 1990 году удовлетворенность демократией высказывали 77% немцев, то в 1993‐м — всего 47%, причем недовольных было больше именно на востоке страны. Сохранявшийся внутренний раскол отразился и на политике работы с прошлым: преодоление нацистского прошлого было оставлено бывшим «западникам», а преодоление коммунистического — бывшим «восточникам».
Со временем, впрочем, этот раскол сокращается. Романы и фильмы, посвященные «второй диктатуре», с начала 2000‐х способствуют созданию общей памяти о прошлом. На это же работают многочисленные музеи и мемориалы — среди них Музей Штази в бывшей штаб-квартире ведомства в берлинском районе Лихтенберг, Музей Берлинской стены в бывшем КПП «Чекпойнт Чарли», экспозиция в другом бывшем КПП, «Дворце слез» на Фридрихштрассе, и многие другие. А темы ответственности власти перед гражданами, доверия общества к власти и вовлеченности граждан в борьбу за свои права, которые олицетворяла деятельность Ведомства Гаука, оказались настолько важными и востребованными, что в 2012 году Йоахим Гаук был избран на пост федерального президента Германии. Спустя 22 года после объединения страны ему доверяли 80% немцев.
1990‐Е: СКЛАДЫВАНИЕ ОБЩЕГЕРМАНСКОГО НАРРАТИВА О ПРОШЛОМ
Яркий пример многослойности германской мемориальной культуры, — общественные дискуссии вокруг даты празднования объединения Германии. Днем открытия границы между двумя частями Берлина (символическое «падение Берлинской стены») было 9 ноября 1989 года. Однако эта дата, получившая название «судьбоносного дня» (Schicksalstag), несла на себе негативную символическую нагрузку: 9 ноября 1938 года осталось в истории как дата «Хрустальной ночи», знаменовавшей начало Холокоста; в этот день в 1923 году случился «Пивной путч», первая предпринятая Гитлером попытка переворота, в 1918 году был свергнут кайзер Вильгельм II, а в 1848‐м казнен лидер Революции 1848–1849 годов Роберт Блюм. Было принято компромиссное решение: официальным праздником объединения Германии стало 3 октября, когда был подписан договор об объединении, а 9 ноября объявили общенациональным днем памяти, покрывающим и события 1938 и 1989 годов. Праздничные мероприятия в этот день ограничиваются местами, соседствующими с остатками Стены.
Страна, несущая на себе сложное наследие двух диктатур, тем не менее начинает выработку общего нарратива о прошлом. Его складыванию вновь помогает американский кинематограф: вышедший в 1993 году фильм Спилберга «Список Шиндлера», в отличие от «Холокоста» 1979 года, смотрят жители и Востока, и Запада Германии.
Новым шагом критического осмысления истории Второй мировой в единой Германии стала выставка «Война на уничтожение: преступления вермахта в 1941–1945 годах», открывшаяся в Гамбурге в 1995 году и объехавшая 33 города Германии и Австрии. Выставка, подготовленная Гамбургским институтом социальных исследований, представляла фотографии из частных альбомов, на которых немецкие военные участвовали в расправах над мирными жителями. Резонанс, вызванный выставкой, был связан с тем, что она нарушала негласное табу на обсуждение роли в войне военных, в отличие от СС и айнзацгрупп, разрушала миф о «чистом вермахте» и четкое разделение на «преступников» и «честных солдат, исполнявших свой долг». Граница между хорошими и злыми, между немцами и нацистами снова оказывалась под вопросом.
Выставка вызвала резкие протесты во многих городах Германии и Австрии, ожесточенные дискуссии в СМИ. Когда выяснилось, что на некоторых фотографиях вместо солдат вермахта в действительности изображены солдаты НКВД, выставка была закрыта на реконструкцию и снова открылась в 2001–2004 годах. И хотя многие представители старшего поколения отвергли ее посыл, молодежь приняла его и осмыслила как «нашу вину»[299].
Именно в 1990‐е годы память о Холокосте начинает все заметнее выдвигаться на первый план. В декабре 1992 года в ознаменование 50-летней годовщины указа Гиммлера о депортации евреев в концлагеря художник Гюнтер Демниг вмонтировал в мостовую перед Кельнской ратушей первый «камень преткновения» (Stolperstein). Облицованный латунью бетонный куб, торчащий из мостовой, призван заставить пешехода «споткнуться» (stolpern) и вспомнить о жертвах нацизма. Вскоре мемориальные «камни преткновения» распространяются по всей Германии и за ее пределами — в 2015 году их было уже 50 тысяч. Именно «камни преткновения» послужили источником вдохновения для создателей российского проекта «Последний адрес», посвященного жертвам ГУЛАГа.

Ил. 55. Мемориал жертвам Холокоста в Берлине
В 1996 году президент Германии Роман Херцог объявляет 27 января, день освобождения концлагеря Аушвиц в 1945 году, общенациональным днем памяти. В середине 1990‐х в германском обществе начинается дискуссия об общенациональном мемориале жертвам Холокоста. В 2001 году начинается строительство мемориала по проекту архитектора Питера Айзенмана; он открывается в 2005 году. В 2001 году в Берлине начинает работу крупнейший в Европе (и один из наиболее посещаемых в Германии) Еврейский музей.
Одна из наиболее авторитетных исследователей германской мемориальной культуры Алейда Ассман так описывает особенность сложившейся в Германии модели работы с прошлым:
Германский пример предпочтения «негативной памяти» через интернализацию вины за исторические преступления и принятие ответственности за прежний политический режим в качестве национальной политики не только отличен (от моделей объединения, строящихся на героической или жертвенной памяти. — Н. Э.), он исторически уникален. Многие политические аналитики отнеслись к этому примеру со скептицизмом, назвали его мазохистским и уверяли, что это невозможно. Другие же превозносили «германскую модель», знаменующую важный поворот в оценке и конструировании прошлого. До сих пор конструирование национальной памяти оставалось монологичным, держалось на восхвалении и возвеличивании себя; сегодня мы имеем перед глазами новую модель, которая может сделать это конструирование более диалогичным и самокритичным. Об этом повороте от монологичной к более диалогичной памяти свидетельствует длинный список глав государств, которые после 1990 года публично принесли извинения жертвам рабства, колониализма и государственного террора диктатур за преступления против человечности, совершенные в прошлом их странами[300].
Каждое поколение нуждается в новом языке разговора о прошлом. Современная Германия с начала 2000‐х трансформировалась в общество в значительной степени иммигрантсткое: она больше не абсорбирует иммигрантов, превращая их в немцев, разделяющих их мифы, воспоминания, символы и традиции. Сегодня интеграция предполагает сохранение собственных идентичностей, а тем самым немецкая мемориальная культура оказывается перед необходимостью становиться более инклюзивной, более адаптируемой к опыту иммигрантов. И здесь память о Холокосте и Второй мировой оказывается основанием для выработки ответов на новые вызовы времени.

Ил. 56. Отец Манфред Дезелерс
Отстаивая политику приема мигрантов во время кризиса беженцев 2015 года, власти Германии апеллировали именно к памяти о Второй мировой войне, когда 12 млн немцев оказались беженцами. В то же время происходящее сегодня в Германии подтверждает, что говорить об успехе в преодолении трудного прошлого невозможно: это всегда процесс, требующий постоянного усилия. Учащающиеся с 2017 года сообщения о проявлениях исламского антисемитизма со стороны мигрантов, для которых вражда с Израилем лишена ассоциаций с Холокостом, активно используются правыми и националистическими силами в самой Германии для эскалации ксенофобских настроений по отношению к мигрантам. Из зафиксированных в 2017 году в Германии 1500 преступлений антисемитской направленности 90% совершены представителями праворадикальных и неонацистских объединений.
В последние годы исследователи коллективной памяти много пишут об универсализации памяти о Холокосте, превращающей ее в язык обсуждения и реагирования на нарушения прав человека во всем мире. Это блестяще иллюстрирует личный пример отца Манфреда Дезелерса, многие годы бывшего единственным немцем среди сотрудников Музея Аушвиц-Биркенау в польском городке Освенцим. Его судьба по-человечески уникальна и в то же время очень характерна для представителя немецкого поколения 1968 года.
В середине 1970‐х 19-летний Манфред Дезелерс поступил на факультет права Боннского университета, но меньше чем через год оставил учебу, чтобы уехать в Израиль волонтером «Акции искупления». Полтора года Манфред живет в Иерусалиме, работая в центре помощи детям-инвалидам. После возвращения в Германию он в 1976–1981 годах изучает богословие в Тюбингене и Чикаго. В 1983 году он становится священником и членом правления Общества сотрудничества христиан и иудеев.
После падения Берлинской стены в 1989 году отец Манфред едет в Польшу как в страну, наиболее пострадавшую от нацизма, и с 1992 года становится сотрудником и духовником католического Центра диалога и молитвы в Освенциме. В 1996 году в качестве богословской диссертации он защищает двухтомную работу о Рудольфе Хёссе, коменданте Аушвица[301]. Первый том — лучшая на сегодня биография Хёсса, второй — богословское осмысление проблемы зла, проделанное на материале этой биографии (основой этого осмысления становится этика Эманнуэля Левинаса). Отец Манфред — единственный немец, вот уже почти 30 лет живущий в Освенциме. За эти годы он стал квалифицированным гидом музея Аушвиц-Биркенау и преподавателем Школы исследований Холокоста при мемориале Яд-Вашем. Он посвятил свою жизнь разработке языка, на котором можно осмыслять зло нацизма и свидетельствовать о нем — большую часть времени он общается со школьниками и студентами, которые приезжают в Центр диалога и в Музей на экскурсии[302].
В последние годы отец Манфред активно участвует в акциях, семинарах и конференциях в разных странах, где делится опытом диалога о преодолении наследия нацизма. А в Центр диалога и молитвы в Освенциме все чаще приезжают люди, озабоченные преодолением трудного прошлого в своих странах — от Франции до Японии. И для него все очевиднее, что этот опыт преодоления подлежит распространению за пределы Германии и за пределы собственно памяти о германском опыте. В последние годы отец Манфред часто приезжает в Россию, участвуя в дискуссиях, посвященных ГУЛАГу, «советскому Холокосту». Осенью 2017 года отец Манфред вместе с группой польских паломников посетил Бутовский полигон, одно из главных московских мест памяти о жертвах ГУЛАГа.
6. Япония, или балансирующая память
В детстве я отчетливо понимал, что Япония ведет глупую войну. Я слышал, как люди с гордостью говорили об ужасных вещах, которые японские военные творили в Китае. В то же время я слышал, как японцы страдали от авианалетов. Я много чего наслушался, и после этого стал по-настоящему ненавидеть Японию, считая, что родился в стране, которая наделала много глупостей.
Поскольку мы врали до сих пор, нам приходится продолжать врать. Те, кто хочет сохранить чувство преемственности, могут хотеть говорить, что довоенная Япония ни в чем не виновата, но она виновата. И мы должны это признать. История про женщин для утешения — это история про национальную гордость, и Япония должна извиниться и заплатить компенсации[303].
Это слова Хаяо Миядзаки, знаменитого японского мультипликатора, основателя студии «Гибли» и создателя всеми любимых историй про Тоторо и Навсикаю. Всю свою жизнь Миядзаки снимал сказочные истории для детей, проникнутые пацифизмом, но не касавшиеся напрямую истории и политики. Но сам Миядзаки не скрывал своей гражданской позиции. В 2003 году в знак протеста против вторжения США в Ирак он отказался от поездки на церемонию вручения Оскара за фильм «Унесенные призраками».
Однако в 2013 году Миядзаки выпускает фильм «Ветер крепчает», романтизированную историю авиаконструктора Дзиро Хорикоси, разработавшего легендарный истребитель «Зеро», гордость японской военной промышленности и самый знаменитый самолет Второй мировой войны. Герой фильма — щуплый очкарик-мечтатель, влюбленный в небо, но не могущий стать пилотом, а потому решающий стать авиаконструктором. Его роман с небом развивается параллельно роману с будущей женой (художницей) и проникнут таким же трагизмом: юные Дзиро и Наоко решают пожениться, когда становится понятно, что девушка смертельно больна; свою страсть к небу и красоте в условиях надвигающейся войны Дзиро может реализовать, только создавая истребитель — орудие убийства[304].
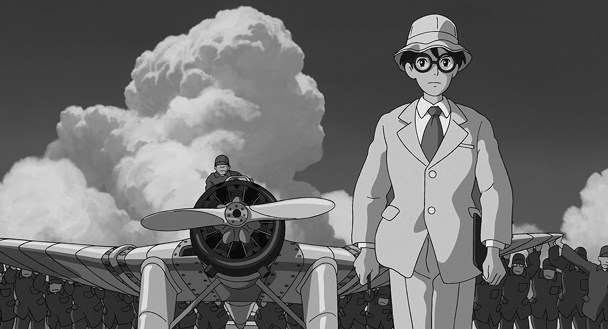
Ил. 57. Кадр из фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»
Сначала фильм вызвал негодование японских либералов и пацифистов, увидевших в нем воспевание милитаризма. Стремясь исключить недоразумения, студия «Гибли» посвятила теме ответственности за Вторую мировую войну целый номер выпускаемого ею журнала, который включал обширные интервью с Миядзаки, его коллегами Исао Такахатой и главой студии Тосио Судзуки[305]. Высказывания сотрудников «Гибли», подобные приведенному во вступлении к этой главе, вызвали негодование теперь уже националистов и консерваторов, обвинивших их в непатриотической позиции.
В спорах вокруг фильма «Ветер крепчает» отразилось не просто столкновение патриотов, милитаристов и ревизионистов с настаивающими на покаянии пацифистами. Миядзаки делает главным героем своего фильма не прекраснодушного мечтателя, а создателя «Зеро». И сколько бы он устами своего персонажа ни утверждал, что работа на военных — просто-напросто единственная возможность воплотить мечту («Мы не торговцы оружием, мы просто хотим делать красивые самолеты!»), воплощением мечты становится машина, уничтожившая Перл-Харбор. Куда более честным Миядзаки оказывается, когда в интервью главной либеральной газете Японии «Асахи симбун» говорит, что его задачей было стремление не дать милитаристам «присвоить» авиаконструктора Хорикоси:
Большинство фанатичных поклонников «Зеро» в сегодняшней Японии страдают серьезным комплексом неполноценности, который заставляет их компенсировать недостаток самоуважения фиксацией на чем-то, чем они могли бы гордиться. Последнее, чего бы я хотел, — чтобы эти люди использовали Зеро и выдающийся гений Хорикоси в качестве отдушины для реализации своего патриотизма и комплекса неполноценности. Надеюсь, что, сняв этот фильм, я отстоял Хорикоси у этих людей[306].
Для обеих сторон, Миядзаки и его оппонентов, ключевым в споре оказывается поиск оснований для гордости. Это спор не о том, хорош или плох истребитель «Зеро» в качестве составляющей национальной идентичности, а о том, героем какого сюжета он станет — истории военной мощи или романтической сказки.
Жаркие дискуссии, спровоцированные мультфильмом Миядзаки, показывают, насколько живой остается для Японии тема памяти о Второй мировой войне и ответственности за совершенные тогда преступления даже 70 лет спустя. Популярное представление о Японии как о стране, настойчиво избегающей ответственности, регулярно извиняющейся и столь же регулярно дезавуирующей свои извинения ритуальным почитанием военных преступников[307], — как минимум упрощенное, а то и неверное. Особенность японской модели памяти — в уникальном соединении виновности и заплаченной за эту вину цены, которое делает разговор об ответственности крайне сложным.
МИЛИТАРИСТСКАЯ ЯПОНИЯ, ДУХ ЯМАТО
Поражение Японии во Второй мировой войне положило конец целой эпохе развития Японии как претендента на лидерство в Восточной Азии. Эта эпоха началась с реставрации императорской системы после гражданской войны 1860‐х годов. Победы в Японо-китайской (1894–1895) и русско-японской (1904–1905) войнах обеспечили Японии господство на Японском и Желтом морях, позволив присоединить Тайвань (1895), Южный Сахалин (1905) и Корею (1910).
В 1914 году Япония принимает участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, расширив свое политическое влияние (становится в 1919 году одним из четырех постоянных членов Лиги Наций) и территорию за счет тихоокеанских территорий, управлявшихся прежде Германией. В 1931 году Япония занимает Маньчжурию, создавая там марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1933 году, одновременно с гитлеровской Германией, Япония выходит из Лиги Наций, в 1936‐м подписывает Антикоминтерновский пакт с нацистской Германией, а в 1940‐м — «Тройственный пакт» с Германией и Италией.

Ил. 58. Берег реки Циньхуай близ Нанкина, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией, 1937 год
В 1937 году Япония вторгается в другие части Китая, начиная вторую Японо-китайскую войну (1937–1945). Чтобы обеспечить своему флоту свободу действий в Юго-Восточной Азии, 7 декабря 1941 года Япония предприняла налет на американскую военную базу Перл-Харбор. Нейтрализовав американский тихоокеанский флот, Япония начинает вторжение в Таиланд, британские Гонконг и Малайю (современную Малайзию), американские Филиппины. С этого момента конфликт с Китаем перерастает в составляющую часть Второй мировой войны.
Разница подхода к этой части истории фиксируется даже на уровне словоупотребления. Японские либералы предпочитают говорить о Тихоокеанской войне, тогда как консерваторы и националисты — о Великой восточно-азиатской войне, призванной освободить Азию от большевизма и господства белых.
По подсчетам политолога из Гавайского университета Рудольфа Руммеля, за 1937–1945 годы японский военный режим уничтожил около 6 млн человек — жителей Китая, Индонезии, Кореи, Филиппин, Индокитая и западных военнопленных[308]. К наиболее кровавым страницам этой войны относятся эпизоды, оставшиеся в истории как Нанкинская резня и резня в Маниле. В первом случае речь идет об уничтожении Императорской армией Японии, по разным оценкам, от 40 до 300 тысяч человек гражданского населения и разоруженных солдат после захвата столицы Китайской республики Нанкина в декабре 1937 года. Во втором — об уничтожении 100 тысяч жителей столицы Филиппин Манилы в феврале — марте 1945 года.
КАПИТУЛЯЦИЯ И ТОКИЙСКИЙ ТРИБУНАЛ
После капитуляции Германии Япония заявляла о готовности воевать до конца, предпочитая сдаче смерть. «Единственный оставшийся путь для ста миллионов японцев — пожертвовать своими жизнями в борьбе с врагом и сделать все, чтобы подорвать его боевой дух», — писала японская пресса. Даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вооруженными силами США и объявление Советским Союзом войны Японии не стали ключевым фактором, заставившим Японию капитулировать[309]. Им стала договоренность с властями США о сохранении власти императора как инструмента проведения оккупационной политики.
15 августа 1945 года император Хирохито обратился к нации с речью, содержание которой было далеко от раскаяния или признания ответственности:
Мы объявили войну Америке и Британии из искреннего желания обеспечить защиту Японии и стабилизацию в Юго-Восточной Азии. Мы были далеки даже от мысли о нарушении суверенитета других государств или о территориальных захватах. Но сейчас война длится уже четыре года. Несмотря на все усилия, приложенные каждым гражданином нашего отечества, и самоотверженность всего стомиллионного народа, никто не может гарантировать победы Японии в этой войне. Более того, общие тенденции современного мира обернулись не в нашу пользу.
Кроме того, противник начал использование нового оружия небывалой мощности. Эта смертоносная бомба причинила непоправимый ущерб нашей земле и унесла тысячи невинных жизней. Если мы продолжим борьбу, это приведет не только к полному уничтожению японской нации, но и даст старт искоренению всего человечества.
В сложившейся ситуации мы обязаны спасти миллионы сограждан и оправдать себя перед святыми духами наших предков. Именно по этой причине мы отдали приказ о принятии всех положений совместной Декларации.
Мы выражаем свое сожаление всем союзным государствам, которые сотрудничали с японской империей во время освобождения Восточной Азии. Мысль о солдатах и офицерах, павших на полях сражений и на боевом посту, о безвременно ушедших от нас и их осиротевших семьях наполняет болью наши сердца день и ночь[310].
Но США и не ставили целью добиться от побежденной стороны признания вины. Возможно, причиной тому был разработанный американским антропологом Рут Бенедикт и ставший известным благодаря книге «Хризантема и меч»[311] взгляд на Японию как «культуру стыда» в противоположность западной «культуре вины». Исследования Бенедикт проводились по заказу американских властей, ее рекомендации сохранить императорское правление были приняты во внимание президентом Рузвельтом.
Разработанная США при непосредственном участии генерала Макартура «формула примирения» состояла из трех частей. Первой был выпуск 1 января 1946 года так называемой Декларации о человеческой природе (Ningen-sengen), которая была воспринята Западом как отказ императора от божественного достоинства. На деле речь шла скорее о признании демократических оснований императорской власти, непосредственным же эффектом заявления было лишение синтоизма статуса государственной религии[312]. Второй частью «формулы согласия» было принятие новой конституции, согласно 9‐й статье которой страна отказывалась от создания вооруженных сил и от войн как средства решения международных споров (вступила в силу в мае 1947 года). Третьей — возложение ответственности за военную агрессию на руководство страны за исключением императора, на трибунале, аналогичном Нюрнбергскому.
Высшее военное и гражданское руководство Японской империи (за исключением императора) предстало перед судом в рамках Токийского процесса. Официально он именовался Международным военным трибуналом для Дальнего Востока и проходил с мая 1946‐го по ноябрь 1948 года. По словам одного из подсудимых, с которым склонны были согласиться и большинство юристов, токийский процесс был «не реализацией правосудия, а продолжением войны». При этом император не только не оказался на скамье подсудимых, он даже не выступал свидетелем; исключены были любые его упоминания[313]. Если военные вермахта часто и охотно перекладывали вину на Гитлера, то японские военные и чиновники предпочитали оправдывать императора, принимая всю вину на себя.
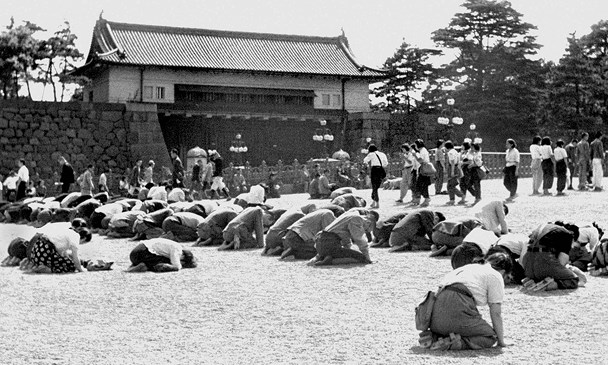
Ил. 59. Японцы слушают обращение императора к нации, 5 августа 1945 года
Помимо императора, среди подсудимых не было разработчиков биологического оружия во главе с Сиро Исии, «японским доктором Менгеле». Жертвами бесчеловечных экспериментов Отряда 731, который он возглавлял, стали, по разным данным, от 3 до 10 тысяч человек (в основном китайцы и русские). Исии и другим участникам программы был предоставлен иммунитет в обмен на данные об их исследованиях. Впоследствии многие члены Отряда 731 работали врачами в Японии и США. Двенадцать участников программы были осуждены в СССР на Хабаровском процессе в 1949 году, но получили небольшие сроки и скоро вернулись на родину.
«Обратный курс» проявился и в том, что главные японские военные преступники (кроме казненных по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока и умерших в заключении) были к 1956 году выпущены из тюрем. Некоторые из них, как бывший министр иностранных дел Сигэмицу Мамору, даже сделали политическую карьеру в послевоенной Японии.
Главной задачей Токийского процесса, кроме собственно обвинения военных преступников, была фиксация генерального нарратива о Тихоокеанской войне. Он гласил, что виновен в войне «японский милитаризм» в лице высшего военного и гражданского руководства страны, с граждан же ответственность полностью снималась. Слабой частью этой конструкции оказывался вопрос об ответственности лично императора Хирохито. Эта тема на долгие годы стала запретной для японского общества. Блокировка обсуждения этой темы в обществе оказалась решением, устраивающим не только японские и американские власти, но большую часть японского общества, замечает писатель и журналист Иэн Бурума в книге, посвященной сравнению работы с прошлым в Германии и Японии:
Институт императорской власти до конца войны использовался для подавления свободы слова и разговора о политической ответственности в принципе. Без обсуждения роли императора в войне невозможно было изобличить «систему безответственностей», а значит, так или иначе она продолжала свое существование. <…> Пока император, формально ответственный за все, был жив, японцам трудно было быть честными перед собой в отношении прошлого. Сняв ответственность с императора, каждый мог считать лично для себя вопрос закрытым[314].
По-своему виртуозная схема, позволившая Японии обезопасить себя от темы ответственности за войну, имела оборотную сторону. В отличие от Германии, где за Нюрнбергом, пусть и не сразу, но все же последовали судебные процессы, инициированные властями под давлением общества, в Японии таких процессов никогда не было. Дело в том, что японская военная агрессия не отличалась от «обычных» военных преступлений в такой степени, как Холокост. Вдобавок японцы считали себя достаточно наказанными ядерными бомбардировками и международными трибуналами. Но главной причиной, делающей невозможным самостоятельное осуждение собственных преступлений и преступников, была мастерски разработанная Макартуром и его советниками схема ненавязчивого отъема у Японии ее суверенитета. Самостоятельный расчет с прошлым невозможен при отсутствии самостоятельности.
Отказ от прошлого и увлеченное принятие оккупации во всех ее формах, от романов с американскими солдатами и общенационального обожания генерала Макартура до рыночной экономики и права на неприкосновенность частной жизни, Джон Довер, автор одной из лучших книг о послевоенной Японии, удачно назвал «броском в объятия поражению»[315]. Период американской оккупации был, по сути, военной диктатурой, но диктатурой, эффективно разрушившей жестко авторитарные институты японского общества и насильно одарившей правами и свободами сто миллионов японцев. Еще недавно они были готовы покончить с собой по приказу императора, а теперь рады строить новое общество на основе ценностей «мира и демократии» (эта связка быстро стала идеологическим штампом).

Ил. 60. Генерал Дуглас Макартур и император Хирохито. Токио, 29 сентября 1945 года
КОНЕЦ ОККУПАЦИИ. РУКА ОБ РУКУ С США К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
В 1947–1948 годах на фоне усиления позиций коммунистов в Китае и обострения противостояния с СССР в Корее США начинают пересматривать отношение к Японии. Прежде, с точки зрения американцев, это было вражеское государство, заслуживавшее наказания. Теперь же Япония стала для Вашингтона важным военно-политическим союзником (послевоенный премьер Сигэру Ёсида назвал Корейскую войну «даром богов»). Последовательное сворачивание мер демилитаризации Японии (создаются сначала Национальные силы безопасности, а потом Национальные силы обороны) и запрет на ритуалы в память о военных, погибших в 1948–1952 годах, получили название политики «обратного курса». Она завершилась подписанием в 1952 году Сан-Францискского мирного соглашения. Оно превращало Японию из оккупированного государства в младшего союзника США. Негласный договор между ними предполагал помощь в развитии экономики в обмен на отказ от политических амбиций. Японии предоставлялось право стать экономической силой, но не политической.
Япония, запертая в двустороннем и подчиненном альянсе с США, десятилетиями не могла рассчитывать на сближение с азиатскими соседями, которое напоминало бы то, что смогла сделать Германия в составе Европейского союза. Более того, отказ от попыток завоевать политическое лидерство в Азии был ценой, которую Япония сознательно платила за поражение в войне. Много десятилетий многие в Японии и в Азии видели в этом молчаливый способ признания японской ответственности за военную агрессию, развязанную как раз для реализации японского представления об интеграции Восточной Азии[316].
Развитием Сан-Францискского соглашения стал Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 года, оговаривавший большую самостоятельность Японии (в частности, запрещалось военное вмешательство США в ее внутренние дела). Но это все же была «подчиненная независимость», о чем свидетельствовали самые масштабные в японской истории гражданские протесты. Открытие Японии навстречу Западу в сочетании с экономическими реформами и помощью США запускают процессы, делающие возможным «японское экономическое чудо». В 1960‐х и 1970‐х годах Япония не только полностью восстанавливается после поражения в войне, но и последовательно обходит по размеру ВВП Францию, Италию, Канаду, Великобританию, ФРГ и СССР, уступая лишь США. Статус второй экономики мира Япония удерживает с 1968 по 2011 год.
Восстановление экономики способствует нормализации отношений с соседями. По соглашению 1952 года Япония к середине 1970‐х выплатила Филиппинам, Индонезии, Бирме и Вьетнаму репарации в размере 1 млрд долларов США. Аналогичное соглашение с Кореей было заключено в 1965 году, по его условиям Япония к 1975 году выплатила 800 млн долларов «экономической помощи». Договор о сотрудничестве с Китаем был подписан только в 1972 году. В его рамках Китай отказался от требований репараций с Японии (тем не менее в 1980‐х Япония оказывала Китаю помощь в виде низкопроцентных займов более чем на 3 млрд долларов).
Стремясь эмансипироваться от США, в 1970‐е годы Япония активизирует отношения с азиатскими соседями. Однако в отличие от стран, пострадавших от Германии и готовых требовать извинений и компенсаций, с жертвами японской агрессии дело обстояло совершенно иначе. В Китае и Корее до второй половины 1980‐х существовали авторитарные режимы, делавшие акценты только на триумфах и победах. Взгляд на историю с точки зрения жертв был под запретом. В результате тема ответственности Японии за военные преступления оказалась «закупорена» с обеих сторон.
Будучи заблокирована на внешнеполитическом уровне, тема ответственности присутствует в эти годы в Японии как внутриполитический фактор. Левая оппозиция традиционно критиковала правительство консерваторов за отказ от разговора об ответственности, правые в ответ обвиняли левых в низкопоклонстве перед Западом и недостатке патриотизма. Не касаясь признания вины перед конкретными жертвами, эта дискуссия оставалась по большей части риторическим упражнением.
Демократизация на фоне экономического роста делает прорывы памяти все более частыми, и постепенно они готовят смену перспективы. Среди таких прорывов — публикация в 1971 году серии репортажей о Нанкинской резне японского журналиста Кацуити Хонды под названием «Путешествия в Китай», книга «Нанкинский инцидент» (1972) историка Томио Хоры, серия исков историка Сабуро Иенаги к японскому правительству по поводу цензурирования написанного им учебника истории. Первый иск был подан в 1965 году, последний — в 1986‐м, в 1993 году цензурирование учебника было признано незаконным, а Иенаге выплатили компенсацию.
СВЯТИЛИЩЕ ЯСУКУНИ
Перипетии истории японской памяти трудно понять, не отдавая себе отчета в том, что представляет собой феномен святилища Ясукуни. Эта святая святых японской идентичности уникальна тем, что и сам храм, и существующий вокруг него культ — явления довольно новые. Святилище Ясукуни моложе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и последней версии американского Капитолия, оно всего на 20 лет старше Эйфелевой башни, символа радикального модерна. Религия, храмом которой стало святилище Ясукуни, — столь же поздний политико-идеологический конструкт. Государственный синтоизм, сформированный после реставрации Мейдзи в 1868 году, стал сознательным инструментом модерного процесса нациестроительства. Герои, чьему почитанию посвящен храм, — военные, которым император Муцухито был обязан победой над кланом Токугава.
Позднее «открытие» Японии поставило перед властвующей элитой страны задачу приобщения к современной западной цивилизации при сохранении национальной идентичности, — пишет японовед Владимир Гринюк. — При этом японские правящие круги исходили из того, что страна может сохранить свою независимость и обеспечить для себя достойное место на международной арене только в том случае, если будет проводить империалистическую политику. Напор молодого японского империализма создал спрос на националистическую идеологию[317].
Элементами нового извода синтоизма стали представления об исключительности японского народа, происходящего от божественных предков, о божественности императора как его главы, о священном единстве нации и императора. Идеология японской исключительности (кокусай) предполагала, что и для других народов японское управление будет благом. Поэтому отречение императора от божественного достоинства нужно было американцам для разрушения системы государственного синтоизма. Этой же цели служило придание синтоистским святилищам после Декларации 1946 года статуса частных структур.
В условиях невозможности напрямую вернуть синтоизму статус государственной религии националистические силы начинают бороться за возвращение церемониалу в Ясукуни официального статуса. В 1960 году в парламент была передана соответствующая петиция, под которой стояли подписи почти трех миллионов человек. С середины 1960‐х японские политики и военные все активнее участвуют в церемонии «в качестве частных лиц». Педалирование темы вызывает реакцию демократически настроенной общественности. Попытки Либерально-демократической партии протащить законопроект о придании храму «особого юридического лица» в 1969 году вызывает волну протестов по всей стране, а петиция с протестом против законопроекта собирает почти 4 млн подписей.

Ил. 61. Рисунок из манги Ёсинори Кобаяси «Манифест высокомерия»
В 1970‐е годы японские националистические силы добиваются включения военных преступников, казненных по приговорам международных трибуналов, в число почитаемых в храме героев. С середины 1970‐х визиты высокопоставленных политиков в Ясукуни становятся фактором политики, для одних означая борьбу за сохранение японской идентичности, для других — отторжение ценностей демократии. Традиционным ответом участников церемонии на упреки в этом было то, что в храме Ясукуни они молятся о мире. Все официальные описания святилища подчеркивают, что оно посвящено миру и служит примирению нации.
Это очень специфическое понимание мира, — замечает Бурума. — На цветущих вишневых деревьях перед храмом повязаны белые ленточки с названиями подразделений Имперской армии и известных сражений. Позади храма — каменный монумент в форме земного шара, посвященный памяти сотрудников Кэмпэйтая, японского эквивалента СС. Рядом — длинная бетонная плита с отверстиями, в которых находятся разноцветные камни с мест сражений в заливе Лейте, битв за Гуадалканал, Гуам и атолл Уэйк[318].

Ил. 62. Мемориальный парк мира в Хиросиме
Но разговор об этом специфически японском понимании мира невозможен без упоминания Хиросимы как уникального мемориального феномена.
ХИРОСИМА КАК МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
По мере внутреннего отстраивания от США в 1960–1970‐х в Японии формировалась очень специфическое отношение к прошедшей войне и к роли в ней Америки. Идеология «мира и демократии» все отчетливее превращалась в риторический прием, при помощи которого осуждение войны работает в первую очередь на осуждение США и поддержание самоидентификации в качестве жертв агрессии. Главным инструментом и символом этого нарратива стала Хиросима.
Сам выбор Хиросимы в качестве главной военной жертвы был сознательным политическим шагом, лишний раз напоминающим о том, в какой степени память — это конструкт, а не «объективная правда о прошлом». Самой разрушительной и смертоносной бомбардировкой Японии были не бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а так называемая «Операция „Дом молитв“», — налет на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, унесший жизни порядка 100 тысяч человек и разрушивший территорию в 42 квадратных километра. Из двух объектов ядерных бомбардировок символом трагедии стала именно Хиросима не только из‐за большего числа жертв и объема разрушений (в отличие от расположенного в холмистой местности Нагасаки, город стоит на равнине), но и потому, что в Нагасаки разрушенными оказались большей частью военные объекты.

Ил. 63. Марш мира Хиросима — Аушвиц, 1962 год
Сконструированность памяти о Хиросиме дает о себе знать не только в выборе города, но и в настойчивом умолчании о его роли во Второй мировой войне и о жертвах из числа неяпонцев. В 1952 году рядом с Музеем мира в Хиросиме был установлен кенотаф с надписью по-японски: «Покойтесь с миром, ибо ошибка не будет повторена». Английская надпись звучит более определенно: «Да упокоятся все души с миром, ибо мы не повторим зла». В 1983 году появилось уточнение на двух языках о том, что «мы» подразумевает «все человечество». Жертвами бомбардировки Хиросимы стали от 20 до 40 тысяч корейцев, многие из них были задействованы на принудительных работах. Однако мемориал корейским жертвам, установленный корейской диаспорой в 1970 году, городские власти на территории парка разместить не разрешили. Он был перенесен туда только в 1999 году после долгих дискуссий.
В начале 1960‐х годов, когда благодаря суду над Адольфом Эйхманом тема Холокоста начинает приобретать международный резонанс, в Японии заговаривают о параллелях между Хиросимой и Холокостом. В 1962 году четверо японцев, в том числе буддийский монах и ветеран Имперской японской армии организуют «Марш мира Хиросима — Аушвиц», главная цель которого — «соединить память о жертвах и местах трагедии Второй мировой войны». За 10 месяцев участники марша проходят 3000 километров, и 27 января 1963 года, в годовщину освобождения лагеря, торжественно вступают на территорию музея Аушвиц, где польские политики вручили им прах жертв для захоронения на территории хиросимского музея. В условиях обострения холодной войны (только что отгремел Карибский кризис) городские власти, однако, не захотели принимать такой дар от коммунистической страны, и прах был захоронен рядом с одним из буддийских святилищ.
Главное послание музея и мемориального парка вплоть до 1990‐х годов — проповедь «Духа Хиросимы», похожего на религиозный культ пацифизма, стремящийся оторваться от контекста Второй мировой и обратиться к агрессии как таковой и, в частности, к войнам с участием США. В музейном буклете, который цитирует Йэн Бурума, подчеркивается, что «Хиросима больше не просто японский город. Он стал признанной во всем мире Меккой движения за мир».
В то же самое время с конца 1950‐х годов в рамках рефлексии о жертвах бомбардировок становится отчетливо заметной тема мести американцам. Яркий пример — популярнейшие в 1960‐х манги[319] Кейдзи Накадзавы «Жертвы черного дождя» и «Вниз по черной реке», посвященные судьбам выживших в бомбардировке. Герой первой манги работает наемным убийцей, специализирующимся на иностранцах, в первую очередь американцах. Героиня второй, вынужденная зарабатывать на жизнь себе и своему ребенку проституцией рядом с американской базой, узнав, что обречена умереть от облучения, решает перед смертью заразить сифилисом как можно больше американских служащих[320]. Подобные сюжеты не противоречат «духу Хиросимы», а вполне встраиваются в него: в 1970‐х Накадзава приобретает репутацию одного из признанных классиков антивоенной манги.
1980‐Е И 1990‐Е: ПРОБУЖДЕНИЕ ПАМЯТИ И ПОИСК НОВОГО РАВНОВЕСИЯ
Годом прорыва памяти, аналогичным 1979‐му в Германии и 2000‐му в Испании, в Японии стал 1989‐й, год смерти императора Хирохито и окончания холодной войны[321]. Однако факторы, готовящие этот прорыв, начинают складываться уже в середине 1980‐х.
Начало «политики реформ и открытости» в Китае Дэн Сяопина и демократизация общества в Южной Корее (где в 1987 году проходят первые демократические выборы) приводят к постепенному отказу от триумфальной памяти. Память об истории с точки зрения жертв становится удобным инструментом для национального единения и контролируемой демократизации. Когда в 1982 году вспыхивает первый скандал вокруг японского учебника истории, из которого якобы вымарывается упоминание о вторжении Японии в Китай и о Нанкинской резне, китайское правительство выражает официальное недовольство и отбирает группу стариков, выживших в нанкинской трагедии, чтобы предъявить их журналистам. Япония заверила, что признает ответственность и будет внимательнее следить за содержанием учебников. Вскоре, правда, выяснилось, что новость о корректировке текста учебника была ошибкой японских журналистов. Но завеса молчания над темой оказалась прорвана.
В 1987 году сотрудники киотского университета Рицумейкан начали собирать материалы для нового музея военной истории и обнаружили Широ Азуму, живого участника Нанкинской резни, который с готовностью стал рассказывать о том, что видел, позвал однополчан и согласился опубликовать дневники. Тема, казалось, давно погребенная, оказалась весьма и весьма живой.
В 1986–1987 годах жители Хиросимы и Осаки, городов с большим корейским населением, обратились к городским властям с просьбой установить в помещении Музея мира «уголок агрессора» — часть экспозиции, посвященную роли Японии в войне. После долгих колебаний это предложение было отвергнуто мэрией, заявившей, что «уголок агрессора» может вызвать новые интерпретации ядерной бомбардировки, которые могут угрожать искажением «духа Хиросимы» и оскорбить память жертв[322].
В декабре 1989 года, когда император был уже тяжело болен, японское общество всколыхнуло заявление мэра Нагасаки Хитоси Мотосимы. Отвечая на вопрос об ответственности Хирохито за войну, он сказал:
С окончания войны прошло 43 года, и мне кажется, у нас было достаточно возможностей поразмышлять о ее природе. Я читал много иностранных сообщений и сам получил военную подготовку, и я считаю, что император несет ответственность за войну, как и все те из нас, кто жил в то время[323].
Нарушение негласной договоренности молчать об ответственности императора, помноженное на неудачный выбор времени (через месяц Хирохито скончался), вызвало мало с чем сравнимый всплеск возмущения. На Мотосиму обрушились угрозы расправиться с ним и его семьей, в его кабинет пытался прорваться человек с канистрой бензина, Либерально-демократическая партия разорвала с ним сотрудничество, его уволили с поста председателя местной патриотической ассоциации. Но табу на разговор об ответственности императора тяготило уже слишком многих, и прорыв молчания был слишком долгожданным. Через две недели Мотосима получил больше десяти тысяч писем с изъявлениями поддержки от профессоров и студентов, ветеранов войны, домохозяек, активистов, клерков, творческой интеллигенции, через несколько месяцев писем было уже сотни тысяч. Автор одного из писем в редакцию либеральной газеты «Асахи симбун» писал:
Императорское правление привело к установлению военного режима и стало причиной самой ужасной трагедии в истории Японии. Консерваторы снова обратились к традиционной монархии, чтобы напасть на демократические права. <…> Наша ответственность перед историей состоит в том, чтобы средствами науки проанализировать механизм, оформивший сознание общества со времен периода Мейдзи и приведший к войне. <…> Только тогда вопрос об ответственности наших лидеров может быть полностью решен не средствами «правосудия победителя», но самим народом Японии[324].
Через год после заявления, когда Мотосима отказался от предоставленной ему охраны, представитель праворадикальной организации выстрелил ему в спину, окончательно превратив мэра Нагасаки в национального героя. Вскоре после этого новый император Акихито лично встретился с ним в ходе визита в Нагасаки, что было воспринято многими как официальное снятие запрета на обсуждение ответственности императора.
1989 год был последним годом «японского экономического чуда». На смену десятилетиям стремительного роста экономики пришло потерянное десятилетие, встряхнушее японскую политику. В 1993 году впервые после 38 лет безраздельного господства Либерально-демократическая партия уступает на выборах коалиции во главе с социалистами. Политический порядок, заложенный в 1955 году и получивший название «система 55», был разрушен. Комментаторы сетовали на утрату стабильности и говорили о торжестве хаоса, о превращении из недосягаемого образца для соседей в «банановую республику» и «караоке-демократию».
Политические перемены обернулись окончательной «разморозкой» темы военной ответственности. В феврале 1990 года известный японский режиссер и активист Хитоиси Каи на страницах «Асахи симбун» поставил под сомнение оправданность параллелей между ядерными бомбардировками и Холокостом. «Если обратиться к истории, разве не Нанкин и Сеул больше подходят для сравнения с Аушвицем? В конце концов, есть кое-что, о чем пока никто не сказал: Хиросима была на стороне агрессора»[325]. Спустя несколько лет о том же самом скажет уже известный нам Мотосима. Но на этот раз он получит за это не пулю, а премию Ассоциации корейско-японской дружбы. 3 августа 1993 года звучит знаменитое «заявление Коно»: главный секретарь кабинета министров Ёхай Коно, ссылаясь на заключение правительственной комиссии, публично заявляет, что в годы войны японская армия принуждала женщин к проституции на организованных по распоряжению военного руководства «станциях утешения». В речи 15 августа 1993 года на ежегодной церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, премьер Морихиро Хосокава впервые признает военные действия Японии агрессией. Но самым громким заявлением такого рода, вызвавшим горячую дискуссию, стала выпущенная в июне 1995 года резолюция парламента с выражением сожаления за «боль и страдание, навлеченные Японией на народы других стран, особенно в Азии» и последующее извинение премьер-министра Томиити Мураямы.

Ил. 64. Томиити Мураяма и одна из «женщин для утешения». Сеул, 2014 год
Дело не ограничивается заявлениями. В 1995 году по распоряжению Мураямы был создан «Фонд азиатских женщин», формально неправительственная организация, по существу аффилированная с правительственными структурами. Уйдя в отставку, Мураяма возглавил фонд в качестве частного лица. За 12 лет существования Фонд выплатил жертвам сексуальной эксплуатации и их родственникам на Филиппинах, в Корее, Тайване, Индонезии и Нидерландах в общей сложности 1,7 млрд йен, или 14,3 млн долларов (из них около 5 млрд йен составляют пожертвования граждан Японии, остальные деньги перечислены правительством)[326]. В 2007 году Фонд прекратил свое существования как «выполнивший свои обязательства». Деятельность фонда стала важным фактором, стимулирующим разговор о военной ответственности в Японии и за ее пределами[327].
Начало 1990‐х отмечается «разморозкой» и мемориальной политики в музейной сфере. В 1991 году в Киото, городе с самым большим в Японии корейским населением, открывается созданный на средства муниципальных властей «Музей мира во всем мире», а в 1992 году при университете Рицумейкан в Осаке открывается «Международный центр мира». Оба музея, сохраняя традиционный нарратив «мира и демократии», не скрывают истории японской агрессии и военных преступлений императорской армии. Наконец, в 1994 году в восточном крыле хиросимского Музея мира открывается экспозиция, рассказывающая о японской агрессии и страданиях, причиненных народам других стран.
Начиная с 1990‐х годов дискуссии об ответственности за войну перемещаются в публичную сферу и оказываются фактором, заметно влияющим на массовую культуру. Одним из полей, на которых разворачиваются азиатские «войны памяти», предсказуемо оказывается манга, специфическое явление массовой культуры.

Ил. 65. Обложка специального выпуска журнала «Страшные сказки», посвященного теме «женщин для утешения», октябрь 2013 года
В среде националистов создается ревизионистская неонационалистическая манга. Самым влиятельным представителем этого течения стал Ёсинори Кобаяси, автор серии «Манифест высокомерия» (Gōmanism Sengen). Манги Кобаяси — это попытка переосмыслить в неонационалистическом ключе представления о японском народе как сверхъестественной коллективной сущности во главе с императором, о божественности императора и сам культ Ясукуни (ему Кобаяси посвятил отдельную серию «Yasukuniron»). Хотя император Хирохито отказался от утверждений о божественной природе императорской династии еще в рамках договоренностей о капитуляции, споры о том, как понимать эту божественность, отказ от нее и саму его возможность, идут до сих пор.
Противоположный лагерь представлен в первую очередь корейской мангой, обличающей японский милитаризм и оплакивающей его корейских жертв. Главный политический сюжет тут — споры об ответственности Японии за организацию «станций утешения», эта тема разрабатывается в манге особенно активно. Между этими конфликтующими позициями располагается широкий слой популярной японской манги, разрабатывающей горячие темы в беллетристическом, сентиментальном и эротическом ключе. Классический сюжет здесь — истории любви «женщин для утешения» и японских солдат, особенно летчиков-камикадзе, культ которых представляет собой отдельный культурный феномен[328].

Ил. 66. Страница из манги Миу Итикавы «Следы ненависти» о любви японского солдата и «девушки для утешения», 2013 год
2010‐Е: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
В начале 2010‐х либерал-демократы во главе с Синдзо Абэ снова надолго закрепляются у власти. Японского премьера называют националистом и даже ревизионистом. За годы пребывания на посту премьера он выступал с заявлениями о том, что японский народ не должен быть «обречен вечно извиняться» за преступления Второй мировой, а правительство не принуждало «женщин для утешения» к занятиям проституцией. Дискуссии об отмене 9‐й, «пацифистской», статьи конституции, как показывает упоминавшийся выше пример фильма Миядзаки «Ветер поднимается», и не думают успокаиваться.
Однако политику Абэ не стоит рассматривать как полновесный ревизионизм. Это вовсе не попытка пересмотреть итоги дискуссий, длившихся три последних десятилетия и ставших неотъемлемой частью японской общественной жизни. Скорее это попытка не выглядеть в них догоняющим и оправдывающимся. Синдзо Абэ ходит в святилище Ясукуни не чаще, а реже большинства своих предшественников, а его извинения в основном повторяют все, что говорили премьеры-прогрессисты. Однако благодаря имиджу ревизиониста каждая новость о непосещении святилища рассматривается его внутри- и внешнеполитическими оппонентами как шаг навстречу пацифистам.
Отношение Японии к своему прошлому сохраняет принципиальную двусмысленность. С одной стороны, интегрированность в мировую экономику требует следования правилам хорошего тона, предполагающим признание вины за агрессию против Китая, Кореи и Вьетнама (о чем Японии не дают забыть западные партнеры). С другой — продолжающееся соперничество с этими странами не позволяет вполне отказаться от «оборонительной памяти» и всерьез переосмыслить историю взаимоотношений с ними. В конце концов, именно об этом говорит Миядзаки в интервью, с которого мы начали эту главу, цитируя своего любимого писателя Ёсиэ Хотту, с начала 1950‐х много писавшего о военной ответственности Японии:
Ёсиэ Хотта говорит, что история находится перед нами, а будущее позади нас. И мы можем видеть только прошлое, которое перед нами. Я понимаю, что люди не хотят видеть наше милитаристское прошлое. Но если ты хочешь быть политиком в этой стране, ты должен быть обучен этому, должен пытаться узнавать об этом самостоятельно. Иначе глобальное общество тебя не примет[329].
Представленный в этой части анализ не претендует на сколько-нибудь исчерпывающее перечисление рецептов проработки трудного прошлого, подходящих для России. Но это и не набор произвольных сценариев, которые случайным образом пришли в голову автору. Скорее это попытка очертить своего рода «периодическую таблицу» механизмов и стратегий преодоления прошлого, набросать универсальную систему координат и перечислить основные элементы, без которых конструкция преодоления прошлого невозможна. Для этого используются как подходы, описанные в предыдущей части, так и те, что в ней не рассматривались.
Короткие вводные сюжеты, с которых начинается каждая глава, — не просто виньетки, включенные в книгу для развлечения читателя. Они призваны показать, что тема работы с прошлым не сводится к политическим и общественным механизмам. В огромной степени эта работа производится культурой. Произведения изобразительного и монументального искусства, литературы и кино — не побочные продукты этой работы, а один из важнейших ее инструментов и «языков», без применения которого она не может считаться полноценной. Неслучайно не менее половины исследований, посвященных теме памяти о трудном прошлом, так или иначе концентрируются на роли искусства в работе индивидуальной и коллективной памяти.
В июне 2017 года на американском кабельном канале Showtime и на Первом канале российского телевидения состоялась премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (слоган американской версии фильма — «Know your enemy»). Отвечая на вопрос об отношении к Сталину, Владимир Путин сказал: «Излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?»[330] Как обычно в высказываниях Путина, эти слова сопровождались замечаниями об «ужасах сталинизма», «уничтожении миллионов своих соотечественников» и о том, что «Россия капитально изменилась», но основное послание президента все комментаторы различили именно в тезисе о связи демонизации Сталина с атакой на СССР и Россию.
Лидер авторитарного государства защищает одного из своих предшественников, который довел систему авторитарного управления до совершенства, от атак представителей другой политической системы, построение которой возможно только в результате слома авторитаризма. В этой перспективе Сталин — не исторический персонаж и не объект морали или права, а воплощение политической системы, и его защита от нападок — естественная мера самообороны и самолегитимации. Особенно характерна тут оговорка о «родимых пятнах»: в самом деле, если считать, что авторитаризм генетически присущ российской государственности, то сталинизм — не оспа и не шрам на теле государства, не что-то внешнее и травмирующее, рассекающее живую ткань, но именно родимое пятно, органическая часть живой ткани.
Примеры стран, описанных в предыдущей части, показывают, что публикация имен жертв репрессий и палачей, обустройство мест памяти, дискуссия о признании ответственности за советский государственный террор — все это напрямую связано с изменением окружающей социально-политической реальности, а вовсе не ограничивается «музейно-гуманитарной» сферой, как это может послышаться в словосочетании «переосмысление прошлого». Ведь главная задача всех этих усилий — не допустить повторения подобных преступных практик в будущем и обеспечить их прекращение в настоящем. То, о чем идет речь, — средства или инструменты не только и не столько коллективной памяти, сколько «правосудия переходного периода». Память о «трудном прошлом» обязательно ставит вопрос о формулировании отчетливого к нему отношения, а призыв помнить в данном случае очень близок к призыву знать врага в лицо (to know your enemy), чтобы дать ему бой.
«Проработка прошлого» призвана не столько организовать память о прошлом, сколько институциализировать переход от одной политической системы к другой, от авторитаризма (диктатуры) к демократии. Этот переход может происходить в результате полноценного слома прежней системы и прихода на смену ей другой (как в Германии), в результате перетекания из одной системы в другую с сохранением элементов старой конструкции (как в Испании, Аргентине или Польше) или складывания в рамках одной системы элементов другой (как в Японии). Исключительность российского случая не в том, что наш опыт гостеррора не имеет аналогов — опыт каждой страны по-своему уникален, — а в том, что он уникальным образом соединяет элементы разных моделей. Как в Германии, прежняя политическая система в России пережила крах, но произошло это без внешнего воздействия, а по естественным причинам. Как в Испании, перетекание из одной системы в другую застыло на полпути, с попыткой возрождения старой системы на новом историческом этапе. Как в Японии, старые элиты постарались адаптировать старую систему к новым условиям, оставшись при этом при власти.
Если взглянуть на процессы осмысления памяти о советском терроре сквозь эту призму, многое в отношении сегодняшних российских властей к этим процессам станет гораздо понятнее.
Нарратив, активно продвигаемый властью и государственными СМИ в России с начала 2000‐х годов, предлагает видеть в смене политической системы в 1991 году, активизировавшей все соответствующие инициативы и протоинституциональные процессы (снос самых одиозных памятников, открытие архивов, создание баз жертв репрессий, расширение деятельности «Мемориала» и т. д.), не поворот от диктатуры к демократии, а катастрофический слом. Программное послание Владимира Путина Федеральному собранию 25 апреля 2005 года, известное благодаря формуле «крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века», посвящено объяснению демократического пути России как «продолжения российской государственности», преемственности по отношению к СССР, а не прощания с его наследием[331]. На поверку рассуждения о свободе и демократии оказались риторикой, призванной успокоить граждан и западных партнеров (для которых был понятен только «демократической транзит»), на деле же важнее в этой речи и в политике вообще оказалось налаживание преемственности современной России по отношению к СССР именно так, как будто бы никакого слома системы не было.
Логика развития России последних двух десятков лет напоминает курс бригантины «Пилигрим» из романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Команда и пассажиры «Пилигрима» были убеждены, что корабль движется из Сан-Франциско в Южную Америку, но в конце концов он оказывается в Африке: прятавшийся под личиной кока агент работорговцев Негоро, подложив под компас железный брусок, тайно вел корабль другим курсом. Если компас сломан, проверить, каким курсом на самом деле идет корабль, можно только по звездам. Аналог звездного неба, по которому стоит пытаться поверять сегодняшний курс российского государства, движущегося, согласно настойчивым уверениям его руководителей, по демократическому пути, — это мемориальные практики и отношение к ним власти.
В 2015–2016 годах, то есть примерно тогда, когда Оливер Стоун записывал интервью с Путиным, занятие историей репрессий перестало восприниматься государством нейтрально. Символическим порогом, отмечающим, что занятие историей репрессий начинает считаться политикой, стало, как говорилось в первой части этой книги, признание общества «Мемориал» иностранным агентом и дело против Юрия Дмитриева. Происходит это именно тогда, когда в России окончательно формируется полноценный авторитарный режим — после протестов 2011–2013 годов, выборов Путина на новый президентский срок и начала кризиса на юго-востоке Украины.
О том, что работа по переосмыслению прошлого в самом деле представляет опасность для подобного движения истории вспять, свидетельствует — с противоположной стороны — реакция на нее «национал-патриотов». Деятелей вроде Александра Проханова, Сергея Кургиняна в просвещенных кругах принято (вполне заслуженно) не воспринимать всерьез, но трудно отказать в верности их интуициям, когда дело касается памяти о советском прошлом. В августе 2017 года члены «Изборского клуба», сообщества представителей консервативной общественности во главе с Прохановым, направили губернатору Орловской области Вадиму Потомскому (известному инициативой установки памятника Ивану Грозному) письмо, в котором высказались за установку в Орле памятника Иосифу Сталину. «Воздвигая памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, — говорится в письме, — тем самым признавая его великие заслуги перед отечеством, мы устраняем трагический исторический разрыв, в котором пропадает весь великий XX век с его победами, с неисчислимыми свершениями нашего народа, добытыми в муках и великих тратах»[332].
Если отвлечься от дикости самой идеи установить памятник государственному деятелю, ответственному за уничтожение миллионов собственных граждан, мысль авторов письма очень понятна и примечательна. Сталин — воплощение авторитарного принципа управления страной, символ диктаторского курса и главенства национальных интересов над правами человека. Если именно такой курс ассоциируется с существованием Российского государства, то жизненно важно, во-первых, наладить преемственность современных принципов управления с советскими и сталинскими, а во-вторых, маркировать 1990‐е годы, отчетливо обозначившие противоположные тенденции, как «трагический исторический разрыв».
Выступления Александра Проханова со всеми их отличительными чертами — истеричностью, завиральностью, визионерством, соседством пафоса с цинизмом, религиозных образов с нарочитым физиологизмом — очень точно характеризуют весь соответствующий «дискурс», нервный, то и дело срывающийся на крик, паясничающий и манипулятивный. Ведь проблема стремящихся «назад в СССР» в том, что восстановить былую империю невозможно. Она развалилась не в результате козней США или подрывной деятельности изнутри, а в силу исторических и экономических законов. СССР оказался нежизнеспособен как система. И попытки продления его жизни — это попытки оживить труп. Странность положения, при котором государство не стремится сознательно к реабилитации сталинизма, но это выходит как бы само собой, объясняется тем, что без выстраивания реальных, а не имитационных и маскировочных демократических институтов, иной модели управления, кроме авторитарной, не существует.
А потому стоит помнить, что «переосмысление прошлого» — деятельность политическая, а не только мемориально-просветительская. Ее задача — обеспечить гарантии невозможности возвращения к преступным практикам. Это не попытки «раскачать лодку», но стремление вернуть ее на верный курс, вытащив железный брусок из-под компаса. Для уверенного движения этим курсом необходимы, во-первых, согласие на него большей части общества, а во-вторых, системный характер предпринимаемых усилий. Такое согласие относительно движения вперед невозможно без консенсуса о прошлом. Полярные оценки россиянами политической роли Сталина и всего советского периода свидетельствуют, что такого консенсуса в сегодняшней России не существует, а те проекты примирения общества, которые готова предложить власть, как было показано в первой части, не способны его сформировать.
Тому, как может выстраиваться такой консенсус и какие системные механизмы этот процесс может предполагать, посвящена третья часть этой книги.
2. Подведение черты под прошлым: отделить, чтобы принять
Весной 2018 года в венском Леопольд-музее проходила выставка[333] словенского художника Зорана Музича (1909–2005). Картины этого малоизвестного мастера производят не меньшее, а то и большее впечатление, чем выставленные там же работы знаменитых венцев Густава Климта и Эгона Шиле. С первого взгляда обращает на себя внимание невероятная витальность и пластичность воображения художника — он переезжает из страны в страну, и все окружающее, школы и стили, мгновенно отражаются в его работах. Он проводит несколько месяцев в Мадриде — и пишет довольно большую работу, имитирующую Эль Греко. Он оказывается в Венеции — и, естественно, начинает писать венецианские пейзажи. В октябре 1944 года Музича, вскоре после его первых персональных выставок за пределами Словении, арестовывают в Венеции за участие в подпольном антифашистском сообществе и, после пыток, отправляют в концлагерь Дахау, где он проводит несколько месяцев до освобождения лагеря американцами в апреле 1945 года.
В лагере Музич работает на заводе и, вырывая страницы из бухгалтерских книг, делает почти две сотни карандашных набросков. Это абрисы безжизненных человеческих тел, истощенных, лежащих в неестественных изломанных позах, по одиночке и грудами. Это именно абрисы, минимально проработанные, такая беглая и бессильная фиксация окружающего ужаса. Кажется, художник с трудом удерживает в руке карандаш, то ли от физического, то ли от душевного истощения. Музич слишком внимателен к окружающим впечатлениям, его мир слишком зависит от окружающих его визуальных образов, чтобы он мог закрыться и не пытаться зафиксировать то, что видит, чтобы «отразить», сложить это во внутреннюю копилку. В одном из позднейших интервью он замечает, что желание рисовать в Дахау — иногда с риском для жизни — было вызвано не стремлением зафиксировать преступления. Это было художническое желание, невозможность противостоять своему призванию — очень характерно, что Музич не может удержаться от замечания о «трагической элегантности» этих тел[334].

Ил. 67. Зоран Музич. Дахау, 1945 год (фото © Lah Contemporary)
Из 180 набросков Музичу удалось сохранить 35 (он прятал их на территории завода, после бомбежек большая часть рисунков была утеряна). После освобождения из Дахау он возвращается в Словению, но сразу сбегает от режима Тито в Италию и с невероятной энергией начинает рисовать венецианские виды, светлые, сочные и яркие. Музич словно пытается компенсировать мрак и ужас того, что ему недавно пришлось пережить. Он путешествует по Балканам, живет в Италии и Франции, пропускает через себя все новый и новый опыт, быстро поддаваясь свежему материалу, подстраиваясь под него и меняя свой стиль. В 1950‐х он пишет непохожую ни на что прежнее серию Cavalli: лошади в пейзажах родной художнику Далмации, балканский колорит, напоминающий порой национальные африканские мотивы, эксперименты с техникой вышивки. В 1960‐х Музич увлекается абстракционизмом: постепенно цвет и сочность послевоенных работ уходят с его полотен, они все темнее и мрачнее — и все убедительнее. Его игры со стилями все убедительнее и оригинальнее, это уже безусловно большой мастер — но все еще не нашедший собственной темы.

Ил. 68. Зоран Музич. Далматский мотив, 1950 год
Эта тема прорывается в начале 1970‐х. Спустя 25 лет после Дахау Музич достает из загашников свои старые наброски и делает на их основе картины, вбирающие в себя и раскрывающие весь его предыдущий опыт, все накопленное мастерство. Эта серия получает название «Мы не последние»: несмотря на весь ужас преступлений нацизма, человечество ничему не научилось. После 1945 года массовые убийства гражданского населения продолжились во Вьетнаме и Корее.
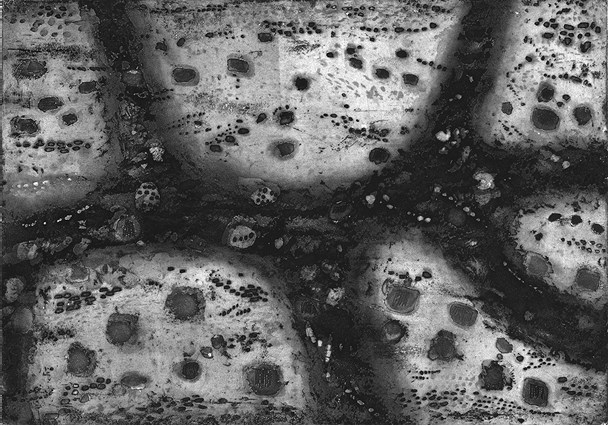
Ил. 69. Зоран Музич. Terre d’Istrie, 1959 год
На картинах серии «Мы не последние» — те же человеческие тела, та же мрачная бежево-черная гамма, к которой Музич естественным путем приходит к концу 1950‐х. Их простота, почти на грани абстракции, напоминает об опытах художника в 1960‐е годы. Давая выход тому, что много лет было заключено у автора в сознании, выпуская наружу опыт, который он пытался «закрасить» яркими картинами Венеции, этнографически энергичными картинами балканской степи, уходом в абстракцию, — Музич наконец находит себя, и его картины обретают силу оригинального высказывания большого мастера.
Серия «Мы не последние», обеспечившая Музичу действительно большой успех, стала признанной вершиной его творчества, но не была последним, что он сделал. Музич идет дальше, и во второй половине 1980‐х и в 1990‐х начинается его новый, «философский» этап. Это портреты или автопортреты, выполненные в той самой «трупной» или «концлагерной» технике, но теперь говорящие о жизни и о новых занимающих художника проблемах. Эти темные фигуры, склоненные то ли в молитве, то ли от немощи, — размышление о старости, слабости, силе духа, о смерти, но уже не пугающей и ужасной, а о близкой и «естественной»; о смерти, лишенной жала. Это путешествие в глубь себя еще и потому, что в эти годы Музич начинает слепнуть — но не перестает писать. Его многолетняя работа с тьмой, экзистенциальной и живописной, позволяет ему писать из опыта этой тьмы. Преодоление собственной душевной травмы в каком-то смысле позволяет ему преодолеть даже физические обременения.

Ил. 70. Зоран Музич. Мы не последние, 1970 год
Жизнь и творчество Музича — иллюстрация утверждений психологов, что проработка травмы — не способ излечить ее и навсегда избавиться от ее груза. Так получается далеко не всегда. Итальянский писатель Примо Леви, тоже описывавший свой лагерный опыт не в последнюю очередь для того, чтобы справиться с его последствиями[335], не смог этого сделать — и покончил с собой. Травма — не просто тяжелые воспоминания, а опыт, полностью освободиться от которого невозможно; это события прошлого, которые нельзя повернуть вспять. Преодоление травмы — это обретение возможности жить с этим опытом так, чтобы он не отравлял жизнь, дезактивировать его разрушающие последствия. Картины Зорана Музича — свидетельство именно такой работы со своим прошлым[336].
Описанные далее формы отношения к прошлому — разные примеры той работы с травмой, которая так живописно раскрывается в истории Зорана Музича. Работы, призванной не стереть болезненный опыт, но блокировать его деструктивный потенциал, чтобы пережитое в итоге стало составляющим здорового комплексного целого.
ЧЕРТА
При рассуждении об инструментах осуждения преступного прошлого, отказа от него и перехода к новой государственности, свободной от прежних практик, одной из важнейших категорий оказывается категория подведения черты. Под прошлым подводится черта, чтобы отделить его от того, что будет дальше, обозначить границу между старым и новым. О «жирной черте» под прошлым говорил в своей первой речи в качестве премьер-министра новой свободной Польши в 1989 году Тадеуш Мазовецкий. «Подведением черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ», призывал считать 100-летие революции российский президент Владимир Путин в 2017 году, открывая Мемориал жертвам репрессий. «Законом, подводящим черту» или «ставящим точку» (Ley de Punto Final), был назван аргентинский закон 1986 года, запрещающий юридическое преследование за преступления, совершенные в годы правления хунты. Но самым известным образом подведения черты в послевоенной европейской истории стал образ «нулевого часа» (24/0 часов 8/9 мая 1945 года) или «нулевого года» (1945) в Германии[337].
Категории черты, точки, нуля, санитарного рва, переворачивания страницы — это способ набросить на непрерывное течение времени разметку, позволяющую обозначить прошлое, с которым не хочется иметь дело, как закончившееся, а себя отнести к начинающемуся с нуля и свободному от наследия прошлого настоящему. «Завершить» прошлое оказывается необходимо прежде всего потому, что его деструктивное воздействие на настоящее слишком болезненно и губительно. В этом смысле подведение черты подобно сооружению санитарного кордона, призванного изолировать заражение, не дать ему перекинуться дальше. Едва ли случайно, что убедительнейший образ такого кордона на пути болезни создан в романе Альбера Камю «Чума», изданном в 1947 году и осмыслявшем фашизм как болезнь, которая может вернуться.
Одна из первых фиксаций выражения «нулевой год» в отношении Германии — снятый в 1948 году фильм Роберто Росселини «Германия, год нулевой», посвященный подведению черты под историей Третьего рейха. Герой фильма, ангельского вида белокурый 12-летний мальчик (ровесник Третьего рейха — символическая репрезентация Германии, родившейся при нацистах), бродит по развалинам послевоенного Берлина. Его мать погибла при бомбежке. Отец, участник Первой мировой, прикован к кровати; он переживает, что обременяет детей, и мечтает умереть. Его старший брат, солдат вермахта, прячется от союзников, а сестра проводит время в барах, выпрашивая у американских солдат сигареты, и вот-вот решится выйти на панель. Мальчик встречает в городе своего школьного учителя, который внушает ему мысль, что слабым надлежит уступать дорогу сильным, а в случае чего им можно и помочь, — и дает своему отцу яд. Он вовсе не злодей — напротив, он старается исполнить волю отца и наказ учителя. Но его брат и сестра убиты горем, учитель в ужасе отказывается от своих слов и даже встреченные на улице дети почему-то не принимают его в свою игру, убегая от него как от прокаженного. В финальной сцене, которую называют самой страшной сценой послевоенного европейского кино, мальчик выбрасывается из окна полуразрушенного дома. По Росселини, «год нулевой» — это не столько новое начало, сколько «обнуление» предыдущего исторического периода. Ведь даже вполне невинные его порождения помимо своей воли несут в себе отпечаток распространившегося на все вокруг зла.
Подведение черты привлекательно не только возможностью поставить заслон заразе преступных практик прошлого. Это еще и возможность «обезвредить» прошлое, освободив себя от ответственности за него. Этот аспект оказывается важен и для авторов компромиссных моделей договорного транзита (задача — максимально сгладить переход для всех договаривающихся сторон), и для авторов моделей реваншистских (задача — замаскировать отсутствие перехода правильными словами). Аргентинский «Закон о финальной точке» был «завершением прошлого» в смысле запрета на преследования за совершенные в прошлом преступления. Эта мера объяснялась необходимостью двигаться дальше, освободившись от бремени прошлого, но на деле служила интересам военных, виновных в преступлениях в годы правления хунты. «Жирная черта» Мазовецкого, формально обозначая прощание с коммунистическим прошлым, фактически гарантировала блокировку инициатив, касающихся люстрации в отношении коммунистического руководства. Оба случая обернулись отложенным эффектом: возвращением к судам над военными спустя двадцать лет в Аргентине и политизацией темы люстраций начиная с 2015 года в Польше.
Подведение черты — всегда немного игра, проектирование реальности, спектакль, предполагающий подыгрывание со стороны участников процесса. В Японии обращение императора Хирохито к нации 15 августа 1945 года символически отмечало договор между японскими элитами и США, по которому виновным в военных преступлениях признавалось военное руководство (исключая императора), а японский народ оказывался жертвой, искренне заинтересованной в демократизации страны по американской модели.
Японская версия германского «нулевого часа», этот абсолютный разрыв между военным прошлым и послевоенным настоящим, ощущался очень глубоко даже теми, кто не знал причин резкого разъединения непрерывности истории, — пишет Кэрол Глюк, специалист по истории Японии XX века из Колумбийского университета. — Школьники в одночасье превратились из патриотической «военной молодежи» во вдохновенную «демократическую молодежь» — эту искреннюю и как будто не требовавшую усилий метаморфозу представители военного поколения вспоминали с удивлением. Для японцев постарше это был скорее сознательный разрыв, индивидуальное и коллективное усилие освободиться от прошлого и начать жизнь заново. На фоне относительной преемственности институтов — те же рабочие места, те же учителя, те же бюрократы — японцы предпочли поверить в резкий разрыв с прошлым. Новое начало стало мифом основания «возрожденной Японии», как ее часто называли. Представление о «пересоздании» Японии в стремлении к двойной цели — миру и демократии — разделяли представители всех частей политического спектра. Неважно, насколько разнилось их понимание этих мира и демократии: огромное число японцев согласились с американскими оккупантами в том, что их главной задачей было создать «новую Японию»[338].
ОБНУЛЕНИЕ
Образ «нуля» (Nullstunde, Zero Hour, Punto Null) как конца старого отсчета и начала нового достоин отдельного рассмотрения. Трудное прошлое хочется не просто изолировать; больше всего его хочется «обнулить», сделать небывшим. В этом вовсе не обязательно следует видеть нечто предосудительное. Именно императив забвения считался нормой большую часть человеческой истории вплоть до XX века[339]. «Забыли», «проехали» — так говорят, примиряясь после конфликта, давая понять, что конфликт исчерпан и не мешает дальнейшему общению. Но реплика «забыли» исчерпывает конфликт, если ее произносит пострадавшая сторона после того, как виновник конфликта признает свою вину и попросит о прощении. И даже тогда «забвение» — метафора: причиненное зло не забыто, оно перестало быть активным, переведено в разряд прошлого и законченного. Между тем в политической практике предложение «забыть», как правило, исходит не от пострадавшего, а от виновника, причем именно тогда, когда он не готов брать ответственность за случившееся и просить прощения. Такое обнуление не исцеляет конфликт, а ретуширует его.
Возможно, самая важная в советском и постсоветском искусстве иллюстрация того, что происходит, если прошлое пытаются забыть, не проведя с ним должной работы, дана в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятом в 1984 году. Главный образ «Покаяния» — труп чиновника, ответственного за репрессии против собственного народа, который герои фильма снова и снова выкапывают из земли. Закапывание преступника в землю означает его упокоение (то самое подведение черты и закрытие прошлого). Однако, пока его преступления не осуждены, такое упокоение недопустимо, и героиня, дочь его жертв, считает своим долгом не допустить такого попрания справедливости. Как и у Росселини, непреодоленное зло бьет по молодому поколению: узнав о злодеяниях деда, кончает с собой внук Варлама. И тогда сын, прежде защищавший отца, сам выкапывает его труп и сбрасывает его с горы на растерзание птицам.
Об этой сцене не перестают спорить до сих пор. Разве выбрасывание трупа отца на корм птицам имеет что-то общее с покаянием? Разве не так «либералы», прикрываясь красивыми и правильными словами, оскверняют собственное прошлое, которое ненавидят? Но смысл этого образа в другом. Пока преступления Варлама не осуждены, пока его сын продолжает оправдывать отца, сам Варлам еще не вполне умер; подобно вампиру, он ведет призрачное посмертное существование. И упокоение в земле способствует такому существованию, тогда как единственный способ его прекратить — это не дать ему упокоиться в могиле, обесславить, бросив на корм птицам, заставив умереть по-настоящему. Это и в самом деле не покаяние. Но это именно подведение черты под прошлым, открывающее путь в будущее, что подчеркивает вид на современный город, открывающийся с горы, с которой Авель сбрасывает Варлама.
ТРАВМА: ПРОШЛОЕ НЕВОЗМОЖНО «ОБНУЛИТЬ»
Классическая теория психической травмы, изложенная Зигмундом Фрейдом и Йозефом Брейером в книге «Исследования истерии» (1895), гласит, что болезненное переживание, прежде всего вызванное насилием, оборачивается тяжелыми последствиями для психики пережившего это человека[340]. Естественная реакция психики на травму — вытеснение памяти о травмирующем событии, его забвение. Но такое психическое обнуление не способствует исцелению; напротив, вытесненная в подсознание травма продолжает свою невидимую работу, оборачиваясь психическими расстройствами, неврозами или психосоматикой. Терапия травмы предполагает не забвение травмирующего события, но его вспоминание и проработку. При этом приходится преодолевать защитные механизмы пострадавшего, которые могут выражаться, в частности, в отвращении к обсуждаемой теме.
Важно отметить, что с точки зрения работающих с травмами задачей терапии не может быть «исцеление» травмы. Травма на то и травма, чтобы радикально изменять жизнь человека. В этом смысле «излечить» травму, сделать событие небывшим, как и вернуться в состояние «до» случившегося, невозможно. Задача терапии — проработать травму, помочь человеку осознать то, что произошло, оплакать и принять себя после случившегося и новый мир, изменившийся после того, как случившееся стало возможным. Кроме того, одно из главных условий успешной терапии травмы — прекращение травмирующих воздействий и изоляция человека от их источника (например, изоляция насильника). Этот принцип также важен в связи с работой с травматическим прошлым в масштабе общества.
Как и травма, пережитая отдельным человеком, травма, пережитая обществом, не может «обнулиться», и ее терапия не может преследовать такую цель. Попытка забыть трудное прошлое, перестать говорить о нем, подобно вытеснению травмы, только увеличивает возможность ее неконтролируемого «прорыва». В то же время подведение черты — работа осознания того, что случившееся уже в прошлом, — важное условие исцеления.
МЕРТВАЯ ВОДА
В дальнейшем понимании преодоления прошлого на помощь, как ни странно, приходят фольклористика и этнография. Ситуация, когда окончательное умерщвление предполагает, как предварительное условие, восстановление умершего в его полноте, а чтобы герой жил дальше, его надо сначала эффективно умертвить, далеко не удивительна для русских народных сказок.
Образ живой и мертвой воды слишком известен всем нам с детства, чтобы мы могли в полной мере осознать его странность и загадочность. Напомним, как это работает. Героя, пострадавшего в битве со змеем, сначала поливают мертвой водой — и его раны затягиваются, отсеченные члены прирастают, он снова как новенький, цел и невредим, вот только он мертвый. После этого его нужно сбрызнуть живой водой, и тогда герой оживает.
На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька: в одном — живая вода, в другом — мертвая, и отдал те пузырьки серому волку.
Серый волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвою водою — и тот вороненок сросся, спрыснул живою водою — вороненок встрепенулся и полетел. Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мертвою водою — его тело срослося, спрыснул живою водою — Иван-царевич встал и промолвил:
— Ах, куды как я долго спал![341]
На первый взгляд логика понятна: чтобы ожить, нужно сначала исцелить раны. Но почему таким образом действует не живая, а мертвая вода? Почему волшебное средство, заживляющее раны, связано не с жизнью, а со смертью? Вероятно, лучшее объяснение этой загадки дал филолог и фольклорист Владимир Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки:
Мертвая вода его (героя. — Н. Э.) как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землей. Только теперь он — настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, живая вода будет действовать[342].
Действие мертвой воды — в выпуклой, как это свойственно мифу, форме — демонстрирует, как работает подведение черты под прошлым. Двигаться в будущее, не покончив с прошлым, когда это прошлое отмечено преступлениями, — значит принадлежать двум мирам. Но образ вампира напоминает, что принадлежать двум противоположным мирам — значит не принадлежать по-настоящему ни одному из них. Чтобы ожить, нужно сначала умереть «вполне». Чтобы перестать быть губительным для будущего, прошлое должно обнаружиться во всей полноте, получить оценку, — и только тогда оно оказывается «завершено».
Модель действительно продуктивной проработки травмы прошлого, спрыскивания его той и другой водой, иллюстрирует крайне важный во многих отношениях эпизод примирения между Денисом Карагодиным, инициатором расследования убийства своего прадеда, и внучкой человека, участвовавшего в его расстреле. Прочитав о расследовании Карагодина, Юлия N написала ему письмо:
Я не сплю уже несколько дней, просто не могу и все… Я изучила все материалы, все документы, что у вас на сайте, я столько всего передумала, ретроспективно вспомнила… Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю не передать словами…
Отца моей бабушки (маминой мамы), моего прадеда, забрали из дома, по доносу, в те же годы, что и вашего прадедушку, и домой он больше не вернулся, а дома остались 4 дочки, моя бабушка была младшей… Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы и палачи… Очень горько это осознавать, очень больно… Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была. Мне поможет все это пережить сознание того, что ни я, ни все мои родственники, которых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим зверствам, которые происходили в те годы…
То горе, которое принесли такие люди, не искупить… Задача следующих поколений просто не замалчивать, все вещи и события должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам — это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне.
Но у нас ничего в обществе никогда не изменится, если не открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли сталинисты, памятники Сталину, это просто в голове не укладывается, не поддается никому осмыслению.
Много еще хотелось бы вам написать, рассказать, но главное я сказала — мне очень стыдно за все, мне просто физически больно. И горько, что ничего я не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем с Зыряновым Н. И. родстве и поминать вашего прадедушку в церкви.
Спасибо вам за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду. Появляется надежда на то, что общество отрезвеет наконец, благодаря таким, как вы. Спасибо еще раз и простите!
Вот что отвечает на это Денис Карагодин:
Юлия,
Вы написали мне очень искреннее и проникновенное письмо. Это очень мужественный поступок с Вашей стороны. Я искренне Вам благодарен. Я вижу, что вы — прекрасный человек! Я счастлив, что Вы такая. И горд, что могу написать Вам это прямо и не кривя душой. В моем лице Вы не найдете врага или обидчика, лишь человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную кровавую русскую баню. С этим должно быть покончено раз и навсегда. И мне думается, что именно в наших с Вами силах сделать это.
Я протягиваю Вам руку примирения, как бы ни тяжело это мне сейчас было сделать (помня и зная все). Я предлагаю Вам обнулить всю ситуацию. Вы своим письмом сделали главное — были искренны, а этого более чем достаточно, для всего.
Живите со спокойной душой, а главное с чистой совестью. Ни я, ни кто-либо из моих родных или близких никогда не будет ни в чем Вас винить. Вы — прекрасный человек — знайте это.
Сердечно благодарю Вас…[343]
В этом диалоге, отчасти напоминающем групповую сессию у психолога или сеанс медиации между конфликтующими сторонами, читатель может споткнуться о ту самую категорию «обнуления». Но в этом случае ни один из корреспондентов не стремится сделать преступление небывшим. Напротив, они солидарны в том, что «все вещи и события должны быть названы своими именами». Оба участника диалога понимают две вещи. Во-первых, только память о преступлении и знание, как именно и почему оно произошло и кто виновен в произошедшем, гарантирует невозможность повторения этого снова. Во-вторых, только усилие обнаружения, квалификации и преодоления правды, плюс усилие испрашивания прощения и его дарования — это рецепт созидания гражданской солидарности. Под «обнулением» здесь имеется в виду забвение этого прошлого как разделяющего, устранение его трупного яда, вырывание его жала[344]. Подведение черты как разрывание цепи взаимных обид и мести — способ это сделать.
ЗАБЫТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ; РАЗОРВАТЬ, ЧТОБЫ СШИТЬ
Подведение черты — это не отмена прошлого, а налаживание с ним связи, но только в новом его качестве. Продолжение оборванной нами несколькими страницами выше цитаты из Кэрол Глюк о намеренном разрыве с военным прошлым в Японии выглядит так:
Японский исторический миф о послевоенном периоде начался с отграничения от прошлого. Одновременно он был тесно связан с этим прошлым, и не только в силу живых примеров преемственности, как бы их ни старались скрыть, но и в силу того, что подчеркивание разрыва, которого требовал миф, постоянно напоминало о прошлом[345].
Полнее всего описываемую динамику меняющегося отношения к подведению черты показывает пример Германии: сначала попытка забыть прошлое, чтобы двигаться дальше, потом обнаружение, что прошлое не отпускает, потом принятие его неотменимости и, наконец, включение его в национальный нарратив в качестве подспорья для будущего.
Как отмечает Джефри Олик в книге «Грехи отцов», в Германии понятие «разделяющей черты», Schlußstrich, сразу после войны и при канцлере Аденауэре использовалось в первом смысле: память о нацистском прошлом не должна была мешать восстанавливать страну и объединять общество. Начиная с 1970‐х в Германии все больше говорят о том, что проведение черты — трудная задача, потому что предполагает не признание прошлого небывшим, а принятие ответственности за него. Наконец, начиная с 1980‐х, когда в германском обществе постепенно складывается консенсус вокруг признания ответственности за нацистские преступления, все громче звучат, с одной стороны, призывы провести наконец эту черту и перестать зацикливаться на прошлом, а с другой — признания, что подведение черты как окончательная проработка прошлого невозможно[346].
В 1983 году, в речи, посвященной 45‐й годовщине «Хрустальной ночи», министр юстиции ФРГ Ханс Энгельгард говорил, что соображения «духовной гигиены» требуют, чтобы преступное прошлое оставалось живым в сознании последующих поколений[347]. Спустя еще два года, 8 мая 1985 года, президент Рихард фон Вайцзеккер произнес свою знаменитую речь в Бундестаге:
Все мы, виновные или нет, старые или молодые, обязаны принять прошлое. Его последствия касаются всех нас, и мы отвечаем за него… Речь не идет о том, чтобы преодолеть прошлое. Это невозможно. Случившегося не изменить и не отменить. Но тот, кто закрывает глаза на прошлое, становится слепым к настоящему. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, рискует заразиться ею снова[348].
Беспокоившее многих немецких интеллектуалов ощущение непроходящего прошлого нашло выражение в опубликованной в июне 1986 года в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статье философа и историка Эрнста Нольте с красноречивым названием «Прошлое, которое не хочет проходить» (Die Vergangenheit, die nicht vergehen will).
Национал-социалистическое прошлое, — писал Нольте, — <…> очевидно, не ветшает и не теряет своей силы; напротив, оно становится все более сильным и живым, но не в качестве примера, а в качестве источника устрашения, как прошлое, которое фактически стало настоящим и нависает над настоящим как меч правосудия[349].
Отвечая Нольте в одном из июльских номеров Die Zeit, Юрген Хабермас спорил с оценкой непроходящего прошлого как основания для негативной самоидентификации, но вовсе не с тем, что это прошлое действительно держит в возрастающем напряжении:
Для исторического дистанцирования от прошлого, которое не хочет проходить, есть весомые основания. <…> Тщательное отличение понимания от осуждения шокирующего прошлого также может ослабить его парализующее гипнотическое воздействие. Этот исторический подход мог бы основываться не на желании избавиться от долгов прошлого <…> Одни исходят из того, что задача понимания, основанная на дистанцированном анализе, высвобождает силы рефлективной памяти и тем самым расширяет возможности независимой трактовки противоречивых традиций; другие хотели бы поставить ревизионистскую историю на службу национал-историческому обновлению традиционной идентичности[350].
Этот обмен мнениями послужил толчком к масштабной дискуссии, ставшей известной как «спор историков» и закрепившей в германском общественном мнении отношение к нацистскому прошлому как к неотменяемому отрицательному ориентиру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные примеры напоминают о том, что черта под прошлым — понятие диалектическое, принципиально двойственное, так как это всегда одновременно конец и начало, разделение и соединение. Только разделив два явления, осмыслив их различие, можно их соединить. Только осмыслив и приняв травматическое событие, можно без риска для психики жить дальше. Этой диалектикой проникнут любой разговор о коллективной памяти о трудном прошлом. В своем хрестоматийном докладе «Что такое нация» Эрнест Ренан говорит, что нация формируется не только общей памятью о совместно пережитом, но и общим умением забывать[351]. Об этом же напоминает пословица, которую приводит во введении к «Архипелагу ГУЛАГ» Александр Солженицын: «Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет — тому два!»
Трансформация мемориальной культуры (от стремления преодолеть прошлое к стремлению его сохранить. — Н. Э.) предполагает важный сдвиг от концепта «финишной черты» к концепту «разделительной черты», — пишет Алейда Ассман в очерке, посвященном истории проработки прошлого в Германии. — «Финишная черта» оставляет прошлое позади, обеспечивая его завершение. При помощи молчания или забвения прошлое потеряет свое значение и рассеется просто с течением определенного времени. Концепт «разделительной черты» подчиняется другой логике. Чтобы развести настоящее с прошлым, с ним надлежит встретиться лицом к лицу, обсудить его и проработать. Общественные изменения, действительно гарантирующие от повторения прошлого, когда обращение к нему и извлечение из него уроков становится моральным ориентиром для будущего, становятся возможными благодаря памяти, а не забвению[352].
Задача, стоящая перед государством и обществом, тяготящимися трудным прошлым, состоит не в том, чтобы избавиться от его обременяющего действия. В действительности, это задача наладить связь с ним, признать факт перехода от старого к новому. Тут стоит вспомнить Зорана Музича: пережитое в Дахау помогло ему стать тем глубоким и оригинальным художником, каким мы его знаем, но только потому, что он смог выстроить отношение со своим личным «трудным прошлым». Именно в этом смысле подведение черты под прошлым — необходимое условие для движения дальше. Прошлое — важнейший ресурс для будущего, бесценное хранилище исторических уроков, положительных и отрицательных примеров, ролевых моделей, оснований для индивидуальной и коллективной самоидентификации. Но пока прошлое не перестало быть ресурсом для оправдания преступных практик, оно подобно непохороненному трупу, отравляющему живых трупным ядом. Только похоронив труп, можно начать спокойно вспоминать об умершем; покончив с преступными практиками, можно вернуться к прошлому как к тому, без чего невозможно будущее.
Важно понять (и в этом, собственно, и состоит принципиальная задача дискуссии об отношении к советскому прошлому в России), как может быть оформлено, организовано это подведение черты, чтобы оно стало таким принятием, сшиванием единой истории, а не стиранием ее куска, которое только усиливает разрыв, зияющий в исторической и социальной ткани. Это разговор о кооптации в этот процесс всего общества, о том, как сделать этот болезненный выбор понятным и удобным для как можно более широкого круга сил, и о том, как найти в этом процессе основания для позитивной самоидентификации.
В январе 2000 года венгерский писатель Петер Эстерхази закончил свой роман «Harmonia Caelestis»[353], уникальное в своем роде повествование об истории семьи как истории страны, ставшее событием в венгерской литературе и заставившее заговорить об авторе как о претенденте на Нобелевскую премию.
В центре повествования — отец писателя, наследник самого знатного из венгерских и одного из самых могущественных родов Европы. На страницах романа реальная история жизни отца и семьи автора в коммунистической Венгрии соединяется с фантастической историей «отца» как олицетворения «всего рода Эстерхази, всей Венгрии, всей европейской традиции» и всего мироздания вообще, образуя «небесную гармонию» вымысла и реальности: название романа заимствовано у цикла кантат, написанного в XVII веке одним из членов рода Эстерхази и ставшего первым подступом к созданию венгерской музыкальной традиции.
Через несколько дней после завершения работы над рукописью Петер Эстерхази узнал, что после подавления Венгерского восстания 1956 года его отец был завербован венгерской госбезопасностью и больше 20 лет был осведомителем. Гонимый, но не сломленный аристократ, обнищавший и спивающийся, но сохранивший достоинство герой саги, написанию которой писатель посвятил почти 10 лет своей жизни, вдруг оказался «обычным стукачом», который регулярно являлся на встречи со своими кураторами, получал от них задания и сначала очень неохотно, но затем со все большим рвением их выполнял.
Пытаясь принять это новое знание, Эстерхази начинает регулярно ходить в архив госбезопасности, делая выписки из досье своего отца. Эти выписки становятся основой книги «Исправленное издание», приложения к роману «Harmonia Caelestis». Хотя в центре книги по-прежнему отец писателя, на этот раз очищенный от любой идеализации, ее реальный сюжет составляют наблюдения автора над собой, над собственными реакциями и переживаниями: «Я наблюдал за собой, словно за подопытным кроликом: как я поведу себя в этой ситуации, что буду делать, сталкиваясь с теми или иными вещами, и что будут те или иные вещи делать со мною?»[354]
Эстерхази с содроганием, отчаянием и отвращением описывает постепенное вживание отца в чуждую ему поначалу роль. Сначала он пассивен, кураторам приходится понукать его, но вот он становится активнее, вот впервые проявляет инициативу, а вот даже нечто вроде трудового энтузиазма. И как в «Harmonia Caelestis», перед нами снова история семьи, тесно связанная с историей страны. С одной стороны, документируемые Эстерхази-младшим донесения отца накладываются на современные им события коммунистической Венгрии. Мы читаем о процессах и приговорах и понимаем, что в этом контексте донесения уже не могли быть безобидной игрой в сотрудничество. С другой — они накладываются на детские воспоминания Эстерхази-сына, представляя их в новом свете, уничтожая или выворачивая наизнанку:
Следующая встреча (отца с куратором из органов. — Н. Э.) — в 13.00 у Западного вокзала в день моего рождения. А я-то еще обижался и изумлялся, почему он опаздывает, почему явился поддатый и, осклабившись, вместо меня разом задул все девять свечей на торте. Учись, сорванец, с гордостью сказал он[355].
Автор дотошно документирует собственные реакции — от мыслей и переживаний («я могу только выть и стенать, испытывая даже не боль, а нечто граничащее с потерей сознания»; «я побагровел и едва не лишился сознания») до непроизвольных приступов жалости к себе и слез, которые из‐за их частоты, отмечаются сокращениями «ж. с.», «с.». Самонаблюдение не просто предельно откровенно — оно еще и растянуто во времени: автор дважды редактирует первоначальные записи, записывая свои ощущения при втором и третьем чтении отцовского досье. В одном или двух местах автор не может удержаться от слез даже более чем год спустя после первого потрясения; на письме это выглядит так: с. [c.] <c.>.
Эта борьба презрения к агенту с любовью к отцу превращает «Исправленное издание» в человеческий документ невероятной силы. Рассказ о предательстве в конце концов оказывается повестью о глубине привязанности сына к отцу, и очень жесткое отторжение оборачивается все новыми признаниями в любви:
Мы, люди, которых он предавал и которых не предавал, не можем простить моего отца, потому что он не открыл нам свои деяния, не раскаялся, не выразил сожаления о том, что темная сторона души его одержала над ним победу. Поэтому можно его жалеть, можно ненавидеть, а можно и вовсе не думать о нем. Его будут оплевывать и попросту чихать на него — такова судьба моего отца.
Но помимо всех перечисленных (и мною приемлемых) возможностей, я еще и люблю его — мужчину, первородным сыном которого являюсь, с. [с] <c> <Как хотелось бы мне все спасти, оправдать отца, да чего же вы от него хотите, да оставьте, оставьте же вы его, искупил отец свой грех, прошлый и грядущий… Короткая пауза, утирание слез, поиски равновесия, выдержка.>
Тщательное копирование донесений, становящееся основой для внутренней работы с прочитанным, оказывается самой что ни на есть буквальной реализацией образа «проработки» прошлого. Эта проработка принимает у Эстерхази очень разные формы. Вот, слушая восторги в адрес романа (драматизма происходящему добавляет то, что мучительная работа автора с отцовским досье происходит одновременно с триумфом его предыдущего романа), он в красках представляет себе, что скажут эти же люди, узнав то, что знает он. Вот он обходит все будапештские кафе, в которых отец встречался со своими кураторами. Вот он «прогоняет» отца через все существующие в языке уничижительные эпитеты — и нанизывание слов превращается в захватывающее и душераздирающее словесное приключение длиной в 6 страниц убористого текста. Этот список, десятки строк ругани и поношений — «подлый», «лживый», «бесстыжий», «фальшивый», «мерзавец», «ублюдок», — сквозь которые вдруг прорываются ряды эпитетов совершенно другого рода — «необыкновенный», «отчаянный», «стойкий», «неколебимый» («я чувствую, слова начинают приходить в себя, позволяя мне разглядеть моего бедного доброго Папочку») — одно из самых пронзительных мест книги, настоящий снимок работы сознания, в котором волевое отторжение борется с любовью.
Столь пристальное наблюдение за собой не имело бы смысла, если бы автор просто отторгнул от себя новое знание об отце, отделил себя от него и от всего этого «трудного прошлого», или же, напротив, принял его и начал оправдывать. Но Эстерхази выбирает самый трудный путь: он впускает это знание в себя, этот смрадный дух предательства в только что отстроенное здание «Небесной гармонии». Всем нам, читателям Эстерхази на разных языках, очень повезло — слишком много сил ушло у него на соединение истории страны с историей рода и отца как его мистического и реального воплощения в первом романе, чтобы от этого можно было просто отделиться. Если бы не это, возможно, все сложилось бы иначе, осталось бы личной историей, на которую не хочется тратить силы. Но теперь деваться некуда, и автор мучительно занимается той самой проработкой травмы, о которой писал Фрейд и его многочисленные последователи. «Он не отмежевывается от отца, как можно было бы подумать, а исторгает, чуть ли не изблевывает его из себя, — писал в рецензии на «Исправленное издание» Григорий Дашевский, — и потом заново пытается соединиться с ним и в отчаянных или издевательских комментариях, обращенных к отцу, и в самом процессе переписывания»[356].
Оказывается, что именно такая работа с прошлым, когда автор заставляет себя не отворачиваясь смотреть на то, от чего больше всего хочется отвернуться, закрыться, забыть и никогда не вспоминать, именно такая работа оказывается целительной не только для него самого, но и для всего общества. «Только в Венгрии эту книгу прочтут сотни тысяч… — пишет один из венгерских рецензентов. — От этой истории невозможно освободиться… В данном случае важен не я, не автор, не его отец, а все мы. Это книга о нас… Пытаясь разобраться в своем самом что ни на есть личном деле, писатель, словно бы между прочим, объединяет нацию»[357].
ПРОРАБОТКА ПРОШЛОГО — СПОСОБ ОБЪЕДИНИТЬ ОБЩЕСТВО
В основании Мемориала жертвам политических репрессий, открытого в Москве в октябре 2017 года в качестве «подведения черты под прошлым», выбиты четыре слова: «Помнить», «Знать», «Осудить», «Простить». Считается, что это отсылка к формуле, высказанной некогда Натальей Солженицыной: «Помнить, знать, осудить и только потом простить». Слово «Простить» вызвало споры и оправданные сомнения: не предлагают ли нам в очередной раз подменить называние вещей своими именами проектом национального примирения, ради которого стоит забыть и «простить» совершенные преступления? Но центральная интенция, которую передают эти четыре слова, и именно в такой последовательности, совершенно справедлива. Задача переосмысления прошлого состоит прежде всего в сшивании разорванной исторической ткани, в «объединении нации». Осуждение преступлений и преступников — это пусть крайне важное, но все же лишь предварительное условие для достижения этой главной цели.
Повторим, речь вовсе не идет об отказе от осуждения преступлений. Но ориентация на объединение и примирение как конечную цель этих шагов позволяет сделать важное усилие: переместиться с позиции внешнего наблюдателя, обвиняющего, на позицию участника, принимающего ответственность. И механизм этого перемещения, и само понятие ответственности требуют серьезных пояснений.
После рассказа об опыте Германии читателю должно быть особенно хорошо видно, насколько он отличается от российского и насколько неуместны столь распространенные в российских дискуссиях об ответственности за прошлое апелляции к «новому Нюрнбергу над СССР (или НКВД)». Дело даже не в неприменимости этой модели к России; дело в том, что, апеллируя к Нюрнбергу, процессу, организованному оккупационными государствами, говорящий ассоциирует себя с союзниками, но не с гражданами Германии, то есть предлагает модель внешнего суда над собственной страной. Но, как мы видели, наряду с безусловно полезным эффектом осуждения преступлений и фиксации произошедшего с точки зрения права, Нюрнбергский процесс во многом затормозил проработку ответственности за преступления Третьего рейха внутри самого немецкого общества.
Примеры стран, рассмотренные во второй части этой книги, показывают, что такое разделение общества — обычное последствие диктатур, практикующих государственный террор. Трагические сбои в развитии общества лишают прошлое возможности служить ресурсом для выстраивания коллективной идентичности нации. Часть истории общества, нации, государства оказывается заблокирована, к ней невозможно обратиться при строительстве идентичности. Но идентичность все равно надо строить исходя из прошлого, и этот заблокированный кусок заменяется мифами, манипулятивными псевдоисторическими конструкциями.
Таким образом, «принятие прошлого» и «примирение в настоящем», сшивание исторической ткани и ткани социальной — по сути две стороны одного процесса. Механизмы правосудия переходного периода и «принятие», то есть проработка прошлого — единственный способ преодолеть социальное разделение. Реальная проработка прошлого может быть только добровольной и самостоятельной, она ведется изнутри, без внешнего принуждения. «Нюрнберг» как независимая инстанция, вершащая правосудие, может ее стимулировать, но не может заменить. И если опыт Германии важен для России, то прежде всего вовсе не Нюрнбергом, а отличающей немцев готовностью не отказываться от прошлого ни в одном из его проявлений, и в то же время честно отдавать себе отчет в том, каким было это прошлое.
Выяснение отношений с отцом как образ работы с прошлым своей страны в «Исправленном издании» Эстерхази — нечто гораздо большее, чем удачная находка автора-постмодерниста. Настойчивость, с которой в общественных науках для описания работы с прошлым используются понятия, описывающие внутреннюю жизнь личности (применительно к социуму понятия «травма», «покаяние», «прощение», «шизофрения», «вытеснение», «память» используются метафорически), подсказывает, что в поисках ответов на вопрос, как это работает, стоит обратить особое внимание на частные (индивидуальные) примеры покаяния и проработки травмы.
Как только мы переходим с общественно-политического уровня на индивидуальный, становится очевидным не только неприложимость внешнего подхода к разговору (рассуждать в категориях нюрнбергского процесса над дедом не поворачивается язык). Одновременно целый ряд кажущихся непреодолимыми препятствий на пути реальной проработки прошлого оказываются мнимостями, пустыми абстракциями или намеренными манипуляциями.
ПРОРАБОТКА ПРОШЛОГО НА УРОВНЕ СЕМЬИ
В семьях подавляющего большинства жителей современной России были и пострадавшие от государственного террора, и те, кто пассивно или активно в нем участвовал. Почти каждый житель постсоветского пространства — в той или иной степени — потомок и наследник и тех и других. Главные слова, описывающие соотнесение с этим прошлым, — наследие (наследство, наследственность) и ответственность. Вступая во владение наследством, человек принимает на себя и сопряженные с этим привилегии, и обязательства, наследует и скопленные предками сокровища, и оставленные ими долги. Точно так и вступление в «права владения» славными деяниями предков возможно только вместе с принятием также и ответственности за их преступления[358]. Осознав себя наследником героев и злодеев, я оказываюсь соотнесен и с преступлениями, и со страданиями. Но что означает в этом случае взять на себя ответственность за прошлое?
Дети жертв vs. дети палачей
При обсуждении семейной памяти о терроре слишком часто приходится слышать о наследовании вины и статуса жертвы. Предполагается, что «дети палачей», то есть потомки сотрудников НКВД, с необходимостью должны защищать своих родственников, не верить в политические репрессии, считать всех жертв преступниками и чуть ли не на генетическом уровне обладать теми же моральными качествами, что и их «отцы». А потомки жертв, в силу родства с пострадавшими, якобы получают право в преимущественном порядке требовать от «детей палачей» покаяния. Но попытки разделять общество по кровному признаку на тех, кто должен каяться, и тех, кто имеет право такое покаяние принимать, попросту абсурдны, потому что само по себе такое разделение невозможно. В отличие от той же Германии, в России среди предков одного и того же человека очень часто есть и расстрелянные, и расстреливавшие — и вторые чаще всего рано или поздно сами попадали в жернова машины уничтожения. Но, пожалуй, еще важнее другое обстоятельство. Опасения, что потомки преступников могут оказаться перед необходимостью каяться за преступления предков, держатся на архаичном и абсурдном с юридической точки зрения представлении о кровной и коллективной ответственности.
Особенно показательная дискуссия на эту тему развернулась осенью — зимой 2016 года. Вскоре после обошедших российские и зарубежные СМИ публикаций о расследовании Дениса Карагодина[359] общество «Мемориал» опубликовало базу данных «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939» с информацией о 40 тысячах сотрудников НКВД[360]. В государственных и провластных СМИ тут же заговорили о том, что расследование Карагодина и ему подобные чреваты разделением общества на потомков жертв и потомков палачей[361]. Появились даже сообщения (на поверку оказавшиеся ложными), что, опасаясь мести со стороны потомков репрессированных, «потомки чекистов» потребовали удалить базу данных «Мемориала» из свободного доступа[362].
После обнародования «Мемориалом» списка сотрудников НКВД издание «Лента.ру» опубликовало подборку[363] реакций потомков сотрудников спецслужб на эту публикацию. Среди них, конечно, есть и призывы не ворошить прошлое, и отказ признать ответственность предков:
На мой взгляд, дискуссия о людях, работавших в НКВД, не нужна, — говорит внук человека, во время войны служившего в войсках НКВД. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Много сейчас у вас в России сил, которые хотят раскачать страну вот такими и другими ненужными делами. Если уж кому-то и хочется из пострадавших искать правду, пусть сам и ищет, подает в суды. Но виноватых не найти, да их и не было, виновата система. Да и не то чтобы виновата, по-другому было и нельзя, чтобы сохранить страну.
Но такие реакции вовсе не единственно возможные, как может показаться. Представление о том, что потомки преступников автоматически, просто в силу кровного родства, оправдывают своих предков, — не более чем миф (отчасти держащийся на существовании «династий» потомственных надзирателей, явления довольно локального). Нет никакого противоречия в том, чтобы потомок преступника выступал за открытие архивов и даже за выражение соболезнования потомкам жертв:
В XX веке в России были совершены преступления против русского народа и человечества, — говорит внук другого сотрудника НКВД. — Некоторые не хотят, чтобы народ узнал правду, но это в интересах народа. Народ имеет право знать свою историю, и скрывать эту информацию — преступление против него. <…> Что касается извинений потомков палачей перед потомками жертв, то, думаю, это чрезвычайно положительное и христианское явление. Только нужно лучше определить тонкие различия между покаянием в смысле изменения ума и покаянием, когда ты как будто извиняешься за грехи другого человека, как за свои. Наверное, лучше сказать «приношу соболезнования», или что-то в этом роде.
Здесь принципиально важно, что даже оправдывающие своих предков — во всяком случае те, кто соглашается говорить об этом публично, — оправдывают не сами преступления, но стремятся выставить своих родных жертвами системы, невольными соучастниками, простыми исполнителями приказов. Иными словами, робкий консенсус о преступности террора самого по себе (во всяком случае, в публичном поле) объединяет и потомков жертв, и потомков палачей. К этому консенсусу как к общей почве для диалога общества мы еще вернемся.
В октябре 2017 года интернет-журнал «Секрет фирмы» подготовил материал, рассказывающий о представителях двух семей, среди предков которых были и сотрудники карательных органов, и репрессированные[364]. Первая история особенно поразительна: приказ об аресте одного деда героини, машиниста поезда, впоследствии расстрелянного, был подписан другим дедом, местным прокурором железной дороги. Героиня и ее мать, дочь расстрелянного, узнали это лишь в 1990‐х, уже после смерти деда-прокурора, и узнав, избегали разговора на эту тему. Сегодня внучка, университетский профессор, изучает феномен конформизма в СССР.
«Когда я писала научную работу, то часто ловила себя на мысли, что не могу ни осуждать, ни оправдывать», — цитируют авторы героиню первой истории. — Всю жизнь она посвятила изучению другой эпохи и считает, что понимание той поры — ключ к принятию поступков деда и его современников. Но к сожалению, многие пока закрывают глаза на сам замок комнаты со смутным прошлым; а его нужно открыть — чтобы двигаться вперед и не воспроизводить ситуацию, в которой всех делят на два лагеря.
Героиня второй истории, правнучка высокого чина НКВД и расстрелянного в 1938 году банковского служащего, живет в Германии. Обосноваться в Берлине она смогла, продав квартиру в Москве. Трудно найти более показательный пример принципа наследования, объединяющего преступников и жертв: эта квартира досталась от родственников репрессированного деда, но сохранить ее семья смогла благодаря родственникам — сотрудникам НКВД.
Не то чтобы я стала отказываться от этой квартиры… даже не знаю, в пользу кого? — говорит героиня. — Но неплохо осознавать, что я имею некоторое отношение к этой истории — и даже мой быт от нее зависит.
Сравнивая себя, правнучку энкавэдэшника, со знакомым, внуком нациста, она говорит: «Да, есть разница в том, что Россию никто не заставил ничего осмыслить, потому что она не проиграла, а выиграла. Но в вопросе, как быть человеку со своей семейной историей, разницы нет». Единственный практический вывод, который она может сделать из своей истории, это вывод о неестественности молчания:
Эта семья прожила много десятков лет вместе. И за это время они умудрились не обсудить самые важные темы. <…> Говорить естественно! Неестественно молчать. У меня семья 50 лет молчала. А теперь только полезешь туда, как еще какой-нибудь скелет вывалится.
В обоих случаях перед нами истории намеренного молчания о прошлом, сознательного выстраивания непроницаемой перегородки между прошлым и настоящим. В обоих случаях третье или четвертое поколение приходит к тому, что это молчание и эта перегородка противоестественны, а ее слом — необходимое условие дальнейшей полноценной жизни, свободной от страха, что из семейного шкафа вывалится очередной скелет. Иными словами, осуждать и каяться совсем не обязательно, обязательно только одно — не молчать.
Покаяние: случай Владимира Яковлева
В сентябре 2016 года основатель Издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев запустил сетевой проект «Свои», задачей которого было призвать потомков жертв и «авторов» советского террора заговорить о собственных предках, о трудном прошлом собственной семьи. На первый взгляд запись Яковлева поражает драматизмом, вполне сопоставимым с ситуацией Петера Эстерхази:
Мои самые счастливые детские воспоминания связаны со старой, просторной квартирой на Новокузнецкой, которой в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал позже, была не куплена и не построена, а реквизирована — то есть силой отобрана — у богатой замоскворецкой купеческой семьи.
Я помню старый резной буфет, в который я лазал за вареньем. И большой уютный диван, на котором мы с бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. И два огромных кожаных кресла, которыми, по семейной традиции, пользовались только для самых важных разговоров.
Как я узнал позже, моя бабушка, которую я очень любил, большую часть жизни успешно проработала профессиональным агентом-провокатором. Урожденная дворянка, она пользовалась своим происхождением, чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на откровенность. По результатам бесед писала служебные донесения.
Диван, на котором я слушал сказки, и кресла, и буфет, и всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не покупали. Они просто выбрали их для себя на специальном складе, куда доставлялось имущество из квартир расстрелянных москвичей. С этого склада чекисты бесплатно обставляли свои квартиры.
Под тонкой пленкой неведения, мои счастливые детские воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, насилия и предательства. Пропитаны кровью[365].
Но этим сходства с «Исправленным изданием» заканчиваются. Эстерхази мучительно работает с собой и своими воспоминаниями об отце, чтобы, насколько это возможно, «спасти» добрый образ отца, «изблевав» из себя отца-стукача. Публичность его самоэкзекуции вынуждена, обусловлена публичностью его предыдущей книги, которую теперь необходимо «исправить». Позиция и цели Яковлева разительно иные. В его публикации нет ни любви, ни ненависти, соединение которых превращает записки Эстерхази в пронзительный человеческий документ. Задача же публикации Яковлева в том, чтобы, назвав деда и бабушку преступниками, обобщить свой опыт до опыта граждан всей страны и уверить читателей, что страшное прошлое страны — общее наследие, определяющее современное сознание (и подсознание) всех, чьи предки пережили советскую мясорубку:
Да что я, один такой? Мы все, выросшие в России, — внуки жертв и палачей. Все абсолютно, все без исключения. В вашей семье не было жертв? Значит, были палачи. Не было палачей? Значит, были жертвы. Не было ни жертв, ни палачей? Значит, есть тайны. Даже не сомневайтесь!
Справедливые слова о том, что работа с трудным прошлым — единственный способ противостоять его разрушительному действию, повисают в пустоте, ведь читателю не предлагается ни вариантов освобождения от этого прошлого, ни сценариев его осуждения.
Запись Яковлева в Facebook набрала несколько тысяч лайков и больше десяти тысяч репостов, а «Свои» стали частью запущенной через два месяца сетевой платформы[366], не получившей популярности, — там время от времени публикуются записи из семейной истории. Случай Яковлева, при всей прагматической полезности такого рода случаев для популяризации темы, — пример того, что покаяние как интеллектуальная мода имеет мало общего с реальным покаянием. В статье «Трудности национального покаяния», опубликованной в 1949 году в англиканском еженедельнике The Guardian (не путать с современной ежедневной газетой), английский писатель и богослов К. С. Льюис указывает именно на опасность ситуации, когда покаяние становится чем-то вроде такой моды:
Главная прелесть национального покаяния в том, что оно дает возможность не каяться в собственных грехах, что тяжко и накладно, а ругать других. Если бы молодые поняли, что они делают, они вспомнили бы, надеюсь, заповедь любви и милосердия. Но они понять не могут, потому что называют английских правителей не «они», а «мы». Кающемуся не положено миловать свой грех, и правители тем самым оказываются за пределами не только милости, но и обычной справедливости. О них можно говорить все что захочешь. Можно поносить их без зазрения совести и еще умиляться своему покаянию. <…>
Что же, церковь не должна призывать к национальному покаянию? Нет, должна. Но дело это — как и многие другие — под силу лишь тем, кому оно нелегко. Мы знаем, что человек призван во имя Бога возненавидеть мать. Когда христианин предпочитает Бога собственной матери, это ужасно, но возвышенно — однако только в том случае, если он хороший сын и духовное рвение возобладало в нем над сильным естественным чувством. Если же он хоть в какой-то степени рад с ней поссориться, если он думает, что возвысился над естественным, в то время как он опустился до противоестественного, — это гнусно, и больше ничего[367].
Именно о превращении покаяния в идеологический и политический инструмент писал в далеком 1991 году философ и культуролог Михаил Ямпольский в статье «Изнасилование покаянием»[368]. По Ямпольскому, акцентирование интеллигенции на понятии вины и распространение ее на всех, вместо разговора о личной ответственности виновных, уже к концу перестройки служило скорее укреплению тоталитарных структур, нежели их деконструкции.
Художественная проработка: случай Сергея Лебедева
В 2011 году московский геолог и журналист Сергей Лебедев публикует свой дебютный роман «Предел забвения»[369], который оказывается принят и прочитан за границей гораздо лучше, чем в России, где рассказу о таких вещах словно бы не за что уцепиться.
Герой романа отправляется в путешествие на север, в край лагерей, чтобы открыть завесу неизвестности над прошлым своего неродного деда, которому он тем не менее обязан жизнью и который завещает ему свое наследство и множество неотвеченных вопросов. Дед оказывается бывшим начальником лагеря, человеком, выжженным изнутри злом, которое он творил, но искренне любившим, насколько это было в его силах, героя-рассказчика. Единственное, чем обязан ему герой, — этой самой любовью, и его путешествие, погружение в пробирающий до костей холод лагерных пространств, оказывается способом взять на себя эту ответственность и войти в это наследство, а сделав это — очистить свою кровь от вины предка. Это оказывается необходимо и герою, и автору: Лебедев признается, что роман автобиографический и был написан в каком-то смысле вынужденно, как единственный способ «вынуть прошлое из укрытия» после того, как автор узнал, что его собственный приемный дед был подполковником госбезопасности и некоторое время — начальником лагеря.
Я не собирался, в принципе, особо никаких романов писать. Я журналистикой занимался, эссеистикой. После того как я узнал про деда, мне захотелось куда-то пойти, что-то сделать, у кого-то спросить. Понятно было, что дело мне не дадут, потому что эти все дела закрыты. И вдруг я понял, зачем я по всем этим лагерям ездил, почему восемь лет в экспедициях я на все это смотрел. В одно мгновение все сошлось. Я понял, что раз никто мне про него никогда ничего не скажет, то я должен использовать тот способ, против которого они ничего не предусмотрели. Можно написать роман. Фигуру деда можно угадать. Можно вынуть его из укрытия, эту общую безликую фигуру, наделить лицом, вывести в оборот культуры, где таких, как он, нет[370].
«Предел забвения», как и подобает русскому роману, впечатляет картинами торжества абсолютного зла, в которое погружается герой по мере своего путешествия к краю земли и метафизической точке абсолютной тьмы, где человек перестает быть человеком. У Лебедева такой точкой становится описание острова, на котором погибли высаженные на него без продовольствия ссыльные, — творческая переработка реальной Назинской трагедии на Оби весной 1933 года[371]. Герой проваливается в воронку, в стенах которой в вечной мерзлоте видит человеческие тела, вырванные из течения времени, — не живые, но и не погребенные (поразительный образ неподведенной черты). Тепло тела героя растапливает дно воронки, он вырывает из рук одного из трупов топор и вырубает ступени наружу. Дойдя до самого дна, он обретает силу выбраться и вернуться в мир людей и к нормальному человеческому существованию. Лебедев так говорит об этом:
Книгу надо написать так, чтобы она внутренне учитывала, что читать ее некомфортно, никому неохота, больно. Вот весь этот труд, разбирательство с прошлым, надо устроить так, чтобы тебя куда-то приглашали, безопасно проводили какой-то дорогой. И поэтому, не знаю, используя какие-то структуры мифа или еще что-то, но ты должен сделать книжку такой, чтобы человек мог пройти ее до конца. Одиссей тоже спускается в подземное царство, где на его кровь слетаются мертвые, — и, в общем, можно его там оставить. Но лучше книгу придумать так, чтобы все-таки герой шел, шел через тьму. И вместе с ним читатель выходил куда-то. Это вопрос не количества мрака, это вопрос, как ты пропишешь ход сквозь эти толщи спрессованные[372].
Работа с травматическим прошлым имеет смысл лишь в том случае, если ее цель — выход к свету, освобождение, про-работка травмы (как прорытие тоннеля, в отличие от простого копания в земле). Иначе эта работа оказывается бесцельным самоистязанием или имитацией, служащей каким-то иным целям.
Осуждение: случай Николая Антонова
Быть может, самый тонкий и самый важный момент, который демонстрируют семейные истории, касается способности отделять осуждение зла от любви к родному человеку. Неслучайно этот момент так пронзителен в романе Эстерхази: «Вчера в интервью на вопрос о том, в чем сложность работы, которой я занят сейчас, я ответил: в том, что самым тщательным образом мне нужно расставить все по своим местам, отделив в душе любовь и презрение»[373]. Представление о том, что деяния родных людей проще оправдать, упускает из виду исходный пункт, отправную точку работы с прошлым. Такое разбирательство может быть начато только в том случае, если потомку не дает покоя этическая неопределенность в отношении с предком, если он движим задачей отделить «доброго дедушку» от «преступника» (палача, труса, стукача).
В марте 2018 года радио «Свобода» опубликовало интервью с правнуком высокопоставленного функционера НКВД[374]. Поводом для него стало высказывание одного из сотрудников «Мемориала», что публикация имен палачей необходима, «чтобы в будущем участники таких преступлений понимали, что рано или поздно их внукам придется прятать глаза»[375]. Николай Антонов-Грицюк в годы Большого террора возглавлял НКВД Кабардино-Балкарской АССР, был председателем республиканской Особой тройки, начальником тюремного отдела НКВД СССР. Он принимал непосредственное участие в ликвидации узников Соловецкого лагеря, а в 1939 году сам был расстрелян как соратник Николая Ежова. Впоследствии семья добилась реабилитации своего предка. В интервью правнука Антонова обращает на себя внимание то самое желание восстановить связь с прадедом, ничуть не стремясь при этом его оправдать:
Для нашей семьи значимой является не какая-либо реабилитация Николая Иосифовича, так как никакое оправдание по суду не отменит его личной ответственности за совершенные им преступления. Значимо другое — возможность восстановления его жизненного пути, каким бы трагическим и страшным он ни был; пути, ставшего частью истории нашей семьи и архиважным уроком для всех поколений его потомков. История жизни конкретного человека, а не оправдание его преступлений, была главной задачей всех наших поисков.
Отвечая на рассуждение интервьюера о том, что в современной России потомки преступников могут не опасаться общественного остракизма («есть разве что робкое возмущение поведением таких людей, как Вячеслав Никонов, который гордится своим дедом — Молотовым»[376]), внук Антонова говорит:
Память о предках, прародителях — это святое, какими бы они ни были: добрыми или негодными, любящими или безразличными. Это часть истории семьи. Но есть история жизни самого человека, состоящая из его собственных поступков. Нет и не может быть никакого возмущения по поводу истории семьи Вячеслава Михайловича. А вот факты его жизни, публично выраженных взглядов, его позиции и поступков как государственного деятеля, позвольте заметить, должны встретить не «робкое возмущение», а волну противодействия со стороны нормального общества. Согласитесь, следует различать отношение внука к дедушке и отношение государственного деятеля к преступлениям против человечности.
Готовность к вполне конструктивному осуждению прошлого и его проявлений (или попыток оправдания) в настоящем вовсе не противоречит усилиям сохранить память о предке, принимавшем участие в злодействах. Более того, именно сохранение этой памяти и есть необходимая доля ответственности тех, кого кровные узы связывают со страшными страницами истории.
Ответственность: случай Дженнифер Тиге
Все приведенные примеры заставляют, каждый по-своему, задаться вопросом о том, что же значит взять на себя ответственность за преступление предка. И снова ответить на этот вопрос помогает работа, уже проделанная по поводу похожих случаев в других странах — в данном случае, в Германии. Мы видели, как после войны философ Карл Ясперс анализировал разные виды вины, чтобы лучше проговорить отличие юридической ответственности (которую нацистские преступники понесли на Нюрнбергском процессе) от ответственности политической, моральной и, шире, метафизической. Задачей Ясперса было показать, что, с одной стороны, говорить о коллективной вине немцев неверно, а с другой — что Нюрнбергский процесс не снимает вопрос о самостоятельной проработке прошлого теми, кто в преступлениях не участвовал. Но книга Ясперса 1946 года была только началом долгого разговора.
В 1960‐х годах в работах «Личная ответственность при диктатуре» и «Коллективная ответственность» Ханна Арендт решает более сложную и более близкую к обсуждаемой в этой главе задачу. К началу 1960‐х в Германии разговоры о всеобщей («метафизической», по Ясперсу) вине стали отчетливо маскировать нежелание говорить о конкретной юридической вине.
Возгласы «Мы все виновны!» — пишет Арендт, — поначалу звучавшие так благородно и подкупающе, на самом деле служили лишь тому, чтобы снять значительную часть вины с тех, кто действительно был виновен. Когда все виновны, — невиновен никто[377].
Примерно об этом писал в России Ямпольский, на которого мы ссылались выше. Ответственность членов политической общности, говорит Арендт, даже такой, принадлежность к которой предполагает чисто пассивное соучастие в совершаемом от их имени, безусловно, существует. Она играет ключевую роль для осмысления тоталитаризма и преодоления его последствий, но не имеет ничего общего с виной, которая может быть только личной.
Словарное определение слова говорит, что нести ответственность — значит быть готовым давать отчет в произошедшем. В случае ответственности индивида за собственные поступки и за поступки предка или сообщества речь идет, безусловно, о разных значениях слова и о разных видах ответственности. Первое — сродни вине, и нести ответственность в данном случае значит, например, получать судебный приговор за преступление. Второе — нравственные обязательства, которые индивид или сообщество добровольно признают за собой. Прежде всего это обязательства сделать все возможное, чтобы произошедшее не могло повториться.
Именно о такой ответственности германского общества за преступления нацизма можно говорить — и далеко не случайно, что у Германии ушло больше трех десятков лет, чтобы научиться отделять вину от ответственности. И если в российских дискуссиях так часто слышны возмущенные голоса, вопрошающие: «Неужели мы все виновны в случившемся, неужели, если бы „Нюрнберг над коммунизмом“ действительно состоялся, всех нас следовало бы осудить?» — это всего-навсего означает, что в России процесс различения вины и ответственности еще не завершился. Среди прочего, это результат отсутствия сложившегося института исторической ответственности.
Яркий пример отличия вины от ответственности — случай Дженнифер Тиге. Она оказалась кровно связанной с одной из самых жутких страниц истории XX века, не будучи ни коим образом виновной, но не отказалась в силу этой связи взять на себя ответственность.
«Что такое семья? Нечто наследуемое или созидаемое?» — этим вопросом начинается последняя глава книги Тиге «Мой дед расстрелял бы меня», опубликованной в США в 2015 году[378]. Автор, дочь нигерийца и немки, рассказывает о том, как борясь с депрессией, обнаружила в библиотеке книгу своей матери, в младенчестве сдавшей ее в детский дом, а после в приемную семью. Из этой книги она с ужасом узнала, что ее дедом был Амон Гёт, тот самый кровожадный комендант концлагеря в польском Плашове, от которого спасал евреев Оскар Шиндлер. Именно он познакомил Гёта, с которым приятельствовал, с бабкой Тиге, некогда своей секретаршей.
Тиге никогда не была особенно близка с биологической матерью. Наполовину африканка, в юности уехавшая в Израиль и прожившая там несколько лет, — трудно выдумать пример человека, к которому категория вины за расовые преступления была бы менее применима. Тем не менее она задается вопросом о том, что такое кровная связь с преступлением и что она означает в ее случае. Ответ, который дает книга, таков: хотя генетической вины не существует, ответственность за прошлое вполне реальна. Книга заканчивается тем, что автор вместе с группой израильских школьников едет в Польшу, чтобы посетить место, где располагался концлагерь и где творил преступления ее дед. Там она рассказывает этим детям — внукам тех, кто погиб в этих местах, — свою историю. После этого они зовут ее вместе с ними возложить цветы к мемориалу. «Моя ответственность единственно в том, чтобы не переставать говорить об этом», — говорит она.
По словам Тиге, одной из причин, побудивших ее рассказать свою историю, было решение потомков Генриха Геринга стерилизовать себя, чтобы «не плодить новых Герингов». Это неверный посыл; гена нацизма не существует, как не существует генетической вины. Каждый решает для себя, кем и чем он хочет быть. Что вовсе не отменяет необходимости работы с трудным прошлым — своим и своей семьи.
Когда-то я сравнила мою жизнь с рассыпанной мозаикой, — говорит Тиге в одном из интервью. — Так много разрозненных кусочков, а рамка потеряна. Я не знала, как себя собрать, и в чем причина моей депрессии. Сегодня я собрала кусочки в цельную картину — хаоса и неразберихи больше нет. Даже изменившись, я остаюсь тем же самым человеком — и я знаю, кто я. Теперь я могу жить дальше — вместе с моим прошлым. И мои дети тоже могут. <…> Теперь я знаю, что мне не в чем себя винить, и вина больше не лежит тяжестью на моих плечах. Но меня очень занимает тема ответственности. Ответственность каждого в том, чтобы делать окружающий его мир лучше. Я несу ответственность не только как немка или как внучка Амона Гёта, но просто как человек[379].
Немного по-другому, но о том же самом говорит один из героев публикации «Ленты.ру», потомок сотрудника НКВД, человек, стоящий на последовательно антисталинских позициях и нашедший фамилию предка в базе данных «Мемориала»:
Очень сильное, очень странное, ни на что не похожее ощущение испытал, когда нашел своего прапрадеда, начальника следственной части московского НКВД в 1935–1939 годах, в базе данных, опубликованной «Мемориалом». Это не стыд — чего мне стыдиться, я не он и я не верю в коллективную ответственность — и не жалость, и не сожаление, и не гордость. Просто мы все здесь связаны с тем, что было. Связаны буквально, самым сильным из возможных способов, через родных — и никуда от этого не денешься. И никто ни перед кем не виноват, никто не должен каяться, просто все должны знать и помнить[380].
Все приведенные здесь свидетельства работы с прошлым собственной семьи, от случая Петера Эстерхази до Дженнифер Тиге, едины в главном. Да, вина предков не распространяется на потомков, преступление не передается генетически, и даже личное сознание ответственности не может рассматриваться как нечто морально обязательное. Но все те, кто пытался всерьез отнестись к трудным эпизодам в биографии своих предков, двигаясь каждый собственным путем, приходят к очень похожим выводам. Самое важное — и самое трудное — разрушить перегородку, отделяющую меня сегодняшнего от страшной правды о моем близком, преодолеть механизмы, помогающие прятаться от этой правды.
Блокирование этого знания позволяет содеянному злу продолжать свое действие даже в рамках семейной памяти. И способ его преодоления — не публичное покаяние, даже не гласное обвинение предка, а вот это самое «не переставать говорить». Не молчать, а так или иначе рассказывать о свершившемся зле — на семейном совете, в интервью, в книге или на встрече с теми, кого это зло могло коснуться. Оказывается, что такой рассказ, выводя знание о сотворенном зле из тьмы на свет, помогает избавиться от его разрушающего действия.
Подобная реализация ответственности — необходимое движение к объединению общества. Преступление блокирует связь с прошлым, препятствует движению соков в стволе древа истории. Это оборачивается расколом общества на изолированные куски с собственным прошлым и собственной этикой. Принятие ответственности за прошлое объединяет эти разделенные ячейки, ломает перегородки между потомками представителей разных лагерей, делает общность этических оценок почвой для нахождения общего языка. Сделать преступление небывшим невозможно, но можно постараться сделать так, чтобы это преступление перестало блокировать память. И если память о прошлом в масштабах страны так просто не выправить, то семейная история каждого принадлежит только ему и его родным. Убрать с нее блок, обеспечить свободный ход соков по стволу хотя бы в масштабах своего семейного древа — вполне под силу каждому.
ЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Возможно ли распространить опыт разбирательства с прошлым с индивидуального и семейного уровня на все общество, не растеряв тех специфических особенностей такой работы, которые и делают ее столь полезной, а ее результаты столь обнадеживающими? Чтобы утвердительно ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить значение фильмов Карлоса Сауры для испанской памяти о трагедии гражданской войны, или фильма «Официальная версия» Луиса Пуэнсо для аргентинской памяти о «грязной войне». Однако есть и куда более непосредственные примеры того, как опыт работы с семейной памятью оказывается не только востребован обществом, но и отзывается на международном уровне.
В середине 1980‐х израильский психолог и психотерапевт Дан Бар-Он, до этого специализировавшийся на психологической помощи людям, пережившим Холокост, и членам их семей, получил возможность провести в Германии серию интервью с детьми нацистских преступников. Из почти шести десятков человек, которым Бар-Он предложил поговорить, отказом ответили только девять. Результатом бесед стала книга «Груз молчания»[381], в основе которой интервью с 13 детьми или племянниками ближайших помощников Гитлера, высокопоставленных членов НСДАП, генерала СС, врачей в концлагерях.
Одно из самых поразительных интервью — с дочерью высокопоставленного нацистского функционера, хорошо помнящей отца и очень его любящей. По ее мнению, отец знал о преследованиях евреев, но не имел к ним отношения. Условием ее согласия говорить был отказ называть имя отца — но спустя некоторое время после разговора Бар-Он понимает, что общался с дочерью ближайшего соратника Гитлера. Он не мог не участвовать в страшнейших преступлениях, а его дочь не могла этого не знать. Через год после первой встречи они встречаются снова, имя отца больше не секрет — и собеседница дает автору предсмертную записку, написанную отцом во время Нюрнбергского трибунала. В этой записке он признает ошибочность антисемитизма и призывает немецкий народ во имя своего спасения примириться с еврейским. Бар-Он понимает, что, держась за любовь к отцу и в то же время свидетельствуя о его участии в преступлениях, она на самом деле осуществляет труднейшую работу над собой:
Я удивлен поведением Герды. Она держится за свое восхищение отцом, и в то же время передает мне документ, который раскрывает его последние размышления о еврейском вопросе. Неужели она просит прощения — за дерзость своего отца и за то, что из‐за своей любви к нему она не в состоянии критически отнестись к этому свидетельству?
Я больше не думаю, что Герда пыталась ввести меня в заблуждение. Она пыталась быть со мной искренней. Защитная стена, которую она воздвигла вокруг своих чувств к отцу, дала ей возможность и дальше любить своего отца и, возможно, любить других людей.
У меня остается много вопросов. Но я все же думаю, что Герда сделала очень многое: согласившись говорить со мной, встретившись во второй раз и передав мне письмо своего отца. На свой лад она пытается осознать то, что она до этого была не в состоянии сделать, — ее глубоко любимый отец занимал ключевой пост в одном из самых бесчеловечных режимов. Я благодарен ей за то, что вместе с ней смог ощутить, что может значить такая борьба[382].
Книга Бар-Она была переведена на немецкий и множество других языков, обозначила новую веху проработки прошлого немецким обществом. В 1990‐е годы Бар-Он занялся организацией встреч детей нацистских преступников с детьми жертв Холокоста, а когда оказалось, что эти встречи очень помогают и тем и другим, стал проводить семинары для представителей разных сторон конфликтов в других частях мира. Среди их участников были черные и белые из Южной Африки, католики и протестанты из Северной Ирландии, палестинцы и израильтяне. Опыт этих семинаров описан в книге Бар-Она «Наводя мосты»[383].
В 2010 году в Москве журналист и драматург Михаил Калужский поставил спектакль по книге «Груз молчания». Представления спектакля прошли в Москве и еще нескольких городах России; они сопровождались интереснейшими обсуждениями — не столько прошлого Германии, сколько груза молчания, довлеющего над гражданами России.
Результатом этих дискуссий стал новый театральный проект, на этот раз созданный на российском материале. В основе поставленного в 2012 году спектакля «Внуки» — 10 интервью Михаила Калужского и Александры Поливановой с детьми, внуками и правнуками людей, лично ответственных за преступления советского государственного террора. Зрители и актеры, никак внешне не отличимые от зрителей, садятся в круг, каждый получает определенный номер. На специальном экране загораются номера, и тот, кто видит на экране свой номер, начинает рассказывать свою семейную историю. В действительности первыми говорят актеры, произнося от своего лица воспоминания реальных детей преступников, записанные авторами: кто-то осуждает своего предка, кто-то старается отстраниться, кто-то ограничивается нейтральными детскими воспоминаниями.
Единственное, чего нельзя услышать, — это оправдания преступлений; авторы сознательно не разговаривали с теми, чья позиция представляется им этически неприемлемой. В какой-то момент на экране начинают загораться номера, выданные зрителям, приглашая к личному участию в разговоре. Одни включаются в него, другие, чаще, предпочитают отмалчиваться, но, по свидетельствам участников, само ожидание такой возможности оказывается для многих важным импульсом. «Второй акт» — это акт рефлексии, осмысления, наступающий вслед за собственно трагедией. Это рефлексия как героев спектакля, так и зрителей, которые, уйдя со спектакля, задумываются об осмыслении прошлого собственной семьи и собственной страны.
Если в основе книги Бар-Она 13 интервью, спектакля «Груз молчания» — 2, а «Внуков» — 10, в архиве запущенного в 2013 году московским Музеем истории ГУЛАГа проекта «Мой ГУЛАГ» уже более 300 интервью не только с репрессированными и их потомками, но и с сотрудниками НКВД — КГБ и их родными[384]. Одно из таких интервью — беседа с Грацианом Васьковым, сыном Родиона Васькова, работавшего на руководящих должностях в системе НКВД и МГБ, налаживавшего работу лагерей на Соловках и Колыме, а в 1953 году осужденного на 5 лет за «превышение полномочий». Сын, сам пошедший по стопам отца, ловивший и допрашивавший «контру», признает, что среди врагов народа были невиновные, а его собственный сын осуждает репрессии. В рассказах Васькова не видно особого сожаления о прошлом, скорее возмущение несправедливо суровым приговором отцу. Но красноречивее многих слов об ответственности сцена, когда в ответ на вопрос, каково было людям, принимавшим участие в расстреле репрессированных, защитные аргументы «исполнял приказы» и «враг есть враг» вдруг перестают работать, и этот 90-летний старик начинает плакать.
В.: На нем как-то отразилось, что он расстреливал?
О.: Плохо… Но я понимал [начинает плакать], что его работа такая же, как и моя. Вот на войне, когда стреляют врага, там же никто не спрашивает… Враг — стреляют. И здесь: враг — стреляют, все… Только он без водки… Да… Печальное дело, печальное…
Эти слезы — убедительный пример того, что даже те, кто на словах оправдывает репрессии, отчетливо сознают их преступность. Это достаточное основание для выстраивания пусть робкого консенсуса в оценках советского террора. По мере того как в разговор о прошлом вовлекаются все более широкие слои общества, осознание преступности государственного террора все отчетливее становится тем общим основанием, на котором такой разговор может держаться, даже если его участники в остальном придерживаются очень разных позиций и принадлежат к разным «лагерям».
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ОТ СЕМЬИ К СТРАНЕ
Семейная память представляет собой модель, школу, полевой эксперимент перехода от категории вины к категории ответственности. Но очень важна техника этого перехода, ведь именно он позволяет перейти в разговоре об исторической ответственности за советский террор с частного уровня на общественный. А такой переход необходим: даже если очень многие начнут в частном порядке прорабатывать прошлое своей семьи, само по себе это не превратит частную работу в работу в масштабах общества.
Важная особенность, отличающая работу признания вины и принятия ответственности, — ее «несоразмерность». Как правило, степень вины обратно пропорциональна желанию ее признавать и искупать. В случае ответственности тоже наиболее активны в принятии ее на себя те, кто в наименьшей степени причастен к деяниям сообщества, которые нуждаются в проработке. Это «несправедливо», но вполне понятно и закономерно. Справедливо было бы, чтобы бремя ответственности в первую очередь оказалось взвалено на тех, чей «долговой счет» длиннее. Но в реальности все происходит в обратном порядке, совесть больше мучает совестливых, а не бессовестных, работа ответственности начинается с тех, кто в ней более опытен, и это вполне закономерно.
Пастор Мартин Нимёллер, один из авторов Штуттгартского исповедания вины 1946 года, имел больше оснований не считать себя ответственным за преступления нацистов, чем большинство других представителей германской церкви. Как уже было сказано выше, за критику политики нацистов он провел 7 лет в Дахау и Заксенхаузене. И тем не менее именно он настоял на формулировке, свидетельствующей о признании прямой ответственности за случившееся («через нас многие народы и страны были ввергнуты в безмерное страдание»), спровоцировав поток обвинений в работе на оккупантов, в предательстве нации и церкви.
В ноябре 1965 года, накануне торжеств, посвященных празднованию 1000-летия крещения Польши, 34 польских епископа, в том числе тогдашний примас Польши Стефан Вышинский и будущий папа Иоанн Павел II подписали письмо, адресованное епископам Германии. Это письмо называлось «Прощаем и просим прощения» и было передано адресатам на Втором Ватиканском соборе[385]. В нем говорилось, что хотя Польша в огромной степени пострадала от нацизма, польское духовенство протягивает руки в знак примирения братьям-христианам в Германии, прощает и в свою очередь просит прощения у немцев, высланных в 1945–1946 годах из их родных мест в Силезии и Померании. В Польше письмо спровоцировало государственную кампанию против церкви, епископы были обвинены в предательстве национальных интересов и государственной измене, но это письмо стало важным шагом в послевоенном сближении польского и германского обществ.
Первым открытым актом покаяния Германии за преступления нацизма было знаменитое коленопреклонение Вилли Брандта в Варшаве. Прощения у польского народа от лица немецкого просил человек, находившийся в оппозиции к нацистам с момента их прихода к власти в 1933 году, активно участвовавший в работе антифашистского подполья, за что еще в 1938 году был лишен германского гражданства и продолжил, рискуя жизнью, участие в сопротивлении из‐за границы. В 1958 году в ФРГ было создано движение «Акция искупления», помогавшее молодым немцам работать волонтерами в странах, пострадавших от Германии во время войны. Как сказано в декларации движения, его задача в том, чтобы «народы, которые пострадали от нашего насилия, позволили нам нашими руками и при помощи наших средств сделать в их странах что-то хорошее». Вдохновителем этого движения был Лотар Крейссиг, юрист, не только единственным из немецких судей открыто выступивший против программы эвтаназии, но инициировавший (в условиях Германии 1940 года!) обвинение в убийстве против ее руководителя и главы личной канцелярии Гитлера.
В 1975 году литовский поэт и литературовед Томас Венцлова опубликовал статью «Евреи и литовцы», вызвавшую большой резонанс в Литве и за ее пределами. В статье Венцлова, женатый на еврейке и никоим образом не виновный лично в преследовании евреев, говорит о том, что никто из литовцев не может сложить с себя ответственность за убийство литовцами евреев.
Некоторые скажут: «Что же, евреев убивали не литовцы, а подонки (или того лучше — «буржуазные националисты»), к литовскому народу они не имели отношения. Я и сам подобное говаривал. Но это неверно. Если считать народ огромной личностью — а непосредственное ощущение говорит, что эта персоналистская точка зрения единственно ценна и справедлива в мире моральном — то к этой личности причастны все в народе — и праведники, и преступники. Каждый совершенный грех отягощает совесть всего народа, и совесть каждого в нем. Сваливать вину на другие народы нельзя. В своем они разберутся сами. В нашем разбираться и раскаиваться нам. Это, собственно, и есть смысл причастности к той или иной нации[386].
О том же самом применительно к польскому обществу писал Адам Михник, отзываясь на публикацию книги Яна Томаша Гросса «Соседи»:
Пишу эти строки осторожно, взвешиваю слова, повторяя за Монтескье: «Благодаря природе, я — человек, благодаря случаю, я — француз». Так и я: благодаря случаю — поляк с еврейскими корнями. Почти всю мою семью поглотил Холокост, мои близкие могли погибнуть в Едвабне. Некоторые из них были коммунистами или родственниками коммунистов, некоторые были ремесленниками, торговцами, может, и раввинами. Но все были евреями. Своей вины перед теми погибшими не чувствую — чувствую ответственность. Не за то, что их убили, — этого предотвратить я не мог. А за то, что после смерти их убили второй раз, — по-человечески не похоронили, не оплакали, не раскрыли правду об этом позорном преступлении, но разрешили десятилетиями обманывать. И это уже моя вина. Не хватило воображения, времени, из‐за своего оппортунизма и духовного лентяйства не задал себе некоторых вопросов, не искал ответов. <…>
Пишу эти слова и снова ощущаю специфическую шизофрению: я — поляк, а мой стыд за преступление в Едвабне — это польский стыд. При этом знаю, что, окажись сам тогда в Едвабне, был бы убит как еврей.
Так кто же, наконец, я, пишущий эти слова? Благодаря природе, я — человек, отвечающий перед другими людьми за то, что сделал и чего не сделал. Благодаря моему выбору, я — поляк и отвечаю перед всем миром за то зло, которое сотворили мои соотечественники. Делаю это осознанно, по наказу собственной совести[387].
Подобные примеры можно множить и дальше, но и без того понятно: принятие ответственности на себя в сложной ситуации не теми, кто больше виноват, а теми, кто более морально и этически развит, — правило, а не исключение из правил.
В завершение этой главы приведем еще одну пространную цитату из «Исправленного издания» Петера Эстерхази, хорошо показывающую принцип распространения ответственности с семейной памяти на память общества и страны.
История, рассказанная в «Harmonia Caelestis», — история точная, в том смысле, что не приукрашивает, не ретуширует семью, не делает из отца жертву; не приукрашивает она и то, что касается Второй мировой войны, ведь даже в самые страшные времена действующие лица «вели себя правильно», не боялись говорить Хорти[388] правду — не зря сразу после оккупации Венгрии в 1944 году нацисты посадили деда в тюрьму; мы по праву гордимся и нашим дядюшкой Яношем, единственным депутатом в словацком парламенте, который проголосовал против антиеврейских законов. Все это так, но «Гармония» рассказывает историю не только семьи, но и страны. Иначе и быть не может, поскольку речь идет о не совсем обычной семье, о семье «репрезентативной», так сказать, исторической. Так по ходу романа нас окутывает история. <…>
Историческая ответственность — вещь не абстрактная, а личная. Хорошо, разумеется, что в свое время мы вели себя вполне достойно, однако 600 тысяч евреев были все-таки уничтожены, и за это нужно нести ответственность. Иными словами, мой дед был человеком мягким, исполненным скепсиса, сознательно отошедшим от дел, каким он более или менее верно описан в «Гармонии», но он же был одним из тех, кто не воспрепятствовал ужасам Холокоста. Да, эта фраза не очень-то согласуется с моими семейными чувствами и воспоминаниями, но отсутствие этой фразы в романе не согласуется с историей. А это свидетельствует о моей слепоте и даже бездушии, что не очень-то согласуется с человечностью. Короче, вполне возможно, мы делали все, что могли, спасали евреев и прослыли в поместьях своих «добрыми графами», однако каким-то образом в этот баланс все же вкралась ошибка, разве не так?! Грубо говоря, ошибка размером в 600 тысяч человеческих жизней.
И не стоило ли бы нам всем, нашей нации, так громко трубящей о сохранении национального самосознания, зафиксировать этот факт? Ведь он прямо относится к этому сохранению и к этому самосознанию.
Еще раз: положим, мой дед был безупречно порядочный человек, решительно выступал против немцев, принимал близко к сердцу судьбу своей родины и в пределах своих возможностей делал, как я полагаю, все, что мог. Или он просто был не способен преодолеть «классовые барьеры»? Свою тень ведь не перепрыгнешь. Нет, конечно, не перепрыгнешь, самоуверенно скажем мы. Но посмотрим на это иначе. Разве не видим мы рядом с этим «нет» миллионы убитых, униженных, растоптанных сочеловеков, творений Божиих, — я должен ведь об этом что-то думать и говорить? Как человек, как христианин, как венгр.
Страна тоже должна думать об этом. Но она не думает, пытается увильнуть, из частных истин сооружает себе демагогическое алиби, стремясь все это прикрыть своими невымышленными страданиями.
Если же мы сделали все, но случилось то, что случилось, значит, это «все» нужно переосмыслить. Если человек не смог перепрыгнуть свою тень, и случилось то, что случилось, значит, нужно переосмыслить солнце. Фраза «случилось то, что случилось» означает, собственно говоря, что моя семья не только «делала все, что могла», но также способствовала (!) тому, чтобы члены других семей не считались людьми[389].
Если механизм, благодаря которому, «пытаясь разобраться в своем самом что ни на есть личном деле», можно «словно бы между прочим объединять нацию», существует, эти строки могут помочь понять, как именно он работает. Если принципиальное условие максимально добросовестного и свободного от идеологизаций и внешнего давления разбирательства с прошлым — это его самостоятельность и добровольность, такая самостоятельность может начинаться только с личного усилия очень самостоятельной личности. Выяснение обстоятельств личной трагедии — слишком мучительный процесс, чтобы на него можно было решиться без принуждения. И единственное принуждение, которое может заставить это сделать, не превращаясь во внешнее давление, — это принуждение долга перед памятью предка, памятью крови. Этот процесс не может быть ни легким, ни быстрым, ни массовым — но другого способа реального и внутреннего «очищения крови», кажется, не существует.
Психология принятия прошлого семьи и прошлого страны
В январе 2017 года автора этих строк пригласили прочесть доклад о принятии трудного прошлого на международном семинаре для журналистов. Главным итогом этого доклада и последовавшего за ним обсуждения стало письмо, написанное организаторам семинара одним из его участников, главным редактором журнала «Домашний очаг» Натальей Родиковой. Это письмо удивительным образом соединяет тему работы с семейным прошлым с темой работы с прошлым в масштабах страны. С согласия автора я привожу здесь этот текст целиком; он слишком важен, чтобы выбирать из него отдельные куски.
Несколько последних лет для меня очевидно, что во всех наших разговорах о том, как нам обустроить Россию, не хватает психологии. Мы привычно обсуждаем историю и политику как процесс, в котором взаимодействуют и противостоят друг другу идеи и социальные группы, но совсем не обсуждаем жизнь и психологию частного человека, не интересуемся им, не изучаем глубинные мотивировки поступков, плохо знаем, как формируется и функционирует личность человека, как она защищает себя, какие механизмы выживания создает и что для нее является продуктивным, а что деструктивным. Мы только осуждаем или одобряем слова и поступки, не задумываясь, что, возможно, именно эти поступки — единственно возможная на данный момент форма сохранения внутренней целостности, единственная, хотя со стороны, возможно, и уродливая, форма выживания. Мы не осуждаем дерево за то, что оно, растя в тени другого, принимает странную форму — оно только так может протянуться к свету. Но как только мы начинаем говорить о человеке как об общественной единице, мы не готовы принимать во внимание его «природную» часть — его бессознательное. Мы только презираем его за формы, которое оно принимает. На мой взгляд, говорить сегодня о процессах и перспективах общества невозможно, не делая попыток психологической интерпретации, не пробуя экстраполировать психологию отдельного человека на поведение общественных групп. Возможно, многие вещи открылись бы нам под новым углом и, возможно, именно тогда у нас появилась бы возможность для некоторых управляемых перемен — для профессиональной работы с коллективными травмами, например.
На этом семинаре я много думала о параллели, которая все чаще приходит мне в голову в связи с широким обсуждением исторической памяти, ее удивительных трансформаций в нашем обществе и ее роли в возможном переосмыслении и перерождении себя как нации. Мне эта тема чрезвычайно интересна, например, потому, что мои сибирские прабабушки и прадедушки — последнее поколение, про которое я что-то знаю «вглубь». Возможно, раскулачивание (очень жестокое) травмировало их до такой степени, что у всей огромной родни напрочь отбило память. Где-то смутно маячил какой-то далекий Санкт-Петербург, дореволюционная ссылка, но кто именно из предков и, главное, почему оказался в Сибири — неизвестно. Среди своих была в ходу такая шутка: мол, надо бы все же поискать в документах, а то вдруг Зимний дворец — наш; а может, лучше и не искать — вдруг выяснится, что мы там с кистенем под мостом стояли. Интересно поговорить о проблемах моей самоидентификации, которые в разное время являются то проблемами, то ресурсом. Иногда я чувствую «силу земли» и своих крестьянских корней, иногда — ощущаю их как кандалы, которые надели на какую-то мою «другую» личность.
Одиннадцать лет назад мы с мужем стали приемными родителями, и с тех пор я много читаю о работе с травмами прошлого, которые остаются у ребенка, усыновленного даже в самом юном возрасте. Сегодня приоритетным считается «открытое» усыновление (или другая форма принятия), когда нет тайны, потому что именно тогда появляется возможность открыто проговаривать с ребенком подробности его прошлого, помогать ему осознать, каким образом оно формировало его личность. Наш сын с самого начала знал, что он приемный, что у него была жизнь до нас, он охотно слушал рассказы о том, каким он был малышом и как любил кататься в коляске, но шло время, и он совсем не рвался услышать, а что же было «до». Крупицы информации, которую мы иногда осторожно проговаривали, он принимал молча, но самостоятельных вопросов почти не задавал. За эти годы я усвоила, что на успешную работу с историей ребенка и на его желание говорить об этом в принципе влияют несколько факторов, которые хорошо проецируются на работу с коллективной памятью.
Разговор о прошлом должен идти в обстановке, в которой ребенок чувствует себя абсолютно защищенным. То есть ситуация должна быть достаточно стабильной долгое время, перед ребенком не должно стоять задачи выживания или налаживания отношений с его новым взрослым. Если экстраполировать на сегодняшнюю попытку работы с исторической памятью — соблюдено ли это условие? Есть ли в отношениях условного «ребенка», народа, и его взрослого (и сразу вопрос — а кто это, государство? или общественная группа, интеллигенция, которая чувствует за собой право начинать такую работу?) достаточно доверительные отношения? Чувствует ли себя сейчас условный «ребенок» в достаточном комфорте, чтобы иметь возможность, говоря метафорически, «извлечь» свои корни наружу и порассматривать их некоторое время? И, возможно, увидеть, что корней-то и нет, или они совсем другие, или держаться на них было бы самоубийством? Что безопаснее в ситуации, когда ты борешься за выживание, — заниматься сегодняшним днем или копаться в прошлом? С точки зрения бессознательного — конечно, остаться в сегодня. Потому что лезть в прошлое — эмоционально очень затратная и потенциально опасная ситуация.
Ребенок должен быть уверен, что что бы ни открылось в его прошлом, какие бы страшные ужасы ни творились в его биологической семье, даже если он принимал в них некоторое участие, это будет не его вина, а его беда. Почувствуем разницу: не вина, а беда. Прошлое формирует нас, оно часть нашей идентификации, и встроить в себя очевидно плохой, бракованный компонент — с точки зрения дальнейшего выживания не нужно и неконструктивно. То есть для того, чтобы ребенок эту часть прошлого все же принял и пережил, она не должна стать для него обвинением. Посмотрим на сегодняшний дискурс в этой теме. Мы бесконечно говорим о «вине» — о вашей, о нашей. Мы так сильно обвиняем, так вымогаем покаяние, что возникает абсолютно закономерный контрпроцесс. Когда новые родители приемных детей начинают интенсивно поминать их прошлое в негативном ключе, обвиняя родителей и часто выдавая авансы и самим детям (ты в группе риска, потому что твоя мама…, твой папа…, вы там привыкли по помойкам, дома жрать нечего было…), у детей возникает отторжение и отрицание: нет, у нас все было хорошо, вы все врете, и ели мы хорошо, и папка пил только по выходным, а когда был трезвый — так вообще лучший на всем свете. Не те ли самые слова мы слышим сейчас от людей, которые отрицают «преступления прошлого»? Не этому ли удивляемся, когда читаем, как все отлично было в Советском Союзе, да, стояли иногда очередях, но не всегда же? Да, Сталин сколько-то там расстрелял, но зато. Это настолько естественный механизм защиты, что абсолютно неестественно другое — ему удивляться, его не учитывать или высмеивать.
Эффективнее всего терапия травмы идет, когда ее проводит не новый родитель, а третья сторона — максимально не вовлеченная — терапевт, психолог, специалист по работе с травмой. Что поделать, слишком много интересов у нового родителя: ему хочется быть «лучшим родителем», чем «те», ему хочется, чтобы та жизнь, которую он сегодня создает для ребенка, признавалась этим ребенком как безусловно лучшая и правильная, и человечная, чем та, которой он жил до этого. Ему часто хочется, чтобы ребенок вообще осудил и отрекся от своих корней. Потому что он теперь должен любить играть на скрипке и ходить в театры и продолжать интеллектуальные традиции той семьи, в которой он оказался. Но вот беда: отказ от корней, замена их более «правильными» не всегда означает благо для ребенка. И третья сторона способна увидеть это лучше, эффективнее и спокойнее с этим поработать. Вопрос: кто в обществе должен и способен взять на себя эту роль? Какие социальные институты? Кто бы это ни был, они должны быть не вовлечены в сегодняшнее противостояние интеллигенция — народ. Если интеллигенция хочет остаться (стать?) для народа авторитетом, ей следует отойти от высокомерной и обвиняющей позиции «безусловно хорошего родителя». Ее роль — помогать разделять боль от прошлого, сожалеть о прошлом, но не быть судьей. По крайней мере так видится из параллели, которую я здесь выстраиваю.
Успешность работы не определяется ее завершенностью. Мой личный опыт, наблюдения за знакомыми приемными семьями показывают: будет сто кругов, и на каждом круге — свой разговор о прошлом. Будут откаты и продвижения вперед, и снова откаты, и снова продвижение. Ценность этой работы — в самой ее возможности. Если такая возможность есть — мы говорим о конструктивных отношениях. Это к вопросу о том, следует ли считать успешной работу с памятью о войне в Германии, если сегодня в ней возможны процессы, вроде бы полностью отрицающие результат этой работы. Но такая работа вряд ли может считаться когда-либо завершенной. Если травма была действительно серьезной, если от нее действительно многое зависит в будущем, то новые исторические условия, новые поколения будут ставить этот вопрос раз за разом и раз за разом решать его заново. Конечно, чем подробнее прошли прежний круг, тем больше инструментов для разговора в нынешнем.
Еще один момент: разговор о прошлом, как и любой другой, не должен быть насилием. То есть обе стороны должны быть к нему готовы и должны быть готовы к тому, что придется: ждать, отступать, начинать заново, менять подходы, меняться самим.
Возможно (да и скорее всего), такие параллели слишком прямы и слишком наивны. Но они помогают сменить контекст и увидеть что-то еще за «тупостью» и «ограниченностью» народа. Вот что я вижу, когда разговариваю о раскулачивании с отцом. Когда мы затрагиваем эту тему в контексте всей советской истории и сталинского террора — он каменеет, он принимает то, что произошло, как собственную вину, он оправдывает советский режим, и эта лишняя вина ему не нужна, он только сопротивляется. Но когда разговор начинается с частной истории семьи, с того, что все у них были работящими, что вот и отец весь в них, такой же — построит хозяйство из ничего и оно будет расти и умножаться, потому что все честные и все в работе себя не жалели, и когда мы выходим потом на этот страшный зимний лес, куда на телегах свезли женщин и грудных детей без одежды, без еды, без всего, со случайно прихваченными лопатами и топором, а все добро отобрали и мужиков отправили бог знает куда (куда же? ведь боятся знать до сих пор), и дети шли за матерями по сугробам и просили есть, и много кто не выжил, и так далее — если я в этот момент не обвиняю весь режим, а только разделяю его боль, боль частного человека, разговор дальше идет совсем по-другому. Иногда я вижу, что отец принимает свою историю и шире понимает историю страны. И я стараюсь не обвинять (никого), потому что это больше его прошлое, чем мое, и мне в такие моменты очень важно, чтобы он пережил это в первую очередь для себя. Чтобы не сработали механизмы отторжения и защиты, чтобы внутренняя работа прошла спокойно, чтобы он видел — я на его стороне.
По умытой дождем утренней Москве за рулем открытого автомобиля едет женщина. Впереди, за украшенным красным полотнищем зданием Дома Союзов, видны недавно выстроенные здания гостиницы «Москва» и Совета труда и обороны, старое передает эстафету новому. На дворе 1937 год. Картина Юрия Пименова «Новая Москва» считается классикой соцреализма, направления искусства, порожденного сталинской идеологией[390], «исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии», а год ее создания добавляет восприятию драматизма. Глядя на эту бьющую ключом мирную жизнь, мы не можем не думать о том, что именно в это время страна переживает самый жестокий период террора, и изображенный на холсте молодой и свежий город за два ближайших года потеряет десятки тысяч жителей.
Но точно ли этот контраст «текста» и «контекста» бросает тень на само изображение? Картина Пименова лирична. Да, «дождливый импрессионизм» использовался певцами диктатуры, чтобы придать воспеванию вождей эмоциональное, лирическое измерение, как в знаменитой картине Александра Герасимова, прозванной в народе «Два вождя после дождя». Но есть ли это у Пименова? В центре работы Герасимова, классического парадного портрета, — вожди, взирающие на Кремль, средоточие имперских смыслов и сюжетов. В центре работы Пименова — девушка, едущая по городу, и само «кадрирование» картины отрицает портретность, приглашая посмотреть на город ее глазами, глазами вовлеченного участника.

Ил. 71. Юрий Пименов «Новая Москва», 1937 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Тоталитарное искусство, особенно позднее, любит обращаться к «человеку» и «человечности». Но это логика присвоения, манипуляции. Следует ли отсюда, что все, кто в эти годы не был чужд человечности в официальном искусстве, подыгрывали бесчеловечности тоталитаризма?
Юрий Пименов учится у знаменитого графика Владимира Фаворского (в 1920‐х иллюстрировавшего Флоренского, в 1930‐х воспетого Мандельштамом, а в 1960‐х получившего Ленинскую премию), его первые самостоятельные работы относятся к 1920‐м годам. Ранний Пименов очень похож на немецких экспрессионистов: его «Инвалиды войны» — чистые Мунк и Отто Дикс, а «Тяжелая индустрия», написанные тушью «Бега» и «Нэп» напоминают то ли Шагала, то ли Филонова с Петровым-Водкиным. В начале 1930‐х он оказывается жертвой кампании против формалистов, лишается заказов и живет на зарплату жены-стенографистки, потом зарабатывает поденщиной, рисуя театральные декорации.

Ил. 72. Юрий Пименов «Бегом через улицу», 1963 год. Курская государственная картинная галерея им. А. А. Дейнеки
Но с середины 1930‐х все налаживается, он работает для театра и кино, во время войны ездит на фронт и делает «окна ТАСС»[391], а после войны получает две Сталинские премии за театральные работы и становится признанным представителем официального искусства. Начиная с 1960‐х Пименов много ездит за границу, в 1966‐м подписывает (вместе с Корнеем Чуковским и Андреем Сахаровым) «Письмо 25» против реабилитации Сталина, в 1967‐м получает Ленинскую премию, а в 1970‐м становится Народным художником СССР.
Пименов признавал, что его мировосприятие тяготеет к конкретности, абстракционизм ему чужд. Но эта конкретность, даже в самых официозных его работах, проникнута лирикой. Лирика у Пименова — не желание угодить жадному до человечинки соцреализму. Напротив, он «контрабандой» протаскивает в соцреализм чем дальше, тем больше своего, использует идеологический запрос на живое чувство в своих, «лирических» интересах. На картине «Бегом через улицу» (1963 год, на дворе оттепель) три девушки в ярких платьях летя перебегают дорогу перед тесно сгрудившимися громадами машин. А в «Лирическом новоселье» (1965) посреди огромной пустой квартиры, в которой наспех сложены вещи, молодая пара сливается в поцелуе. Внешний мир, смутно рисующийся в огромном окне, отодвинут; эта картина — настоящий гимн частной жизни.

Ил. 73. Юрий Пименов «Лирическое новоселье», 1965 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Одна из героев картин Пименова — сталинская архитектура. Вот она в «Новой Москве», а вот в страшном панно 1939 года «Физкультурный парад». Целая тема зрелого Пименова 1960‐х — интерьеры с окном; часто это интерьеры сталинских домов. Эта новая архитектура, с обилием света и воздуха, видимо, гармонировала с его мировосприятием. И именно из‐за этого света и обилия воздуха, импрессионистически смягчающих пространство, эти интерьеры получаются у него совсем не советскими: в них нет железа, а есть много человеческого. Если у идеологически верных мастеров соцреализма человек — это слуга или шестеренка империи, то у Пименова с его лирикой человек оказывается главным героем, «спасающим» для потомков и соцреализм в его наиболее человечных проявлениях, и всю эпоху.
Сталинская Москва, детище генплана 1935 года, — порождение сталинского строя, его эстетики и его идеологии; в этом смысле она рассказывает историю, тесно связанную с преступлениями, кровью и бесчеловечностью. Забыть это, выбросить из головы — невозможно. Но так же невозможно стереть и уничтожить отмеченное всем этим наследие, в данном случае материальную культуру. Нельзя взять и снести сталинские высотки — и мешают этому вовсе не только политэкономические соображения: при всей определенности антикоммунизма современной Польши и при всей любви польских политиков к соответствующим ярким заявлениям, всерьез о сносе Дворца культуры и искусства, классической сталинской высотки, создающей перспективу центра Варшавы, речи никогда не шло[392].
Отождествлять материальную культуру того периода с современным ей (и отчасти породившим ее) политическим режимом — значит преувеличивать его значение, продлевая тем самым и его жизнь. Сталинизм — только часть реальности советских десятилетий. Наряду с ним в стране было много другого — как параллельного ему, так и прямо ему сопротивляющегося и противоречащего. Прежнюю материальную культуру можно обжить, наполнить новым содержанием (в 1967 году именно в варшавской высотке прошел первый в странах соцлагеря концерт группы Rolling Stones), опираясь на то в прошлом, что не было окончательно истреблено злом. Этому усилию «переосвящения» оскверненного злом наследия помогает, среди прочего, живопись Юрия Пименова.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ
В публичной дискуссии о переосмыслении советской истории то и дело звучат предложения покаяться за государственный террор и осудить советское прошлое «по образцу Германии», то есть признав весь этот период истории преступным и заслуживающим исключительно осуждения. Эти предложения трудно воспринимать всерьез в силу двух важных обстоятельств. Во-первых, они высказываются исходя из внешнего и одностороннего взгляда на происходившее в России, а во-вторых — вызваны незнанием собственно германского опыта.
О том, что внутренняя логика проработки трудного прошлого, какой она предстает на примере работы с персональной и семейной памятью, никогда не предполагает только осуждения, было достаточно сказано в предыдущей главе. Это вполне применимо и к памяти коллективной, к процессам, происходящим в масштабе страны и общества. Перевести разговор об огромном куске истории в регистр исключительно покаяния невозможно. Ведь в этой истории наряду с преступными страницами было много светлых и достойных доброй памяти страниц, а тем самым попытка объявить все это прошлое «преступным» вызовет (и уже вызывает) справедливое отторжение у большой части общества, и окажется такой же идеологизацией (только с обратным знаком), как попытки рассказывать о советской истории, закрывая глаза на террор и другие черты тоталитаризма.
Даже в Германии, где не может идти речи об оправдании каких-либо сторон жизни в Третьем рейхе (ср., например, многочисленные случаи негласного запрета на слово «автобан» в публичной дискуссии в Германии, критикуемые немецкой же общественностью как крайний пример логики политкорректности[393]), послевоенное осмысление прошлого чем дальше, тем больше шло по логике принятия ответственности, а не осуждения и покаяния. Вот цитата из письма автору этих строк немецкого культуролога Ольги Манзуры:
От прошлого нельзя отказываться, нельзя отрекаться от своей истории, какой бы кровавой и неприятной она ни была. Впрочем, прятаться от сложных вопросов и ответственности тоже нельзя. Немцы, надо сказать, вообще очень жадный народ, когда дело касается их истории. Они лучше будут каяться за Гитлера, чем допустят мышление типа «нашему государству 20 лет», или «это был не наш народ, пришли плохие австрийцы». Они спасают и позитивный, и негативный опыт. И именно на примере немецкой истории можно наблюдать, как важно не унижать человека, вываливая на него ответственность, которую он не может понести, а по крупицам возвращать ему утерянное достоинство. <…> Впрочем, я не думаю, что немцы нашли окончательно верный путь и навсегда избавились от своего прошлого. Это путь, по которому этот народ еще идет, регулярно рискуя свернуть не в ту сторону. Но мне кажется, нам есть чему у них поучиться. Не только как осуждать, запрещать, сносить и прочее, но и как вдохновлять, изменять жизнь, и как жить дальше после такого низкого падения[394].
Выражение «историческая жадность» описывает ситуацию, когда народ предпочитает скорее каяться за грехи прошлого, чем перечеркивать его и строить все с нуля. Спасение и позитивного, и негативного опыта необходимо для сохранения коллективной идентичности нации. Внешний подход, призывающий видеть все в одном свете, этого не ухватывает. Не менее важно иметь в виду человека и не просто демонстрировать политическую волю, но учитывать его возможность «понести» накладываемое на него бремя вины или груз ответственности.
Это особенно полезно принимать во внимание в России с ее богатейшей традицией, во-первых, «обнуления», отказа от предыдущего куска истории при начале следующего, а во-вторых — пренебрежения мнением сограждан при таком отказе. Принцип «старый мир разрушим до основанья, а затем…» отличал отнюдь не только переход от Российской империи к СССР. Похожим образом важной частью самоидентификации в России 1990‐х было отталкивание от советского прошлого во всех его проявлениях, а в России 2000‐х и 2010‐х — отталкивание от «лихих 90‐х». Если вспомнить обстоятельства, при которых происходило крещение Руси при князе Владимире или ее вестернизация при Петре I, с какой регулярностью на протяжении веков реформы сменялись контрреформами, напрашивается вывод о том, что слом традиции в России более традиционен, чем ее сохранение.
Еще и поэтому мысль о принятии и позитивного, и негативного опыта довольно трудна для восприятия в России. Куда понятнее высвечивать в прошлом определенные сюжеты, темы и мотивы, на которые существует известный злободневный запрос, и работать с ними, отбрасывая остальное до тех пор, пока злоба дня не сменится.
С учетом того, что в России механизмы и традиции принятия прошлого практически отсутствуют, тем важнее попробовать проговорить, как именно можно пытаться их запустить. С одной стороны, подспорьем тут должно стать обращение к рассмотренным выше механизмам принятия семейного прошлого, с другой — вдумчивый анализ специфической российской социальной реальности, в первую очередь непростых отношений между обществом, частной жизнью и государством.
ПРИНЯТИЕ VS. ОТРИЦАНИЕ
Принятие прошлого в том смысле, в каком о нем говорит психология и социология памяти, вовсе не означает оправдания и согласия с этим прошлым. Под принятием в данном случае понимается готовность не отворачиваясь посмотреть на все трудные для восприятия факты и обстоятельства. Осуждение вовсе не противоречит принятию и не противоположно ему, но является его критической практикой — так принимается дурное и преступное. Принятию противоположно не осуждение, но отрицание прошлого, которое обрекает индивида и социум на существование, «проникнутое беспокойством и неуверенностью», по слову Томаша Гросса, в постоянном опасении и оглядке, как бы не вскрылось что-то такое, о чем не хочется помнить и вспоминать. Практикой такого отрицания может быть как «обеление» прошлого, то есть непризнание или оправдание преступлений, так и его «очернение», то есть некритическое перечеркивание всего скопом. В обоих случаях речь идет об идеологической трактовке истории, тогда как реальная проработка предполагает максимально возможный отказ от идеологизации и попытку предметного и конкретного взгляда на события прошлого. Обе формы отрицания прошлого, и его обеление, и очернение, в конечном счете означают отказ производить ту самую работу принятия ответственности.
Было бы слишком просто, если бы проблемы с адекватным и неидеологизированным взглядом на прошлое существовали только у одной части общества, — у тех, кто склонен оправдывать преступления. Но действительно трудное прошлое трудно для всех по-своему: вспомним пример Израиля, сопротивлявшегося памяти о Холокосте в первые послевоенные годы. Современные споры о сотрудничестве с коммунистами в Польше показывают, что нарратив покаяния или ответственности за прошлое неплохо работает в качестве плетки, которой удобно хлестать политических оппонентов. В этой картине мира «они» («коммунисты», «кагэбэшники», «стукачи») всегда гнобили «нас» (чистых и «рукопожатных» диссидентов и борцов с несправедливостью), а любой новый случай обнаружения «компромата» не способствует дискуссии об общей ответственности за прошлое и лишь переводит его фигуранта из лагеря «своих» в лагерь «чужих».
Отказ от переключения в полноценный режим принятия прошлого приводит к еще одному широко распространенному следствию: к тому, что французский историк Диана Пинто в беседе с автором этой книги назвала «эффектом слоеного пирога». Речь идет о ситуации, когда осуждающий дискурс и дискурс оправдывающий не смешиваются, чтобы дать некий критический синтез, но образуют своеобразную чересполосицу очернения-оправдания. Критерий, позволяющий отличить реальный синтез от такой чересполосицы, — кратковременность готовности общества к критике и быстро нарастающая усталость от нее.
Так было с критикой польского антисемитизма: в начале 2000‐х польское общество согласилось потерпеть разговор об этом, но к середине 2010‐х уже ощутимо устало от него, что выразилось в усилении поддержки националистических сил и «дискурса гордости». Так было и с критикой советского прошлого в России: в 1990‐х дискуссиям на эту тему был дан зеленый свет, но уже в начале 2000‐х обнаружилась усталость и желание сменить тему. Реальная готовность к критическому разговору, как реальная работа с травмой, целительна, она не вызывает усталости и выгорания. Если же критический дискурс воспринимается как наложенный извне (собственными властями, ЕС и т. д.), он работает лишь до тех пор, пока хватает терпения, и обычно со временем вызывает обратное движение маятника.
Таким образом, важный критерий реальности работы по принятию прошлого, работы, способной не только лишить прошлое яда, но и, главное, преодолеть вызванные им разделения, — это отсутствие идеологизации и рассуждений в категориях «мы» и «они».
Однако для начала этой работы необходимо понять, кто может выступать субъектом такого принятия прошлого.
СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ
Чтобы всерьез говорить о принятии ответственности за прошлое, чтобы запустить этот процесс, необходимо понять, какие именно общественные силы могут служить его инициаторами и проводниками, стать субъектом работы принятия. Этот субъект — ответственная часть общества, готовая, во-первых, не зажмуриваться, не уходить в отказ от реальности, не предпочитать реальности мифы, а во-вторых — не перекладывать ответственность на других, на оппонентов и политических противников.
Реальное переосмысление прошлого возможно только в ситуации демократизации общества. Выше уже говорилось, что в нормальном случае такое переосмысление сопровождает переход от диктатуры к демократии и служит гарантией от попятного движения. Но важный элемент, сопровождающий демократизацию, — активизация общественных сил, их самоорганизация. Процессы работы с прошлым, чтобы быть полноценными, а не данью моде или политической конъюнктурой, должны опираться на участие общества, его желание и готовность идти в этом направлении. Когда такого рода повестка спускается сверху, как в случае хрущевской десталинизации или работы комиссий правды и примирения в Чаде и Уганде, она становится лишь способом легитимации нового режима.
Многочисленные примеры других стран убеждают, что объединение общества в стремлении не допустить повторения преступного прошлого — важное условие успеха. В ФРГ Конрада Аденауэра условием полноценного разговора об ответственности за нацистское прошлое была возможность для представителей разных идеологий, общественных и политических сил почувствовать себя полноправными гражданами своей страны. Испания несколько десятилетий избегала дискуссий о наследии Гражданской войны, потому что раскол казался опасно сильным; но эта дискуссия активизировалась благодаря представителям третьего послевоенного поколения, ставшим ее катализаторами. Аргентине потребовалось 20 лет, чтобы общественный запрос на реальный суд над членами хунты стал для власти руководством к действию. Японское общество предпочло спорам о прошлом резкое переключение в новую «послевоенную» парадигму с сохранением единства по основным позициям. Это очень разные примеры, но все они свидетельствуют, что общество может двигаться вперед, только достигнув единства в принципиально важных вещах. Расколотое общество — всегда ресурс для манипуляции и тормоз для движения в любом направлении, кроме попятного.
Любопытное обстоятельство обнаружили споры о консерватизме и либерализме, вспыхнувшие в России в связи с попыткой российских властей с начала 2010‐х годов поднять на щит консервативную риторику. Попытки заново проговорить содержание этих понятий показали важное отличие их реального содержания от их восприятия и использования в публичной дискуссии. По существу, эти два мировоззрения взаимодополняют друг друга и должны были бы «составлять основу политического центра здоровой политической системы»[395]. Между тем в публичной дискуссии «либерал» и «консерватор» — скорее ярлыки, которыми награждают друг друга эксперты, политологи и участники сетевых споров. Причина в том, что в отсутствие поля для «вовлеченного» разговора о политике с возможностью влиять на нее представители потенциального центра оказываются не имеющими возможности повлиять на судьбу своей страны наблюдателями, которым остается лишь клеймить друг друга через виртуальную линию фронта. Пустота на месте политического центра в современной российской общественной жизни — свидетельство не только разделенности общества, но и усвоенного с советских времен стремления либо жаться по краям общественной жизни, сторонясь центра, оккупированного государством, либо сливаться с ним.
Отделение vs. слияние
Одно из следствий любой диктатуры — взаимное отвращение граждан и государства по отношению друг к другу. Государство видит в народе («населении») исключительно ресурс для решения собственных задач, стараясь не дать ему возможности почувствовать себя самостоятельной силой. Яркой иллюстрацией этого может служить отчетливо инструментальное отношение власти к празднику Дня победы на всем протяжении его истории: его вытеснение из официального календаря праздников в позднесталинские годы (Сталин не хотел делиться авторитетом с военными и ветеранами, задачи мобилизации были важнее признания заслуг народа-победителя), его возвращение и возведение в культ при Брежневе (как способ заручиться поддержкой военных и ветеранов после смещения Хрущева), его использование в целях патриотической мобилизации в путинские годы. При этом интересы собственно ветеранов всегда оставались второ- или третьестепенными[396]. В свою очередь народ стремится скрыться от всевидящего взора государства, уйти в частную жизнь, на кухню, в творчество, на тихую окраину. «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — говорит поэт, сравнивая советскую Прибалтику, где гнет государственной идеологии был слабее, с провинциями Римской империи времен диктатуры Цезаря. Это вовсе не советское изобретение: мы видели, что понятие «внутренней эмиграции», столь важное для СССР, возникло и получило распространение в нацистской Германии. Советская диктатура достигла особенно впечатляющих успехов в обучении граждан искусству жить в подполье, в первую очередь благодаря своей мало с чем сравнимой продолжительности.
Именно с этим связаны специфически советские формы дистанцирования от государства[397]. Если диктатуру продолжительностью 12 лет можно пересидеть в подполье или во внутренней эмиграции, то режим, сохраняющий жизнеспособность на протяжении нескольких поколений, требует овладения более изощренными стратегиями «отключения». В книге «Это было навсегда, пока не кончилось» антрополог Алексей Юрчак вводит для описания такой стратегии заимствованное у литературоведа и философа Михаила Бахтина понятие вненаходимости, отличая его от «внутренней эмиграции». «Находясь внутри системы и функционируя как ее часть, — пишет Юрчак, — субъект одновременно находился за ее пределами, в ином месте»[398].
Советского Союза нет уже более четверти века, но практики, связанные с невозможностью почувствовать себя полноправным гражданином своей страны, не на словах, а на деле взять за нее ответственность, продолжают во многом определять общественно-политическую реальность. В современной России это практики отделения от государства и слияния с ним. Выбор той или иной стратегии зависит от возможностей человека самоидентифицироваться независимо от государства[399].
В распоряжении тех, у кого есть возможность мыслить и ощущать себя самостоятельными и независимыми от государства (благодаря финансовой независимости, знакомству с историей и культурой России и других стран, принадлежности к профессиональному сообществу с открытыми границами, наличию друзей и родственников за границей), есть хорошо разработанные практики отделения себя от государства. В крайних формах это выражается в именовании всего советского прошлого и неприглядных сторон современной реальности «совком», а России выражением «эта страна» (практики, разумеется, давно превращенные оппонентами в карикатурные клише).
Другая сторона той же невозможности почувствовать себя гражданином, чьи интересы формируют интересы государства, — стремление отождествить себя с государством в его способах отношения к происходящему, некритически разделить с ним его цели и интересы. Этот вариант востребован теми, у кого недостаточно ресурсов и оснований для иной самоидентификации, кроме «патриотической»[400]. Именно такое слияние с государством оказывается для власти ресурсом поддержки в ситуации кризиса или мнимой внешней угрозы.
В январе 2015 года по обвинению в госизмене была задержана и отправлена под арест жительница Смоленской области Светлана Давыдова. Увидев, что расположенная по соседству от ее дома военная часть опустела, и услышав в разговоре предположение, что военных отправили в Донбасс, она позвонила в посольство Украины и сообщила об этом. Мать четверых детей, младшему из которых тогда было 2 месяца, поместили в СИЗО. В начале февраля, после широкого общественного резонанса, Давыдову отпустили под подписку о невыезде, а вскоре дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
В конце марта ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым 48% россиян, слышавших о деле Давыдовой, считают, что она заслуживает наказания[401]. Дело тут вовсе не в какой-то специфической кровожадности россиян, а именно в желании «прислониться к силе», свидетельствующем о недостатке оснований для конструктивной позитивной самоидентификации. Рядовой российский гражданин не чувствует себя защищенным от полицейского и лишен возможности сделать его защитником своих интересов. Остается возможность «разделить» с полицейским его интересы, когда тот третирует мигранта, «шпиона» или «оппозиционера». В этом случае по сравнению с ними можно ощутить себя гражданином первого сорта и заставить себя поверить, что, третируя еще менее защищенных людей, полицейский отстаивает твои интересы, а не интересы государства. Нет никаких гарантий, что завтра на месте «шпиона» или «оскорбителя чувств» не окажешься ты сам, зато сегодня можно почувствовать единение с «большим братом».
Чрезмерное отделение себя от государства и чрезмерное слияние с ним — при всей понятности причин обеих стратегий — вовсе не выглядит непреодолимой заданностью. В условиях диктатуры существовать самостоятельно и независимо от государства действительно было практически невозможно. Но сегодня это не так. Условие преодоления названных механизмов дистанцирования — осознание их именно как болезненных крайностей и привлечение внимания к примерам активной и независимой гражданской позиции как к ролевым моделям для многих. Возможность идентификации себя со страной как с обществом и культурой необходима не для формализации разрыва с государством, а для переосмысления отношения к нему как к постороннему.
Варяжское государство
Проблема невозможности отождествления жителей России со своей страной уходит корнями в гораздо более далекое прошлое, чем советское.
Возможно, то, что граждане (или «жители», как именует их на своем канцелярском языке власть в современной России) воспринимают власть как «чужую», а не как «свою» — нечто исторически присущее именно российскому социальному устройству. Не вдаваясь в анализ «норманнской теории» возникновения российской государственности, связывающей ее начало с призванием восточнославянскими племенами варягов «прийти княжить и владеть нами»[402], можно сказать, что она хорошо описывает схему такого отношения. Власть в России (на Руси), те, кто осуществляет здесь административные и управляющие функции, изначально не мыслятся как выдвинувшиеся из среды «своих», как представители народа и его часть. Они воспринимаются именно как внешние управленцы. Накал споров вокруг норманнской теории, длившихся на протяжении XVIII–XX веков, свидетельствует, что проблема восприятия власти и народа в России как генетически чуждых друг другу не теряет своей актуальности.
Ощущение метафизической пустоты у власти в России, когда те, кто правит страной, в действительности мало с ней связаны, хорошо передает эссе российского философа Владимира Бибихина «Власть России». В этом эссе Бибихин символически возводит историю «ухода» власти в подполье к мученичеству князей Бориса и Глеба, сыновей Владимира, которые в 1015 году, после смерти отца, предпочли борьбе за власть с братом Святополком непротивление и приняли смерть. Отказавшись бороться за власть, суетливо и беспринципно ее отстаивать, они оказались не только нравственными победителями, но в каком-то смысле единственными законными правителями. Захват власти Святополком, вопреки нравственному закону и праву, по Бибихину, дискредитировал саму власть, сделал ее «разбойничьей», каковой она и продолжает быть, переходя от одного захватчика-временщика к другому.
Дружина требовала от Бориса и Глеба мобилизации, решительного сражения, победы, взятия города, изгнания вероломного брата. Борис и Глеб сказали, что бороться за власть не будут даже под угрозой смерти. Поступок законных наследников князя Владимира в год передачи власти определил всю нашу дальнейшую историю. Империя зла? Скорее странное пространство, где зло может размахнуться как нигде, не видя понятных ему противников и потому до времени не замечая, что его власть давно и тайно отменена. Страна до краев полна невидимым присутствием погибших, молча ушедших. Они давно и неслышно стали главной частью нас самих.
Законные наследники правителя Борис и Глеб, не боровшиеся за власть, власть никому не дарили, не вручали, не завещали. Власть у них не была отнята, вырвана, отвоевана, ведь нельзя отнять то, за что не держатся. И так само собой получается, что, хотя многие хватали власть в России, жадные от вида того, как она валяется на дороге, власть России остается все время по-настоящему одна: власть молодых Бориса и Глеба, никуда от них не ушедшая, им ни для какой корысти не нужная, только им принадлежащая по праву, по правде, по замыслу страны. Власть России в этом смысле никуда не делась, не ослабла, не пошатнулась. Ее не надо рожать. Ей тысяча лет[403].
Это не политологическое построение, а поэтико-философское рассуждение, но именно в этом своем качестве оно очень точно ухватывает ускользающее от более строгого дискурса, но хорошо знакомое всем живущим в России ощущение того, что власть здесь «ненастоящая». Чувствует это и сама власть, пытающаяся легитимировать себя то через преемственность по отношению к советским лидерам, то по отношению к царям и великим князьям, и только пример Бориса и Глеба воспринимающая как нечто отчетливо чуждое (ср. замечание Владимира Путина при посещении выставки художника Ильи Глазунова: «Надо бороться за себя, за страну, а отдали без борьбы… это не может быть для нас примером — легли и ждали, когда их убьют»[404]).
Отношение властей российского государства к своим подданным на протяжении всей его истории отличает бросающаяся в глаза дистанция. Так завоеватель относится к завоеванным им племенам, с которыми не чувствует ни кровной, ни культурной близости. В книге «Внутренняя колонизация» культуролог Александр Эткинд предлагает взгляд на историю России как «страны, которая колонизуется». Историк Сергей Соловьев, которому принадлежит эта формула, описывающая раннюю историю России, уточняет:
Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся[405].
Именно логика колонизации объясняет дистанцированную жестокость, с которой российская власть (и ее исторические предшественники) проводит все свои важнейшие проекты — от крещения Руси и борьбы с претендентами на княжение при помощи татарских войск до освоения Сибири, строительства столицы на недавно отвоеванных землях при помощи подневольного труда и, наконец, масштабных, беспрецедентно жестоких проектов насильственной коллективизации и модернизации страны силами заключенных ГУЛАГа.
Давние традиции насилия и принуждения, которые Российская империя применяла к собственным крестьянам, помогают объяснить революцию и тоталитаризм как бумеранг, обрушившийся из недавних крепостных поместий на городские центры и на само государство, — пишет Эткинд. — Потом и революционное государство впитало долгий опыт империи и переняло ее практики обращения с подданными, русскими и нерусскими, обратив их против собственной элиты и в конечном итоге против самого себя. В отличие от немецкого бумеранга, который, как показала Арендт, через океаны вернулся в германские земли из заморских колоний, российский бумеранг пронесся по внутренним пространствам империи[406].
Практика «призвания варягов», как и эффект «колониального бумеранга» (когда методы управления колониями переносятся на управление метрополией), — вовсе не ушедшая натура, все это полноценно присутствует в современной российской политике. Феномен администраторов-«варягов» — неотъемлемая часть сегодняшней политической реальности; их назначение на губернаторские посты — один из способов укрепления президентской власти[407]. Понятие «колониального бумеранга» иллюстрирует, например, управленческую логику московских властей в последние годы[408]. Таким образом «варяжская» метафора остается работающей объяснительной моделью отношения власти и граждан в современной России.
Явление субъекта
Этот экскурс важен не для того, чтобы, ссылаясь на вытверженный столетиями навык жителей «шестой части земли» отвращаться от гражданской ответственности, делать вывод о «рабской психологии» россиян и о невозможности пробуждения такой ответственности. Наоборот, зная контекст, можно более трезво и реалистично относиться к темпам пробуждения этой ответственности, не спеша отчаиваться и делать обесценивающие выводы.
Когда в декабре 2016 года Сейм Польши принял решение ограничить доступ журналистов в здание парламента, на улицы Варшавы и всех крупных городов страны в защиту свободы слова вышли тысячи людей; через несколько дней решение было отозвано. Это пример реакции общества, сознающего важность демократических свобод и чувствующего свою способность влиять на происходящее в стране. Когда осенью 2017 года, после исчезновения гражданского активиста, по всей Аргентине на улицы выходят десятки тысяч демонстрантов, а школьные учителя посвящают этому событию уроки, рассказывая ученикам о похищениях людей в годы правления хунты, — это общество, имеющее опыт принятия на себя ответственности за прошлое и настоящее.
Когда в России не только атаки на свободу слова, но даже публикации видеозаписей пыток в полиции оборачиваются разве что волной перепостов в соцсетях, а ввод войск в Украину и Сирию и гибель там россиян вызывают протест только критически настроенного меньшинства — это не потому, что представления россиян о добре и зле принципиально отличаются от представлений поляков или аргентинцев. Дело в том, что представитель «лояльного большинства» просто не имеет оснований чувствовать связь между своим мнением о происходящем и поведением государства. Именно об этом говорят данные опросов, согласно которым ответственность за происходящее в семье чувствуют 93% россиян, а в стране — 11%[409]. Глядя на видео пыток, россиянин думает не о том, что эту ситуацию необходимо исправить, а лишь укрепляется в мысли, что с государством надо как можно меньше иметь дело.
Тем большего внимания заслуживают примеры, ломающие эту закономерность. Попыткой взять ответственность за происходящее в стране было осознанное участие жителей больших городов (впервые за многие годы) в думской предвыборной кампании 2011 года. Несколько тучных лет способствовали появлению в Москве и нескольких крупных российских городах прослойки не диссидентов, а активных граждан. Их участие в кампании против «партии жуликов и воров» было попыткой реального участия в политике, и именно поэтому массовые фальсификации на этих выборах спровоцировали всплеск недовольства. Важность протестной волны 2011–2012 годов под лозунгом «за честные выборы» состояла в том, что это был моральный, а не экономический и не социальный протест. Не недовольство «жителей», у которых отбирают льготы или перед которыми не выполняют социальных обязательств, а недовольство граждан, у которых украли право волеизъявления. Именно здесь глубинный смысл испуга, который эти протесты навлекли на власть и который обернулся последующей политикой «закручивания гаек».
Линия протеста, отчетливо осознающая связь экономики, политики и прав человека, формируется именно в это время. Совершенно не случайно, что значительную часть активистов волонтерского движения, в июле 2012 года бросившихся собирать помощь и доставлять ее пострадавшим от наводнения в Крымске, составляли те же люди, что участвовали в митингах протеста, а в марте 2012‐го пошли наблюдателями на президентские выборы. Параллели с другими странами, преодолевавшими диктатуру, в данном случае интересны тем, что реальные изменения в обществе совпадают с взрослением первого свободного поколения. В Германии таким было поколение детей тех, кто прожил зрелые годы при нацистах, заявившее о себе на фоне студенческих движений 1968 года. В Испании начало волны эксгумаций совпало с взрослением поколения внуков жертв Гражданской войны и детей тех, кто жил при диктатуре Франко. В Аргентине вторая волна дел против лидеров хунты в 2010‐х совпала с взрослением поколения детей пострадавших.
В России первое свободное поколение, формировавшееся после распада СССР, взрослеет и выходит на сцену как раз в 2010‐х. Усиление авторитарных тенденций почти полностью вытеснило его из системной публичной политики, но не сделало социально пассивным. Именно с этого времени, после того как иллюзии относительно взаимодействия с государством рассеялись, отмечается рост числа полностью независимых от государства проектов в сфере правозащиты и юридической помощи, волонтерства и благотворительности, гражданского просвещения, образования, культуры и искусства.
ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ: ОСУЖДЕНИЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ
Одно из важных достижений memory studies, набора дисциплин, исследующих способы бытования истории в настоящем, состоит в том, что они обратили внимание на способы (механизмы, практики, институты) осуществления государством и обществом связи с прошлым. То, что прежде казалось само собой разумеющимся, начинает рассматриваться как проблема, и выясняется, что ничего само собой разумеющегося тут нет, установление и поддержание этих связей должно быть темой специальных и систематических усилий обществ и государств. Проблематизации этой сферы способствовала память о Холокосте, очевидным образом упиравшаяся в задачу не просто помнить об этом, но не допустить повторения[410]. Буму же memory studies в 1990‐х годах во многом способствовал крах СССР и необходимость для обществ бывшего «Восточного блока» прорабатывать память о преступлениях своих диктатур.
Угол зрения, задаваемый memory studies, позволяет увидеть, что принятие и отрицание прошлого — не философские концепты, а типы отношения к прошлому, за которыми необходимым образом стоят практики, реализующие связь прошлого с настоящим. Отрицание — модус, предполагающий отказ от установления связи с прошлым, но тем самым он также предполагает соответствующую практику организации связи, в данном случае отрицательную. Практика отрицания — это забвение, стирание памяти или замещение ее мифами, фейками, ложными воспоминаниями. Практика же принятия, то есть сохранения памяти о прошлом, двояка, в зависимости то того, о памяти о какого рода событиях идет речь. В случае памяти о преступлениях — это их осуждение, а в случае памяти о славных страницах прошлого — благодарение за них[411].
В контексте памяти об СССР первое выглядит как нечто почти само собой разумеющееся, второе же кажется новым и неожиданным. Императив осуждения преступлений может быть понятен и востребован и политиками, и обществом: неосужденные преступления ГУЛАГа очевидно порождают правовой релятивизм и социальное недоверие. Необходимость их осудить, чтобы не допустить повторения в будущем, реализуется через правовые и юридические механизмы. Императив же благодарения очевиден на гуманитарном уровне, но не на социальном и политическом. Благодарная память, например о Первом съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года, фактически обозначившем начало необратимых демократических изменений во всем СССР, или о легализации частного предпринимательства в январе 1992 года, без которого страна рисковала оказаться в ситуации голода, — необходимое условие воспитания доверия к демократическим институтам и рыночной экономике. Именно отсутствие целенаправленных усилий по выстраиванию такой памяти позволило в 2000‐х успешно дискредитировать в глазах населения демократию и рыночную экономику.
Особая сложность переосмысления такого комплексного прошлого, как советское, состоит в том, что оно предполагает одновременно и признание ответственности за преступления, и благодарность за добро, причем второе не менее важно, чем первое. Акт благодарения здесь — другая сторона принятия ответственности, акт осуществления связи с прошлым, заявления и признания прав на него.
РАБОТА РАЗДЕЛЕНИЯ
Задача принятия комплексного прошлого выглядит нерешаемой до тех пор, пока история рисуется нам чудовищным смерзшимся комом, в котором воспоминания о бесчеловечной жестокости и несправедливости смешаны с воспоминаниями о мирном творчестве и созидательном труде. Но стоит попробовать отделить, отмыслить доброкачественное от преступного — и задача сразу обретает вполне конкретные очертания, а объем работы хоть и остается необозримым, но обретает подобие плана. Сама эта работа разделения, невозможная без критики и дотошного пропускания прошлого через себя, есть важная часть практики принятия — тут можно в который раз вспомнить работу Петера Эстерхази с архивами семьи и с архивами госбезопасности.
Одна из возможных практик такого рода отмысливания — научиться говорить об истории страны как истории общества, не сводящейся к истории государства. История СССР в значительной степени представляет собой историю советского государства, узурпировавшую историю общества и граждан и использующую ее как материальный ресурс. Эта подмена — результат вполне целенаправленных усилий государства, призванных обеспечить свою легитимность в условиях ослабления прежних тоталитарных и авторитарных механизмов[412].
Именно потому, что связка «режим — общество» намеренно проводилась и закреплялась, навык отмысливания одного от другого, общества от режима, совершенно необходим для работы принятия ответственности и требует специальной тренировки. Об этом довольно трудно говорить в общем виде, а потому посмотрим, как это работает на конкретном примере.
Великая Отечественная война
Самый яркий пример соединения максимальной бесчеловечности, беззакония руководства страны и бесправия подчиненных, растаптывания ценности человеческой жизни, с одной стороны, и максимального героизма и самоотверженности, обострения лучших человеческих качеств в бесчеловечных условиях, с другой, представляет главное событие советской истории — Великая Отечественная война.
Война не просто дала бесчисленные примеры героизма в противостоянии безусловному злу, каким являлся нацизм. Война была временем, когда предельность испытаний обнажила человеческий опыт, периодом «очеловечивания идеологии» (выражение исследователя советской культуры Евгения Добренко) и, в известной мере, ее кризиса[413]. Об этом, например, говорил историк Михаил Гефтер в имевшем широкий резонанс в годы перестройки интервью:
Человек, покинутый на произвол судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться собою. Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941–1942 годы множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную «десталинизацию», по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшее в нас тогда[414].
Поскольку фиксировать подобные настроения в условиях СССР возможности не было, едва ли не единственным свидетельством названных изменений (помимо дневников и писем) оказывается литература, в первую очередь неофициальная и неподцензурная, то есть не предназначавшаяся для публикации[415]. Среди примеров такой литературы — расходившиеся в списках стихи Иона Дегена, записные книжки Василия Гроссмана (впервые опубликованные по-русски только в 1989 году, но даже тогда с исключением наиболее жестких мест), «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург или такие, например, строки из стихотворения неподцензурного поэта Николая Глазкова (его первый официальный сборник вышел только в 1957 году), написанного 22 июля 1941 года:
Господи, вступися за Советы,
защити страну от высших рас,
потому что все Твои заветы
нарушает Гитлер чаще нас.
Автор не питает иллюзий относительно природы «Советов» и соблюдения ими Божьих «заветов» (отец поэта был расстрелян в 1938 году), но Гитлер нарушает их чаще, а в этой ситуации защита «Советов» оказывается общей целью государства и человека. Ослабление цензурных рамок и расширение границ «человеческого» заметны с началом войны и в официальной литературе. Снимается запрет на изображение в печати любовных переживаний (у Константина Симонова), «неуставных» отношений (у Александра Твардовского), отступления (у Василия Гроссмана), распада семьи из‐за фронтовых романов (у Андрея Платонова) и даже личной трагедии, перевешивающей радость победы («Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского). Мариэтта Чудакова описывает этот сдвиг на примере публикационной истории стихотворения «Жди меня» Симонова:
Война, ее начало, опрокинувшее все ожидания и официозные стандарты, обозначившее угрозу самому существованию советского строя, шатнула, в ряду других ограничений, запрет на лирику. <…> В те минуты, когда главный редактор «Правды», услышав впервые «Жди меня» в чтении автора <…> лирика перевесила и явилось решение — выдать ее воюющей, вставшей на краю обрыва России как знаменитые сто грамм перед боем[416].
Обнаруживающийся в эти годы зазор между человеческим измерением войны и государственной идеологией похож на зазор между лозунгом «За Родину, за Сталина», с которым полагалось идти в атаку, и молодецким «Дура-а-а-ак» (маскировавшимся под «Ура», если рядом были комиссары) или отчаянным «твою мать», с которыми, по многочисленным рассказам фронтовиков, они шли в атаку на самом деле. Это обнажение экстремальными испытаниями главных экзистенциальных переживаний из представителей военного поколения сильнее и масштабнее всего выразил Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» — уникальном памятнике того самого зазора между государством и человеком:
Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете. Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, Бога, партии, государства — смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь[417].
Но если для народа, или как минимум значительной его части, Великая Отечественная война была защитой родины от безусловного зла нацизма, то есть явлением нравственно вполне однозначным, то государственная политика накануне и во время войны до предела обнажает тоталитарную и преступную природу советского государства.
Вот краткий список позиций, позволяющих говорить о преступной политике советского государства в эти годы, политике, служащей не интересам граждан, а призванной использовать граждан в большей частью неблаговидных интересах власти:
1. СССР вовсе не был невинной жертвой агрессии. Незадолго до начала Второй мировой войны СССР подтвердил агрессивную природу своего режима, противоречащую риторике «Чужой земли мы не хотим ни пяди», напав на Финляндию и начав «самую позорную войну в истории русского оружия»[418]. (Превращение Финляндии в союзника Германии, по мнению некоторых исследователей, обусловило блокаду Ленинграда, которой иначе могло бы не быть.)
2. Пакт Молотова — Риббентропа стал одним из факторов, облегчивших руководству нацистской Германии решение о нападении на Польшу, и способствовал таким образом развязыванию Второй мировой войны[419].
3. «Подвиг народа» был совершен во многом вопреки усилиям государства. Большой террор сильно ослабил Красную армию (только в 1937 году было репрессировано 8% комсостава), что неизбежно отразилось на боеспособности армии.
4. Собственно репрессии, то есть террор против собственного народа, героически сражавшегося и гибнущего на фронте, не только не сократился, но и усилился: депортациям в годы войны подверглись порядка 2,2 млн жителей СССР (немцы, финны, народы Северного Кавказа и др.), по «указам военного времени» за годы войны в тюрьмы и лагеря были отправлены около 2,25 млн человек. К числу новых форм террора, появившихся в условиях войны, можно отнести репрессии против вышедших из окружения, вернувшихся из плена или с принудительных работ.
5. В критической ситуации государство продемонстрировало готовность не считаться с жертвами со стороны собственных граждан, причем не только в условиях оборонительной войны на своей территории, но и при наступлении на территории противника[420].
И тут в силу встречи двух этих тенденций, с одной стороны, предельного оголения чисто человеческого, экзистенциального, и с другой — столкновения этого человеческого с государственной машиной, очень отчетливо проявилась разность того и другого. Оказавшись объединены в усилии борьбы с общим врагом, они в то же время были крайне далекими, даже враждебными началами. Пронзительнее всего об этом сказано у того же Гроссмана:
Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода[421].
Этот спор, разрыв между государством и человеком, не мог продолжаться после окончания войны: форточку, через которую поступал свежий воздух, поспешили захлопнуть. «„Человечность“ нужна была власти лишь в той мере, в какой она мобилизовывала массы», — пишет Добренко, и довольно скоро границы дозволенного вернулись к довоенному состоянию[422]. Одновременно для компенсации деидеологизации военных лет государство стало усиленно формировать то, что культуролог Дина Хапаева называет «заградительным мифом о войне», призванным задним числом легитимировать бесконтрольность тоталитарной власти, «издержки» военной сверхмобилизации, голод, нищету и репрессии.
«Плавильный котел» мифа о войне, — пишет Хапаева, — был призван объединить разорванное террором общество против общего врага и превратить сокрытие преступления в подлинную основу «новой общности людей — советского народа». Вражеское вторжение помогало легитимизировать террор — реальный внешний враг позволял задним числом оправдать репрессии, представив их как превентивную борьбу с агрессией[423].
Характерно, что этот зазор между реальностью войны и тоталитарным мифом о ней расширяется и сужается всякий раз, когда авторитарные тенденции в государстве ослабевают или усиливаются. Оттепель стала временем расцвета так называемой «лейтенантской прозы» (начало ей положила опубликованная в 1946 году повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»), давшей такие важные имена, как Василь Быков, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов, Григорий Бакланов, Евгений Воробьев, Булат Окуджава[424]. 1970‐е годы с их новым «завинчиванием гаек» были отмечены, в частности, негласным запретом на прозу того же Виктора Некрасова и изъятием его книг из библиотек. Перестройка и последовавшее за ней первое десятилетие после распада СССР были временем нового расцвета критической литературы о войне. Именно в эти годы впервые публикуется роман «Жизнь и судьба» (1988), важнейшими литературными событиями становятся романы Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» (1993–1995), Георгия Владимова «Генерал и его армия» (1994).
Примечателен поворот в трактовке военной темы в 2010‐х. По мере усиления авторитарных тенденций она уходит из литературы, искусства частного, но начинает активно разрабатываться в кино (в 1990–2000‐х военная тема в кино почти не присутствует, показателен отчетливо нейтральный сериал «Война на западном направлении» Тимофея Левчука и Григория Кохана 1989–1990 годов). Фильмы о войне этого времени — кино отчетливо, иногда гротескно, «патриотическое». Это либо масштабные полотна, главной темой которых оказывается героизм и величие подвига советского народа, как в «Брестской крепости» Александра Котта (2010) и «Сталинграде» Федора Бондарчука (2013), или же целенаправленное стремление обработать критический взгляд 1990‐х, поставив его на службу нарративу о единении народа и государства перед внешней угрозой. Главные сюжеты дилогии Никиты Михалкова «Предстояние» (2010) и «Цитадель» (2011) — героизм и апология величия страны на фоне репрессий, штрафбатов, заградотрядов, «обнаженки» и жестокого натурализма.
Закономерным следствием тенденции на огосударствление частной памяти о войне стала аппроприация акции «Бессмертный полк», возникшей в 2011 году в Томске в качестве гражданской инициативы, но уже в 2015 году на волне неожиданной популярности перехваченного государством. Показательна реакция одного из инициаторов акции, томского журналиста Сергея Лапенкова в интервью 2015 года:
То, что происходит сегодня с «Бессмертным полком», — это отношение государства к людям как к ресурсу. Этот ресурс должен управляться кем-то сверху. Он не может быть сам по себе. Вот как нефть, газ принадлежат государству, так точно и люди, их память в том числе. Мне это не нравится, потому что я своей памятью предпочитаю распоряжаться сам[425].
Отношение к людям как государственному ресурсу — важнейшая характеристика тоталитаризма, предельно обнаружившего себя как раз в годы войны. Показательно, что стремление власти легитимировать себя за счет апелляции к памяти о войне заставляет ее и сегодня прибегать к технологиям, напоминающим о тоталитарном прошлом. Но именно поэтому формы, в которых «Бессмертный полк» распространяется по стране (формализм, участие по разнарядке и т. д.), создают дополнительные предпосылки для разрыва между частной памятью о войне и манипуляциями ею государством[426].
Привычка слияния общественного и государственного, глубоко укорененная в советской истории, продолжает работать в настоящем. Один из множества примеров — вспыхнувшие летом 2018 года в СМИ и соцсетях споры об отношении к успеху российской сборной на чемпионате мира по футболу. Для значительной части комментаторов этот успех был успехом власти и «путинского режима»; продолжением этой логики было восприятие оппозиционными комментаторами радости за сборную как выражения поддержки режима[427]. Тем самым задача разделения, навык «отмысливания» одного от другого актуальны и применительно к большим историческим феноменам, и к опыту повседневной жизни.
Такое отмысливание не просто возможно. Как было сказано, это единственный способ уйти от навязанного и ложного разделения на «либералов», «врагов государства», «оппозицию» и «патриотов», «консерваторов». Только осознав историю страны как историю ее граждан, общества, конкретных людей, и только потом — историю государства и «власти», можно, во-первых, вернуть граждан с политической периферии в центр, а во-вторых — реабилитировать само представление о государстве как общем деле (res publica), о государстве как гаранте гражданских прав, а не их экспроприаторе, своем, а не чужом и чуждом. Принципам, руководствуясь которыми можно попытаться нащупать в истории страны «свое», посвящен следующий раздел.
ТЕРРИТОРИИ СВОБОДЫ
Рассмотренные выше примеры показывают, что искомое различение должно производиться по линии разделения индивидуально человеческого и общественного от тоталитарно-государственного. Это разделение довольно привычно еще с советских времен, именно в культуру и образование можно было уходить от всеобщего гнета идеологии. Однако предлагаемое здесь различение не призвано воспроизвести «антисоветский» дискурс, способный лишь законсервировать разделение на «либералов» и «патриотов». Оно призвано нащупать в советском прошлом территории, свободные от преступлений и способные объединить в благодарном отношении к ним всех, независимо от политической ориентации.
Если явления, окрашенные политикой или идеологией, вроде кампании по «борьбе с пережитками прошлого» в 1920‐х, пролетарского интернационализма 1930‐х или сталинского плана реконструкции Москвы вызывают отторжение у тех, кто не разделяет коммунистической идеологии, то «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, «Цирк» Григория Александрова или «Новая Москва» Юрия Пименова могут вызывать теплые чувства у всех, независимо от партийной принадлежности. Секрет довольно прост: все это примеры культурных феноменов, узурпация которых политическим режимом затруднена.
Попробуем привести несколько примеров такого рода территорий свободы в советской истории. Их список не может быть исчерпывающим, но их разнородность призвана показать, насколько широкий спектр явлений имеется в виду.
Культура
Первая и самая очевидная линия расслоения проходит в сфере культуры. Крайне интересен продолжавшийся всю историю СССР спор государства и общества за русскую литературу. Русская классическая литература оставалась все советские годы одним из немногих примеров общего культурного достояния людей всех идеологий по обе стороны железного занавеса. Причина этого не в последнюю очередь в том, что литература — классическое «частное дело», не требующее ни ресурсов, ни людей, а тем самым минимально зависимое от государства и способное противостоять господствующей государственной идеологии. Вспомним пронзительную декларацию свободного словесного творчества как исключительно частного дела, противопоставленного конформизму писательских сообществ и «разрешенной литературы» из «Четвертой прозы» Осипа Мандельштама:
У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!
Борьба за русскую литературу как наследие, которое власть пытается экспроприировать и поставить на службу идеологии, дает себя знать, например, в отношении к Александру Герцену. Восприятие этой фигуры как своего рода патрона русской интеллигенции заметно уже в той же «Четвертой прозе»: «Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность… Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!» Наследие автора, поднятого госидеологией на щит в качестве одного из предшественников революции, было тем самым легитимизировано в СССР. Однако как оппонент диктатуры он оказался важен для интеллигенции и диссидентов — так, в круге Лидии Чуковской Герцен считался важнейшим духовным авторитетом. Сверка себя с «Былым и думами» была привычным способом ориентироваться во времени и пространстве для нескольких поколений советских диссидентов от Корнея Чуковского до Людмилы Алексеевой[428].
Другой феномен, демонстрирующий свободный от идеологии взгляд на жизнь человека и общества в условиях ослабления хватки государства, — кино 1970‐х годов. Надежды на очеловечивание государства, порожденные оттепелью, окончательно развеиваются в конце 1960‐х, и те, внутри советского проекта, кто не хочет с этим мириться, осознанно начинают разными средствами реализацию параллельного государству проекта. Как пишет киновед Евгений Марголит,
«Пафос революционной идеи» был в конце концов растрачен и обращен бюрократией в анекдот. Вера умерла. В этой новой общественной ситуации попытки советского кинематографа увидеть в официальном государственном идеале черты «Мы» — безрезультатны… Осознание этого окончательно разводит в разные стороны Советское государство и кинематограф. Теперь становится ясно, что различны не только их цели, но и предметы. В результате, по крайней мере, с середины 1970‐х годов, кинематограф СССР можно рассматривать не как советский, но как постсоветский[429].
В эти годы появляется целый ряд фильмов, укорененных в советской повседневности и не рассказывающих об отвлеченных «вечных» темах, но в то же время не несущих идеологического заряда. Авторский взгляд сохраняет дистанцию по отношению к идеологии. Среди режиссеров этой волны Леонид Гайдай («Бриллиантовая рука», 1968), Отар Иоселиани («Жил певчий дрозд», 1970), Алексей Герман («Проверка на дорогах», 1971, «Двадцать дней без войны», 1976), Георгий Данелия («Мимино», 1974, «Осенний марафон», 1978), Василий Шукшин («Калина красная», 1974), Эльдар Рязанов («Служебный роман», 1977, «Гараж» 1979). Для огромного множества людей внутри еще вполне советского государства это кино было трансляцией опыта жизни, свободной от объятий государства и идеологии. По замечанию Юрия Левады, в конце 1970‐х многие специально ходили в кино, чтобы собственными ушами услышать реплику одного из персонажей фильма Ланы Гогоберидзе «Несколько интервью по личным вопросам» (1978) «Неужели уже появились люди, которые перестали бояться?»[430].
Не самый очевидный, но тем более интересный пример территории свободы в советской культуре — наследие Русского Севера с его характерным деревянным зодчеством, деревянной скульптурой, иконописью и фольклором. Культура русского Севера в значительной степени формируется под влиянием сначала новгородской культуры, гораздо более свободного «ганзейского» города, чем Москва, и под влиянием старообрядцев, массово мигрировавших на малозаселенные территории в XVII веке. История Русского Севера — это история самоуправления и крестьянских восстаний, начиная с Кижского (трагически утраченная летом 2018 года церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге — народный мемориал жертвам этого восстания) и заканчивая сопротивлением большевикам в годы Гражданской войны[431]. В позднесоветские годы интерес к культуре Севера способствовал формированию среды искусствоведов и реставраторов, и таких самобытных явлений, как творчество Бориса Шергина[432].
Протест
Вторая линия, позволяющая отследить традицию свободы в истории России и СССР, — это разного рода опыт сопротивления государству. Оговоримся: в нижесказанном не стоит видеть оправдание и восхваление любого протеста против государства как такового. Во многих случаях он представляет собой бессмысленную и беспощадную стихию. Сказанное имеет другую цель: показать, что история российского государства не представляет собой историю неоспариваемого произвола власти на фоне тотальной пассивности народа. История сопротивления государственному произволу важна как одно из оснований общественного самосознания.
Как и традиция государственного насилия, этот опыт восходит к временам, на несколько сот лет предшествующим созданию СССР. Однако в рамках СССР сама востребованность сюжетов о пугачевском бунте (глубоко интересовавшим по тем же причинам еще Пушкина), постановка Юрием Любимовым есенинского «Пугачева» 1967 года с Высоцким в главной роли стала важным веянием времени. С конца 1960‐х Василий Шукшин увлеченно работает над сценарием фильма о Степане Разине (в 1972 году выходит его роман «Я пришел дать вам волю», съемке фильма помешала смерть Шукшина в 1974 году). В эти же годы Булат Окуджава работает над сочинением о восстании декабристов: в 1966 году выходит пьеса «Глоток свободы», а в 1971 году — одноименный роман.
Обращение Окуджавы к теме декабристов, да не просто к восстанию, а к следствию, по всей видимости, связано именно с тем, что под следствием опять оказалась русская литература, — пишет Дмитрий Быков в книге о Булате Окуджаве. — В 1964 году — собственный вызов к Ильину, в 1965‐м — арест Синявского и Даниэля, в 1966‐м — суд над ними, кампания по сбору подписей в их защиту и репрессии против подписантов. «Глоток свободы» — пьеса, давшая потом название роману, — написана, строго говоря, не о декабристах, а о расправе над ними, отсюда и название: свобода оказалась короткой, короче глотка. Нужно определяться со стратегией; сам декабризм не является объектом анализа ни в пьесе, ни в романе. Их тема — взаимоотношения интеллектуальной элиты и репрессивного государства. Можно спорить о правоте или неправоте декабристов, но очевидна неправота тех, кто отсек любые возможности диалога с государством, оставив один путь — восстание[433].
Традиция сопротивления тоталитаризму в рамках советской истории существует не только в виде интереса к восстаниям прошлого. История протеста в СССР тем более важна, что всеми силами заглушалась все время его существования. Среди немногочисленных, но ярких примеров — Тамбовское восстание 1920–1921 годов (численность повстанцев достигала 50 тысяч человек), волна восстаний в ГУЛАГе после смерти Сталина в 1953–1954 годах (Норильское, Кенгирское, Воркутинское восстания)[434], беспорядки на почве конфликтов населения с милицией в начале 1960‐х в Александрове, Муроме, Новороссийске, Беслане и т. д., массовая забастовка рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Наконец, важнейший пример протестов — общественная активность, митинги в Москве в 1989–1990 годах, подготовившие почву для распада СССР, и массовый выход москвичей на защиту Дома правительства в августе 1991 года.
Частное предпринимательство
Советская экономика даже самых махровых сталинских лет не была, как принято считать, полностью контролируемым государством монолитом, но в ощутимой степени опиралась на элементы частного предпринимательства. Даже в годы самого жестокого террора ее «теневая» (неофициальная, подпольная) составляющая играла важную роль[435]. Хотя политика советского руководства была направлена на искоренение негосударственных сегментов экономики или их строгое регулирование, чтобы население могло прокормиться в условиях кризиса, властям приходилось прибегать к ресурсам частного предпринимательства и рыночным механизмам (или закрывать на них глаза).
Советская экономическая система, — пишет Олег Хлевнюк в статье о частном предпринимательстве в сталинском СССР, — в том числе ее наиболее жестко централизованный и принудительный сталинский вариант, включала многочисленные рыночные (или квазирыночные) элементы и частное предпринимательство. Эти элементы можно было бы назвать «несистемными» в том смысле, что они противоречили логике системы, нацеленной на максимальную национализацию и замену товарных и денежных отношений прямым бартером. Однако с теми же основаниями можно считать эти компоненты системными, поскольку они были интегральной частью советской экономики и играли в ней значительную роль[436].
Несоответствие действительности мифа о сталинском «порядке» ярче всего иллюстрирует случай Николая Павленко, человека, сумевшего создать частный строительный трест в условиях тоталитарного государства. С 1948 по 1952 год Павленко руководил собственным нелегальным строительным предприятием с несколькими сотнями сотрудников; за эти годы предприятие построило 64 объекта в России и других республиках СССР, заработав (по оценкам следствия) в общей сложности 38 млн рублей. Как отмечает Хлевнюк, случай Павленко, будучи уникальным по своему масштабу, не был уникальным примером нелегальной экономической деятельности того времени.
В конце 1950‐х в рамках хрущевского курса на «повышение благосостояния народа» были предприняты усилия для увеличения доходов населения «через искусственное „подтягивание“ низкооплачиваемых слоев к среднему уровню заработной платы»[437]. Рост платежеспособности опережал производство потребительских товаров, их качество оставалось крайне низким, все это породило спрос на импортные товары и стремительное развитие «второй экономики» рынка, в том числе валютного, и параллельно целой культуры потребления «заграничного». Уже в 1961 году это явление было настолько заметным, что борьба с ним потребовала показательного расстрела Яна Рокотова и Владислава Файбишенко по личному распоряжению Хрущева. К концу 1980‐х годов на фоне кризиса производства фарцовщики (так называли тех, кто занимался подпольной перепродажей импортных товаров) оказались важнейшим потребительским ресурсом — в Москве опыт покупки у них обуви и одежды был у 63% граждан[438]. Фарцовщики оказали серьезное влияние на расшатывание советской экономики и советского образа жизни, заслужив определение «диссидентов от экономики»[439].
«Вторая экономика» в огромной степени определила характер и темпы экономического развития России в постсоветский период, способствовала формированию соответствующих установок и типов мышления (в том числе отношению к закону как неизбежной помехе, а не императиву)[440].
Локальные сюжеты и частное пространство
Саму историю СССР полезно отмысливать от истории государства (традиционно главного ее составителя, рассказчика и хранителя), стараясь увидеть ее как совокупность апроприированных государством частных историй. Важное открытие авторов социологической части доклада «Какое прошлое нужно будущему России» состоит в том, что российское историческое сознание двусоставно, в его рамках действуют две разных памяти. Формируемая государственной пропагандой модель памяти о триумфальном прошлом страны, единой на всем протяжении ее истории, не ухватывает огромного числа фактов и промахивается мимо значительной части граждан. В этом идеализированном образе не находят отражения целые социальные и национальные группы, множество важных исторических фактов и нарративов.
Вторая модель памяти — локальная, свободная от идеологии и сопротивляющаяся ей. Это память отдельных людей об истории их семьи, края, их социальной или национальной общности. Это память, не захваченная государством, через нее возможна личная самоидентификация. Авторы доклада цитируют краеведа из одного из малых городов России, который говорит, что в отличие от «большой истории», навязываемой школой, оперирующей давно и широко известными, но мало касающимися учащихся лично фактами, локальная история и история семьи затрагивают человека напрямую. Именно это дает ощущение причастности к истории. Поэтому именно краеведение, а не большие и универсалистские нарративы, может стать «национальной идеей»:
(Человек, который узнает о своих предках или о прошлом своего города. — Н. Э.) начинает себя воспринимать как часть чего-то большого, возникает род, другие регионы, в которых его предки занимались чем-то, там своя история. Он начинает воспринимать себя как часть большого процесса, непосредственно с ним связанного, где он является важным звеном, без этого звена ничего не будет[441].
Государственная (или «большая» национальная) история часто оказывается интересной «на местах» лишь постольку, поскольку служит «языком общения» с властью (например, рассказ о местных исторических деятелях часто возможен через привязку к государственным празднованиям, единственно понятным администрации «кодом»), либо поскольку большая история захватывает малую (кто из села погиб на войне, кто был репрессирован и т. д.). Еще сильнее это отличие между историями сверху и снизу подчеркивает пример памяти о чисто государственных проектах. Вот реплика школьного учителя из города на Севере России:
Я вот, знаете, сколько классных часов провожу, у меня всегда со слезами на глазах. <…> Потому что война была, непонятно какая, согласитесь. <…> Для чего воевали? За что воевали? Война Великая Отечественная, все-таки мы страну отстаивали. Гибли люди за свою страну, слушайте. <…> Да. А там за кого гибли, непонятно. <…> А я так и говорю. Война открыта по приказу. И всё. Ну, вслух не скажешь, но про себя подумаешь, пушечное мясо было отправлено. Потому что у нас в [городе Г] очень много ребят, которые там прошли эту мясорубку афганскую[442].
Отсутствие понятного языка для рассказа школьникам, кроме объяснения через «приказ сверху», — отчетливое свидетельство внутренней пустоты «чисто государственной» истории. Это хороший повод еще раз сказать о том, что отождествление страны и режима, народа и партии, граждан и власти — не само собой разумеющаяся вещь, не данность и не объективный факт; это отождествление — целенаправленная установка, результат последовательных и значительных пропагандистских усилий. В этом отождествлении заинтересованы партия, режим, власть, потому что в противном случае имитационный характер их существования станет слишком очевиден.
Именно отсюда и желание государства перехватить этот ресурс, увязывая с собой живые гражданские инициативы, — либо захватывая их, как в случае с «Бессмертным полком», либо создавая параллельные структуры и сущности, как в случае с объявлением официального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года через день после того, как благодаря гражданским акциям и записям в соцсетях общенациональный траур сложился стихийным образом.
Ностальгия по СССР
Важный пример перехвата государством «эмоциональной повестки», манипулирования чувствами и мнениями граждан, использования их в качестве ресурса для собственной легитимации — это тема «ностальгии по СССР». Точнее, метаморфоза отношения к СССР, произошедшая в российском обществе (или медиапространстве) за последние два десятка лет.
Уход в небытие такого масштабного геополитического образования, как СССР, особенно с учетом последовавшего затем трудного переходного периода, не мог не вызвать эмоционального отклика в самых широких слоях общества. Однако широко тиражируемое (особенно с середины 2000‐х годов) представление, согласно которому преобладающая в российском обществе эмоция — это скорбь в связи с «крупнейшей геополитической катастрофой», идеализация советского прошлого и стремление обвинить в развале СССР внешних и внутренних врагов, есть в значительной степени результат манипуляции.
Так как черта под советским прошлым не была подведена, нет и однозначных и общепризнанных интерпретаций этого прошлого. Реальной работы принятия в смысле благодарения за доброе и осуждения преступного проведено не было. Она была начата в середине 1980‐х в виде общественной дискуссии, ее частью стали такие произведения искусства, как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе(1984), «Астенический синдром» Киры Муратовой(1986) или альбом «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» (1988). Но разговор оборвался, не выйдя на общенациональный уровень. Фрустрация последнего советского поколения, цели и идеалы которого (в той не слишком большой мере, в какой люди эти идеалы разделяли) оказались дискредитированными, проговаривалась в 1990‐х именно как горечь о «разбазаривании страны».
Публицистические фильмы Станислава Говорухина «Так жить нельзя» (1990), «Небеса обетованные» и «Старые клячи» Эльдара Рязанова, «Груз 200» (2007) Алексея Балабанова обращали внимание на внутренние причины провала советского проекта и пытались разными способами осмыслять постсоветский ресентимент. Но с началом нового курса на отношение к прошлому, обозначенного в начале 2000‐х, эта фрустрация начинает переоформляться последовательными усилиями государственной пропаганды. Вместо нарратива «мы про***ли страну» начинает выдвигаться нарратив «олигархи, дерьмократы и американцы украли у нас страну»[443]. Важно понимать, что последнее — вовсе не реальное и искреннее «низовое» самоощущение части общества, а результат манипуляции, перехвата государством недовольства прошлым и «перевод стрелок» вместо реальных усилий по проработке прошлого.
РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЯ
Если овладеть описанным механизмом разделения, научиться отличать историю режима от истории страны, общества и граждан, иногда совпадающих, иногда вполне отдельных друг от друга, а иногда прямо или косвенно друг другу противостоящих, то задача принятия советского прошлого перестает выглядеть чем-то наподобие принятия горького лекарства. И если перед глазами окажется не смерзшийся ком частно-государственного прошлого, но две линии: история страны, культуры, граждан как общества и как совокупности индивидуальностей, с одной стороны, и история властного режима, с другой — тогда задача отличить благодарение за прошлое от его осуждения окажется гораздо более понятной.
Благодарение — способ налаживания связи с прошлым, за которое не стыдно, которое не требует покаяния и осуждения. Можно именовать это «позитивной памятью» или «основанием для гордости прошлым», но понятие благодарения намекает на активное действие по связи с прошлым, и в этом его ценность. «Гордость прошлым» как форма памяти о славных событиях минувшего предполагает, что сам гордящийся — «носитель» этого славного наследия; напротив, «благодарность» воздает должное субъектам славного прошлого, не назначая себя его носителем и даже хранителем. Благодарность — личная работа, обращенная к «дарителю», тогда как гордость — пассивное перенесение результатов чужой деятельности на себя, и потому — удобный идеологический ресурс. Благодарность невозможна как форма долженствования, ее суть в добровольности, тогда как гордость хорошо встраивается в конструкции долженствования. Поэтому работа благодарения не может быть направлена на структуру, организацию, «страну, что тебя вскормила», она не может двигаться сознанием обязанности, совершаться по требованию или по команде[444].
Георгиевская ленточка задумывалась как выражение памяти о погибших и воевавших в годы Великой Отечественной войны и благодарности им. Но начав использоваться в пропагандистских целях, она быстро превратилась в символ национальной гордости, а потом выродилась в средство отличения своих от чужих, часто уже без всякой связи с памятью о ветеранах. Едва ли не единственный на постсоветском пространстве пример апелляции к благодарности (в рассматриваемом нами смысле) на государственном уровне — учреждение в 2016 году в Казахстане Дня благодарности в качестве национального праздника. Население современного Казахстана — в огромной степени результат миграционных волн, связанных сначала со столыпинскими реформами, а затем со сталинскими депортациями. Учреждение этого праздника — попытка нащупать в этой трудной истории основания для позитивной идентификации себя как нации, сложившейся в результате гостеприимства коренных жителей по отношению к вынужденным поселенцам, которые в результате обосновались на новом месте[445].
Работа благодарения существует всегда на очень узком поле, располагающемся между пространством исключительно частным (благодарностью, которая высказывается лично и один на один, не становясь достоянием общества) и намеренно публичным (где легко вырождается в риторику или идеологический механизм). Это делает ее, с одной стороны, крайне дефицитной практикой (в смысле немногочисленности примеров и их ценности), а с другой — позволяет оставаться в пределах негосударственной сферы, относясь к сфере гражданской и человеческой.
В задачу этой книги не входит всесторонний анализ практики благодарения или даже сколько-нибудь исчерпывающий список таких примеров. Ограничимся перечислением нескольких показательных случаев, демонстрирующих, о чем идет речь и как это может работать.
Мемуары и околомемуарная литература
В 2000 году в журнале «Знамя» был напечатан роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», на следующий год вышедший в виде книги. Чудаков, литературовед, известный прежде всего исследованиями творчества Антона Чехова, написал автобиографический роман. Он рассказывает о детстве в маленьком городе, наполненном ссыльно-поселенцами, на границе с Казахстаном, куда, не дожидаясь ссылки, самостоятельно уехали предки автора. Повествование о трудном быте в условиях переживающей трагические страницы истории страны назван «романом-идиллией», и в этом нет противоречия. Критики назвали роман «робинзонадой ссыльной семьи»: дед рассказчика учит родных сажать картошку, делать из нее крахмал, вытапливать свечи, варить мыло и обрабатывать кожу, воссоздавая в экстремальных условиях ушедшую Россию с выбеленными манишками и церковными свечами. Но это робинзонада еще и в духовном смысле: оказавшись в пространстве, где вместе со знаниями и умениями утрачены представления о добре и зле, дед передает внуку и их тоже. И тем самым, сохраняя способность к воспроизводству этих понятий, стирает разрыв между Россией до трагедии и Россией после нее, обнаруживая преемственность и доброкачественность существования даже в страшных с исторической точки зрения условиях[446].
Историческое бытие человека — жизнь во всем ее охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель[447].
Тронувшая многих книга со временем воспринималась со все возрастающим интересом. За ее идилличностью стал отчетливо различаться редкий и трудный способ говорения о прошлом как о ценности. Спустя десять лет, в 2011 году, уже после смерти автора, решением жюри премии «Русский Букер» книга Чудакова была признана лучшим русским романом десятилетия.
Подводя культурные итоги 2009 года, критики Григорий Дашевский и Анна Наринская назвали успехом года фильм Олега Дормана «Подстрочник» о Лилианне Лунгиной и сборник Максима Осипова «Грех жаловаться». Обе книги — рассказ о человеческой жизни на фоне истории страны:
В монологе Лунгиной — что телевизионном, что печатном — не было ничего сенсационного, никаких «тайн и загадок истории». Только обычные человеческие лицо и голос, совершенно негероические, но вызывающие абсолютное доверие. Так же вышло и с книгой Максима Осипова «Грех жаловаться»: благодаря его очеркам о жизни провинциальной больницы мы словно лично познакомились с самим автором — и потому верим его соображениям вообще о жизни и о людях. Оказалось, что именно это нам нужнее всего — чтобы нашелся человек, не глядящий на жизнь сквозь розовые очки, не прекраснодушный, отвечающий за свои слова прожитой или проживаемой жизнью, и чтобы этот человек нам сказал: или, как Лунгина, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться совсем другой стороной и привести к хорошему, или, как Осипов, что все не так страшно, надо не жаловаться, а работать, — то есть чтобы нашелся человек, который бы разрешил нам не отчаиваться[448].
Форма существования Осипова в постсоветской Тарусе похожа на форму существования Лунгиной в СССР — не выживать, а жить, быть собой и с радостью делать свое дело:
Чтобы радоваться, чтобы жить, надо быть. Не доктором наук, а ученым. Не лауреатом, а хорошо играть на скрипке. Чтобы быть, надо служить. Это идеология исключительно для употребления внутрь. Оказывается, служение обществу нужно не ради абстрактного народа, а для себя («мы всего лишь врачи, нам хотелось сделать себе условия работы получше»), оно эффективно только тогда, когда это вопрос внутренней гигиены. Рецепт борьбы с пустотой. Врачебное предписание, чтоб не хотелось помереть в пятьдесят пять лет[449].
Трудно подобрать более емкое описание модуса благодарения.
Сериалы
С середины 2000‐х годов, когда ощущение переходного периода начинает сменяться ощущением долгожданной «стабильности», на российских федеральных каналах выходят телевизионные сериалы, рассказывающие об истории СССР не плакатным или батальным, а уютным «сериальным» языком человеческих историй. Эти фильмы производят впечатления продуманной программы, однако таковой не являются. Это хорошо сделанные ленты, режиссерами которых стали люди постсоветского поколения. Хотя эти фильмы делались для федеральных каналов, они лишены пропагандистских черт и рассказывают параллельную или альтернативную официальной историю страны — от первого послереволюционного поколения до героев позднесоветской «контркультуры».
В ряду этих сериалов «Московская сага» (2004) и «Тяжелый песок» (2006) Дмитрия Барщевского по трилогии Василия Аксенова и роману Анатолия Рыбакова, «Казус Кукоцкого» Юрия Грымова по роману Людмилы Улицкой (2006), «Ликвидация» Сергея Урсуляка (2007), «Стиляги» (2008) и «Оттепель» (2013) Валерия Тодоровского, «Таинственная страсть» Влада Фурмана (2016), «Оптимисты» Алексея Попогребского (2017), «Лето» Кирилла Серебренникова (2018). Добротно и с любовью к описываемому времени воссозданная атмосфера эпохи, без стремления «обелить» или «очернить» ее, позволяет говорить об этих сериалах как об энциклопедии советской жизни, облегчающей новому поколению разговор о прошлом и не скрывающей «трудные» темы.
Образовательные проекты 2010‐х
К середине 2010‐х российскому обществу становится понятно, что решать свои проблемы, в том числе связанные с образованием и самоидентификацией, оно должно самостоятельно, не рассчитывая на государство, а то и сторонясь его. Именно в это время возникают примеры успешного обращения к феноменам советского прошлого, свободные от идеологизации, без гордости и сентиментальности, но проникнутые нежностью. Любопытен процесс обращения к образовательной тематике тех, кто в 2000‐х делал «городскую журналистику» или «журналистику развлечений».
Запущенный в 2015 году командой филологов и журналистов во главе с бывшим главным редактором журнала «Большой город» Филиппом Дзядко образовательный проект «Арзамас» публикует, наряду с материалами о мировой культуре, культуре Древней Руси и Российской империи, многочисленные материалы о советской культуре — в том числе соцреализме, советской детской литературе, предлагая читателям подборки книг и мультфильмов. Весной 2018 года был запущен совместный с каналом ТВ3 проект «Кинотеатр Арзамас», в рамках которого просмотр ключевых для понимания советской эпохи фильмов («Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «Гараж») сопровождался разговором о темах, бывших фоном этих фильмов: сталинской культурной политике, оттепели, позднесоветских практиках «сосуществования» с государством и ухода от него.

Ил. 74. Анна Десницкая, иллюстрация из книги «История старой квартиры», 2016 г. Издательский дом «Самокат», 2016 г.
© Десницкая А., иллюстрации, 2016 г.
© ООО «Издательский дом «Самокат», 2016 г.
В том же 2015 году издатель и редактор Илья Бернштейн начал выпускать книжную серию «Руслит. Литературные памятники XX века». Это своего рода аналог классической серии «Литературные памятники», но эпохой, которую необходимо бережно и качественно мемориализовать, выступает не вся история мировой и русской литературы в наиболее выдающихся ее проявлениях, а конкретно советский период. Среди изданий этой серии — добротно откомментированные «Республика Шкид» Григория Белых и Леонида Пантелеева, «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Приключения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова, повести о Васе Куролесове Юрия Коваля.
В 2017 году художник-иллюстратор Аня Десницкая и редактор детских книг Александра Литвина выпустили книгу «История старой квартиры». Это захватывающий и трогательный рассказ о жизни поколений одной семьи в большой квартире в старом московском переулке. Это снова очень нежный и внимательный к деталям рассказ об истории XX века языком человеческих историй. Он не упускает из виду тяжелых страниц истории — жителей квартиры не обходят стороной война и репрессии, на стенах у них висят портреты Сахарова и Солженицына, но этот рассказ свободен от идеологизированности. «История старой квартиры» настолько ухватила какой-то важный способ рассказа о времени, что стала не только книгоиздательским событием, но и основой для выставок-инсталляций, которые с большим успехом прошли в Москве (в «квартире» общества «Мемориал»), Санкт-Петербурге (в Фонтанном доме), Твери. Следующим проектом Десницкой и Литвиной стала книга о Транссибе (2019). Здесь рассказ о путешествии по главной железнодорожной артерии России также дается через истории отдельных людей и живо схваченные бытовые детали. Рассказ о стране в оптике человеческих историй оказался удачной находкой: обе книги стали бестселлерами.
В мае 2017 года образовательный портал InLiberty под руководством издателя и просветителя Андрея Курилкина запустил проект «Семь дат», предлагающий взгляд на историю России, в которой, как сказано на сайте проекта, существуют «не только победы над внешними и внутренними врагами, расширение территории и преодоление смуты, но и опыт успеха в отстаивании индивидуальных прав и свобод». Семь дат, вокруг которых строится проект, следующие: отмена крепостного права (19 февраля 1861 года), публикация Манифеста об усовершенствовании государственного порядка (начало парламентаризма в России, 17 октября 1905 года), Норильское восстание (26 мая 1953 года), демонстрация на Красной площади (25 августа 1968 года), открытие I съезда народных депутатов СССР (25 мая 1989 года), победа над путчем (21 августа 1991 года), указ о свободе торговли (начало рыночной экономики, 29 января 1992 года). Каждой дате посвящен объемный рассказ о соответствующей странице истории. По мысли авторов проекта, эти даты, по образцу существующих государственных праздников, могли бы стать примером выстраивания иного общественно-государственного нарратива, делающего акцент не на величии государства, а на силе общества и граждан.
Весной 2018 года команда журналистов и филологов во главе с бывшим главредом журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным запустила проект «Полка», посвященный «самым важным произведениям русской литературы». Одна из задач проекта — попытка определить канон русской литературы, каким он выглядит из сегодняшнего дня и в котором центр тяжести перенесен с XIX на XX век, то есть на литературу, написанную в годы существования СССР. Среди ключевых книг этого канона — «Котлован» Платонова, «Москва-Петушки» Ерофеева, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Школа для дураков» Саши Соколова.
Еще один пример «благодарного» или «не закрытого к благодарности» рассказа о прошлом — проект «Прожито», созданный в 2015 году под руководством московского историка Михаила Мельниченко (с 2019 года — Центр изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге). Участники проекта собирают дореволюционные, советские и постсоветские дневники, расшифровывают их и публикуют на своем сайте. Это удивительный портрет времени, созданный исключительно и только из человеческих историй: участники проекта сознательно не комментируют тексты и не снабжают их введениями или послесловиями. Эта очень простая и совсем не оригинальная идея привела к созданию невероятно популярного и всеми любимого проекта. Кажется, дело тут в том, что такого спокойного и теплого, «принимающего» рассказа о советском прошлом со всеми его ужасами и прелестями очень и очень не хватает.
Молодежная культура конца 2010‐х
Совсем новая тенденция, обозначившаяся в молодежной массовой культуре в 2017–2018 годах, стала в каком-то смысле реализацией описанных выше процессов, давно идущих в более глубоких пластах культуры. На смену попыткам воспроизвести в музыке, визуальных искусствах, архитектуре западные стандарты, вырваться из культурного гетто и догнать Запад приходит интерес к местному материалу, представление о том, что от советского и постсоветского материала можно не только отталкиваться, но и воспринимать его как уникальный культурный багаж и часть собственной идентичности. Об этом сдвиге на примере отношения к советским многоэтажкам говорит Юрий Сапрыкин:
Поколение 2000‐х как бы говорило: многоэтажки — это ужасно. Давайте их снесем и построим на их месте новый квартал по проекту Херцога и де Мерона. Или разукрасим их модно выглядящими граффити. Или как минимум проложим вокруг них велосипедные трассы и откроем на первых этажах кафе. Многоэтажки — это то, что надо преодолеть, надстроить над ними что-то вроде небесного Лондона. Поколение 2010‐х, видя многоэтажки, говорит: о, многоэтажки, это же здорово. Это отличная, брутально выглядящая штука; это жестко, это сильно, в этом много драмы и даже поэзии, это наша память, это то, из чего мы созданы — и вообще-то эти многоэтажки достойны того, чтобы осознать их как часть своей идентичности и даже как повод для гордости: это такие многоэтажки, что знаете, ни у кого больше таких нет. В них есть своя красота — но эта красота рождается через тяжесть, трагедию, травму, врожденную неуютность и неправильность этого места. И именно в силу тяжести и неправильности это место достойно — давайте назовем уже слово полностью — любви[450].
Эстетика многоэтажек и спальных районов — тема, все больше интересующая современных художников. Пейзажи Павла Отдельнова — его визитной карточкой стала серия 2014 года «Внутреннее Дегунино» — интересны отсутствием отчетливой эмоции. Художник не любуется многоэтажками и промзонами, но и не отвергает их. Его взгляд внимателен и изучающ, он позволяет увидеть привычное на новой дистанции (тут можно вспомнить сказанное выше про подведение черты). Неожиданным образом эта дистанция сообщает спальным районам романтический ореол: сам Отдельнов сравнивает отношение к эстетике многоэтажек с тем, как романтики вглядывались в искусство Античности[451]. Эстетика, рождение которой праздновал Пименов в серии «Новые кварталы», завершает виток, обретая у Отдельнова функцию «современной античности». Так и выглядит работа принятия.
Навык отделения в истории страны того, что достойно благодарения, от того, что достойно осуждения, и опыт работы благодарения позволяет приблизиться к решению задачи принятия прошлого. Во-первых, предмет осуждения — государственные преступления советского периода — оказывается очищен от того, что делало отношение к нему «сложным». Теперь это просто террор, отношение к которому может быть однозначным и от которого не отвлекают соображения о том, что в СССР «было и хорошее». Во-вторых, опыт благодарения позволяет выстроить позитивную идентичность, позволяющую обществу почувствовать общность и сделать осуждение преступлений прошлого, насколько возможно, не поводом для болезненных споров и разделений, а основанием для общенациональной программы примирения.
26 апреля 2018 года недалеко от центра города Монтгомери, столицы американского штата Алабама, был открыт для посещения впечатляющих размеров объект, больше всего напоминающий инсталляцию какого-нибудь современного художника. Взгляду посетителя открывается огромная постройка, держащаяся, если смотреть на нее извне, на 800 опорах из «ржавой» кортеновской стали. Но входящий внутрь видит, что казавшаяся со стороны столь надежной и устойчивой конструкция на самом деле лишена оснований: массивные опоры висят в воздухе, прямо над головами посетителей. Фантастичности картине добавляет то, что эти несколько сот опор в форме правильных параллелепипедов очень похожи на таинственные инопланетные монолиты из «Космической одиссеи» Стенли Кубрика.
Поражающая воображение постройка — не творение инопланетян и не инсталляция современного художника. Это мемориал жертвам линчеваний, происходивших в 12 южных штатах с 1877 по 1950 год, а параллелепипеды из кортеновской стали символизируют тела повешенных. Мемориал возведен на частные пожертвования неправительственной организацией «Инициатива за равное правосудие», созданной в 1994 году юристом и правозащитником из Монтгомери Брайаном Стивенсоном. «Равное правосудие» занимается сбором информации о жертвах линчеваний с 2010 года. Эти данные легли в основу выпущенного в 2015 году отчета «Линчевания в Америке: противостояние наследию террора по расовому признаку»[452] и созданного в рамках мемориала музея, посвященного истории рабства и преследований чернокожих. Он находится в нескольких минутах ходьбы от мемориала, рядом с местом, где когда-то располагался самый известный в Америке рынок, где чернокожих продавали с аукциона[453].

Ил. 75. Мемориал жертвам линчеваний в Монтгомери, США
И все же ассоциации с творением современного искусства не совсем ошибочны. Мемориал в Монтгомери во многом работает именно так. Его эмоциональное воздействие строго подчинено авторской концепции, а все детали конструкции имеют вполне определенный смысл. 800 параллелепипедов соответствуют числу округов, где происходили расправы, на каждой из них выбиты имена известных на сегодня жертв, убитых в соответствующем округе (в общей сложности 4400 имен).
Но едва ли не самая интересная часть мемориала вынесена за пределы центральной постройки. По периметру территории разложены дубликаты 800 параллелепипедов, подвешенных в главном здании. Округам, названия которых на них выбиты, создатели мемориала предлагают установить эти колонны в своих административных центрах, соорудив тем самым мемориалы жертвам линчеваний по всему американскому Югу. В условиях оживившейся в последнее время в США дискуссии о наследии рабства (участившиеся случаи полицейского произвола в отношении афроамериканцев, кампания по сносу памятников Конфедерации и т. д.) и с учетом волны публикаций о мемориале в Монтгомери во всех мировых СМИ игнорирование такого предложения местными администрациями выставит их в крайне невыгодном свете. Согласие же установить памятники, напротив, окажется легким способом выгодно смотреться на фоне соседей. (Здесь трудно не вспомнить запущенную Юрием Дмитриевым конкуренцию национальных памятников в Сандармохе.) Таким образом, мемориал представляет собой не статичное напоминание о событиях прошлого, но служит свидетельством о настоящем, о том, какие округа сегодня признают прошлые преступления, а какие этой памяти сопротивляются; он не только отражает прошлое, но в известной мере формирует будущее, запуская «волну» памяти о наследии рабства по всему Югу.

Ил. 76. Мемориал в Монтгомери
Мемориал в Монтгомери не просто удачно сделан с концептуальной и архитектурной точки зрения — он грамотно использует память о трудном прошлом как инструмент воздействия на современность. Это отражает изменившееся представление о роли мемориалов в принципе: они не столько канонизируют некую (как правило, государственную) позицию, как это было на протяжении большей части XX века, сколько вовлекают общество и государство в разговор о последствиях этого прошлого.
ИНСТИТУТ КОМПРОМИССА. КОМИССИЯ ПРАВДЫ И ПРИМИРЕНИЯ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ
Рассуждения про принятие прошлого, отказ от «нюрнбергского подхода», переход от позиции внешнего наблюдателя к позиции соучастника ни в коей мере не отменяют факта преступлений, без осуждения которых полноценная проработка прошлого невозможна. Случай Дениса Карагодина важен прежде всего тем, что в ситуации отсутствия правосудия и даже возможности его осуществить он делает то главное, что надо сделать: публикует свидетельства преступления, называет имена его жертв и соучастников. Это обязательный шаг всей логики осмысления-проработки-примирения: вот убитые, вот убийцы, это факт, вот свидетельства — давайте все посмотрим на это, а теперь давайте что-то с этим делать. Ту же самую функцию выполняют любые публикации фактов и свидетельств о государственном терроре, обнаружение мест расстрелов, установление памятных табличек и т. д.
Искомая российская модель подведения черты и переосмысления прошлого, учитывающая российскую специфику, должна удовлетворять следующим условиям:
1. Основой этого процесса должен быть взгляд на проблему изнутри, а не «нюрнбергская модель».
2. Этот процесс должен предполагать прежде всего разговор об ответственности, а не осуждение преступников (в силу того, что преступников просто нет в живых).
3. Это должен быть процесс, максимально вовлекающий самые разные общественные и политические силы. А значит, он должен быть выгодным для этих сил, позволять им выработать единую договорную позицию об отношении к прошлому.
4. Этот процесс должен предполагать максимальную публикацию информации о преступлениях прошлого.
Всем перечисленным условиям отвечает модель, предполагающая создание некоего аналога комиссии правды и примирения — специфического института из арсенала правосудия переходного периода, одним из самых ярких примеров которого является Южноафриканская комиссия. В случае России это совсем не обязательно должна быть единичная инициатива. Но модель комиссии правды — наиболее отработанный из существующих сегодня в мире механизм решения проблем того типа, с которыми мы имеем дело в России. Имеет смысл скорее обсуждать совокупность практик, так или иначе ориентирующихся на принципы работы комиссий правды, использующих выработанный ими опыт, арсенал их приемов и подходов. Это общественно-государственные инициативы, проекты (общественные, то есть работающие при участии государства, но не государственные), направленные на публикацию и популяризацию фактов, имен, обстоятельств и их мемориализацию.
Согласно классическому определению Присциллы Хайнер, ведущего специалиста по комиссиям и сооснователя Международного центра правосудия переходного периода, комиссия правды:
1) сосредоточена на прошлом, а не на современных событиях;
2) занята расследованием не конкретного события, а событий, происходивших на протяжении ограниченного периода времени;
3) представляет собой временное образование, задачей которого является подготовка доклада на основе своих расследований;
4) официально уполномочена властями государства, в котором работает[454].
Такие комиссии начали возникать в странах Латинской Америки в 1970‐х и превратились в широко распространенную практику после резонансного доклада Сальвадорской комиссии в 1993 году (в это же время закрепился и сам термин «Комиссия правды и примирения»)[455]. Самыми яркими примерами таких комиссий стали описанные в предыдущей части аргентинская CONADEP (1983–1984) и южноафриканская TRC (1994–2002). Если первое издание классического исследования Хайнер о комиссиях правды, вышедшее в 2001 году, включало описание 20 известных к этому времени комиссий, во втором, вышедшем в 2010 году, их было уже 40. К настоящему моменту общее число работавших когда-либо комиссий превысило пять десятков и продолжает расти. В декабре 2017 года Национальная ассамблея Гамбии учредила Комиссию правды, примирения и репараций, призванную расследовать нарушения прав человека, имевшие место в годы президентства Яйи Джамме (1996–2017). В июле 2018 года о намерении учредить Комиссию для расследования массовых репрессий в годы правления Франсиско Франко объявили в новом правительстве Испании.
Case study: Афинская комиссия 403 года до н. э.
Хотя комиссии правды и примирения — феномен, возникший во второй половине XX века, основные принципы, на которых строится работа подобных переходных механизмов, неотделимы от развития демократии как таковой. Первым задокументированным примером такого компромиссного соглашения считается договор между узурпаторами власти и пришедшими им на смену демократическими силами, заключенный после свержения Тридцати тиранов в Афинах в 404–403 годах до н. э[456]. Тридцать тиранов, установившие в Афинах олигархическую проспартанскую диктатуру после поражения Афин в Пелопоннесской войне, развернули террор против политических противников и просто состоятельных афинян.
По сообщению Ксенофонта, за девять месяцев правления Тридцати были убиты 1500 жителей города — больше, чем погибло за десять лет Пелопоннесской войны; у тысяч было отобрано имущество. Террор Тридцати принял классические формы: чистки в собственных рядах (через несколько месяцев после установления диктатуры был казнен Ферамен, первоначальный лидер Тридцати), превращение суда в фарс, поощрение доносительства и участия афинян в расправах над согражданами. Демократическая оппозиция в вооруженном противостоянии низложила режим Тридцати. Те попытались призвать на помощь Спарту, но спартанский царь Павсаний предложил заключить выгодное обеим сторонам соглашение.
Это соглашение предотвратило гражданскую войну и обеспечило гарантии стабильности демократии, которая сохранялась в Афинах на протяжении всей их последующей истории вплоть до потери независимости. По условиям соглашения, Тридцати и их сторонникам предоставлялось право переселиться в Элевсин, предместье Афин, становившееся самостоятельным поселением. Не желавшие переселяться лидеры диктатуры могли получить амнистию, представ перед судом граждан. Остальные получали амнистию за преступления, совершенные в правление Тридцати. Это соглашение так описано в «Афинской политии» Аристотеля:
Примирение состоялось <…> на следующих условиях: из афинян, остававшихся в городе, всем, желающим выселиться, предоставляется право жить в Элевсине с сохранением всех гражданских прав, полной свободы, самоуправления и правом пользоваться доходами от своего имущества. Что касается храма, то доступ к нему должен быть предоставлен одинаково тем и другим, а попечение о нем должно лежать на обязанности Кериков и Эвмолпидов по отеческим заветам. Далее, ни жителям Элевсина не дозволяется приходить в город, ни жителям города в Элевсин; разрешается это тем и другим только во время мистерий. Вносить подати с доходов в союзную казну элевсинцы должны наравне с остальными афинянами. А буде кто-нибудь из лиц, собирающихся переселиться, пожелает занять дом в Элевсине, он должен получить на это согласие от владельца; в случае же невозможности достигнуть соглашения каждая сторона должна выбрать троих оценщиков, и какую цену назначат эти последние, такую и следует брать. Из элевсинцев предоставляется жить с ними тем, кого они сами пожелают к себе пустить. <…> За прошлое никто не имеет права искать возмездия ни с кого, кроме как с членов коллегий Тридцати, Десяти, Одиннадцати и правителей Пирея, да и с них нельзя искать, если они представят отчет. А представить отчет правившие в Пирее должны перед гражданами в Пирее, правившие в Афинах — перед собранием из лиц, могущих показать имущественный ценз. После этого желающим предоставляется право выезда. Что касается денег, которые занимали на войну, то каждая сторона должна выплатить их самостоятельно[457].
Не обошлось без обычных в таких случаях мер обеспечения выполнения соглашений. По свидетельству Аристотеля, когда один из афинян стал требовать возмездия за прошлое, его казнили без суда.
После его казни уже никто никогда потом не искал возмездия за прошлое. Наоборот, афиняне, кажется, превосходно и в высшей степени дальновидно с политической точки зрения воспользовались и в частных и в общественных отношениях пережитыми несчастьями. Они не только пресекли обвинения по делам о прошлом, но и возвратили из общих средств лакедемонянам те деньги, которые Тридцать заняли для войны, хотя договор предлагал обеим партиям отдавать порознь — партии города и партии Пирея. Они видели в этом первое, что должно служить началом для взаимного согласия[458].
Этот сюжет из истории древних Афин особенно интересен тем, что в нем уже присутствует большинство основных черт, характеризующих работу комиссий и переговорный транзит в целом: соглашение, подписываемое под давлением военных, не полностью добровольно; амнистия виновным в преступлениях как основной элемент соглашения; возможность для преступников получить иммунитет от преследований при готовности добровольно дать ответ об обстоятельствах совершенных деяний; гражданский консенсус (желание «взаимного согласия») как условие успешности и устойчивости транзита; наконец, очень относительный успех всех этих мер (спустя два года те из числа Тридцати, кто не успел сбежать, были убиты, а Элевсин присоединен к Афинам).
Основные характеристики модели
Важное отличие комиссии как модели в том, что это институциональное, но в то же время не судебное разбирательство с прошлым. Это институт, главной задачей которого является «воздействие на общественное восприятие прошлого страны и его принятие, а не просто стремление устранить те или иные проблемы»[459]. Именно поэтому такая модель представляется столь интересной с учетом российской специфики.
Большинство комиссий правды не пересекаются с задачами судебных институций и не дублируют их. Но несмотря на их куда более ограниченные правовые полномочия, их более широкий мандат, позволяющий сосредоточиться на типах, причинах и последствиях политического насилия, позволяет комиссиям правды идти в своих расследованиях и заключениях намного дальше, чем это оказывается обычно возможным (или приемлемым) в суде. Широта задач и гибкость комиссий правды — их сильная сторона. Например, эти комиссии обычно способны обозначить полную ответственность государства и различных его институтов, которые проводили или оправдывали репрессивную политику, включая не только военных и полицию, но и саму судебную систему. Фокус комиссий правды на жертвах, предполагающий, как правило, сбор тысяч свидетельств и публикацию их в рамках публичного и санкционированного государством доклада, означает для многих первый шаг в признании государством того, что их слова заслуживают доверия, а зверства действительно не имеют оправдания[460].
Обобщая опыт работы комиссий по всему миру, можно перечислить несколько важных характеристик этой модели.
1. Комиссии правды и примирения почти никогда не открывают чего-то принципиально нового и ранее неизвестного обществу. Их задача состоит скорее в легализации широкого признания факта прошлых преступлений. «Знание, которое получает официальную санкцию и тем самым становится „частью публичной картины реальности“, таинственным образом обретает новое качество, которого было лишено, будучи просто „правдой“, — писал в начале 1990‐х глава центральноамериканского подразделения Human Rights Watch Хуан Мендес. — Официальное признание как минимум начинает процесс врачевания ран»[461]. Это ответ на замечания о том, что общественная дискуссия о преступном характере советских репрессий неуместна. Действительно, за очевидностью преступлений такая дискуссия может казаться (и должна со временем стать) бессмысленной. Но, как показывает опыт огромного количества стран, чтобы сделать очевидным для всех даже интуитивно понятное, необходима отдельная и грамотная просветительская работа.
2. Такие комиссии не гарантируют примирения и даже не могут служить гарантией от повторения расследуемых ими преступлений в будущем. Более того, они могут служить средством манипуляции обществом, обеления себя новым режимом или намеренного очернения режима предыдущего — как это было, например, в Чаде и Уганде.
3. Работа этих комиссий, как правило, не завершается судом над всеми виновными в нарушениях прав человека. Нередко даже принимается решение засекретить результаты их работы (в этом случае они с большой вероятностью утекают в прессу).
4. Хотя одним из основных условий успеха работы комиссий считается наличие у них мандата от правительства, известны примеры неофициальных расследований преступлений диктаторских режимов, осуществлявшихся частными лицами при поддержке неправительственных организаций и авторитетных общественных деятелей, результаты которых привлекали значительное внимание.
Самый яркий случай — подпольное расследование пыток, предпринятое бразильскими правозащитниками. В 1979 году бразильская военная диктатура, находившаяся у власти с 1964 по 1985 год, приняла закон об амнистии. Этот закон дал правозащитникам предлог для доступа к протоколам судебных заседаний, проходивших с 1964 по 1979 год и не предназначавшихся для публикации. Использовав эту лазейку, 35 активистов под руководством архиепископа Сан-Паулу Паулу Эваристу Арнса, пресвитерианского пастора Джейми Райта и раввина Генри Собеля и при поддержке Всемирного совета церквей за три года, с 1979‐го по 1982‐й, перефотографировали 2700 страниц свидетельств о пытках и идентифицировали 17 тысяч жертв. Эти данные были переправлены в штаб-квартиру Всемирного совета церквей в Женеве, и на их основе в 1985 году (после инаугурации первого гражданского президента Бразилии) был выпущен доклад Brasil: Nunca Mais[462]. Только десять лет спустя военные публично признали массовые пытки, а правительство инициировало программу выплат семьям жертв в размере 1,5 млрд долларов США. В 2012 году начала работу официальная комиссия правды, отчет которой был выпущен в 2014 году.
Другие примеры резонансных неофициальных инициатив такого рода — доклад Uruguay: Nunca Más, подготовленный правозащитной организацией SEPRAJ и оказавшийся куда более содержательным, чем предшествующее ему парламентское расследование[463]. В 1998 году Бюро по правам человека архиепископа Гватемалы Хуана Херарди выпустило четырехтомный отчет о многолетнем расследовании нарушений прав человека в ходе гражданской войны в стране[464]. Через два дня после публикации доклада архиепископ Херарди был жестоко убит. Публикация отчета и убийство Херарди стимулировало работу официальной «Комиссии по установлению исторической истины». Суд над убийцами Херарди в 2001 году стал прецедентом юридического преследования армейских офицеров в Гватемале.
Эти примеры представляют далеко не только исторический или этнографический интерес. Работа общества «Мемориал» и другие подобные гражданские и правозащитные инициативы в России в международном контексте — аналоги такого рода неофициальных инициатив, направленных на установление и обнародование правды о преступлениях прошлого (Truth-Telling Inquiries). Именно в этом контексте стоит воспринимать как их успехи в том, что касается публикаций книг памяти, обнаружения мест массовых захоронений и идентификации жертв, так и неудачи в том, что касается официального признания результатов этой деятельности и их донесения до широкой общественности.

Ил. 77. Паулу Эваристу Арнс и Генри Собель на мемориальной службе по Владо Херцогу, журналисту, замученному бразильской полицией, 1976 год
Месть или прощение
Именно в рамках длящихся уже два десятилетия дискуссий о комиссиях стоит искать, например, ответ на распространенные сегодня в России замечания о том, что акцентирование внимания на палачах и обстоятельствах преступлений смещает акцент с примирительной памяти на память обвиняющую. Ярче всего это видно в реакциях на расследование Дениса Карагодина, которого обвиняют в «помешательстве на возмездии». Именно так называется статья православного писателя Елены Тростниковой, видящей в стремлении установить имена палачей готовность «войти в круговорот расширяющейся ненависти и в духовном отношении уравняться с палачами»:
Когда кто-то начинает требовать справедливости, разыскивая палачей, — мне это кажется странным. Я думаю, что прежде всего надо не искать палачей, да еще зачисляя в их число всех причастных — шоферов, машинисток, техничек НКВД. Надо восстанавливать память о тех, кто пострадал, кто принял мучения, — тех, кого мы должны продолжить. <…>
Мне кажется, что восстановление исторической правды как раз и состоит прежде всего в том, чтобы помнить. Чтобы память о безвинно пострадавших, о величии их духа не пропала бесследно. А месть — ведь это и есть то, что мы видели в 1937–38 годы. Месть — это бесконечная череда убийств, это порочный круг, который невозможно разорвать. Разве это нам нужно?[465]
Эти опасения очень характерны сами по себе, ведь говорящие так отлично сознают: в ситуации, когда преступление не осуждено, привлекательным способом восстановления справедливости начинает выглядеть месть со стороны близких жертв. Если подумать, это довольно важный штрих: примирительные предложения «не ворошить прошлое» на самом деле порождены сознанием, что конфликт не разрешен и легитимные средства его разрешения отсутствуют. Но единственный легитимный инструмент защиты от мести — это действенное и независимое правосудие:
Угрозу мести устраняет судебная система, — пишет французский историк культуры Рене Жирар в классической работе «Насилие и священное». — Она не подавляет месть: она четко ограничивает ее единственным наказанием, исполнение которого возлагается на специально предназначенную для этого верховную власть. Решения судебных властей всегда выносятся в качестве последнего слова мести[466].
И именно на это возражение отвечает главный принцип, лежащий в основании комиссий правды: когда осуществление правосудия судебными средствами невозможно, единственным способом восстановления справедливости и защиты жертв или их памяти (то есть тех, кто в такой защите в первую очередь нуждается) является максимально возможное установление обстоятельств совершения преступлений, имен виновных и степени их вины.
Вопрос о публикации имен виновных в преступлениях, совершенных авторитарным режимом, хорошо известен исследователям комиссий. Публикация имен часто вызывает возражения: комиссия — не судебный орган и, как правило, ее работа не приводит к полноценному уголовному процессу. В этих обстоятельствах называние имен виновных подменяет формальное обвинение, лишая их возможности оправдаться, и оставляет без судебной защиты (из трех градоначальников, объявленных виновными в насилии в Руанде, двое были убиты через несколько месяцев). Поэтому по состоянию на 1994 год из 15 комиссий опубликовали имена преступников только 4. Однако после ставшего во многом образцовым доклада сальвадорской комиссии публикация имен стала превращаться в общую практику.
Можно заметить, — говорится в докладе, — что поскольку методы, используемые Комиссией в ее расследовании, не отвечают требованиям формального уголовного процесса, доклад не должен называть имена людей, которые, по мнению Комиссии, замешаны в установленных случаях насилия. Но Комиссия считает, что у нее нет иного выбора.
Заключая мирные договоры, стороны дали понять, что необходимо «сделать известной всю правду», и именно в этом состоит задача Комиссии. Но сказать всю правду нельзя, не назвав имен. В конце концов, перед Комиссией стояла задача не подготовить академический доклад о событиях в Сальвадоре, но описать крайне важные факты насилия и предложить меры для предотвращения их повторения в будущем. Эту задачу нельзя выполнить абстрактно, скрывая часть информации <…> когда доступны вполне достоверные свидетельства, особенно если установленные лица занимают руководящие посты и выполняют официальные функции, непосредственно связанные с преступлениями или покрытием таковых. Не называть имена значило бы обеспечивать ту самую безнаказанность, положить конец которой Стороны уполномочили Комиссию[467].
Процесса над организаторами и участниками советского террора не было — и среди отрицательных последствий этого не только отсутствие осуждения преступлений, служащее для некоторой части общества их оправданием. Есть и другое негативное последствие, не меньше разделяющее общество, но упоминаемое куда реже. Отсутствие конкретных и поименных приговоров позволяет другой части общества распространять вину за преступления на неопределенное множество людей, в которое автоматически входят все «сотрудники НКВД — МГБ — КГБ».
Отстаивающие необходимость суда над советским террором часто указывают на Нюрнберг как на образцовый пример. Между тем в рамках всех 13 нюрнбергских трибуналов обвинения были предъявлены всего 5 тысячам человек, и даже в Германии многие бывшие нацисты были оправданы и стали полноправными гражданами. Важно понимать, что усилия Дениса Карагодина, стремящегося выявить и назвать по именам всю цепочку лиц, участвовавших в убийстве его прадеда, работают не на запуск «маховика возмездия», а на прямо противоположное — на то, чтобы уйти от разговоров о мести. Ведь эти разговоры подпитываются «проклятой неопределенностью» на месте трагедии. Уйти от нее можно, установив с максимальной полнотой картину преступления и степень виновности конкретных лиц (вот машинистка, печатавшая расстрельные приговоры, вот водитель «черного воронка», а вот человек, эти приговоры выносивший или приводивший в исполнение). И память машинистки, всего лишь перепечатывавшей расстрельные бумаги, — пока она включается в неопределенное и неранжированное по степени вины «сообщество преступников», на которых кровь миллионов, — страдает от этой неопределенности не меньше, чем память жертв.
Вариант развития темы ухода от «порочного круга отмщения», звучащий, как правило, в дискуссиях православных христиан, — апелляция к христианскому прощению палачей[468]. Современные россияне считают христианство традиционным мировоззрением, а христианская этика прощения врагов — хорошее основание для гражданского примирения. Отчасти это напоминает апелляцию к традиционной для большинства населения этике «убунту» в рамках процесса национального примирения в ЮАР, также ориентированного на прощение совершенных злодеяний.
Прощение — хороший сценарий гражданского примирения. Но оно возможно только в случае, если виновные — или те, кто принимает вместо них ответственность за совершенное, — признают вину и просят прощения. Именно к этому, пусть часто формально-идеологически, сводился процесс примирения в Южной Африке. Зло таким образом констатируется и обличается, что способствует установлению мира. Но дарование прощения без его испрашивания есть нечто противоположное, способствующее не миру, но консервации раскола. Потому что оно не останавливает зло: прощение не испрошено, злодей не признал злодейства и не раскаялся, он невредим и на коне, а значит, дарование прощения будет только маскировкой раны, потворством злу и подбадриванием злодея. Христианское прощение ни в коем случае не предполагает неосуждение зла или покрывание греха, но учит возможности мистического освобождения от последствий сделанного зла при искреннем и деятельном покаянии. Именно в этом смысле можно говорить о любви к врагам и грешникам как к людям, в которых есть ресурс для покаяния.
Прощение не заменяет осуждение преступлений, но оказывается частью большого процесса преодоления его последствий по формуле «Помнить, знать, осудить и только потом простить». И смысл инициатив, подобных расследованию Карагодина, состоит как раз в том, чтобы не позволить совершенному злу оказаться забытым, сделав тем самым процесс примирения уж точно невозможным. Наиболее предметными и глубокими здесь вновь оказываются свидетельства, касающиеся личной и семейной памяти о совершенном зле. Петер Эстерхази подчеркивает, что его собственные интересы как потомка виновного в отношении признания совершенного зла не отличаются от интересов окружающего его общества. Как и все общество, отравленное последствиями сотворенного в прошлом зла, он нуждается не в прощении, а в сохранении памяти о произошедшем:
Я работаю против забвения. Мне хочется, чтобы дело Папочки не забыли, а, напротив, запомнили. Прощения я не хочу. (Если б хотел — умолял бы, на коленях ползал. Если б это хоть что-нибудь изменило.) Так чего же мне нужно? Ну… Чтобы все это… было видно. Чтобы выяснилось, что было в действительности, а в действительности, как выяснилось, было это.[469]
Как показывает опыт других стран, максимально масштабное и подробное обнародование информации, касающейся преступлений времен советского террора, отвечает интересам не только всего общества, но и интересам потомков преступников.
Суд или обличение
Другое возражение против компромиссной модели проработки прошлого звучит от сторонников максимально жестких расчетов с преступным прошлым. По их мнению, такие модели призваны защитить наследников и правопреемников советского режима от реальной ответственности и тем самым подменяют реальное подведение черты под прошлым.
В контексте дискуссий о комиссиях это соответствует проблеме соотношения правды и правосудия, которой мы касались в предыдущей части в главе, посвященной работе южноафриканской TRC. В самом деле, с появлением «моды» на комиссии правды они часто оказывались частью сознательной сделки, на которую шли представители уходящей диктатуры. Также подобные сделки использовались новыми режимами для своей легитимации (в этом смысле доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» можно считать своего рода аналогом таких легитимирующих комиссий). Примером таких сделок можно назвать комиссии в Уганде (1986–1995), Чили (1990–1991), Гватемале (1997–1999), Сьерра-Леоне (1999), Конго (2002), Либерии (2003) и некоторых других странах. Однако со временем стало понятно, что реальная роль и воздействие комиссий, независимо от первоначальных намерений их организаторов, вовсе не сводится к роли подушки безопасности для ослабевших диктаторов. Напротив, в большинстве случаев комиссии делают суд над преступниками более вероятным[470].
Во-первых, потому, что любое последующее юридическое преследование, как правило, основывается на фактах, выявленных в рамках работы комиссии. Именно так произошло в Аргентине, где приобретшие к концу первого десятилетия XXI века массовый характер суды над военными использовали свидетельства, зафиксированные комиссией 1983–1984 годов. По похожему сценарию развивались события в Чаде и Перу. В Чаде через восемь лет после публикации отчета комиссии 1992 года ее материалы стали главным основанием для обвинений против диктатора Хиссена Хабре. В 2013 году он был экстрадирован из Сомали, а в 2016 году осужден на пожизненное заключение. В Перу комиссия передала все свои материалы прокуратуре страны сразу после публикации отчета в 2004 году. За этим последовали многочисленные суды, однако большинство обвиняемых были оправданы.
Во-вторых, даже если у комиссии нет возможности обеспечить юристов основаниями для исков, сам факт организации комиссии — важный шаг в приучении властей и общества к идее ответственности за свои поступки. По словам главы американского подразделения Human Rights Watch Хосе Мигеля Виванко, в ситуациях, когда судебное преследование невозможно по политическим причинам, «один из самых мудрых вариантов, стратегически, — начать с комиссии правды. Как правило, это способствует созданию условий для привлечения к ответственности». Когда достойная доверия институция публикует свидетельства о преступлениях, говорит он, «следующий вопрос у каждого нормального человека: и что мы будем с этим делать? Не „вопрос закрыт“, а скорее „Достаточно ли мы сделали? Где все эти исчезнувшие люди? Они живы? Можно ли осудить виновных? Продолжают ли те, кто это сделал, работать в полиции или армии?“ Возможно, после этого люди захотят раскошелиться на юриста, который будет копать эти истории дальше, как случилось в Чили»[471].
Таким образом, в условиях, когда полноценное осуждение преступлений политически невозможно (а сегодняшняя российская ситуация именно такова), обнародование правды в формате комиссии — хороший способ не только вовлечь широкие слои общества в разговор о трудном прошлом, но и сделать первый шаг к его юридической квалификации.
КОНСТРУИРУЯ МЕТАКОМИССИЮ ПРАВДЫ ДЛЯ РОССИИ
Если принять модель комиссий правды в качестве контекста, в котором стоит рассматривать процесс проработки прошлого в России, то нужно посмотреть на ключевые условия, делающие такую модель работоспособной. Для этого необходимо, во-первых, определить обстоятельства торга, а во-вторых, сформулировать краткие тезисы для общенациональной дискуссии.
Обстоятельства торга
Компромиссная, или договорная, модель проработки прошлого предполагает наличие договаривающихся сторон. В российском случае, говоря о «торге за правду», стоит понять, какие именно стороны в нем участвуют. Только поняв, кто именно собирается примиряться, можно определить суть и формат переговоров.
Джеймс Гибсон в книге «Преодолевая апартеид» задается именно этим вопросом применительно к ЮАР и выделяет два значения категории примирения. Первое — примирение на микроуровне, то есть прощение лично жертвами или их родственниками лично преступников. Второе — примирение на макроуровне, то есть создание и развитие практик сосуществования расовых групп, преодоление взаимных предрассудков, создание социальных механизмов для преодоления неравенства, обусловленного расовыми различиями, словом, превращение национальных общин в единое общество.
В России из‐за большой временной дистанции, отделяющей нас от наиболее кровожадной фазы репрессий, речи о примирении на микроуровне быть практически не может. Сегодня в России почти не осталось в живых людей, исполнявших приговоры или участвовавших в насилии по отношению к тогдашним заключенным. Тем, кто в 1953 году (верхняя граница сталинских репрессий) был совершеннолетним и мог, отвечая за свои поступки, участвовать в терроре, в 2020 году должно исполниться 85 лет. Грициану Васькову, со слезами на глазах рассказывавшему о том, как его коллега «исполнял приговоры», в 2018 году было 94. Такие люди есть, но их очень мало. Если они сами не становились жертвами репрессий, то в большинстве случаев довольно рано умирали от естественных причин или хронического алкоголизма — «профессионального заболевания», очень распространенного в этой среде.
Но даже в тех случаях, когда можно говорить о встречах между отдельными конкретными жертвами системы ГУЛАГа и ее сотрудниками, довольно часто оказывается, что большой проблемы частного примирения не существует. Дело тут во многом в специфике устройства ГУЛАГа и наследующей ему системы (ГУИН — ФСИН). Лагеря зачастую были «градообразующими предприятиями», вокруг них организовывались быт и экономика, как в случае Магаданской, Мурманской, Красноярской областей, Коми и Якутии, где бывшие заключенные и их дети живут бок о бок с бывшими сотрудниками ГУЛАГа и их детьми, встречаясь в поселковых магазинах или в очередях за пенсией.
Один из самых ярких примеров такого сосуществования — поселок Тугач в 200 километрах от Красноярска. Здесь в 1938–1956 годах действовал Тугачинский лагерь системы ГУЛАГа. Сегодня в поселке, население которого составляет 532 человека, живут потомки заключенных и охранников. Один из бывших заключенных, освободившись, женился на вдове погибшего на фронте охранника лагеря и воспитал его детей, которые сейчас занимаются организацией поселкового музея[472]. Несколько лет назад учительница истории местной школы, дочь надзирателя, вместе со своими учениками начала собирать свидетельства о лагере. И оказалось, что память о лагере — не предмет для раздоров среди местных жителей, а повод для пробуждения общей памяти и сплочения. В 2011 году на основе собранного школьниками материала был выпущен сборник «Из Сибири в Сибирь»[473], посвященный истории заключенных, а в 2017 году группа местных жителей занялась организацией в поселке музея под открытым небом, посвященного истории лагеря:
Оказалось, что все слышали, знали, а многие отчетливо помнили, что происходило здесь. Просто молчали. А тут народ будто прорвало. Пошли разговоры, люди выдохнули, расслабились, понесли вещи, предметы быта, истории потекли рекой. В поселке образовалась инициативная группа — самые неравнодушные, — которые контролировали сбор информации. Одной из первых в нее вошла Лидия Герасимовна. <…> Вдруг неожиданно выясняется, что еще вчера человеку было все равно, а сегодня он дал трактор, чтобы дорогу отсыпать. Кто-то вспомнил, что и у него в семье есть бывшие заключенные, — значит, это в память и о них тоже. Школьный трудовик вот уже почти год делает макет лагеря: «Мне ж не сложно, у меня дядя был охранником, я примерно представляю, где что располагалось».
История обращения к прошлому жителей поселка Тугач — яркий пример того, что память о прошлом не только не разделяет потомков заключенных и надзирателей, но и помогает им найти общий, объединяющий язык понимания прошлого, позволяет объединить усилия государственных органов и общества. В организации музея принимают участие поселковая и районная администрации, красноярский «Мемориал», поддержку ему оказывают местный бизнес и СМИ[474].
Принимая во внимание различение Гибсона между примирением на микро- и макроуровне, в случае России подлинно насущной задачей является не первое, а второе. Конкретные жертвы и их родные с конкретными палачами примиряются не (совсем) так, как примиряются разделенное общество, или общество и государство.
Здесь стоит вспомнить сказанное в главе про ЮАР: важный элемент процесса примирения — выстраивание культуры уважения прав человека гражданами и государством, культуры толерантности к «иному» (принятие представителей других групп, идеологий). Тут важно слово «культура» — речь идет о целенаправленном привлечении общественного внимания к случаям примирения, в том числе на государственном уровне, информационном «продвижении» историй примирения, публикации фильмов и статей о них. Среди примеров таких историй — встреча и примирение потомков белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Ивана Строда[475], письмо Карагодину от внучки убийцы его прадеда.
В чем выгода сторон
О преодолении трудного прошлого принято говорить в исключительно моральных категориях. «Инструментальный» подход к подобным вопросам выглядит циничным и недостойным. Между тем переосмысление таких событий почти никогда не происходит только потому, что политики вдруг понимают, что рабство, репрессии, геноцид — это «нехорошо». Почти всегда это начинает работать только при условии, что те или иные политические силы находят в использовании темы свой интерес.
Возможно, лучшее из написанного на эту тему — книга американского историка и политолога Элазара Баркана «Вина народов», посвященная реституции как инструменту, при помощи которого жертвы исторических трагедий могут осознать себя группой с общими целями.
Рассматривая переговоры о выплатах Германии жертвам Холокоста, США — жертвам лагерей для интернированных, Японии — жертвам сексуального рабства (так называемым comfort women), бывших метрополий — коренным народам Северной Америки, Гавайских островов, Австралии и Новой Зеландии, Баркан указывает, что именно переговоры о реституции (подзаголовок книги звучит как «Реституция и переговоры об исторических несправедливостях») часто помогают жертвам осознать себя общностью, сформулировать свои интересы и начать за них бороться.
Обсуждение такой конкретной и прагматичной темы, как материальные выплаты, позволяет жертве и преступнику вступить в переговоры, иначе по многим причинам невозможные, пишет Баркан. Особенно важно, что в таких переговорах оказываются напрямую заинтересованы и власти — правопреемники тех, кто совершал преступления. Идя на уступки жертвам или их потомкам, они укрепляют свою легитимность как внутри своей страны, так и за ее пределами. Наконец, в таких переговорах формулируется интерпретация прошлого, устраивающая обе стороны:
Новизна стремления исцелить несправедливости прошлого состоит в том, что обращение к истории происходит через попытки выстроить такую интерпретацию прошлого, которую могли бы признать обе стороны переговоров. Этот подход оказывается средней позицией, которая дает возможность отстаивать свою идентичность посредством переговоров и механизм осуществления связи между национальными историями. Это разговор о национализме и торг о том, чья история и какая версия национального нарратива получит право на существование: не только для сторонников, но и для противников или «беспартийных» внешних наблюдателей. Например, Холокост евреев завершился в 1945 году, но и после этого он продолжал оказывать влияние на жизнь его жертв и формировать еврейскую, германскую и другие идентичности. Рабство завершилось, но его последствия продолжают воздействовать на расовые отношения[476].
Переговоры ФРГ и Израиля о компенсациях за Холокост, сначала воспринимавшиеся в штыки и в Германии, и в Израиле, в итоге не только заложили основание для общественной дискуссии об ответственности за преступления нацизма, но и помогли жертвам Холокоста в Израиле и за его пределами сформировать собственное отношение к этим событиям. Эти переговоры в конечном счете оказались важным фактором, повлиявшим на формирование современного представления о Холокосте. Переговоры о компенсациях корейским, филиппинским, китайским узницам японских «лагерей утешения» в годы Второй мировой, начавшиеся в конце 1980‐х, когда всего несколько женщин нашли в себе мужество открыто заявить о пережитом насилии, к концу 1990‐х обернулись масштабным движением за права женщин, объединившим несколько сотен жертв «лагерей утешения» в нескольких странах Азии. Японское правительство, поначалу отказывавшееся признавать ответственность за эти преступления или предпочитавшее неофициальные извинения и выплаты от имени негосударственных фондов, в конце концов предпочло извиниться на уровне премьер-министра и парламента и выплатить официальные компенсации.
Интересно, что формирование жертвами коллективной идентичности может происходить спустя значительное время после окончания травматических событий. Так было, например, в случае современных афроамериканцев, чье самосознание в значительной степени стало определяться через дискуссию о рабстве и его последствиях.
Современная политика и общественная жизнь во многом определяются деятельностью многочисленных общественных групп, отстаивание которыми своих прав и составляет «политическую ткань». По крайней мере, так происходит в демократиях. Разговор об ответственности за исторические преступления — главным образом за Холокост в Европе и за рабство в США — стал серьезнейшим ресурсом для формирования этой политики нового типа. Мемориал в Монтгомери — один из примеров стимулирования такой политики.
Советский государственный террор — такая же трагедия всемирного значения и огромного масштаба, как Холокост и американское рабство. Между тем сегодня в России это тема, тяжелая и для власти, и для общества; ее упоминания либо избегают, либо, именно в силу ее болезненности, делают инструментом спекуляций. Но опыт подавляющего большинства стран с «трудным прошлым» показывает, что уйти от этого разговора не получается, он рано или поздно напомнит о себе. Тем важнее подумать о возможностях извлечь из такого разговора максимум пользы для всех. Если же осознать память о советском терроре как ресурс торга за прошлое, он может оказаться важным «институтом прокачки идентичности» и для потомков жертв, и для власти, если только она заинтересована в легитимации за счет реальной истории, а не фейков и пропагандистских спекуляций.
В свете сказанного крайне интересно, что насчитывающая уже шесть десятков лет история разного рода «десталинизаций» в СССР и России видела многое, но только не переговоры между жертвами и наследниками (правопреемниками) преступников. «Борьба с культом личности» 1950‐х годов была в первую очередь акцией по легитимации перестановок во власти, предполагавшаяся в ее рамках реабилитация была в значительной степени косметической, и лучшее свидетельство этому, вполне по Баркану, — то, что она не предполагала компенсаций. Представители депортированных народов не имели законных оснований претендовать на отнятую у них землю, и даже билеты домой покупали за свой счет.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий 1991 года такие компенсации предполагал — «из расчета 75 рублей за каждый месяц лишения свободы, … но не более 10 000 рублей»[477]. Однако он был принят благодаря тому, что необходимость хотя бы символических компенсаций сознавали люди в тогдашнем правительстве и Конституционном суде, а не под давлением жертв репрессий или их родственников[478]. Принятый в 2004 году закон «О монетизации льгот» внес поправки в закон о реабилитации, исключив ответственность государства за моральный ущерб, сократив круг лиц, имеющих право на компенсации, и устранив необходимый минимум выплат. Этот закон вызвал масштабные протесты (способствовавшие тому, что льготники получили компенсации), но среди протестовавших не было жертв репрессий или их родственников. Выступления общества «Мемориал», отстаивающего права репрессированных, были на этом фоне почти не слышны.
Отсутствие такого разговора тем более удивительно, что предмет для него очевидно есть, а число заинтересованных в нем огромно. Прямыми жертвами советского террора были не менее 15 млн человек, а включая жертв «трудовых указов» и спровоцированного властями голода — не менее 30 млн (детализацию оценок см. ниже в этой главе). В пересчете на число родственников те, кто мог бы сегодня претендовать на различные компенсации, составляют значительный процент российского населения, вполне способный отстаивать свои права в общественно-политическом поле. То, что этого не происходит, вредит и обществу, и власти, загоняя травмирующую тему в подсознание. Это в конечном счете оборачивается недоверием политическим и гражданским институтам, политической и гражданской апатией и прочими крайне неприятными последствиями.
Между тем превращение советского террора в такую же этико-юридически-мемориальную сущность, как американское рабство или Холокост, могло бы сильнейшим образом способствовать развитию правовой и политической культуры в России и на постсоветском пространстве. Это способствовало бы формированию групповой идентичности жертв террора, группы, которая именно в силу серьезнейшей ценностной и правовой базы могла бы стать ведущей силой самостоятельного и ответственного гражданского общества. Важными структурообразующими центрами в формировании такой памяти и такого группового правосознания могли бы стать, например, региональные музеи ГУЛАГа, сегодня крайне немногочисленные, разрозненные и испытывающие дефицит общего нарратива.
Государство также напрямую заинтересовано в создании нарратива о прошлом, не загоняющего тему в «общественное бессознательное», не легитимирующего насилие и правовой нигилизм, не выключающего существенную часть граждан из разговора об истории страны, но позволяющего им чувствовать себя полноценными и полноправными гражданами. О том, что государство сознает невозможность молчания о советском терроре, свидетельствует открытие Мемориала жертвам репрессий в Москве, поддержка культа новомучеников и музейной «франшизы» «Россия — моя история». Однако готовность вести этот разговор только на полностью контролируемом поле, по возможности устранив всех независимых «собеседников» и «акторов» (об этом подробнее говорилось в первой части книги), не способствует здоровому развитию дискуссии.
Кроме того, на сегодня у России явный дефицит идей по улучшению своего внешнеполитического образа. Образ страны, спасшей Европу от нацизма, из‐за излишней эксплуатации параллельно с агрессивными и откровенно антидемократическими шагами на глазах перестал быть убедительным. Стратегия «опасного идиота» потеряла новизну, а демонстрация влияния посредством ввязывания в конфликты вроде сирийского слишком затратна. Между тем опыт Германии времен канцлера Конрада Аденауэра очень красноречиво показывает, что взвешенная и дозированная политика признания ответственности за прошлое (решение о выплатах Израилю репараций) — эффективный и сравнительно дешевый способ заработать доверие внешнеполитических партнеров. Превращение советского террора в такую тему — хороший способ, не меняя решительно текущую политику, заработать репутацию ответственного государства, движущегося в тренде «политики вины», считающейся хорошим тоном среди наиболее развитых мировых держав, о возвращении в клуб которых Россия так мечтает. Что же касается постсоветского пространства, влияние на котором Россия так отчаянно теряет, запуск разговора об ответственности за депортации и национальные операции — хороший способ сделать заявку на почетную роль «чемпиона памяти» среди соседей.
КОНСТРУИРУЯ ПРИМИРЕНИЕ: В ПОИСКАХ ФОРМУЛЫ ОСУЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО
Однако определение сути «торга» между сторонами и нахождение устраивающей их «формулы согласия» призваны не только наладить максимально приемлемое взаимопонимание между ними, но и сделать достигнутые договоренности приемлемыми для широкой публики. Чем проще и связнее эта формула и чем четче она сформулирована, тем понятнее она широким слоям общества. Опыт комиссий правды и примирения показывает, что их задача в огромной степени располагается в сфере социальной инженерии, или своего рода «пиара». Она сводится к тому, чтобы помочь пересобрать разделенное общество вокруг правды, которая не только (и не столько) точно и основательно представлена, сколько просто и внятно сформулирована.
Опыт комиссий говорит о том, что им часто приходилось жертвовать полнотой анализа ради понятности «картинки». В этом смысле работу комиссии можно было бы назвать конъюнктурной, но в том-то и состоит отличие модели комиссий правды от судебных преследований, что комиссия представляет собой политический инструмент, и учет политической конъюнктуры для нее не недостаток, а одна из определяющих характеристик[479]. «Помимо прямых внешних ограничений мандата комиссий, — пишет Присцилла Хайнер, — их члены могут сами накладывать на себя некоторые ограничения, касающиеся того, что именно из вскрытых фактов публиковать в итоговом докладе»[480].
При таком взгляде критикуемые наблюдателями издержки формул согласия, проводниками которых часто служат комиссии или аналогичные им компромиссные механизмы, оказываются единственной возможностью прийти к договоренности. «Покупка правды в обмен на правосудие», столь критикуемая в южноафриканской модели, или «правовое государство вместо правосудия» в случае второго германского транзита[481] — примеры в конечном счете успешного «торга за правду».
Самые успешные из комиссий были в этом смысле наиболее конъюнктурными, выбирая определенный ракурс рассмотрения прошлого и жертвуя полнотой и глубиной анализа. Попытка выложить всю правду, определить ответственность всех сколько-нибудь виновных и помирить всех со всеми — задача абстрактная, которая не может ставиться в физической реальности, в которой силы, ресурсы, время, пределы компромисса всегда ограничены. Главная цель аргентинской комиссии состояла в том, чтобы убедительно рассказать широким слоям общества об имевших место преступлениях, по возможности сняв вопрос об их оправдании. Это имело двоякие последствия для ее доклада. Из отчета были исключены, во-первых, данные о политической принадлежности жертв, чтобы исключить политические спекуляции, призванные оправдать преступления; во-вторых, свидетельства об особо жестоких случаях, «чтобы это не помешало доверию к докладу». Предметом рассмотрения южноафриканской комиссии были «убийства, похищения и особо жестокое обращение», то есть далеко не все практики апартеида. Например, комиссия полностью исключила из рассмотрения принудительные переселения в бантустаны, которым подверглись миллионы людей, — из‐за невозможности в обозримые сроки проработать такой объем материала.
Таким образом, сознательное ограничение и упрощение задачи способствует достижению заявленной цели — примирения. Именно так примирение перестает быть абстрактной и необъятной категорией и обретает конкретность, сужаясь до снятия противоречий по вполне определенным темам. Среди достоинств книги Джеймса Гибсона «Преодолевая апартеид» конкретность определения рассматриваемых им категорий:
Пожалуй, «правда» — еще более ненадежное понятие, чем «примирение», особенно если учесть, что предположение о существовании «установленной», то есть официальной правды может (или должно) вызвать негодование у многих из нас. Но нравится это нам или нет, отчетливо заявленной целью TRC было формирование коллективной памяти южноафриканцев. Не просто хронологизирование того, кто, что и кому сделал, а авторитетное описание и анализ истории страны. Был ли апартеид преступлением против человечности? Был ли преступный характер апартеида связан с самодеятельностью нескольких неуправляемых индивидов или он был преступным по самой своей сути, на уровне идеологии и институтов? Именно на эти вопросы TRC дала недвусмысленные и, в пределах своей компетенции, определенные ответы. Моя задача — не оценить историческую точность этих утверждений, но определить, до какой степени обычные южноафриканцы признают правду именно в том виде, в каком TRC сделала ее достоянием публики — «коллективной памятью» южноафриканцев. Рассматривая гипотезу, что «правда ведет к примирению», я всякий раз имею в виду, что те южноафриканцы, кто признает правду в задокументированном TRC виде, оказываются примиренными в большей степени. В этом исследовании я понимаю под правдой правду TRC и ничего больше[482].
Для того чтобы замерить степень понимаемой таким образом «примиренности», Гибсон разработал набор утверждений, согласие или несогласие с которыми отражает степень усвоения правды о прошлом периода апартеида. Удобство этих утверждений, как отмечает автор, в том, что они просты (элементарны), установлены в процессе работы комиссии, не вызывают споров среди лидеров примиряемых сторон, тесно связаны между собой и широко разделяются если не в Африке, то международным сообществом. Вот эти тезисы:
1. Апартеид был преступлением против человечности. (Верно.)
2. Борьба за сохранение апартеида была справедливой. (Неверно.)
3. Хотя в годы действия системы апартеида существовали отдельные злоупотребления, идеи, лежащие в ее основе, были в принципе хорошими. (Неверно.)
4. Злоупотребления, совершенные в годы апартеида, — по большей части дело рук отдельных преступников, а не государственных институтов. (Неверно.)
5. И те, кто боролся за апартеид, и те, кто боролся против него, в ходе этой борьбы совершали вещи, простить которые невозможно. (Верно.)[483]
Этот список и стоящий за ним подход — попытка сформулировать краткий, внятный и являющийся результатом продуманного компромиссного процесса набор тезисов, по которому можно стремиться к общенациональному консенсусу. Такой подход крайне интересен как образец для России. Конечно, тезисы Гибсона — не единственный пример такого рода. Среди их аналогов можно упомянуть, например, так называемое «рабочее определение антисемитизма», разработанное Международным альянсом в память о Холокосте[484].
На российской почве примером такого списка тезисов могут служить принятое партией «Яблоко» 28 февраля 2009 года заявление «Преодоление сталинизма и большевизма как условие модернизации России в XXI веке»[485] и принятый партией ПАРНАС 2 июня 2018 года «Комплекс мер по реализации политики исторической памяти»[486]. Сама формулировка такого списка тезисов, описывающих отношение к советскому прошлому, представляет собой довольно нетривиальную задачу. Тезисы должны быть тесно связаны друг с другом, образовывая органичное целое, не упускать ничего принципиально важного и при этом не быть избыточными.
Тезисы
Предлагаемый ниже список тезисов — не более чем пример, позволяющий увидеть, как конкретный набор утверждений может высвечивать определенные акценты в общественно-государственных дискуссиях, определять политику памяти о советском прошлом и тональность разговора о нем.
Главное отличие предлагаемого списка от тезисов Гибсона и им подобных в том, что они не ограничиваются исключительно положениями морального характера. Тезисы Гибсона рассчитаны на общество, только что вышедшее из апартеида, они имеют дело непосредственно с его наследием. Российское общество сегодня вынуждено преодолевать не только собственно наследие советского террора, но и многолетнюю традицию его оправдания, в том числе через мифы об «эффективности» сталинской системы и всеобщем доносительстве.
Программа-минимум; тезисы о советском государственном терроре
1. Жертвами незаконного и незаслуженного преследования со стороны государства с 1918 по 1953 год стали в общей сложности не менее 24,5 млн человек (из них не менее 5 млн были убиты или доведены до преждевременной смерти).
2. Политические репрессии представляли собой государственный террор против собственного народа, неотъемлемую черту политического устройства СССР, а не отдельные разрозненные случаи злоупотреблений.
3. Ответственность за репрессии в полной мере лежит на руководстве СССР и лично Ленине и Сталине; система доносительства была результатом кампаний террора, но не их причиной.
4. Сталинская экономика — мобилизационная индустриализация и зависимость от дешевого принудительного труда — была неэффективной и в конечном счете обусловила крах СССР.
Программа-максимум; тезисы о советской политической системе в целом
1. Советская диктатура была бесчеловечным государственным устройством, неотъемлемой частью которого был государственный террор против собственного населения; советский террор был последовательной и продуманной государственной политикой, а не чрезвычайной мерой или результатом случайных злоупотреблений.
1.1. Ответственность за репрессии в полной мере лежит на руководстве СССР и лично Ленине и Сталине; система доносительства была результатом кампаний террора, но не их причиной.
1.2. Жертвами незаконного и незаслуженного преследования со стороны государства с 1918 по 1953 год стали в общей сложности не менее 24,5 млн человек (из них не менее 5 млн были убиты или доведены до преждевременной смерти).
1.3. Террор был важнейшим инструментом целенаправленной политики дезинтеграции общества, приведшей к разрыву горизонтальных связей, всеобщей подозрительности, подавлению инициативы на всех уровнях, боязни высказывать собственное мнение.
2. Экономическая модель СССР, плановая экономика мобилизационного и административно-командного типа с ликвидацией частной собственности была неэффективной; развал СССР был закономерным итогом этой модели, а не результатом происков внешних или внутренних врагов.
2.1. Индустриализация 1929–1941 годов, стимулировав производство и превратив СССР из аграрной страны в промышленную, обернулась громадными издержками для населения и в итоге привела к снижению и производительности труда, и общественного благосостояния.
2.2. Массированное и системное использование принудительного труда (объекты ГУЛАГа, колхозы, многочисленные «чрезвычайные законы» и т. д.) оказывало разлагающее влияние на экономику в целом, приводило к деградации целых ее секторов, поощряло произвол и волюнтаризм руководства всех уровней.
3. Идеология, на которой строилась советская диктатура — интересы государства важнее жизни отдельного человека, — преступна и не может быть идеологическим основанием современного цивилизованного государства.
4. Советская действительность во всех сферах держалась на лжи и двоемыслии, возведенных в систему. При декларируемом народовластии, верховенстве закона, равенстве возможностей, свободе слова, вероисповедания, собраний, в реальности имела место очевидная для всех имитация этих принципов. Это порождало пассивность и безответственность на всех уровнях, цинизм и недоверие граждан по отношению к государству и друг к другу.
5. Борьба с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, будучи исключительным случаем совпадения интересов, чувств и устремлений народа и властей, была героической защитой страны (и территорий других стран) от безусловного зла. Однако вело эту войну государство, не дорожащее жизнями своих граждан, и делало это мерами нередко преступными по отношению к собственным гражданам, а также к военным и гражданскому населению других стран.
6. Победа СССР в войне, освободив Европу от нацизма, обрекла страны Восточной и Центральной Европы на десятилетия коммунистических диктатур, принесших с собой массовые убийства, нарушения прав и свобод человека, невосстановимые человеческие, культурные и экономические потери.
7. Развал СССР как преступной и неэффективной системы означал историческую правоту и победу тех общественных сил и отдельных людей, которые сопротивлялись государству и создавали стратегии ухода от него. Эти силы, даже будучи ослаблены десятилетиями террора и несвободы, оказались эффективнее и перспективнее государственной машины.
Формулирование подобного списка тезисов предполагает, во-первых, общественную дискуссию, во-вторых — активизацию исторических, социологических и других исследований. Тезисы могут определять акценты, которые стоит делать, например, при определении концепции государственных музеев и мемориалов, посвященных истории ГУЛАГа. Ведь рассказ о ГУЛАГе как об эксцессе или одном из трагических эпизодов истории страны строится принципиально иначе, чем рассказ о нем как о примере доведения до логического конца принципов, на которых строилось целое государство.
Разворачивая тезисы
Каждый из этих тезисов должен предполагать определенную исследовательскую и популяризаторскую программу. Покажем это на примере тезисов из «короткого списка».
Тезис 1. Жертвами незаконного и незаслуженного преследования со стороны государства с 1918 по 1953 год стали в общей сложности не менее 19,8 млн человек (из них не менее 2,3 млн были убиты или доведены до преждевременной смерти).
Именно подсчет и публикация таких данных — одна из главных задач любой Комиссии правды[487]. Отсутствие в России официально признанного и ставшего общественным достоянием числа жертв — важный показатель того, что работа по подведению черты под советским прошлым блокирована. По словам историка Яна Рачинского, главы общества «Мемориал» и руководителя проекта, посвященного созданию максимально полной базы жертв репрессий, первоначально создание общегосударственной базы жертв террора должно было стать частью госпрограммы по увековечиванию памяти жертв. Однако «надежды на государство оказались тщетны, и пришлось разрабатывать другой механизм, ориентированный на доступные источники»[488]. В современной России любой разговор о числе жертв репрессий сразу превращается в идеологический спор между теми, кто стремится «нормализовать» репрессии, и теми, кто стремится доказать, что преступления сталинизма сопоставимы с жертвами нацизма или превышают их.
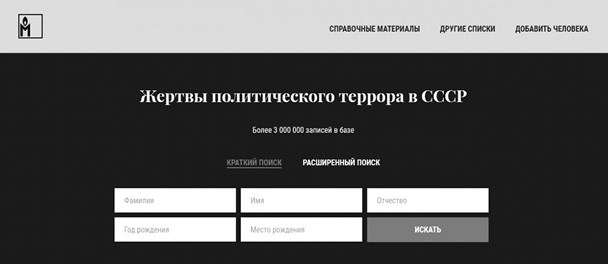
Ил. 78. Главная страница базы данных «Жертвы политического террора в СССР»
Между тем консенсус относительно цифр достижим гораздо проще, чем по любому другому поводу. Именно в этом случае ярче всего работает принцип комиссий правды — договариваться проще вокруг фактов («правды»), а не вокруг их оценок. И разговор о числе жертв вполне сводим к разговору о конкретике — классификации жертв, методологии подсчета и конкретных цифрах.
И хотя работа по подсчету максимально точного числа жертв затруднена неучастием в ней государства, база для такой работы, позволяющая говорить о минимальном точно известном количестве жертв, уже заложена и не подвергается сомнению специалистами. Многолетние исследования Арсения Рогинского, одного из лучших специалистов в этой области, ждут своей научной публикации. В настоящее время к основным источникам по числу жертв относятся в первую очередь семитомник «История сталинского ГУЛАГа»[489], подсчеты Виктора Земскова[490], Александра Кокурина[491], Олега Хлевнюка[492] и Анатолия Вишневского[493]. Среди кратких резюмирующих материалов по теме см.: Предисловие к наиболее полной на сегодняшний день базе данных «Жертвы политического террора в СССР»[494]; материал Елены Жемковой «Масштабы советского политического террора» на сайте общества «Мемориал»[495]; работы Николая Копосова[496] и Никиты Охотина с Арсением Рогинским[497] об оценке масштабов репрессий; обзорная статья Елены Кривень и Олега Наумова[498].
Таким образом, хотя сколько-нибудь окончательный подсчет жертв остается делом будущего, на сегодняшний день среди специалистов существует консенсус относительно минимальных цифр. Это те самые 19,8 млн подвергшихся неоправданным преследованиям, в том числе 2,3 млн смертей. Эти цифры складываются из следующих: не менее 4 млн человек получили тюремные и лагерные сроки по политическим статьям (из них не менее 1,1 млн расстреляны); не менее 6,3 млн подверглись депортациям в ходе кампаний раскулачивания (не менее 4 млн), высылки «наказанных народов» и других акций (из них не менее 1,2 млн погибли); не менее 9,5 млн были осуждены по трудовым указам 1940 года. Кроме того, в итоговую оценку не включены не менее 6 млн человек, ставшие жертвами спровоцированного властями голода 1932–1933 годов.
Эти цифры — именно несомненный и надежно подтверждаемый документально нижний порог; реальное же число незаслуженно пострадавших намного больше. Во-первых, эти цифры не учитывают жертв революционного террора и крестьянских восстаний 1918–1920‐х годов, статистика по которым затруднена. Во-вторых, за пределами точной статистики остаются: 1) неправосудно или неоправданно жестоко осужденные по уголовным статьям (в том числе по указам от 4 июня 1947 года); 2) члены семей осужденных, в том числе дети, родившиеся в ссылках и на спецпоселениях; 3) «лишенцы», то есть люди, лишенные избирательных прав в 1918–1936 годах; 4) жертвы ошибочных или временных арестов и задержаний, не получившие судебных приговоров. В число погибших должны включаться умершие в лагерях — общее их число за сталинский период (включая уголовников и умерших от естественных причин) — не меньше 1,7 млн. Всего же за годы существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошло около 20 млн человек.
Тезис 2. Политические репрессии представляли собой государственный террор против собственного народа, неотъемлемую черту политического устройства СССР, а не отдельные разрозненные случаи злоупотреблений.
Важный способ отрицания преступного характера репрессий — отрицание прямой ответственности руководства страны и лично Сталина за разворачивание террора. Представление репрессий как эксцесса исполнителей, помимо защиты мифа о Сталине как «эффективном руководителе», призвано защитить сами принципы государственной политики, которые якобы были верными, но оказались искажены при реализации. Еще один довод, работающий в этом направлении, состоит в том, что борьба с политической оппозицией имела место, но масштабные репрессии против ни в чем не повинных людей — результат самодеятельности на местах, человеческого фактора и выхода машины террора из-под контроля.
Однако можно считать доказанным, что репрессии, во-первых, не выполняли задачи борьбы с инакомыслием, оппозицией, вредительством, коррупцией или иностранными шпионами, а служили целью исключительно консолидации власти Сталина. Во-вторых, такая консолидация обернулась тем, что одержимость Сталина террором стала вредить даже локальным задачам усиления диктатуры.
Личные качества Сталина: подозрительность, безжалостность, склонность к крайностям, — пишет Олег Хлевнюк в «Жизни одного вождя», — сыграли определяющую роль в том, что государственный террор, очевидно являющийся неотъемлемой чертой тоталитарной власти в принципе, приобрел столь значительные масштабы и жестокость. Крайности и эксцессы террора являлись излишними даже с точки зрения потребностей диктатуры, а поэтому не только не усиливали, но ослабляли ее[499].
Таким образом, «политические репрессии» были не чем иным, как террором в собственном смысле этого слова, последовательно и сознательно развернутым государством против собственных граждан.
Тезис 3. Ответственность за репрессии в полной мере лежит на руководстве СССР и лично на Ленине и Сталине; система доносительства была результатом кампаний террора, но не их причиной.
Другой способ переложить ответственность за террор с руководства СССР на граждан, повязав их своего рода круговой порукой и переведя разговор с преступности конкретного режима на абстрактную порочность человеческой природы, — знаменитый довод о «четырех миллионах доносов». А потому важный тезис, который также должен стать предметом консенсуса, состоит в том, что доносы не были причиной кампаний террора. Это также можно считать фактом, доказанным историками. По словам Олега Хлевнюка,
основой обвинительных материалов в следственных делах были признания, полученные во время следствия. При этом заявления и доносы как доказательство вины арестованного в следственных делах встречаются крайне редко. <…> Запустив конвейер допросов с применением пыток, чекисты в избытке были обеспечены «врагами» и не нуждались в подсказках доносчиков. <…> Активизируясь по мере нарастания террора, доносы, несомненно, служили основанием для определенного количества арестов. Однако истинные причины эскалации террора, его цели и направления определялись вовсе не общественной активностью, а планами и приказами высшего руководства страны и деятельностью карательных органов, запрограммированных на фабрикацию дел о массовых и разветвленных контрреволюционных организациях[500].
Разговор о принятии ответственности за советское прошлое всеми гражданами современной России крайне важен. Но он принципиально отличается от перекладывания ответственности с виновных на невиновных и попыток ее размывания.
Тезис 4. Сталинская экономика — мобилизационная индустриализация и зависимость от дешевого принудительного труда — была неэффективной и в конечном счете обусловила крах СССР.
Вопрос об эффективности сталинской экономики (и конкретно индустриализации) — предмет особого интереса специалистов и широкой публики, потому что в глазах многих экономические успехи служат основанием для оправдания репрессивной политики советского государства. Особую значимость теме придает то, что именно присутствие репрессивных стратегий в экономике (роль в ней принудительного труда, общий мобилизационный характер, предпочтение политической логики перед экономической эффективностью) позволяет использовать ее как модель всей сталинской системы управления, показав тем самым и ее преступный характер, и неэффективность.
Хотя споры относительно деталей и подробностей все еще ведутся между специалистами, вопрос о неэффективности сталинской экономики считается в принципе решенным[501]. Поспешность, с какой сразу после смерти Сталина была свернута система ГУЛАГа ее прежними руководителями, — первое свидетельство в пользу этого[502]. Базу для новейших исследований сталинской индустриализации заложила книга Голланда Хантера и Януша Ширмера с показательным названием «Негодные основы: советская экономическая политика в 1928–1940 гг.»[503], остающаяся ценным источником и спустя четверть века после первой публикации. Одной из последних серьезных и неангажированных попыток представить историю индустриализации как историю успеха стала книга американского историка экономики Роберта Аллена «От фермы к фабрике»[504]. Однако аргументация и выводы этого исследования были признаны специалистами неубедительными[505].
В последние годы были предприняты успешные попытки подсчитать издержки коллективизации и рост экономики при Сталине средствами современной экономической науки. В опубликованном в 2011 году исследовании российский и британский историки экономики Андрей Маркевич и Марк Харрисон подсчитали данные ВВП России и СССР с 1913 по 1928 год[506]. Обработав огромный массив данных, они смогли связать картину роста ВВП в Российской империи и в СССР начиная с конца 1920‐х. Это позволило убедительно показать, что весь экономический рост эпохи «сталинской индустриализации», десятилетиями завораживавший наблюдателей и использовавшийся пропагандой для демонстрации успеха советской модели, — не более чем возвращение к дореволюционному тренду роста российской экономики.
Следующий важный шаг — собственно расчет эффективности сталинской индустриализации — предприняли Михаил Голосов, Сергей Гуриев, Антон Черемушкин и Олег Цивинский в исследовании «Был ли Сталин необходим для экономического развития России»[507]. Используя современные методы макроэкономического моделирования, авторы сравнили данные роста экономики в годы индустриализации (1928–1940) с ростом, который мог бы иметь место, если бы экономика развивалась по дореволюционным сценариям или по сценариям новой экономической политики 1920‐х годов. Обоим сценариям сталинская экономика безусловно проигрывает. Особенно любопытно сравнение советской индустриализации с японской, ведь до Первой мировой войны японская экономика находилась примерно на том же уровне и развивалась примерно теми же темпами, что и российская. «В отличие от Советского Союза, Японии <…> удалось провести индустриализацию без репрессий и без разрушения сельского хозяйства — и добиться при этом более высокого уровня производительности и благосостояния граждан»[508].
Авторы приходят к выводу, что коллективизация, неумелое планирование, гигантомания, огромный приток плохо обученной рабочей силы в годы индустриализации привели к падению производительности не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Производительность в сельском хозяйстве вернулась к дореволюционному тренду только к концу 1930‐х годов, но производительность в промышленности в это время отставала даже и от него (и была в полтора раз ниже, чем в 1928 году). Кроме того, за 1928–1940 годы благосостояние каждого жителя СССР снизилось на 24%. Чтобы ответить на вопрос, не были ли эти жертвы оправданы работой на долгосрочную перспективу, авторы подсчитали гипотетический эффект индустриализации в наиболее благоприятных условиях (без негативного эффекта Второй мировой войны). Оказалось, что при наиболее благоприятной конъюнктуре выгоды составили бы только 16% благосостояния, то есть не покрыли бы издержки.
Итак, на вопрос «нужен ли Сталин?» мы можем дать только один ответ — твердое «нет», — отмечают авторы статьи. — Даже не учитывая трагические последствия голода, репрессий и террора, даже рассматривая лишь экономические издержки и выгоды — и даже делая все возможные допущения в пользу Сталина — мы получаем результаты, которые однозначно говорят о том, что экономическая политика Сталина не привела к положительным результатам. Мы считаем, что сталинскую индустриализацию не следует использовать в качестве истории успеха в развитии экономики. Сталинская индустриализация — пример того, как насильственное перераспределение значительно ухудшило производительность и общественное благосостояние.
Приведенная здесь расшифровка кратких тезисов — лишь пример основы для программы их популяризации. В рамках работы общественного аналога комиссии правды соответствующая литература должна становиться достоянием широкой публики, а изложенные в ней факты и цифры — основой для образовательных программ, научно-популярных книг, интервью и публичных лекций, фильмов и инфографики. Пример того, как может выглядеть такая популяризация, — пятнадцатиминутный интерактивный документальный фильм «Павшие во Второй мировой войне» специалиста по визуализации данных Нейла Халлорана[509].
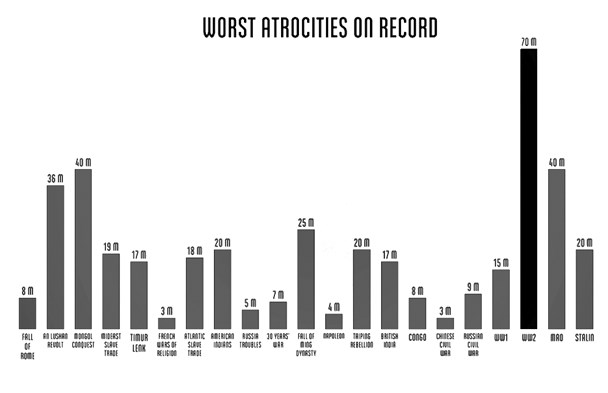
Ил. 79. Кадр из фильма Нейла Халлорана «Павшие во Второй мировой войне»
Такие проекты в России уже существуют. Например, сайт «Карта Памяти: Некрополь террора и Гулага»[510], созданный Фондом Иофе на базе данных «Мемориала». В 2017 году Государственный музей ГУЛАГа представил виртуальный проект «Интерактивная карта ГУЛАГа»[511]. Это визуальная репрезентация, представляющая собой пополняющуюся базу данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших в СССР с 1918 по 1960 год. Над созданием проекта (он создан на государственные деньги) работали представители «Мемориала», независимые исследователи, сотрудники государственных архивов и музеев. Источником данных для создателей карты послужили, в частности, базы общества «Мемориал». Этот проект, таким образом, — интересный пример объединения усилий всех сил общества по мемориализации памяти о государственном терроре, своего рода модель работы примирения.
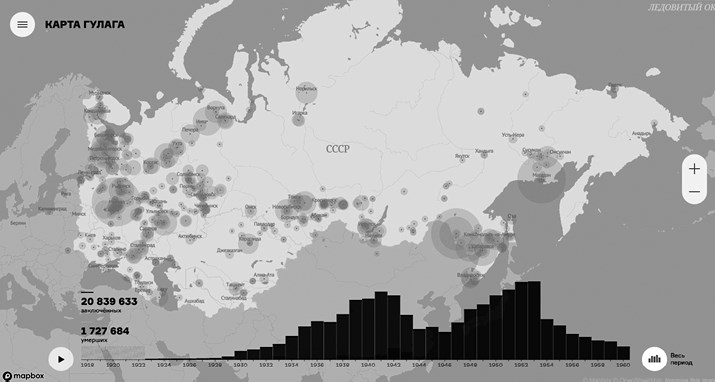
Ил. 80. Скриншот главной страницы сайта «Интерактивная карта ГУЛАГа». Предоставлено Музеем истории ГУЛАГа (gulagmap.ru)
Принципам организации работы по популяризации правды о советском государственном терроре будет посвящена следующая, заключительная глава этой книги.
6. Инфраструктура «прорыва памяти»
Известный российский физик-ядерщик Ксения Разумова многие годы была увлечена идеей издать воспоминания Ольги Лодыженской, своей тети, происходившей из обедневшего дворянского рода.
Незадолго до революции сестры Лодыженские с матерью унаследовали маленькое имение прадеда под Можайском. Ольга подробно описывает устройство быта в этом некогда процветающем доме, беззаботную жизнь ребенка, а затем молодой девушки, картины дореволюционного Можайска, быт и нравы московского института благородных девиц, куда поступают сестры. Но сразу после революции Лодыженские оказываются вынуждены покинуть имение, чтобы не пострадать как представители класса эксплуататоров. Семья сначала ютится по съемным квартирам, живет на скудные заработки сестер, затем с началом гражданской они отправляются на Украину, чтобы пересидеть там голод, вскоре возвращаются в Можайск и наконец перебираются в Москву, где в конце 1920‐х годов обретают подобие устроенности. Воспоминания написаны прекрасным языком с обилием деталей, живых диалогов и ярких бытовых зарисовок. Они обрываются на 1927 годе, после которого кратковременное подобие благополучия заканчивается, и начинаются испытания, примиряться с которыми рассказчице уже не позволяет даже ее веселый нрав — арест и смерть матери, смерть мужа любимой сестры после мучительных допросов на Лубянке и т. д.
Воспоминания долгие годы хранились в виде пухлых стопок машинописи. Затем племянница автора набрала их на компьютере и издала за свой счет в виде двухтомника тиражом в 100 экземпляров, которые дарила друзьям и знакомым. В середине 2010‐х на волне интереса к «литературе семейной памяти» этими воспоминаниями заинтересовалось одно из московских издательств, где они вышли более значительным тиражом и оказались на полках магазинов[512]. Один из экземпляров книги попал в руки к кому-то из представителей краеведческого сообщества города Можайск. И тут произошла неожиданная вещь.
Оказалось, что для довольно живого и активного местного краеведческого сообщества частная история одной семьи оказалась не просто бесценным источником по истории родного города, но ключом к целому пласту его истории. Имение, где жили Лодыженские, было хорошо известно краеведам, но связного рассказа о его истории накануне революции не существовало. Воспоминания Лодыженской оказались таким рассказом, сразу связавшим воедино множество разрозненных фактов, фотографий, легенд и обрывочных сведений.
Краеведческое сообщество Можайска забурлило, о книге Лодыженской написали сразу несколько местных изданий, Ксению Разумову с внучками и правнуком пригласили на встречу с краеведами и провели экскурсию по местам, упомянутым в воспоминаниях. Среди присутствующих на встрече были люди, благодарившие составительницу воспоминаний за то, что их предки, оказавшись упомянуты в воспоминаниях, словно бы вдруг выступили из небытия даже для них самих — их потомков. Семейная история, будучи изложена хорошим литературным языком в форме внятного последовательного рассказа, оказалась тем самым «нарративом», текстом, оказавшись наложенными на который, разрозненные данные, вещи и места нашли свое место, став иллюстрациями обретшего наконец цельность рассказа. Инфраструктуре памяти, хорошо выстроенной можайскими краеведами, не хватало только искры, события, которое привело бы ее в движение, пустило ток по уже существующей и ждущей этого сети.
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МЕТАКОМИССИИ ПРАВДЫ И ПРИМИРЕНИЯ
Классический сценарий расчета с трудным прошлым описан в небольшой статье австрийского историка, политолога и гражданского активиста Андреаса Майслингера «Расчет с прошлым»[513]. Майслингер сам по себе представляет некоторый интерес в рамках темы этого исследования. В 1992 году по аналогии с «Акцией искупления» Лотара Крейссига и в рамках усилия признания совиновности Австрии в преступлениях нацистов он основал «Австрийскую мемориальную службу». В качестве альтернативы военной службы молодым людям предлагалось поработать волонтерами в местах, связанных с памятью о Холокосте в 23 странах мира.
По Майслингеру, расчет с прошлым выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо прекращение собственно преступлений, а затем — демократизация общества и восстановление диктатуры закона. Только при соблюдении этих условий может возникнуть база для дальнейшего процесса, именуемого Wiedergutmachung; это понятие в техническом смысле означает репарации, а в широком — спектр мер по возмещению причиненного ущерба. Первым шагом такого рода возмещения ущерба должна быть юридическая квалификация совершенного преступления и наказание виновных. Вторым — финансовое возмещение пострадавшим. Третьим — и для этого случая снова существует удачный немецкий термин Trauerarbeit, «работа скорби», — деятельное хранение памяти, разработка нарративов о прошлом в рамках школьных программ, освещение темы в СМИ, формулировка политики памятных дат и их празднования, наконец, создание мемориалов[514].
Это прекрасная и складная схема, но уже из ее пересказа становится ясно, что случай России в нее не вписывается. Как показывают даже немногие рассмотренные в этой книге примеры, в нее не вписываются большинство стран, так или иначе преодолевающих трудное прошлое. Случай России — один из многочисленных примеров неклассического сценария расчета с прошлым, что вовсе не значит, что этот расчет в нашем случае невозможен или будет вечно буксовать. Это значит лишь то, что «классическая» последовательность шагов нарушена, но не отменяет того, что все эти условия рано или поздно должны быть и будут соблюдены.
На первый взгляд, модели осуждения государственного террора снизу, принуждение государства к памяти, как это было в Аргентине или в Испании, скорее исключение из правил. На самом деле, это намного более распространенный случай, чем немецкая модель. Уже сегодня в России существует множество проектов и инициатив, которые отчасти выполняют эти функции. Первым шагом подготовки работы «российской метакомиссии правды» могла бы быть «инвентаризация» таких проектов, их поддержка и распространение информации о них. Нет необходимости строить нечто принципиально новое. Институт переосмысления советского прошлого может быть построен на уже существующих основаниях.
Мемориалы
Лучшая иллюстрация того, что российскую модель бессмысленно сравнивать с моделями классическими, — открытый в октябре 2017 года в Москве Мемориал жертвам политических репрессий. Возведение этого памятника означало признание государством преступности политических репрессий и декларацию готовности гарантировать невозможность их повторения. Мемориал был возведен на проспекте, названном в честь самого известного советского диссидента, на его открытии присутствовали глава государства, предстоятель церкви, более других пострадавшей в годы террора, и вдова человека, написавшего главную книгу о ГУЛАГе. Такое открытие вполне могло бы происходить в Германии. Но только на первый взгляд. В то же самое время, когда на проспекте Сахарова открывали «Стену скорби», в СИЗО города Петрозаводска ожидал приговора Юрий Дмитриев — один из тех, кто за последние 20 лет сделал больше других для сохранения памяти жертв террора (среди выступивших в его защиту была не только упомянутая вдова писателя, но и автор мемориала), число уголовных дел против инакомыслящих уверенно шло вверх, а половина граждан России признавались в позитивном отношении к Сталину.
В дискуссии, развернувшейся накануне открытия памятника, критики этой инициативы, преимущественно из диссидентских кругов, опасались, что его установка будет означать окончательный захват чекистами темы памяти о репрессиях, и призывали историков и правозащитников дистанцироваться от этого проекта. В подтверждение приводились вполне справедливые соображения о выборе намеренно периферийного места размещения мемориала и скульптурного решения, делающего акцент на безличности жертв и избегающего формирования личной памяти.
В самом деле, образцовые мемориалы или музеи такого рода в странах классической модели располагаются центре столицы — как Мемориал жертвам Холокоста в Берлине рядом с Бранденбургскими воротами или Музей афроамериканской истории и культуры на Национальной аллее в Вашингтоне. В крайнем случае, если в центре города места не находится (что довольно понятно в городах с богатой историей), мемориалы и музеи выносятся в символически важные места, иным способом подчеркивая исключительность мемориализуемого события. Мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме размещен на Горе Герцля, рядом с могилой отца-основателя государства Израиль, национальным кладбищем и важнейшими музеями. Мемориал жертвам геноцида в Ереване расположен на холме Цицернакаберт, символически главенствующем над городом. Символически возвышается над городом и Мемориал жертвам голодомора в Киеве, и мемориал «Девять башен» в Назрани, посвященный жертвам советских репрессий против ингушей и чеченцев. В последнем случае значение репрессий в национальной памяти подчеркивается еще и тем, что «Девять башен» символически главенствуют надо всем комплексом «Мемориала памяти и славы». Наконец, построенный Франсиско Франко мемориал в Долине павших, призванный символизировать примирение испанской нации после Гражданской войны, хотя и удален от Мадрида на 58 км, занимает огромное пространство 1350 гектаров и поражает размерами сооружений.
Еще один способ усилить значение монументального высказывания — поместить его в исторически важное место, пусть и не центральное или доминантное с пространственной точки зрения. Часто это символически важное место связано именно с мемориализуемыми преступлениями. Таковы выставочный центр «Топография террора» в Берлине, построенный на месте штаб-квартиры и тюрьмы гестапо, Мемориал жертвам Холокоста в Вене, расположенный на территории средневекового еврейского квартала над руинами сожженной в XV веке синагоги, «Пространство памяти» в одной из главных тюрем аргентинской хунты в Буэнос-Айресе и Парк памяти там же, расположенный на территории военного аэродрома, с которого совершались печально знаменитые «полеты смерти».
В рамках классического сценария мемориал жертвам советского гостеррора должен располагаться на Красной площади или в здании Лубянки — такие проекты уже предлагались на конкурс, организовывавшийся обществом «Мемориал» в 1988–1989 годах, — а предшествовать его установке должно осуждение виновных, люстрация всех причастных, демократизация и установление верховенства права. Но в российских условиях в ожидании верховенства права как предварительного условия установки мемориала жертвам государственного террора можно провести не один десяток лет. Примечательно, что в 2015 году за установку памятника высказались тогдашний глава «Мемориала» Арсений Рогинский и нынешний — Ян Рачинский. Споря с замечаниями о том, что российская власть не вправе возводить памятники жертвам репрессий, а возведенный ею памятник оскорбит их память, последний сказал буквально следующее:
С таким же успехом можно было спросить, а имел ли право Хрущев публиковать «Один день Ивана Денисовича». И должен ли был Солженицын стремиться к публикации, понимая, что и Хрущев сам не стерильно чист, и режим, вообще говоря, поменялся, но не так уж чтобы совсем радикально. И второй вопрос, с этим связанный: а если не ставить памятники, станет ли от этого лучше? А когда они тогда появятся? И за счет чего этот режим хоть как-то изменится? <…> Я думаю, что если <…> вдруг появится действительно выразительный памятник, это будет оказывать воздействие. Независимо от того, считает ли режим, что продолжаются политические репрессии, или не считает. Это, вообще говоря, о том, как соотносятся человек и государство. <…>
Если мы отказываемся как-то действовать, за счет чего произойдут перемены? Я думаю, что если бы в 1956 году поставили бы в самом коммунистическом, самом отвратительном виде все-таки какой-то памятник, это повлияло бы и привело бы к каким-то изменениям. И сегодня тоже четкое обозначение государством, пусть вопреки собственной воле, что это было, что к этому уже относятся с определенным осуждением, это само по себе тоже влияет на изменение атмосферы[515].
«Стена скорби», задуманная как носитель «резюмирующего» высказывания власти на тему трудного прошлого страны, на деле оказывается частью более широкого мемориального процесса, в котором не один, а много участников. В 2017 году открытие «Стены скорби» 30 октября стало лишь одной — пусть самой важной и освещаемой в СМИ — из проходивших в эти дни по всей стране церемоний, связанных с сохранением памяти о репрессиях. Важное место среди них принадлежит акциям «Возвращение имен» и «Молитва памяти». Совокупность общественных мемориальных практик и представляет собой общенациональный Мемориал жертвам советского террора. Процесс нарастания волны памяти в России уже идет, и перемещение темы репрессий с окраины коллективной памяти все ближе к ее центру — вопрос времени. Если «Стена скорби» сможет вписаться в этот процесс — тем лучше. Если не сможет, процессу пробуждения памяти это никак не помешает.
Архивы
Денис Карагодин и его расследование уже не единожды вспоминались на страницах этой книги. Феномен Карагодина важен и как пример заполнения вакуума, существующего на месте юридической проработки памяти о советском терроре, и как модель гражданского примирения, но в самом непосредственном виде это пример превращения поиска архивных документов в публичную акцию. История расследования Карагодина как медиапроекта началась с того, что в июне 2016 года он решил превратить свой личный сайт, на котором публиковал записи о ходе поисков информации о расстрелянном прадеде, из электронной записной книжки в инструмент поиска информации. Когда местное Управление ФСБ отказалось предоставить ему выписку из акта о расстреле прадеда, он решил действовать иначе:
При работе с бюрократическими системами (институции, учреждения, архивы) ты должен понимать, как они работают и как работают в них люди, их психологию, как осуществляется делопроизводство как таковое, — говорил Карагодин в интервью Deutsche Welle. — И такое понимание у меня было. И не просто понимание, но и теоретически-методологическое знание.
Ночью 4 июня 2016 года я решил перевести сайт в новый режим, когда он становился не просто моей онлайн-записной книжкой, но и инструментом. Я начал с его помощью собирать информацию от читателей, после того как Управление ФСБ России по Томской области не предоставило мне — в нарушение закона об ограничении доступа к документам 75 годами — выписку из акта о расстреле моего прадеда. Они утверждали, что эти документы в неудовлетворительном состоянии, хотя в копиях дела, которые я запросил, они были. Я хотел увидеть оригиналы, чтобы по ним можно было понять место хранения самого акта расстрела. Эту информацию мне заблокировали, поэтому я решил действовать новым методом. И он сработал[516].
Феномен расследования Карагодина важен напоминанием о том, что у любой бюрократической системы есть своя логика, свой «программный код», который может быть взломан. Резонанс расследования, когда Карагодину все же удалось получить копию расстрельного акта и восстановить всю цепочку виновных от непосредственных исполнителей приговора до его вдохновителя в лице Сталина, был в значительной степени вызван тем, что, оказывается, один человек, просто благодаря знанию «кода», вполне может взломать огромную и закрытую систему и извлечь из ее нутра свидетельства — и, значит, эти свидетельства в каком-то смысле неуничтожимы. В случае Карагодина поразителен переход сухого документального дискурса в экзистенциальный.
Есть, видимо, что-то, что невозможно уничтожить, — пишет Карагодин, комментируя имевшую широкий резонанс летом 2018 года историю с уничтожением в российских архивах учетно-архивных карточек заключенных ГУЛАГа. — Сколько бы людей ни было втайне убито, сколько бы ни было сожжено архивных документов по актам совместных приказов (в связи с истечением срока давности по хранению) — что-то всегда останется и засвидетельствует.
Меня занимает этот вопрос ретенции (сохранения в памяти приобретенной информации. — Republic), этого удержания, закрепления в документе чего-то. Чего? Почему? Каким образом? Зачастую, когда я работаю с биографическими документами на больших объемах данных, происходят какие-то совершенно фантастические вещи, мне их очень трудно объяснить. Видимо, в эти моменты включаются какие-то квантовые законы экзистенции[517].
Примеров, подобных случаю Карагодина, не один и не два, хотя они не так широко известны и обычно не выходят за границы сообщества историков и архивистов. Исследователь Сергей Прудовский, обнаруживший в августе 2017 года факт уничтожения учетных карточек заключенных, также начал свои архивные изыскания, стараясь найти свидетельства о смерти своего деда, и уже много лет добивается через суд рассекречивания незаконно засекреченных документов[518]. Председатель красноярского отделения общества «Мемориал» и составитель Книги памяти репрессированных Красноярского края Алексей Бабий много лет практически в одиночку занимается оцифровкой дел репрессированных из архивов своего региона[519]. За эти годы он не только превратил сайт Красноярского Мемориала в не имеющую аналогов базу данных, но и сформулировал целую философию эффективного использования интернета как инструмента[520]. В мае 2017 года под руководством историка и сопредседателя Нижнетагильского «Мемориала» Виктора Кириллова была подготовлена «Книга памяти немцев-трудармейцев Севураллага», — часть большого проекта, работа над которым идет не первый десяток лет[521]. В ситуации крайне затрудненного доступа в архивы, попыток поставить вне закона и «Мемориал» и вообще исследования истории советского террора, работа, начатая по всей стране в начале 1990‐х, не только не останавливается, но нередко получает новый размах и новый «драйв».
Скандал вокруг уничтожения карточек показал, что если тема будет в центре внимания, инструменты для воздействия на практику существуют, причем государственные институции могут действовать рука об руку с гражданскими инициативами. В 2018 году в МВД с предложением поучаствовать в этой работе по оцифровке дел репрессированных из ведомственных архивов обратились Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти[522].
Дело Дениса Карагодина привлекло невиданное до сих пор внимание к теме поиска и запрашивания информации о репрессированных родственниках. С 2018 года существует возможность подавать запросы в архивы ФСБ и МВД не выходя из дома, через портал «Госуслуги». Если «технологию» подачи таких запросов — возможно, и в форме исков — довести до автоматизма, государственным ведомствам придется перемещать границу запрещенного, пусть и при помощи создания манипулятивных и полуфиктивных инструментов. Так созданные в 2011 году командой Алексея Навального проекты, облегчающие гражданам подачу жалоб на деятельность городских чиновников РосЯма, РосПил, РосЖКХ, способствовали тому, что через несколько лет алгоритм был подхвачен госструктурами и имитационными оппозиционными движениями вроде Народного фронта для перехвата кризисной повестки. Однако в итоге возможность жаловаться на чиновников на глазах становится нормой, и чиновники вынуждены подстраиваться к новым условиям игры. То же самое вполне может коснуться архивной сферы, где могли бы работать проекты «РосПамять», «РосРеабилитация» или «РосПалачи».
Направления, в которых стоит действовать дальше, вполне очевидны. Это, во-первых, законодательные инициативы по облегчению доступа в архивы и пресечению незаконных практик отказа в доступе к документам, срок секретности на которые истек. Во-вторых, широкая публикация инструкций по «обходу блокировок» по аналогии и на основе опыта Карагодина, Прудовского и других и с привлечением сил и опыта юристов и правозащитников (юридическую поддержку усилий Прудовского с 2017 года осуществляет «Команда 29»).
Деятельность юристов в условиях усиления интереса к теме репрессий уже дает результат. Летом 2019 года Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу, поданную тремя детьми репрессированных, требующих обеспечить им право вернуться в город, где жили их родители[523]. Закон о реабилитации 1991 года дает им такое право, однако на деле осуществить его практически невозможно. Жалоба была поддержана юристами независимого Института права и публичной политики. В декабре 2019 года Конституционный суд согласился с жалобами и потребовал внести изменения в законодательство, обеспечив детям репрессированных максимально возможное возмещение причиненного вреда[524]. Дискуссия вокруг «права вернуться домой» оказалась не менее важной, чем само решение, привлекая к проблеме внимание и ставя вопрос об изменении неработающих законов и «пробуждении» спящих.
Не менее важна и просветительская работа. В последние годы в СМИ появляется все больше инструкций по поиску информации о репрессированных родственниках. В 2018 году ко Дню памяти жертв репрессий сразу несколько федеральных изданий опубликовали комментарии на этот счет крупнейших историков, архивистов, сотрудников Музея истории ГУЛАГа.
Стоит ли видеть целью работы «российской метакомиссии» создание некоего аналога «ведомства Гаука» — вопрос не особенно актуальный. Такие институции учреждаются не снизу, а сверху. Куда важнее на данном этапе перемещение всей темы в центр общественного внимания. Для этого программа реформирования режима доступа к архивам и вообще актуальность этого ресурса должна быть, во-первых, внятно прописана (по аналогии с тезисами из предыдущей главы), а во-вторых — включаться в программу партий и политических движений.
Исторические исследования
Исследование «Какое прошлое нужно будущему России» наглядно показало масштаб запроса на развитие инициатив, связанных с местной низовой памятью. Местные власти и активисты могут разрабатывать этот ресурс, ссылаясь на то, что в Москве это становится все более заметной модой.
До последнего времени такие центры памяти образовывались стихийно в качестве частных инициатив и существовали без серьезной финансовой и информационной поддержки. Сегодня в регионах России существует несколько десятков музеев, так или иначе посвященных истории советского террора. Обычно это экспозиции, существующие на базе местных краеведческих музеев или общеобразовательных школ (как упоминавшийся музей в поселке Тугач), но нередко это целиком частные музеи. Лишенный в настоящий момент помещения Музей туристического клуба «Лидер», созданный Иваном Игошиным в якутском поселке Хандыга, существует виртуально, в виде сайта[525]; музей, основанный Иваном Паникаровым в поселке Ягодное Магаданской области, располагается в его квартире[526]; Народный музей репрессий в городе Сусуман, экспозицию которого собрал Михаил Шибистый, разместился в городском торговом центре[527]. Однако в последние годы ситуация меняется. В 2015 году по инициативе московского Музея истории ГУЛАГа эти музеи организовали Ассоциацию музеев памяти[528], чтобы делиться опытом, проводить общие конференции, вместе искать финансирование и привлекать к своей работе экспертов и СМИ.
На базе некоторых из таких музеев могут существовать целые исследовательские центры. Так, на подмосковном Бутовском полигоне активно действует Мемориальный центр, среди задач которого — подготовка полноценного музея и полной базы данных пострадавших, собрание архива воспоминаний о преследованиях христиан в советское время и изучение международного опыта обустройства «мест памяти». Также Бутово — пример мемориала, вокруг которого существует сложившаяся культура коммеморации со стороны родственников убитых, многие из которых приезжают сюда регулярно.
Такого рода местные музеи и мемориальные центры — одновременно способ пробуждения идентичности местных жителей и локального сообщества и необходимая инфраструктура для оживления темы памяти о гостерроре в масштабах страны и общества. Оба эти условия необходимы для запуска работы «российской метакомиссии».
Популяризация
В октябре 2018 года телекомпания ТВ2 представила документальный фильм «Яр», посвященный истории Колпашевского яра[529]. В 1979 году в городе Колпашево под Томском Обь размыла берег, обнажив массовое захоронение времен Большого террора. Жители города, среди которых было много ссыльных, были привлечены властями к уничтожению трупов и сокрытию следов преступлений сорокалетней давности. Это первый фильм из запланированной ТВ2 серии «Антропология террора»[530]. ТВ2, одна из первых негосударственных телекомпаний в России, прекратила свое вещание в 2015 году. Сейчас она работает как интернет-сайт и агентство новостей; деньги на съемку документальных фильмов собираются краудфандингом.
Прошедший в октябре 2017 года в московском офисе общества «Мемориал» медиахакатон (совместный мозговой штурм журналистов популярных столичных СМИ и экспертов «Мемориала») обернулся публикацией полутора десятков материалов об истории репрессий: от энциклопедии репрессий для детей и полуигровых тестов и «карточек» с ответами на самые элементарные вопросы до серьезных интервью и вдумчивых репортажей. Этот опыт показал, что тема истории советского террора — вовсе не нишевая и маргинальная, интересная только узкому кругу интересующихся, что она интересна всем, не имеет возрастного или иного ценза.
Как показывает опыт других стран, важный ресурс популяризации памяти о трудном прошлом — художественная литература и кино. Книги о советском терроре становятся одной из заметных тем современной русской литературы. «Предел забвения» Сергея Лебедева (2010), «Обитель» Захара Прилепина (2014), «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016), «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузели Яхиной (2015, 2018), «Восстание» Николая Кононова (2018) — вот только несколько романов последних лет, посвященных этой теме и ставших значимыми культурными событиями. Рано или поздно, когда таких текстов становится много, а к теме формируется устойчивый интерес, подобные книги оказываются литературной основой для фильмов, способных приобщить к теме многомиллионную аудиторию.
Впрочем, как показывает пример Германии, Испании или Японии, для реального изменения интеллектуального климата в масштабах общества тема репрессий должна из высокой литературы перетечь в по-настоящему массовые жанры от комиксов до детективов. Сегодня она там присутствует по большей части в виде книг и фильмов об отважных сподвижниках Сталина, но не о его жертвах. Противоположные примеры есть — можно вспомнить детские книги «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и «Дети ворона» Юлии Яковлевой или проникновение темы в популярную молодежную культуру: «Я ГУЛАГ, а ты Варлам Шаламов» у репера Оксимирона или уже упоминавшийся фильм Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха», ставший едва ли не главным медиасобытием весны 2019 года. Но пока таких примеров сравнительно немного.
ПОДГОТОВКА ПРОРЫВА
Перечисленные примеры — основа инфраструктуры памяти, провода, по которым должен быть пущен ток. Как ни парадоксально это звучит, вынос останков Ленина и Сталина с Красной площади и установка там мемориала жертвам репрессий, криминализация оправдания советского террора на законодательном уровне, решение вопроса о символических и материальных компенсациях пострадавшим и извинениях перед жертвами и их родными в России и за ее пределами на государственном уровне — все это меры, необходимые для успешного расчета с прошлым и стабильности демократического устройства. Но по сравнению с задачей формирования общественного консенсуса о советском прошлом все это вопросы технические.
Формированию такого консенсуса может способствовать только выстраивание и укрепление той самой инфраструктуры для усиления собственной идентичности тех, для кого эта память своя, и ее популяризации для всех остальных. «Ток по проводам», волна в масштабах страны запускается стихийно, не в результате долгих расчетов и тщательно выверенных усилий. Статья Эмилио Сильвы «Мой дед — тоже Desaparecido», запустившая волну эксгумаций братских могил в Испании, или «Холокост» Эрвина Чомски, сыгравший во многом похожую роль в Германии, не были рассчитаны на подобный эффект. Такие события играют роль последней капли, переполняющей терпение и запускающей процесс, когда для него уже готова инфраструктура. Разработка такой инфраструктуры — в частности, в описанных здесь чертах — и есть сегодня главная задача тех, кто заинтересован в успехе дела осознания в России и реализации работы российской метакомиссии правды и примирения.
Мы начали эту книгу с краткого экскурса в историю формулы «никогда снова». В заключение разговора имеет смысл снова к ней вернуться. То, как эта формула постоянно играет значениями и акцентами, высвечивая то один, то другой, превращаясь из этической максимы в призыв к действию, из юридического феномена в пацифистский «мем», очень эмблематично для работы с памятью вообще. Требование не допустить повторения преступлений прошлого все время присутствует в различных «силовых полях» смыслов. Упрощая и обобщая, можно выделить два противонаправленных смысловых полюса. Для историков, правозащитников, психологов травмы и антропологов, занимающихся свидетельствами выживших жертв, принципиален акцент на том, что совершившаяся трагедия уникальна и неописуема до конца во всем ее драматизме, и принципиален императив «держать раны открытыми», потому что любая контекстуализация трагедии и приглушение боли способствует их «нормализации» и таким образом увеличивает вероятность повторения. Для юристов, политиков, членов комиссий правды и примирения и тех, кто исследует работу этих комиссий, напротив, важно стараться обобщить и универсализировать опыт трагедий ради нахождения рецептов их «преодоления», и обнародование правды, фактов о преступлениях ценно для них не само по себе, а как прагматический процесс, служащий «демократическому будущему», в рамках которого бывшие жертвы и бывшие преступники, или потомки тех и других, должны сосуществовать в едином пространстве.
Идеального и стабильного баланса между императивом памяти и императивом примирения, универсальных способов привести их к общему знаменателю не существует. Это всегда зыбкое и нестабильное равновесие, требующее постоянной работы, как видимая плавность движений канатоходца требует постоянной концентрации и неослабевающего усилия. Единственный способ эффективно работать в этом поле — попытка удерживать в поле зрения оба полюса.
Главный вывод, к которому приводит представленное в этой книге рассмотрение опыта разных стран по проработке собственного прошлого, также балансирует на пересечении двух этих перспектив. Хотя трагедия каждого государства, пострадавшего от государственного террора, уникальна, набор сценариев проработки трагического опыта и механизмов, призванных сделать невозможным его повторение, ограничен. И случай России, при всей неизмеримости ее трагедии и специфичности ее обстоятельств, не уникален на международном фоне.
Опыт других стран позволяет назвать главные условия успешной проработки трудного прошлого. Прежде всего, попытки вытеснить память о таком трудном прошлом, как массовый террор против собственных граждан, в подполье и подсознание, замолчать его, обречены на неудачу. Сколько бы власть или общество ни пытались устанавливать «пакт молчания» о трудном прошлом, сколько бы ни предпринимали попыток «подвести черту» в смысле его отсечения и забвения — все это только загоняет травму и боль в подполье, где они невидимым образом ведут свою разрушительную работу. Рано или поздно этот нарыв прорвется, и чем усерднее будут попытки закрыться от прошлого, тем более неконтролируемым и разрушительным окажется прорыв. «Замороженные конфликты» памяти обладают не менее опасным потенциалом, чем «замороженные конфликты» в международных отношениях. Отказываясь от полноценной проработки прошлого, Россия только в большей степени оказывается его заложником, растравливая исторические болячки у себя и своих соседей. Чтобы распрощаться с трудным прошлым, необходимо его принять, как принимают травму.
Чтобы работа принятия оказалась полноценной и результативной, необходимо переместиться с позиции внешнего наблюдателя, обвиняющего, на позицию участника, принимающего ответственность. Вместо «нюрнбергской модели», принципиально возможной только в ситуации внешнего суда, необходимо ориентироваться на модель национального примирения, не отменяющего осуждение преступлений и называние имен преступников, но подчиняющего это главной задаче.
Этической основой этого процесса должен стать перенос акцента с вины отдельных лиц на ответственность всего общества. Полем для прояснения этих категорий должно стать обращение к семейной памяти, запускающей проработку трудного прошлого на индивидуальном уровне. Институтом такого примирения может стать адаптированный к российским условиям аналог комиссии правды и примирения. Основой программы этого института должна стать публикация информации о советском государственном терроре, стимуляция научных исследований и общественной дискуссии на эту тему. Все это должно подготовить общество к осознанию необходимости нового консенсуса относительно советского прошлого.
Усилие проговаривания правды о себе невероятно трудно, но оно окупается приобретением морального, а в итоге и политического капитала, обесценить который невозможно. Ведь когда идентичность нации держится на лжи и умолчаниях, нация, по выражению Томаша Гросса, вместо того чтобы жить собственной жизнью, обречена на постоянное беспокойство и неуверенность, постоянный страх быть уличенным, обречена то и дело «недоверчиво оглядываться, пытаясь догадаться, что о нас думают другие, отвлекать внимание от стыдных эпизодов в прошлом и все время защищать свое доброе имя, усматривая в каждой своей неудаче заговор чужаков». Этот страх и неуверенность отравляют гордость за прошлое даже там, где для нее есть основания, даже память о славных страницах прошлого, если они перемешаны с постыдными страницами, правда о которых продолжает скрываться.
Самостоятельно заговаривая о собственной ответственности, нация не только освобождается от постоянного страха быть уличенной, но обезоруживает критиков и зарабатывает капитал, обесценить и нивелировать который очень трудно. Одно из самых распространенных возражений против переоценки истории состоит в том, что напоминание о подобных темах вредит позитивной самоидентификации россиян, мешает испытывать гордость за свою страну и свое прошлое. Но куда больше такой позитивной самоидентификации вредит постоянный страх быть пойманным на лжи, неизбежно сопровождающий отказ от реальной проработки этих тем. Принятие же ответственности за прошлое дает основания для реальной гордости. По словам посетителей мемориала жертвам линчеваний в Монтгомери и Музея афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, самое сильное чувство, которое испытывает выходящий оттуда человек, — гордость за величие американского народа, способного проделать над собой такую работу. Именно в основаниях для такой гордости, подлинной и доброкачественной, настоятельно нуждаются сегодня российское общество и государство.
Российское трудное прошлое — не только общая боль, но громадный ресурс для тех, кто решится всерьез способствовать работе по его действенному переосмыслению.
К ГЛАВЕ 2. ГУЛАГ (РАЗДЕЛ I)
Литература о советском терроре
История советского террора — большая и хорошо развитая область исследований. В ней по-прежнему есть довольно много белых пятен, объясняющихся недостатком источников, малодоступностью архивов и отсутствием широкого содействия такого рода исследованиям со стороны государства, однако эта тема хорошо разработана в российской и зарубежной историографии. Между тем широко известны и активно используются в публичной дискуссии всего несколько работ. Действенная проработка прошлого возможна только при широкой общественной дискуссии о советском терроре, а для этого необходимо более основательное знакомство ее участников с предметом. Приводимая здесь библиография призвана обратить внимание неспециалистов на наиболее важные работы по теме — в ней есть как классические работы, важные для понимания истории исследований (этим объясняется включение, например, «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына и работ Роберта Конквеста), так и новейшие исследования, важные своей актуальностью. С этой оговоркой обзорные работы (такие, как монография Жюльет Кадио и Марка Эли) предпочитаются специальным, а новые старым.
Типологическая разбивка в целом соответствует структуре изложения, принятой в этой главе. Помимо этого, в отдельный раздел собраны работы, посвященные локальным темам, без которых понимание истории ГУЛАГа невозможно (голод 1930‐х, депортации, сталинские стройки и т. д.).
Общие работы
Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Пер. с фр. А. А. Пешкова. М.: РОССПЭН, 2010.
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960: Документы / Сост. А. Кокурин, Н. Петров / Науч. ред. В. Шостаковский. М.: Международный фонд «Демократия», 2000.
ГУЛАГ: Экономика принудительного труда / Ред. Л. Бородкин, П. Грегори, О. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2008.
Иванова Г. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М.: Наука, 2006.
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920‐х — первая половина 1950‐х гг. Собрание документов: В 7 т. М.: РОССПЭН, 2004 [1. Массовые репрессии в СССР; 2. Карательная система. Структура и кадры; 3. Экономика ГУЛАГа; 4. Население ГУЛАГа: численность и условия содержания; 5. Спецпереселенцы в СССР; 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных; 7. Советская репрессивно-карательная политика и пенитенциарная система. Аннотированный указатель дел ГА РФ].
Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковски А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 2001.
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования: В 3 т. М.: Советский писатель — Новый мир, 1989.
Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2015.
Ширер Д. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок в Советском Союзе. 1924–1953. М.: РОССПЭН, 2014.
Эпплбаум Э. ГУЛАГ: паутина большого террора / Пер. с англ. Л. Мотылева. М.: МШПИ, 2006.
Barnes S. Death and Redemption. The Gulag and the Shaping of Soviet Society. Princeton University Press, 2011.
Cadiot J., Elie M. Histoire du Goulag. Paris: La Découverte, 2017.
Conquest R. The Great Terror: A Reassessment: 40th Anniversary Edition. Oxford University Press, 2007.
The Economics of Forced Labor. The Soviet Gulag / Ed. by P. Gregory, V. Lazarev. Stanford: Hoover Institution Press Publication, 2003.
GULAG. Texte und Dokumente 1929–1956 / Hrsg. von J. Landau, I. Scherbakowa. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.
Jakobson M. Origins of the Gulag, the Soviet Prison Camp System, 1917–1934. University Press of Kentucky, 1993.
Shearer D., Chaustov V. Stalin and the Lubianka. A Documentary History of the Political Police and Security Organs in the Soviet Union. 1922–1953. Yale University Press, 2015.
Shearer D. Policing Stalin’s Socialism. Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953. Yale University Press, 2009.
The Soviet Gulag: Evidence, Interpretation, and Comparison / Ed. by Michael David-Fox. University of Pittsburgh Press, 2016.
Гражданская война и Красный террор
Булдаков В. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 2010.
Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне 1917–1933. М.: РОССПЭН, 2008.
Кондрашин В. Крестьянство в России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М.: РОССПЭН, 2009.
Литвин А. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. М.: ЭКСМО, 2004.
Bullock D. The Russian Civil War 1918–1822. Oxford: Osprey Publishing, 2008.
Ryan J. Lenin’s Terror: The Ideological Origins of Early Soviet State Violence. London: Routledge, 2012.
Коллективизация и Большой террор
Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М.: РОССПЭН, 2010.
Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: В 4 т. / Ред. А. Берелович, В. Данилов. М.: РОССПЭН, 1998–2012.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939: В 5 т. / Ред. В. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола. М.: РОССПЭН, 1999–2006.
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30‐е годы: деревня. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004.
Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2009.
Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. М.: Новый Хронограф, АИРО-XXI, 2008.
Конквест Р. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Лондон, OPI, 1988.
Hagenloh P. Stalin’s Police. Public Order and Mass Repression in the USSR, 1926–1941. Washington, Baltimore: Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, 2009.
Khlevniuk O. The History of the GULAG. From Collectivization to the Great Terror. Yale University Press, 2004.
Werth N., Berelowitch A. L’ État soviétique contre les paysans. Rapports secrets de la police politique (Tcheka, GPU, NKVD), 1918–1939. Paris: Tallandier, 2011.
Война
СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / Под редакцией О. Будницкого и Л. Новиковой. М.: РОССПЭН, 2014.
Гарвардский проект: рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне / Под ред. О. Будницкого и Л. Новиковой. М.: РОССПЭН, 2019.
Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939–1946. Сост. В. Н. Хаустов и др. М.: Международный фонд «Демократия», 2006.
Bell W. Stalin’s Gulag at War: Forced Labour, Mass Death, and Soviet Victory in the Second World War. University of Toronto Press, 2019.
Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
Послевоенные годы
Добренко Е. Поздний сталинизм. Эстетика политики: В 2 т. Т. 1, 2. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
Петров Н. По сценарию Сталина: роль органов НКВД — МГБ СССР в советизации стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2011.
Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2011.
Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2011.
Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956) / Пер. с англ. Л. Мотылева. M.: Московская школа гражданского просвещения, 2015.
Отдельные темы: депортации, спецпоселенцы, голод, дети и т. д.
Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. М.: Международный фонд «Демократия», 2011–2013.
Дети ГУЛАГа: 1918–1956 / Ред. А. Яковлев; сост. С. Виленский, А. Кокурин и др. М.: Международный фонд «Демократия», 1998.
Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода. Сельское хозяйство СССР, 1931–1933 / Пер. с англ. О. Вздорик под ред. Л. Пантиной. М.: РОССПЭН, 2011.
Земсков В. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М.: Наука, 2005.
Козлова А., Михайлов Н., Островская И., Щербакова И. Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах. М.: Agey Tomesh, 2016.
Кокурин А., Моруков Ю. Сталинские стройки ГУЛАГа: 1930–1953. М.: Международный фонд «Демократия», 2005.
Полян П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. 2‐е изд., перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2002.
Полян П. Не по своей воле: история и география принудительных миграций. М.: О. Г. И. — Мемориал, 2001.
Виола Л. Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпоселений / Пер. с англ. Е. Осокиной. М.: РОССПЭН, 2010.
К ГЛАВЕ 1. АРГЕНТИНА (РАЗДЕЛ II)
Amador C. M. Ethics and Literature in Chile, Argentina, and Paraguay, 1970–2000. Palgrave, 2016.
Anderson L. E. Democratization by Institutions: Argentina’s Transition Years in Comparative Perspective. University of Michigan Press, 2016.
Baer A., Sznaider N. Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era: The Ethics of Never Again. London; New York: Routledge, 2016.
Bonner M. D. Sustaining Human Rights: Women and Argentine Human Rights Organizations. Pennsylvania State University Press, 2007.
Delgado A. Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina. University of South Florida, 2013.
Feitlowitz M. A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture. Oxford University Press, 1998.
Jelin E. State Repression and the Labors of Memory / Transl. By Judy Rein and Marcial Godoy-Anativia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. [Оригинал: Jelin E. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno España Editores, s. a., Siglo Veintiuno de Argentina Editores, 2002]
Maguire G. The Politics of Postmemory Violence and Victimhood in Contemporary Argentine Culture. Palgrave, 2017.
Payne L. A. Confessions of Torturers: Reflections from Argentina // Paper presented at the «TRC: Commissioning the Past» conference, organized by the Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) and the History Workshop (at Wits University). University of the Witwatersrand, South Africa, 11–14 June 1999.
Sutton B. Collective Memory and the Language of Human Rights Attitudes toward Torture in Contemporary Argentina // Latin American Perspectives. № 42 (3). P. 73–91.
Sutton B. Surviving State Terror: Women’s Testimonies of Repression and Resistance in Argentina. New York: New York University Press, 2018.
Verbitsky H. The Flight. Confessions of an Argentine dirty warrior. New York: The New Press, 1996. [Verbitsky H. El vuelo. Buenos Aires: Planeta — Espejo de la Argentina, 1995.]
Ворожейкина Т. Специфика гражданского общества в Аргентине // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 6.
К ГЛАВЕ 2. ИСПАНИЯ (РАЗДЕЛ II)
Интернет-ресурсы
Карты захоронений на сайте, созданном в рамках работы парламентской комиссии: http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/mapafosas/Paginas/index.aspx; http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm.
«40 лет беспамятства», онлайн-проект испанского издания Eldiario.es к 40-летию смерти Франсиско Франко: https://desmemoria.eldiario.es/.
Проект «Память о гражданской войне в Испании». Архив аудиовизуальных материалов о франкистских репрессиях (совместный проект Калифорнийского университета в Сан-Диего, ARMH, Ассоциации жертв политических репрессий и Государственной федерации форумов памяти): http://libraries.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/about-eng.html.
Аргентинская организация, занимающаяся исками против преступлений франкистов: https://redaqua.wordpress.com/.
Литература
Aguilar P., Payne L. A. Revealing New Truths about Spain’s Violent Past. Perpetrators’ Confessions and Victim Exhumations. Palgrave, 2016.
Aguilar P., Ramírez-Barat C. Amnesty and Reparations Without Truth or Justice in Spain / Ed. by N. Wouters // Transitional Justice and Memory in Europe (1945–2013). Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, 2014.
Aguilar P. Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy. Oxford: Berghahn Books, 2002.
Armengou M., Belis R. Las fosas del silencio: ¿Hay un Holocausto español? Barcelona: Plaza and Janés, 2004.
Baer A., Sznaider N. Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era: The Ethics of Never Again. London; New York: Routledge, 2017.
Colmeiro J. F. Memoria histórica e identidad cultural: De la postguerra a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos, 2005.
Ferrándiz F. The Return of Civil War Ghosts: The Ethnography of Exhumations in Contemporary Spain // Anthropology Today. 2006. № 22, 3. P. 7–12.
Ferrándiz F. Unburials, Generals and Phantom Militarism // Current Anthropology. 2019. Vol. 60. Suppl. 19. February.
Preston P. The Spanish Civil War: Reaction, Revolution and Revenge. London: Harper Perennial, 2006.
Preston P. The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. London: Harper Press, 2012.
Silva E., Macías S. Las Fosas de Franco: Los Republicanos que el Dictador dejó en las Cunetas. Madrid: Temas de Hoy, 2003.
Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain / Ed. by C. Jerez-Farrán, S. Amago. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2010.
Капдепон У. Историческая память и диктатура Франко: общественная дискуссия в современной Испании / Пер. с нем. А. Юркевич // Уроки истории. 2014. 17 июня. https://urokiistorii.ru/article/52128. [Оригинал: Capdepon U. Der öffentliche Umgang mit der Franco-Diktatur // Bundeszentrale für politische Bildung. Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Bd. 36–37. S. 33–38.]
Реншоу Л. Правда вскрывается: как поменялись местами разоблачения и утаивание в «политике памяти» в Испании // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 475–493.
Федоров А. Репрессивная политика в ходе и после гражданской войны в Испании: история и полемика // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 45–66.
К ГЛАВЕ 3. ЮАР (РАЗДЕЛ II)
Colvin C. J. Overview of the Reparations Program in South Africa // The Handbook of Reparations / Ed. by Pablo de Greiff. Oxford University Press, 2006. P. 176–214.
Fox G. Remembering Ubuntu: Memory, Sovereignty and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa // Platforum. 2011. 12.
Gibson J. L. Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a divided Nation? New York: Russell Sage Foundation, 2004.
Gibson J. L. Overcoming Historical Injustices: Land Reconciliation in South Africa. Cambridge University Press, 2009.
Gibson J. L. Overcoming Intolerance in South Africa: Experiments in Democratic Persuasion. Cambridge University Press, 2002.
Gobodo-Madikizela P. A Human Being Died That Night: A South African Woman Confronts the Legacy of Apartheid. Boston: Mariner Books, 2004.
Gobodo-Madikizela P. Trauma, Forgiveness and the Witnessing Dance: Making Public Spaces Intimate // Journal of Analytical Psychology. 2008. № 53. P. 169–188.
Grunebaum H. P. Memorializing the Past: Everyday Life in South Africa after the Truth and Reconciliation Commission. Piscataway, NJ: Transaction Publishers, 2011.
Lovell F. Reparations Policy in South Africa for the Victims of Apartheid // Law, Democracy & Development. 1999. Vol. 3, 2. P. 209–222.
Payne L. A. Unsettling Accounts: Neither Truth Nor Reconciliation in Confessions of State Violence. Durham: Duke University Press, 2008.
Robins S. «Can’t forget, can’t remember»: Reflections on the Cultural Afterlife of the TRC // South-North Cultural and Media Studies. 2007. Vol. 21, 1.
Sarkin J. Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process. Antwerpen: Intersentia, 2004.
Sarkin J. Understanding the Journey to Reconciliation in Transitional Societies: Using the Metaphor of a Motor Vehicle Road Trip to Understand South Africa’s Path (Process) to Political Reconciliation // International Journal of African Renaissance Studies. Vol. 10. № 2. 2015. P. 87–103.
Stein D. J., Seedat S., Kaminer D., Moomal H., Sonnega J., Williams D. R. The Impact of the Truth and Reconciliation Commission on Psychological Distress and Forgiveness in South Africa // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2008. № 43. P. 462–468.
К ГЛАВЕ 4. ПОЛЬША (РАЗДЕЛ II)
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 1–38. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1997–2018.
Shared History — Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939–1941 / Ed. by E. Barkan, E. Cole, K. Struve. Leipzig: Simon-Dubnow-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur e. V., Leipziger Universitätsverlag, 2007.
Bachmann K. The Polish Paradox: Transition from and to Democracy // Transitional Justice and Memory in Europe (1945–2013) / Ed. by N. Wouters. Antwerp/Cambridge: Intersentia, 2014. P. 327–351.
Blonski J. Biedni Polacy patrzą na getto // Tygodnik Powszechny. 1987. 2. [Сокращенный русский перевод «Бедные поляки смотрят на гетто» // Новая Польша, 2009. № 3.]
Dąbrowski F., Peterman R. The Polish Experience // Memory of Nations: Democratic Transition Guide. The Czech/Egyptian/Estonian/German/ Polish/Romanian/Russian Experience. Praha: CERVO, 2017.
Davies N. God’s Playground: A History of Poland. Vol. 1: The Origins to 1795; Vol. 2: 1795 to the Present. New York: Columbia University Press, 1982.
Gross J. T. Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz: An Essay in Historical Interpretation. New York: Random House, 2006.
Gross J. T., Grudzińska-Gross I. Golden Harvest. New York: Oxford University Press, 2012. [Гросс Я. Т., Грудзинская-Гросс И. Золотая жатва / Пер. с польск. Л. Мосионжника. М.: Нестор-История, 2017.]
Gross J. T. Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. [Гросс Я. Т. Соседи. История уничтожения еврейского местечка / Пер. с польск. В. Кулагиной-Ярцевой. М.: Текст, 2002.]
Holc J. The Politics of Trauma and Memory Activism: Polish-Jewish Relations Today. Palgrave, 2018.
Leder A. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2014. [Leder A. Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939–1956 und ihre Folgen. Osnabrück: Fibre Verlag, 2019.]
Misztal B. The Banalization and the Contestation of Memory in Postcommunist Poland // Heritage and Identity. Engagement and Demission in the Contemporary World / Ed. by M. Anico, E. Peralta. London; New York: Routledge, 2009. P. 117–129.
Ochman E. Post-Communist Poland — Contested Pasts and Future Identities. London; New York: Routledge, 2013.
Ringelblum E. Polish-Jewish Relations During the Second World War / Ed. by J. Kermish, Sh. Krakowski. Evanston: Northwestern University Press, 1992. [Незаконченный русский перевод Анастасии Альпер с английского «Польско-еврейские отношения во время Второй мировой войны» доступен по адресу: https://sites.google.com/site/nyatki/polish-jewish-relations-during-the-wwii.]
Rosenberg T. The Haunted Land. Facing Europe’s Ghosts after Communism. New York: Random House, 1995.
Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010. [Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Пер. с англ. Л. Зурнаджи. Киiв: Дулебы, 2015.]
Uffelmann D. Theory as Memory Practice: The Divided Discourse on Poland’s Postcoloniality // Memory and Theory in Eastern Europe / Ed. by U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. Palgrave Macmillan, 2013. P. 103–124.
Vollhardt J. R., Bilewicz M., Olechowski M. Victims under Siege: Lessons for Polish–Jewish Relations and Beyond // The Social Psychology of Intractable Conflicts / Ed. by E. Halperin, K. Sharvit. New York: Springer, 2015. P. 75–87.
Zubrzycki G. History and the National Sensorium: Making Sense of Polish Mythology // Qual Sociol. 2011. 34. P. 21–57.
Зубжицки Ж. Polonia semper fidelis? Национальная мифология, религия и политика в Польше // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 44–78.
Столя Д. Польский ИНП становится «Министерством памяти»? // Историческая политика в XXI веке / Ред. А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 103–123.
Траба Р. Польские споры об истории в XXI веке // Pro et Contra. 2009. 13. C. 43–64.
Яновский М. Едвабне, 10 июля 1941 г.: дискуссия о событиях одного дня // Историческая политика в XXI веке. М: Новое литературное обозрение, 2012. С. 124–159.
К ГЛАВЕ 5. ГЕРМАНИЯ (РАЗДЕЛ II)
Assmann A. Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany // A Companion to Nazi Germany / Ed. by Sh. Baranowski, A. Nolzen, C.-Ch.W. Szejnmann. New York: Wiley-Blackwell, 2018. P. 583–598.
Barkan E. The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices. New York: W. W. Norton & Company, 2000.
Frei N. Adenauer’s Germany and the Nazi Past. The Politics of Amnesty and Integration Foreword by Fritz Stern / Transl. by J. Golb. New York: Columbia University Press, 2002.
Gabowitsch M. Foils and Mirrors: The Soviet Intelligentsia and German Atonement // Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities. Palgrave Macmillan Memory Studies, 2017. P. 267–302.
Gardner Feldman L. Germany’s Foreign Policy of Reconciliation: From Enmity to Amity. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2012.
Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions 2nd Edition. London; New York: Routledge, 2011.
Hammerstein K. Gemeinsame Vergangenheit — getrennte Erinnerung? Der Nationalsozialismus in Gedächtnisdiskursen und Identitätskonstruktionen von Bundesrepublik Deutschland, DDR und Österreich. Göttingen: Wallstein Verlag, 2017.
Mihr A. Regime Consolidation and Transitional Justice. A Comparative Case Study of Germany, Spain and Turkey. Cambridge University Press, 2018.
Olick J. K. In the House of the Hangman: The Agonies of German Defeat, 1943–1949. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Olick J. K. The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility. New York: Routledge, 2007.
Olick J. K. The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
Olick J. K. What Does It Mean to Normalize the Past? Official Memory in German Politics since 1989 // Memory and the nation. 22, 4. 1998. Winter. P. 547–571.
Rabinbach A. In the Shadow of Catastrophe: German Intellectuals between Apocalypse and Enlightenment (Weimar and Now: German Cultural Criticism). Berkeley: University of California Press, 2001.
Rotberg R. I., Thompson D. Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions. Princeton University Press, 2000.
Altendorf H., Förster J., Kaminsky A., Schaefgen Ch. The German Experience // Memory of Nations: Democratic Transition Guide. The Czech/Egyptian/Estonian/German/Polish/Romanian/Russian Experience. Praha: CERVO, 2017.
Weinke A. West Germany: A Case of Transitional Justice avant la lettre? // Transitional Justice and Memory in Europe (1945–2013) / Ed. Nico Wouters. Antwerp; Cambridge: Intersentia, 2014. P. 25–62.
Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» / Пер. с нем. М. Габовича // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–80.
Борозняк А. Проблема преодоления тоталитарного прошлого в Германии и России // Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. Материалы международной научной конференции, посвященной 10-летию объединения Германии). Кемерово: КемГУ, 2001.
Борозняк А. Уроки Германии в России еще не востребованы // Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. Международная конференция. М.: Фонд Фридриха Науманна, 2002.
Заломон Э. ф. Анкета. СПб.: Владимир Даль, 2020. Перевод с немецкого и комментарий Л. Ланника. [Оригинал: Salomon E. v. Der Fragebogen. Hamburg: Rowohlt, 1951.]
Кениг Х. Память о национал-социализме, Холокосте и Второй мировой войне в политическом сознании Федеративной Республики Германии // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа / Отв. ред. М. Габович. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
Лёзина Е. Память, идентичность, политическая культура и послевоенная германская демократия // Отечественные записки. 2013. № 6 (57). С. 162–176.
Лёзина Е. Юридическо-правовая проработка прошлого ГДР в объединенной Германии // Вестник общественного мнения. 2015. № 2 (115). С. 67–100.
Лёзина Е. Источники изменения официальной коллективной памяти (на примере послевоенной ФРГ) // Вестник общественного мнения. 2011. № 3 (109). С. 17–37.
Отношение к прошлому. Осмысление Германией двух ее диктатур / Сост. К. Кроуфорд, А. Смолина / Пер. с нем. Л. Эргюн. М.: РОССПЭН, 2018.
Шерер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. № 3–4 (46). С. 89–108.
Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / Пер. с нем. С. Апта. М.: Прогресс, 1999.
К ГЛАВЕ 6. ЯПОНИЯ (РАЗДЕЛ II)
Buruma I. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and in Japan. New York: Meridian Books, 1995.
Chang I. The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books, 2011.
Dixon J. M. Dark Pasts: Changing the State’s Story in Turkey and Japan. Ithaca: Cornell University Press, 2018.
Dower J. W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. 1st ed. New York: W. W. Norton, 1999.
Dower J. W. War without Mercy: Race and Power in the Pacific War. New York: Pantheon Books, 1987.
Dudden A. Troubled Apologies among Japan, Korea, and the United States. New York: Columbia University Press, 2008.
Gluck C. The «End» of the Postwar: Japan at the Turn of the Millennium // States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection (Politics, History, and Culture) / Ed. by Geffrey Olick. Durham: Duke University Press, 2003. P. 289–314.
He Y. The Search for Reconciliation: Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.
Kushner B. Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
Rose C. Interpreting History in Sino-Japanese Relations: A Case Study in Political Decision-Making. New York: Routledge, 1998.
Seraphim F. A Japan that Cannot Say Sorry? // Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities. Palgrave Macmillan Memory Studies, 2017. P. 25–46.
Seraphim. F. War Memory and Social Politics in Japan, 1945–2005. Harvard East Asian Monographs 278. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006.
Totani Y. The Tokyo War Crimes Trial: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2008.
Zwigenberg R. Hiroshima: The Origins of Global Memory Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Гринюк В. Политические проблемы храма Ясукуни // Проблемы Дальнего Востока. 2010. 4. С. 38–52.
Рёлинг Б. В. А., Кассезе А. За кулисами Токийского процесса. Размышления «поджигателя мира» / Пер. с англ. А. Евсеева. Харьков: Юрайт, 2015.
1
«Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung». Adorno Th. W. Erziehung nach Auschwitz (1966) // Erziehung zur Mündigkeit, Vorträge und Gespräche mit Hellmuth Becker 1959–1969. Herausgegeben von Gerd Kadelbach. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970. S. 92–109.
2
Это одна из сквозных мыслей, например, для авторов исторической части доклада «Какое прошлое нужно будущему России», опубликованного Вольным историческим обществом по заказу Комитета гражданских инициатив в начале 2017 года.
3
Массовые репрессии в СССР // ФОМ. 2014. 29 октября. https://fom.ru/Proshloe/11786.
4
Об этом см., напр.: Klimenko E. The Politics of Oblivion and the Practices of Remembrance. Repression, Collective Memory and Nation-Building in Post-Soviet Russia // Historical Memory of Central and East European Communism / Ed. by A. Mrozik, S. Holubec. New York: Routledge, 2018. P. 141–162.
5
О захоронении праха европейских евреев в Израиле по инициативе Симона Визенталя см.: Сегев Т. Симон Визенталь: Жизнь и легенды / Пер. с иврита Б. Борухова. М.: Текст, 2014. С. 8–14. О поимке Адольфа Эйхмана см.: Cesarani D. Eichmann: His Life and Crimes. London: Vintage, 2005; Bascomb N. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World’s Most Notorious Nazi. Boston; New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.
6
Историческая политика в XXI веке / Науч. ред. А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
7
Gabowitsch M. Foils and Mirrors: The Soviet Intelligentsia and German Atonement // Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities / Ed. by M. Gabowitsch. Palgrave Macmillan, 2017. P. 267–302.
8
Barkan E. The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices. London: W. W. Norton & Company, 2000.
9
Подробнее см. об этом в главе об Испании: часть II, глава 2.
10
Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 150.
11
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. М.: Советский писатель, 1989. Т. 1. С. 8.
12
Алексей Макаркин о фильме Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха» // The New Times. 2019. 29 апреля. https://newtimes.ru/articles/detail/180044.
13
Запись в Facebook от 24 апреля 2019 года.
14
См.: Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011, а также: Koposov N. Memory Laws, Memory Wars The Politics of the Past in Europe and Russia. Cambridge University Press, 2017.
15
По данным опроса «Левада-центра», в марте 2019 года доля россиян, положительно относящихся к Сталину, достигла 51%, а доля положительно оценивающих его роль в истории страны — 70%. Это максимальные показатели с 2001 года (Динамика отношения к Сталину // Левада-центр. 2019. 16 апреля. https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/). Впрочем, методы этого опроса были подвергнуты критике в профессиональной среде, см.: Юдин Г. Десять тезисов о любви к Сталину // Эхо Москвы. 2019. 19 апреля. https://echo.msk.ru/blog/grishayudin/2410897-echo/.
16
См., напр.: Леонова К., Апанасенко М., Павленко Е. и др. Сталин продает // Секрет фирмы. 2018. 21 ноября. https://stalin.secretmag.ru/.
17
Степанова М. Предполагая жить // Colta. 2015. 31 марта. https://www.colta.ru/articles/specials/6815-predpolagaya-zhit.
18
«Всякий, кто пытается зафиксировать российскую историю в соответствии с гегельянским мышлением как некое линейно развивающееся, поступательное действие, не понимает ее сути. Ни одна эпоха здесь не завершается, ни одна проблема не решается. Вопрос о том, стоили ли реформы Петра Великого, обеспечившие стране модернизацию и расцвет, жизней тьмы крепостных, которыми были оплачены царские мегапроекты, по сей день не утратил своей актуальности и продолжает обсуждаться. В Германии мир предстает метрическим, квадратным. Время протекает линеарно. Здесь учатся на ошибках прошлого, ставя тем самым на этом прошлом крест». Керстин Хольм. Мои 22 года в России // Colta. 2013. 11 декабря. https://www.colta.ru/articles/society/1478-moi-22-goda-v-rossii.
19
Железнова М. Тамбовский бюст тебе, товарищ // Русский Newsweek. 2010. № 21 (289). С. 56–59.
20
О важности Олимпиады в Сочи и ее освещения в российских СМИ для патриотической мобилизации см.: Островский А. Говорит и показывает Россия. Путешествие из будущего в прошлое средствами массовой информации / Пер. Т. Азаркович. М.: Corpus, 2019. С. 456–461.
21
Шимов Я. «Если нет будущего, остается только прошлое» // Радио Свобода. 2016. 6 июня. https://www.svoboda.org/a/27782275.html. О том, почему именно эта «мировоззренческая рамка» оказалась наиболее подходящей в условиях России середины и второй половины 2010‐х годов, см., например: Добренко Е. Поздний сталинизм. Эстетика политики. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Т. 1. С. 7–29.
22
Сталин в общественном мнении // Левада-центр. 2018. 10 апреля. https://www.levada.ru/2018/04/10/17896/.
23
Сюжет, разрабатывавшийся многими авторами европейской традиции, в том числе Лукианом Самосатским и Гёте, и не раз экранизировавшийся в XX веке, повествует о том, как в отсутствие волшебника его ученик решает оживить метлу, заставив ее носить воду, но не знает, как ее остановить.
24
В своей книге «Сталин» историк Олег Хлевнюк отмечает характерный для сталинского управления метод кампаний. Он компенсировал недостаток эффективного бюрократического аппарата, способного к длительной работе на законных основаниях. Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2015. C. 45.
25
Об этом см., напр.: Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
26
Традиция понимания октября 1917 года как вооруженного захвата власти на фоне анархии в стране, а не как социалистической революции, восходит к брошюре Карла Каутского 1919 года «Терроризм и коммунизм». Ее наиболее известным изложением стала книга Ричарда Пайпса «Русская революция». См.: Пайпс Р. Русская революция. Книга 1. Агония старого режима. 1905–1917. М.: Захаров, 2005. Также об этом см. работы: Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М.: РОССПЭН, 2014; Булдаков В., Леонтьева Т. Война, породившая революцию: Россия, 1914–1917 гг. М.: Новый хронограф, 2015.
27
Иванова Г. История ГУЛАГа. М.: Наука, 2006. С. 147.
28
См.: Ленин В. Государство и революция. Пг., 1917.
29
Троцкий Л. Терроризм и коммунизм. Пг., 1919.
30
«Напомним, что за время с 1825 по 1917 год число смертных приговоров, вынесенных судами дореволюционной России (включая военные суды) по так называемым „политическим преступлениям“, достигло 6360, при максимуме в 1310 приговоренных к смерти в 1906 году, в первый год реакции после революции 1905 года. <…> При этом надо учитывать, что в царской России все эти приговоры были вынесены после законной судебной процедуры, и значительная часть из них не была приведена в исполнение, но заменена каторжными работами». Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л. и др. Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии. М.: Три века истории, 2001. С. 100.
31
Черная книга коммунизма. С. 99.
32
Иванова Г. История ГУЛАГа. С. 122–150.
33
Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2015. С. 107.
34
Werth N., Berelowitch A. L’ État soviétique contre les paysans. Rapports secrets de la police politique (Tcheka, GPU, NKVD), 1918–1939. Paris: Tallandier, 2011. P. 247.
35
Наиболее убедительную оценку числа жертв см. в издании: Уиткрофт С. Показатели демографического кризиса в период голода // Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. / Отв. ред. В. В. Кондрашин. М.: МФД, 2013. Т. 3: Лето 1933–1934. С. 719–771. См. также: Современная российско-украинская историография голода 1932–1933 гг. в СССР / Науч. ред. В. Кондрашин. М.: РОССПЭН, 2011.
36
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Т. 2 / Ред. В. Данилов и др. М.: РОССПЭН, 2000. С. 703, 789, 804.
37
Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. С. 42.
38
Широков А. Дальстрой в социально-экономическом развитии Северо-Востока СССР (1930–1950‐е гг.). М.: РОССПЭН, 2014. С. 638.
39
Подробнее см., напр.: Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «большим»: Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М.: АИРО-ХХ, 2003; Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. М.: РОССПЭН, 2009; Репрессии против поляков и польских граждан / Сост. А. Гурьянов. М.: Звенья, 1997.
40
О проявлениях тоталитарной природы советского режима в рамках собственно военных действий речь пойдет в третьей части этой книги.
41
Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. Londres: The Bodley Head, 2010; Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы / Сост. П. Полян, А. Шнеер. М.: Новое издательство, 2006; Полян П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. 2‐е изд., перераб. и доп. М.: Российская политическая энциклопедия, 2002.
42
Полян П. Не по своей воле: история и география принудительных миграций. М.: ОГИ, 2001.
43
Гончаров Г. Использование «трудовой армии» на Урале в 1941–1945 гг. // История сталинизма: Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память. Материалы международной научной конференции. М., 28–29 октября 2011 г. / Под ред. Л. Бородкина, С. Красильникова, О. Хлевнюка. М.: РОССПЭН, 2013. С. 132–154.
44
Сталинские депортации. 1928–1953. М.: Международный фонд «Демократия», 2005.
45
История сталинского Гулага. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2004. С. 446; Земсков В. Организация рабочей силы и ужесточение трудового законодательства в годы Великой Отечественной войны // Международные отношения. 2014. № 1. С. 111.
46
Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Под ред. А. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФД, 1999. С. 47, 51.
47
Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М.: РОССПЭН, 2008. С. 422.
48
Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. М.: РОССПЭН, 2011. С. 152–155.
49
Там же. С. 167.
50
Gestwa K. Die Stalinschen Großbauten des Kommunismus. Sowjetische Technik- und Umweltgeschichte, 1948–1967. Munich: Oldenbourg, 2010.
51
Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. С. 151. В первые же три месяца после смерти Сталина по амнистии были освобождены 1,2 млн заключенных (Stibbe M., McDermott K. De-Stalinising Eastern Europe: The Dilemmas of Rehabilitation // McDermott K., Stibbe M. De-Stalinising Eastern Europe: the Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953. Palgrave McMillan, 2015. P. 3).
52
За рамками этого разговора остается такая важная тема, как «предвестие оттепели», связанное с Великой Отечественной войной. Важным свидетельством о послевоенных годах как времени надежд является финал «Доктора Живаго»: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» (Пастернак Б. Доктор Живаго. М.: Эксмо, 2018. С. 575). Мы коснемся этой темы в несколько иной связи в третьей части этой книги.
53
Elie M. Rehabilitation in the Soviet Union, 1953–1964: A Policy Unachieved // McDermott K., Stibbe M. De-Stalinising Eastern Europe: the Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953. Palgrave McMillan, 2015. P. 25–45.
54
Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора / Пер. с англ. Л. Мотылева. М.: МШПИ, 2006. С. 471–472.
55
Материалы XXII съезда КПСС. М.: Госполитиздат, 1962.
56
О цифрах хрущевской реабилитации см.: Hilger A. Limited Rehabilitation? Historical Observations on the Legal Rehabilitation of Foreign Citizens in Today’s Russia // Historical Justice in International Perspective: How Societies Are Trying to Right the Wrongs of the Past / Ed. by M. Berg, B. Schaefer. Publication of the German Historical Institute, Cambridge University Press, 2009. P. 173; Cohen S. F. The Victims Return: Survivors of the Gulag After Stalin. London; New York: I. B. Tauris, 2011. P. 79; Gellately R. Stalin’s Curse: Battling for Communism in War and Cold War. New York: Random House LLC, 2013. P. 386.
57
Кононов А. К истории принятия российского Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» // Реабилитация и память. Отношение к жертвам советских политических репрессий в странах бывшего СССР. М.: Мемориал, 2016. С. 7.
58
Подборка документов, касающихся реабилитации 1950–1980‐х годов, опубликована в издании: Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: В 3 т. / Сост. А. Н. Артизов, Ю. В. Сигачев, В. Г. Хлопов, И. Н. Шевчук. М.: Международный фонд «Демократия», 2000–2004. Среди важных работ о хрущевской реабилитации см.: Adler N. Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012; Cohen S. F. The Victims Return: Survivors of the Gulag After Stalin. London, 2011; Dobson M. Khrushchev’s Cold Summer: Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform After Stalin. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009; Goudoever A. P. van. The Limits of Destalinization in the Soviet Union: Political Rehabilitations in the Soviet Union Since Stalin. London: Palgrave Macmillan, 1986.
59
Kozlov D. The Readers of Novy Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past. Harvard University Press, 2013.
60
Jones P. Myth, Memory, Trauma. Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union, 1953–70. Yale University Press, 2013.
61
Козлов Д. Отзывы советских читателей 1960‐х гг. на повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: свидетельства из архива «Нового мира» // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 184; Kozlov D. The Readers of Novy Mir. P. 217.
62
Jones P. Myth, Memory, Trauma. P. 247.
63
В этом смысле характерна история книги Александра Некрича «1941, 22 июня», возлагавшей ответственность за трагедию 1941–1942 годов на тогдашнее руководство страны. Книга была опубликована в издательстве Академии наук СССР в 1965 году, получила положительные отзывы в советской прессе, ее переводы вышли в нескольких странах соцлагеря. Однако в 1967 году публикуются разгромные статьи о ней в партийных изданиях, книга изымается из библиотек, а автор исключается из партии «за преднамеренное извращение <…> политики Коммунистической партии и Советского государства накануне и в начальный период Великой Отечественной войны, что было использовано зарубежной реакционной пропагандой в антисоветских целях» (см.: Петровский Л. Дело Некрича // Вестник РАН. 1995. Т. 65. Вып. 6. С. 528–539). Некрич был лишен возможности публиковаться и в 1976 году эмигрировал в США.
64
Jones P. Myth, Memory, Trauma. P. 260.
65
О том, в каких формах тема ГУЛАГа присутствует в кругах интеллигенции в 1960‐е годы, см.: Эткинд А. Кривое горе. С. 143–172.
66
Рождественский Р. Совсем не рецензия // Литературная газета. 1987. № 4.
67
Интересны приводимые Козловым сопоставления тиражей толстых журналов в 1990 и 1967 годах. «Новый» мир» в 1990 году публиковался в количестве 2,7 млн экземпляров против 128 тыс. в 1967 году, «Знамя» — 1 млн против 170 тыс., «Дружба народов» — 1,1 млн против 50 тыс., «Нева» — 600 тыс. против 250 тыс., «Октябрь» — 380 тыс. против 130 тыс., «Звезда» — 344 тыс. против 95 тыс. А общественно-политический журнал «Огонек», в 1967‐м издававшийся тиражом 2 млн, в 1989 году достиг рекордных 4,45 млн.
68
Рассказ о возникновении общества «Мемориал» в широком контексте позднесоветской истории см. в издании: Adler N. Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement. New York: Praeger, 1993.
69
Канонизация новомучеников РПЦЗ была прежде всего символическим и политическим актом. Серьезной архивной и источниковедческой работы за ней по понятным причинам стоять не могло. В качестве источника, на котором основывались при канонизации новомучеников в РПЦЗ, стоит упомянуть книгу свящ. Михаила Польского «Новые мученики российские» (Т. 1–2. Джорданвилль: Типография преподобного Иова Почаевского, 1949–1957).
70
Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 года. М.: Московская патриархия, 1990. С. 388.
71
На пути к свободе совести. М.: Прогресс, 1989. С. 115–116.
72
Adler N. Keeping Faith with the Party. P. 184.
73
«Один из депутатов во время слушаний заявил не без иронии, что это первый официальный документ, в котором узаконивают начало и конец советской власти. И он был недалек от истины». Кононов А. К истории принятия… С. 16.
74
Упоминание морального ущерба было исключено из закона поправками 2005 года.
75
Агиографической и исторической основой канонизации мучеников и исповедников XX века в 2000 году стало 7-томное собрание «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия» подготовленное в 1992–2002 годах под руководством игумена Дамаскина (Орловского). Подробнее об истории канонизации новомучеников и ее принципах см. в его книге: Слава и трагедия русской агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви: история и современность. М.: Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, 2018.
76
См., напр.: Mälksoo M. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // European journal of international relations. 2009. Vol. 15. Issue 4. P. 653–680.
77
См., напр.: Kundakbayeva Zh., Kassymova D. Remembering and Forgetting: the State Policy of Memorializing Stalin’s repression in post-Soviet Kazakhstan // Nationalities Papers. 2016. Vol. 44. Issue 4. P. 611–627.
78
См., напр.: Kasianov H. Holodomor and the Politics of Memory in Ukraine after Independence // Holodomor and Gorta Mór: Histories, Memories and Representations of Famine in Ukraine and Ireland / Ed. by Ch. Noack, L. Janssen, V. Comerford. London, New York: Anthem Press, 2014. P. 167–188; Касьянов Г. Голодомор и строительство нации // Pro et contra. 2009. № 3–4 (46). С. 24–42.
79
Малинова О. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
80
Там же. С. 47–48.
81
К результатам этих выборов есть много вопросов: многие считают, что победа на них Ельцина стала результатом фальсификаций.
82
По словам Любови Пихоя, тогдашнего спичрайтера Бориса Ельцина, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 года на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А. Чубайса: «После Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем» (Соколова М., Яковлева Е. Прибавление смуты. Что мы будем праздновать 4 ноября // Российская газета. 2004. № 3621. 4 ноября).
83
«Накануне 59-летней годовщины революции бывший соратник М. Горбачева А. Н. Яковлев опубликовал в «Российской газете» статью «Если большевизм не сдается», в которой доказывал, что «путь к торжеству свободы в России может быть прерван в любой день, если не поставить вне закона большевистскую идеологию человеконенавистничества». Автор статьи обращался к президенту России, Конституционному суду, правительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному собранию с призывом «возбудить преследования фашистско-большевистской идеологии и ее носителей». Однако Ельцин и его окружение не захотели играть на обострение» (Малинова О. Актуальное прошлое. С. 55–56).
84
Двуглавый орел был временно утвержден в качестве герба в ноябре 1993 года, соответствующий закон был принят только в 2000 году.
85
Малинова О. Актуальное прошлое. С. 70–71.
86
Миллер А. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / Ред. А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 331.
87
По опросам разных лет, две трети россиян не знают, с чем связан праздник, и не помнят его названия. См., напр.: Только 17% россиян знают, с каким событием связано 4 ноября // ФОМ. 2012. 2 ноября. https://fom.ru/posts/10683.
88
См.: Дорман В. От Соловков до Бутово: Русская Православная Церковь и память о советских репрессиях в постсоветской России // Laboratorium. 2010. № 2. С. 327–347.
89
Официальный сайт Московской патриархии. 2015. 16 мая. www.patriarchia.ru/db/text/4081981.html.
90
Выступая 22 января 2015 года в Госдуме, патриарх Кирилл заявил, что в основе национальной идентичности россиян лежат пять фундаментальных ценностей: «[1] Древняя Русь, святая Русь — доминанта святости и высоты человеческого духа. И мы обозначили эту ценность словом „вера“. [2] Российская империя, превратившая небольшую страну в колоссальную мировую империю от океана до океана. И мы нашли слово, которым покрывается эта реальность, — „державность“. [3] Затем революция. <…> Возникает вопрос: а что-то хорошее было? Или только кровь? Только влияние иностранных центров? Только навязывание России иного, не свойственного ей в то время образа жизни? <…> Мы ответили — было. Стремление людей к справедливости. <…> [4] А в советское время <…> было нечто такое, что мы смело можем принять, включить в собственную философию жизни? Было. Солидарность. И никогда не надо забывать подвиг нашего народа. И не только военный подвиг. А те самые комсомольцы, которые на целину ехали, БАМ строили, не получая за это никаких наград и привилегий? Это чувство локтя, чувство желания общими усилиями сделать добро для своей страны. Итак, солидарность. [5] И наконец, новая Россия. <…> Мы стали делать акцент на правах человека, на правах людей, на человеческом достоинстве, на свободах. <…> Мы обозначили эту эпоху словом „достоинство“» (Официальный сайт Московской патриархии. 2015. 22 января. http://www.patriarchia.ru/db/text/3960558.html).
91
Проповедь патриарха Кирилла на Бутовском полигоне. Наиболее полный обзор темы памяти о новомучениках в РПЦ см.: Christensen K. The Making of the New Martyrs of Russia: Soviet Repression in Orthodox Memory. London; New York: Routledge, 2017.
92
Со Христом до конца: Мученичество Слуг Божьих в Советском Союзе. Авторы-составители о. Х. Пожарский, С. Козлов-Струтинский, А. Романова, П. Парфентьев, М. Фатеев. СПб.: Свое издательство, 2018.
93
Об истории сталинских репрессий против протестантов см.: Савин А., Сосковец Л. Религиозные меньшинства // Маргиналы в советском социуме. 1930‐е — середина 1950‐х гг. 2‐е изд. / Отв. ред. С. Красильников, А. Шадт. М.: РОССПЭН, 2017. C. 76–155.
94
Симкин Л. Бегущий в небо. Книга о подвижнике веры евангельской Иване Воронаеве. М.: Эксмо, 2019.
95
Хайнц Д., Опарин А., Юнак Д., Пешелис А. Души под жертвенником: книга памяти Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня, посвященная жертвам религиозных репрессий во времена царской России и Советского Союза, 1886–1986 годы. Харьков: Факт, 2010.
96
О репрессиях на почве антисемитизма в СССР см.: Костырченко Г. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2003; Маркиш Э. Столь долгое возвращение. М.: Книжники, 2018; Вершубский Н. Осторожно, двери открываются. М.: Книжники, 2018. Память о репрессиях в иудейской среде отражена также в публикациях журнала «Лехаим» и на сайте еврейской общины Санкт-Петербурга (материалы ограничены евреями-петербуржцами/лениградцами). За предоставленную в этом разделе информацию автор благодарит руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.
97
Khlevnyuk D. Stalin’s continuing, disputed legacy: Surveying Russia’s geography of difficult pasts // Eurozine. 2018. 17 August. https://www.eurozine.com/stalins-continuing-disputed-legacy/.
98
Единственным на сегодняшний день изданием, рассказывающим историю репрессий среди буддийского духовенства, является фотоальбом Андрея Терентьева, ставший продолжением выставки «Репрессированный буддизм», прошедшей в 2014 году в Музее истории ГУЛАГа: Терентьев А. Буддизм в России — царской и советской. СПб.: Нартанг, 2014. Из изданий, посвященных репрессиям против национальных общин, см.: Дорджиева Г. Репрессированное буддийское духовенство Калмыкии. Элиста: Издательство калмыцкого государственного университета, 2014.
99
Об этом см.: Memory and Theory in Eastern Europe / Ed. by U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. Palgrave Macmillan, 2013; Историческая политика в XXI веке. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
100
Филиппов А. Новейшая история России 1945–2006 гг. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2007; Филиппов А. История России 1945–2007. М.: Просвещение, 2007; Данилов А. История России. 1900–1945. Методическое пособие. М.: Просвещение, 2008.
101
Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» // Российская газета. 2011. 7 апреля. https://rg.ru/2011/04/07/totalitarizm-site.html.
102
Заявление А. Пушкова см. на старом сайте СПЧ: http://old.president-sovet.ru/structure/group_5/response/statement_propagation_a.html.
103
Замминистра культуры Владимир Аристархов писал, что «тематике, заявленной в Проекте, уже уделяется достаточное внимание соответствующими ведомствами и структурами гражданского общества, указанные действия не требуют дополнительного финансирования, а реализация представленного Проекта может повлечь излишний формализм и неоправданные бюджетные траты». Он предложил не принимать отдельную программу, а включить некоторые мероприятия из нее в другие — например, в госпрограмму развития культуры и туризма. См.: О позиции Министерства культуры России в отношении ФЦП «Об увековечивании памяти жертв политических репрессий», http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/1756/.
104
Текст Концепции см.: http://president-sovet.ru/documents/read/393/#doc-1. В марте 2019 года срок реализации Концепции был продлен до 2024 года.
105
Юдин Г. Десять тезисов о любви к Сталину // Эхо Москвы. 2019. 19 апреля. https://echo.msk.ru/blog/grishayudin/2410897-echo/.
106
Подход к прессе после посещения Бутовского мемориального комплекса // Официальный сайт президента России. 2007. 30 октября. http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24627.
107
Мединский В. Мифы о революции и гражданской войне // История.рф. https://histrf.ru/biblioteka/b/mify-o-rievoliutsii-i-grazhdanskoi-voinie.
108
Говоря о монументах примирению после гражданских войн в разных странах, Мединский упоминает только испанский. Ниже, из главы, посвященной Испании, станет понятно, почему этот пример весьма красноречив.
109
Революция: до основанья, а зачем? Интервью Б. Кроткова с Н. Нарочницкой // Российская газета (Неделя). 2007. 1 ноября. https://rg.ru/2007/11/01/revolucia.html. Подробнее об этом см.: Малинова О. Актуальное прошлое. С. 81–83.
110
Белые и красные объединились против «Примирения» в Севастополе // Примечания. 2017. 10 августа. https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/belye_i_krasnye_obedinilis_protiv_primireniya_v_sevastopole.
111
Чапнин С. Царские останки: обратный отсчет // Colta. 2017. 18 июля. https://www.colta.ru/articles/media/15442-tsarskie-ostanki-obratnyy-otschet.
112
Ответственный секретарь Партиаршего совета по культуре, а с 2016 года председатель — епископ Тихон Шевкунов; Шевкунов же возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов, а одним из его главных партнеров является компания «Газпром».
113
Глава государства и Предстоятель Русской Православной Церкви открыли выставку «Православная Русь» в Москве // Официальный сайт Московского Патриархата. 2015. 4 ноября. www.patriarchia.ru/db/text/4263139.html.
114
Посещение Сретенского монастыря // Официальный сайт президента России. 2017. 25 мая. kremlin.ru/events/president/news/54573.
115
Трудолюбов М. Ложное примирение // Ведомости. 2017. 25 мая. https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/05/26/691580-lozhnoe-primirenie.
116
Аптекарь П. Красно-белая революция // Ведомости. 2016. 21 декабря. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/22/670688-krasno-belaya-revolyutsiya.
117
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека // Официальный сайт президента России. 2017. 30 октября. kremlin.ru/events/president/news/55947.
118
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» // Официальный сайт Московского Патриархата. 2017. 30 октября. www.patriarchia.ru/db/text/5050963.html.
119
Акция проводится по инициативе Преображенского содружества православных братств и при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Сайт акции — https://molitvapamyaty.ru/.
120
Хлевнюк О. Феномен «большого террора» и Причины «большого террора» // Ведомости. 2017. 29 июня; 6 июля. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/29/701835-fenomen-terrora; https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/712528-bolshogo-terrora.
121
Буртин Ш. Дело Хоттабыча. Какова плата за попытку ворошить прошлое // Les. 2017. 30 мая. https://les.media/articles/406627-delo-khottabycha; Туровский Д. Вторая Катынь. Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске — и кто сохранил память об этих событиях // Meduza. 2017. 26 октября. https://meduza.io/feature/2017/10/26/vtoraya-katyn; Яровая А. Переписать Сандармох. Кто и зачем пытается изменить историю расстрелов и захоронений в Карелии // 7х7. Горизонтальная Россия. 2017. 13 декабря. https://7x7-journal.ru/articles/2017/12/13/perepisat-sandarmoh-kto-i-zachem-pytaetsya-izmenit-istoriyu-rasstrelov-i-zahoronenij-v-karelii.
122
Неполный список публикаций см. на сайте «Мемориала»: https://www.memo.ru/ru-ru/projects/memomedia.
123
Сапрыкин Ю. Страна нерассказанных историй // InLiberty. 2016. 27 октября. http://old.inliberty.ru/blog/2416-Strana-nerasskazannyh-istoriy.
124
Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 66.
125
Мухаметшина Е. Государственная трактовка истории Второй мировой войны пользуется все большим доверием населения // Ведомости. 2015. 28 апреля. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/28/gosudarstvennaya-traktovka-istorii-vtoroi-mirovoi-voini-polzuetsya-vse-bolshim-doveriem-naseleniya.
126
Ренан Э. Что такое нация. СПб.: Издание В. Бермана и С. Войтинского, [1886]. С. 12.
127
https://www.facebook.com/nadya.bibikova/posts/1319965514680233.
128
«Меня тут спрашивают про его собственную деятельность, — пишет в комментарии к той записи ее автор. — Мол, как секретарь обкома, он наверняка ко многому был причастен. Это я и сама, увы, хорошо понимаю. Но я не считаю себя сегодня вправе судить жертв того страшного времени. И я не могу забыть, что две его дочки остались сиротами и выросли в детском доме».
129
Matthews O. Stalin’s Children: Three Generations of Love, War, and Survival. London; Berlin; New York: Bloomsbury, 2010.
130
Вот начало одной из записей в Facebook (https://www.facebook.com/groups/remembering.the.gulag/permalink/1163528927015771/) от 8 ноября 2016 года: «Удалось побывать на Лубянке 29-го. Одна из читавших имена каялась за своего отца, который каким-то образом (то ли в КГБ работал, то ли в судебной системе) преследовал неких безвинных литовцев, впоследствии сожалел об этом, но так и не смог осознать преступности всего режима и своего сталинизма… Эта женщина просила прощения у всех нас и у Бога — за отца, за себя и за весь народ, который „так и не понял, не обратился“ и т. д. Я тоже хочу попросить прощения у всех, и особенно у россиян, за своего двоюродного прапрадеда…»
131
См., напр.: Assmann A. The Holocaust — A global memory? Extensions and Limits of a New Memory Community // Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories / Ed. by A. Assman, S. Conrad. Palgrave, 2010. P. 97–117.
132
Ross M. H. The Politics of Memory and Peacebuilding // Routledge Handbook of Peacebuilding. Routledge, 2013. P. 91–101.
133
Москалькова, Федотов и Лукин приняли участие в акции «Возвращение имен» // ТАСС. 2016. 29 октября. https://tass.ru/obschestvo/3744605.
134
См. напр.: Nora P. Reasons for the Current Upsurge in Memory // Transit. 2002. 22. P. 1–8; Rousso H. Das Dilemma eines europäischen Gedächtnisses // Zeithistorische Forschungen. 2004. № 3. S. 363–378; Olick J. K. The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility. New York: Routledge, 2007.
135
Подробнее об этом см.: Levy D., Sznaider N. The Holocaust and Memory in the Global Age. Philadelphia: Temple University Press, 2006.
136
Укконе А. «Каждый кричит: И меня вспомни!» Обнаружено крупнейшее захоронение заключенных ГУЛАГа, погибших на строительстве Беломорско-Балтийского канала // Известия. 2003. 19 сентября. https://iz.ru/news/281474.
137
Место расстрела Сандармох / Сост. Ю. Дмитриев. Петрозаводск, 1999. Новое издание: Дмитриев Ю. Место памяти Сандармох / Ред., сост. А. Разумов. Петрозаводск, 2019.
138
Буртин Ш. Дело Хоттабыча…
139
Подробнее об истории конкурса см. в интервью его инициатора, руководителя образовательных программ «Мемориала» Ирины Щербаковой: https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/dokumentalnyj-proekt-istoriya-memoriala/intervyu-iriny-sherbakovoj/.
140
Сайт конкурса: https://urokiistorii.ru/konkurs. Все сборники доступны в электронном виде.
141
«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ // Новая газета. 2019. 4 июня. https://novayagazeta.ru/news/2019/06/04/152259-memorial-pobediteley-konkursa-issledovaniy-chelovek-v-istorii-i-ih-uchiteley-vyzyvayut-na-besedy-s-fsb.
142
Пермские старшеклассники отправили 94 сочинения на всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия — XX век». Это один из самых высоких показателей по стране // Интернет-журнал «Звезда» (Пермь). 2020. 6 марта. zvzda.ru/news/039144168a1b.
143
Страница конкурса на сайте Фонда: https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb.
144
Подробнее о конкурсе см.: Zerwas M. The German Federal President History Competition. A Public History Occasion // Public History and School: International Perspectives / Ed. by M. Demantowsky. Berlin; Boston: De Gruyter, 2018. P. 109–120.
145
«History Must Be Measured in Human Beings». Interview with Elena Zhemkova, Executive Director of Memorial // The Russia File. A blog of the Kennan Institute. 2018. 6 Dec. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/history-must-be-measured-human-beings.
146
Благодарю за эту справку сотрудника Вашингтонского музея Холокоста Вадима Альцкана.
147
Сайт проекта: http://www.stolpersteine.eu/.
148
Гефтер М. «Сталин умер вчера…» // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. С. 297–323.
149
См.: Левада Ю. Человек советский. Публичная лекция // Polit.ru. 2004. 15 апреля. https://polit.ru/article/2004/04/15/levada/.
150
Ulturgasheva O. Ghosts of the Gulag in the Eveny World of the Dead // The Polar Journal. 2017. 7 (1). P. 26–45.
151
Эвены (не путать с родственными и более многочисленными эвенками) — народность, населяющая северо-восточные районы Якутии и северную часть побережья Охотского моря.
152
Ulturgasheva O. Ghosts of the Gulag in the Eveny World of the Dead. P. 2–3. Перевод наш.
153
Статьи М. Трудолюбова в «Ведомостях»: «Наше наследие: Фундамент России» (25.12.2009); «Республика: Похоронить гебистское прошлое» (09.12.2011); «Республика: Акционерное общество „Сталинизм“» (26.10.2012); «Смена программного обеспечения» (12.10.2012). См также: Наследство добрых роботов. Максим Трудолюбов — о том, как строили жилье в СССР (и как его строят сейчас) // Meduza. 2016. 8 декабря. https://meduza.io/feature/2016/12/08/nasledstvo-dobryh-robotov.
154
Трудолюбов М. Смена программного обеспечения // Ведомости. 2012. 12 октября.
155
Интересный обзор истории сталинского индустриального проекта со времени создания до позднесоветских лет на примере Воркуты см. в издании: Barenberg A. Gulag Town, Company Town: Forced Labor and its Legacy in Vorkuta. New Haven; London: Yale University Press, 2014.
156
По данным на 2011 год, моногорода составляли 46% всех городов России, а их вклад в ВВП страны оценивался в 20–40%. В 2016 году в моногородах проживало 13 млн человек, или 9% населения (в 2008 году — 24 млн человек, или 17%). Дотации на развитие моногородов съедают очень значительные средства из бюджета: в 2009 году 24 млрд, в 2016 году 12,9 млрд руб.
157
Трудолюбов М. Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность России. М.: Новое издательство, 2015.
158
Хилл Ф., Гэдди К. Сибирское бремя: Просчеты советского планирования и будущее России. М.: URSS, 2007. С. 122.
159
Папков С. Выборы в Верховный Совет СССР 1937 года. Внедрение советских избирательных манипуляций // Вопросы истории. 2016. № 11. C. 3–15.
160
Павлова И. 1937: выборы как мистификация, террор как реальность // Вопросы истории. 2003. № 10. С. 19–37.
161
Pallot J. The Topography of Incarceration: The Spatial Continuity of Penality and the Legacy of the Gulag in Twentieth- and Twenty-First-Century Russia // Laboratorium: Russian Review of Social Research. 2015. № 7, 1. P. 26–50. [Тематический выпуск журнала, целиком посвященный наследию ГУЛАГа в современной повседневности.]
162
См., напр.: The Evolution of Prisons and Penality in the Former Soviet Union // The Journal of Power Institutions of Post-Soviet Societies. 2018. Issue 19.
163
Леонова К. Архипелаг ФСИН. Как устроена экономика тюремной системы России // Секрет фирмы. 2017. 30 января. https://secretmag.ru/arhipelag-fsin.htm/. В данном случае можно говорить о буквальной преемственности: «По оценке правозащитников, более 10% сотрудников ФСИН — дети и внуки сотрудников ГУЛАГа и его советских преемников». Это даже не моральная, а социальная проблема. Династическая воспроизводимость системы в значительной степени связана с тем, что в «местах не столь отдаленных» трудно найти работу вне системы ФСИН, а люди со стороны не слишком рвутся на такие рабочие места.
164
Назаров В., Сисигина Н. Система здравоохранения: воскрешение динозавра // Ведомости. 2015. 13 июля. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/14/600422-voskreshenie-dinozavra.
165
Rocky road from the Semashko to a new health model. Interview by Fiona Fleck // Bulletin of the World Health Organisation. 2013. Issue 91 (5). P. 320–321.
166
Связанные с этой темой тексты стали классикой memory studies. Например, «Синдром Виши» Анри Руссо (Rousso H. Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours. Paris: La Decouverte, 1987). В нем возникла ставшая хрестоматийной формула «прошлое, которое не проходит» (passé qui ne passe pas).
167
В рамках проекта Histoire/Geschichte вышло три учебника на двух языках: «Европа и мир с 1945 года» (2006); «Европа и мир с Венского конгресса до 1945 года» (2008) и «Европа и мир с античности до 1815 года» (2012).
168
Italian Fascism History, Memory and Representation / Ed. by R. J. B. Bosworth, P. Dogliani. Palgrave, 1999.
169
См., напр.: Betta E. Memorie in conflitto. Autobiografie della lotta armata // Contemporanea. 2009. 4. P. 673–702.
170
См. об этом: Uhl H. Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese: NS-Herrschaft, Krieg und Holocaust im «Österreichischen Gedächtnis» // Christian Gerbel et al. (Hg.), Transformationen gesellschaftlicher Erinnerung. Studien zur Gedächtnisgeschichte der Zweiten Republik. Wien: Turia + Kant, 2005. S. 50–85.
171
Vanagaitė R. Mūsiškiai. Vilnius: Alma littera, 2016. Ванагайте Р., Зурофф Э. Свои. Путешествие с врагом / Пер. с литовского А. Васильковой. М.: Corpus, 2018.
172
Britain and the Holocaust. Remembering and Representing War and Genocide / Ed. by C. Sharples, O. Jensen. Palgrave Macmillan, 2013.
173
Eyerman R. Cultural Trauma. Slavery and the Formation of African American Identity. Cambridge University Press, 2001; Redress for Historical Injustices in the United States On Reparations for Slavery, Jim Crow, and Their Legacies / Ed. by M. Martin, M. Yaquinto. Duke University Press, 2007; Ross M. H. Slavery in the North: Forgetting History and Recovering Memory. University of Pennsylvania Press, 2018; America and the Vietnam War: Re-examining the Culture and History of a Generation / Ed. by A. Wiest, M. Barbier, G. Robins. New York: Routledge, 2009.
174
О примерах гибридного правосудия переходного периода в Камбодже см.: Gidley R. Illiberal Transitional Justice and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Palgrave Macmillan, 2019.
175
См., напр.: Jessee E. Negotiating Genocide in Rwanda The Politics of History. Palgrave Macmillan, 2017; Ibreck R. A Time of Mourning: The Politics of Commemorating the Tutsi Genocide in Rwanda // Public Memory, Public Media and the Politics of Justice / Ed. by Ph. Lee, P. Thomas. Palgrave Macmillan, 2012. P. 98–120.
176
См., напр.: Palmberger M. How Generations Remember Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina. Palgrave Macmillan, 2016.
177
Исследованию работы с наследием маоизма в Китае и «переходному правосудию без перехода к демократии» посвящен интересный проект ученых Синологического института Фрайбургского университета: The Maoist Legacy: Party Dictatorship, Transitional Justice and the Politics of Truth. Сайт проекта: https://www.maoistlegacy.de/.
178
Groppo B., Flier P. La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen/Bibliothéque de Documentation Internationale Contemporaine, 2001.
179
Лекция, прочитанная 17 февраля 2005 года в кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». https://www.polit.ru/article/2005/02/25/groppo/.
180
Формально она была третьей по счету, после комиссий в Уганде (1974) и Боливии (1982). Но первая фактически была призвана легитимизировать правление Иди Амина, а вторая не имела реальных полномочий.
181
Подробнее об этом в главе 3 части III этой книги.
182
Baer A., Sznaider N. Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era: The Ethics of Never Again. London; New York: Routledge, 2016. P. 30.
183
Существует видеозапись обвинительной речи: https://www.youtube.com/watch?v=eHm5yYGjcMs.
184
Bonner M. D. Sustaining Human Rights: Women and Argentine Human Rights Organizations. Pennsylvania State University Press, 2007. P. 124.
185
Видео акции, организованной HIJOS у дома одного из лидеров хунты Хорхе Виделы 18 марта 2006 года: https://www.youtube.com/watch?v=26Nx7SVKTb0.
186
Verbitsky H. The Flight. Confessions of an Argentine Dirty Warrior. New York: The New Press, 1996.
187
Levy D., Sznaider N. Human Rights and Memory. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2010. О расширении практики применения универсальной юрисдикции см.: Sriram Ch. L. Globalizing Justice for Mass Atrocities: A Revolution in Accountability. London: Routledge, 2005.
188
Baer A., Sznaider N. Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era: The Ethics of Never Again. London; New York: Routledge, 2016. P. 34.
189
World Report 2018: Argentina. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/argentina.
190
Данные на начало 2020 года.
191
Novaro M. El Caso Maldonado. Barselona: Edhasa, 2017.
192
Сложность противоречий, разделявших даже находившихся по одну сторону линии фронта, и особенно острых именно в Каталонии (и, как следствие, осложняющих сегодняшние усилия по проработке этого прошлого), отражена в фильме британца Кена Лоуча «Земля и свобода» (1995). Фильм, основывающийся на книге Оруэлла, рассказывает о вооруженном конфликте между республиканцами-сталинистами и действовавшими сообща рабочими-марксистами (ПОУМ) и анархистами, разгоревшемся в Барселоне в мае 1937 года. Конфликт ослабил республиканцев и способствовал победе националистов. Споры, вспыхнувшие в Испании после выхода фильма на экраны, показали, что разделения полувековой давности по-прежнему дают о себе знать. См.: Aguilar Fernández P. Romanticisme i maniqueisme en la guerra civil: de Tierra y Libertad a Libertarias // L’ Avenç: Revista de història i cultura. 1996. № 204. P. 66–70; Feenstra P. Spanish Cinematographic Memories: Ken Loach’s «Land and Freedom»: Conflicts and Questions Concerning Spanish Cinematographic Memories // Journal of Interdisciplinary Studies on Film in Spanish. 2009. Vol. 2. № 1. P. 66–87.
193
Aguilar P. Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy. Oxford: Berghahn Books, 2002. P. 77–85.
194
Реншоу Л. Правда вскрывается: как поменялись местами разоблачения и утаивание в «политике памяти» в Испании / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 475–493.
195
Aguila P., Ramírez-Bara C. Amnesty and Reparations Without Truth or Justice in Spain // Transitional Justice and Memory in Europe (1945–2013) / Ed. by N. Wouters. Cambridge;Antwerp; Portland: Intersentia, 2014.
196
Encarnacion O. G. Democracy Without Justice in Spain: The Politics of Forgetting. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014.
197
Preston P. The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. London: Harper Press, 2012. P. 337–340.
198
Санчес С. М., Ромеро Р. Э. Испанская католическая церковь и постфранкистская демократизация / Пер. с исп. А. Школьник // Новое литературное обозрение. 2009. № 6. С. 631–653.
199
Здесь и далее 100% составляет общее число опрошенных, согласных или не согласных с предложенным утверждением (или не уверенных в ответе). Данные исследований Centro de Investigaciones Sociológicas (№ 1984, 2201, 2401, 2760). Графики взяты из работы: Aguilar P., Ramírez-Barat C. Amnesty and Reparations Without Truth or Justice in Spain // Transitional Justice and Memory in Europe (1945–2013) / Ed. by N. Wouters. Intersentia, 2014. P. 242–244.
200
Выражение «прорывы памяти» (irruptions of memory) ввел применительно к чилийскому случаю американский политолог Александр Уайлд. См.: Wilde A. Irruptions of Memory. Expressive Politics in Chile’s Transition to Democracy // Journal of Latin American Studies. 1999. Issue 31/2. P. 473–500.
201
Реншоу Л. Правда вскрывается: как поменялись местами разоблачения и утаивание в «политике памяти» в Испании / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 475–493. См. также: Silva E., Macías S. Las fosas de Franco: Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas. Madrid: Temas de Hoy, 2003.
202
Silva E., Macías S. Las fosas de Franco…
203
Данные по эксгумированным могилам см.: Ferrándiz F. Unburials, Generals and Phantom Militarism // Current Anthropology. 2019. Vol. 60, Supplement 19. P. 67. Данные по общему числу могил основаны на приблизительных оценках Министерства юстиции; см.: Sánchez R. Las víctimas en fosas del franquismo // Онлайн-проект издания Eldiario.es к 40-летию смерти Франко: https://desmemoria.eldiario.es.
204
Реншоу Л. Правда вскрывается…
205
Африканерами называют себя живущие в ЮАР потомки колонистов немецкого, голландского и французского происхождения.
206
Хороший анализ корней апартеида в сравнении с другими расистскими политическими системами дан в книге: Marx A. W. Making Race and Nation: A Comparison of South Africa, the United States, and Brazil. Cambridge University Press, 1997.
207
Великий трек — переселение потомков голландских колонистов (буров) в центральные районы Южной Африки в 1835–1845 годах, приведшее к созданию Южно-Африканской Республики (Трансвааля) и Оранжевого Свободного Государства. Битва на Кровавой реке — столкновение между вооруженными отрядами буров и зулусов в ходе Великого трека 16 декабря 1838 года. Англо-бурские войны — военные конфликты на юге Африки между Британской империей и различными бурскими республиками в 1880–1881 и 1899–1902 годах, закончившиеся поражением буров.
208
Коса и зулу — две самых многочисленных черных народности ЮАР. Вражда между ними восходит к началу XIX века, времени правления зулусского вождя Чаки.
209
A Crime Against Humanity: Analysing the Repression of the Apartheid State / Ed. by M. Coleman. A Publication of the Human Rights Commitee of South Africa, 1998.
210
Torpey J. Politics and the Past: On Repairing Historical Injustices. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. P. 9–10.
211
Малинова О. Забыть не получится. Как России осмыслить диктатуру и репрессии? Опыт Германии, Испании и Латинской Америки в преодолении коллективной травмы // Republic. 2016. 12 декабря. https://republic.ru/posts/77246.
212
Подробнее о восстановительном правосудии и его соотношении с другими видами правосудия в случае ЮАР см.: Gibson J. L. Overcoming Historical Injustices: Land Reconciliation in South Africa. Cambridge University Press, 2009. P. 1–26.
213
Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Vol. 1–5. Cape Town: Juta, 1998 (New York: Grove’s Dictionaries, 1999); Vol. 6, 7. Cape Town: Juta, 2002, 2003 (New York: Grove’s Dictionaries, 2002). Отчеты ТКС и множество дополнительных материалов доступно онлайн на сайте Министерства юстиции ЮАР: https://www.justice.gov.za/trc/.
214
Tutu D. No Future without Forgiveness. New York: Doubleday, 1999.
215
Constitution of the Republic of South Africa, 1993 (Глава 15 «General and Transitional Provisions», финальный раздел «National Unity and Reconciliation»).
216
Gobodo-Madikizela P. A Human Being Died That Night: A South African Story of Forgiveness. Boston: Houghton Mifflin, 2003.
217
Payne L. A. Unsettling Accounts: Neither Truth Nor Reconciliation in Confessions of State Violence. Duke University Press, 2008. P. 35–40.
218
Sulla V., Zikhali P. Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: An Assessment of Drivers, Constraints and Opportunities. Washington, D. C.: World Bank Group, 2018. http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534/Overcoming-Poverty-and-Inequality-in-South-Africa-An-Assessment-of-Drivers-Constraints-and-Opportunities.
219
Survey of Race Relations-1986, Johannesburg: South African Institute of Race Relations, 1986. https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02424/04lv03370/05lv03389.htm.
220
Процент белого населения с 1975 по 2012 год снизился в Анголе с 5,2 до 1%, в Мозамбике с 1,8 до 0,3%, в Зимбабве с 8 до 0,2%.
221
Кутзее Дж. М. Бесчестье / Пер. с англ. С. Ильина. СПб.: Амфора, 2004.
222
Gibson J. L. Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a divided Nation? New York: Russell Sage Foundation, 2004.
223
Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Vol. 5. P. 435.
224
На месте многоточия у Туту следует пассаж о России. Его трудно воспринимать как экспертное суждение, но он интересен в качестве иллюстрации внешних представлений о российском транзите, поэтому приведем его здесь: «Переход к демократии в России начался почти тогда же, когда и у нас. Берлинская стена пала в ноябре 1989‐го. Нельсон Мандела был освобожден в феврале 1990 года. Но на фоне того, что происходит в России сегодня — буйство организованной преступности, конфликт в Чечне, вспышки насилия вроде захвата заложников в театре и трагедии в Беслане, — южноафриканский транзит выглядит пикником в воскресной школе. Стараясь укрыться от правды о советском прошлом, россияне несут груз прошлого в будущее». Tutu D. The truth will set us free // The Guardian. 2007. 4 Jan. https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/04/thelessonsofsouthafrica.
225
Rosenberg T. The Haunted Land. Facing Europe’s Ghosts after Communism. New York: Random House, 1995.
226
См., соответственно: Germany, Poland and Postmemorial Relations: In Search of a Livable Past / Ed. by K. Kopp, J. Nizynska. Palgrave Macmillan, 2012; Белые пятна — черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях / Ред. А. Торкунов, А. Ротфельд. М.: Аспект Пресс, 2010; Kamusella T. The Un-Polish Poland, 1989 and the Illusion of Regained Historical Continuity. Palgrave Macmillan, 2017; Zhurzhenko T. Memory Wars and Reconciliation in the Ukrainian — Polish Borderlands: Geopolitics of Memory from a Local Perspective // History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe / Ed. by G. Mink, L. Neumayer. Palgrave Macmillan, 2013. P. 173–192; Lewis S. M. Belarus — Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. New York; London: Routledge, 2019.
227
Rosenberg T. The Haunted Land. Facing Europe’s Ghosts after Communism. P. 127.
228
Зубжицки Ж. Polonia semper fidelis? Национальная мифология, религия и политика в Польше // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 44–78.
229
Пер. В. Левина.
230
Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Пер. с англ. Л. Зурнаджи. Киiв: Дулiби, 2015. С. 127–147; Петров Н., Рогинский А. Польская операция НКВД 1937–1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. М.: Звенья, 1997. С. 22–43.
231
Донесения Пилецкого опубликованы в издании: The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery / Transl. by J. Garlinski. Los Angeles: Aquila Polonica, 2012.
232
Жизнеописание Пилецкого см.: Fairweather J. The Volunteer: One Man’s Mission to Lead an Underground Army Inside Auschwitz and Stop the Holocaust. New York: Custom House, 2019.
233
Лёзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы // Вестник общественного мнения. 2015. № 2 (120). С. 65.
234
Лёзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы. С. 66.
235
Столя Д. Польский ИНП становится «Министерством памяти»? // Историческая политика в XXI веке / Ред. А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 103–123.
236
Faith in European Project Reviving // Pew Research Center. 2015. June 2. P. 22. https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Pew-Research-Center-European-Union-Report-FINAL-June-2–20151.pdf.
237
На более широкой выборке, более высоки антисемитские настроения в Армении, Румынии и Литве. См.: Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe// Pew Research Center. 2017. May 10. P. 162. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/15120244/CEUP-FULL-REPORT.pdf.
238
Witkowska M., Stefaniak A., Bilewicz M. Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów // Psychologia Wychowawcza. 2015. № 5. P. 147–159.
239
Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M. et al. Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa, 2017; Bulska D., Winiewski M. Antisemitism in Poland. Results of Polish Prejudice Survey 3. Warsaw, 2018.
240
О евреях на оккупированных СССР территориях см.: Shared History — Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 1939–1941 / Ed. by E. Barkan, E. Cole, K. Struve. Leipzig: Simon-Dubnow-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur e. V., Leipziger Universitätsverlag, 2007.
241
Wokół Jedwabnego / Red. P. Machcewicz, K. Persak. T. 1–2. Warszawa: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, 2002.
242
Paulsson G. S. Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945. Yale University Press, 2003.
243
Фильм основан на книге Дианы Акерман «The Zookeeper’s Wife» (2007).
244
Gross J. T. Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. New York: Random House, 2006.
245
Stola D. Jewish emigration from communist Poland: the decline of Polish Jewry in the aftermath of the Holocaust // East European Jewish Affairs. 2017. 47 (2–3). P. 169–188; Stola D. Anti-Zionism as a Multipurpose Policy Instrument: The Anti-Zionist Campaign in Poland, 1967–1968 // Journal of Israeli History. 2006. Issue 25 (1). P. 175–201.
246
Blonski J. Biedni Polacy patrzą na getto // Tygodnik Powszechny. 1987. 2. [Сокращенный русский перевод см.: Блонский Я. Бедные поляки смотрят на гетто // Новая Польша. 2009. 3. https://www.novayapolsha.pl/pdf/2009/03.pdf.]
247
And I Still See Their Faces: Images of Polish Jews / Ed. by G. Tencer, A. Bikont. Warsaw, Shalom Foundation, 1996. Об альбоме см.: Hirsch M. The Generation of Postmemory. Columbia University Press, 2012. P. 227–249. [Хирш М. Поколение постпамяти. М.: Новое издательство, 2020 / Пер. с англ. Н. Эппле.]
248
Gross J. T. Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Princeton University Press, 2001. [Гросс Я. Т. Соседи: История уничтожения еврейского местечка / Пер. с польск. В. Кулагиной-Ярцевой. М.: Текст, 2002.]
249
Текст постановления на сайте ИНП: https://ipn.gov.pl/ftp/pdf/jedwabne_postanowienie.pdf. Более полный отчет о расследовании был опубликован в виде двухтомника: Wokół Jedwabnego / Red. P. Machcewicz, K. Persak. T. 1–2. Warszawa, 2002.
250
The Neighbors Respond: The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland / Ed. by A. Polonsky, J. B. Michlic. Princeton University Press, 2003. Также о дискуссии вокруг Едвабне см.: Яновский М. Едвабне, 10 июля 1941 г.: дискуссия о событиях одного дня // Историческая политика в XXI веке / Ред. А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 124–159.
251
Опрос, проведенный польским социологическим агентством CBOS 6–9 апреля 2001 года в связи с широко анонсированными извинениями президента; см. также: The Neighbours Respond. The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland. P. 40.
252
Подробнее о работе ИНП при новом правительстве: Klich-Kluczewska B. Goodbye Communism, Hello Remembrance: Historical Paradigms and the Institute of National Remebrance in Poland // Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe / Ed. by P. Apor, S. Horváth, J. Mark. London; New York: Anthem Press, 2017. P. 37–57.
253
Marek Kochan: Zbudujmy szybko Muzeum Polokaustu // Rzeczpospolita. 2018. Feb. 19. https://www.rp.pl/Publicystyka/302199919-Marek-Kochan-Zbudujmy-szybko-Muzeum-Polokaustu.html.
254
Leder A. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Krytyka Polityczna: Warszawa, 2014. [Leder A. Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939–1956 und ihre Folgen. Osnabrück: Fibre Verlag, 2019.] См. также: Rutkowska P. Andrzej Leder, «Prześniona Rewolucja» [Book Review] // Historia i Polityka. 2016. № 18 (25). P. 93–95.
255
О том, как подобный подход работает в исторической политике стран Балтии, см., напр.: Pettai E.-C., Pettai V. Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States. Cambridge University Press, 2015.
256
Бродский И. Речь на стадионе / Пер. с англ. Е. Касаткиной // Собрание сочинений: В 7 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. Т. 6. С. 117.
257
Michalczyk J. J. Filming the End of the Holocaust. Allied Documentaries, Nuremberg and the Liberation of the Concentration Camps. Bloomsbury, 2014. P. 31–46.
258
В России принято говорить о них в единственном числе, на Западе — во множественном. То и другое по-своему оправданно: именно первый из 13 трибуналов был судом над наиболее высокопоставленными руководителями, и именно в нем участвовали представители всех стран-победителей. С другой стороны, все трибуналы основывались на разработанном всеми странами-победителями Нюрнбергском протоколе, который с юридической точки зрения является главным завоеванием Нюрнберга.
259
Merritt R. L. Democracy Imposed: U. S. Occupation Policy and the German Public, 1945–1949. Yale University Press, 1995. P. 150–162.
260
Olick J. In the House of the Hangman: The Agonies of German Defeat, 1943–1949. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 108.
261
The Oxford Companion to International Criminal Justice / Ed. by A. Cassese. Oxford University Press, 2009. P. 255–256. Okoth J. The Crime of Conspiracy in International Criminal Law. Springer, 2014. P. 81–93. См. также: Kochavi A. J. Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment. University of North Carolina Press, 1998.
262
ГоршенинаК. Нюрнбергский процесс. Том 2. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955.
263
Friedrich J. Die kalte Amnestie. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984.
264
Подробнее см., напр.: Barnett V. For the Soul of the People. Protestant Protest Against Hitler. Oxford University Press, 1998.
265
Hockenos M. D. A Church Divided. German Protestants Confront the Nazi Past. Indiana University Press, 2004. P. 84.
266
Rosenberg T. The Haunted Land. Facing Europe’s Ghosts after Communism. New York: Random House, 1995. P. 309–310.
267
Любопытна история ее возникновения. Как пишет в предисловии сам Олик, изначально он задался целью написать исследование о «споре историков» 1985–1986 годов. Однако вскоре стало ясно, что для понимания сути спора необходимо понимание его контекста: воззрений германского общества и государственной риторики на момент провозглашения независимости послевоенной Германии в 1949 году. Однако и эта задача предполагала некую экспозицию — описание того, что происходило с момента капитуляции до провозглашения независимости. То, что первоначально писалось как краткий пролог, выросло в итоге в самостоятельную и богатую интереснейшим материалом книгу. Замысел исследования о споре историков был осуществлен позднее в виде книги «The Sins of the Fathers».
268
Манн Т. Доктор Фаустус / Пер. с нем. С. Апта и Н. Ман. С. 310–311. // Манн Т. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1960. Т. 5. С. 621–622.
269
Именно в контексте дискуссии о «другой Германии» рождается столь важный для СССР и России концепт «внутренней эмиграции». Это выражение вводит немецкий писатель Франк Тис, настаивавший в споре с Томасом Манном в 1945 году, что немцы, которые предпочли бегству от Гитлера уход во внутреннюю (как правило, неявную) оппозицию режиму, имеют не меньше, а то и больше прав на роль спасителей достоинства Германии, непричастной преступлениям нацистов.
270
Манн Т. Германия и немцы / Пер. с нем. Е. Эткинда // Собрание сочинений: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 324–325.
271
Jaspers K. Die Schuldfrage. Heidelberg: Lambert Schneider Verlag, 1946. Русский перевод Соломона Апта см. в издании: Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии. М.: Прогресс, 1999. С. 20.
272
Там же. С. 100.
273
Там же. С. 103.
274
Позицию Ясперса воспринимали враждебно не только студенты. В письме Ханне Арендт он так описывает обстановку, которая окружала его в эти годы: «За моей спиной люди клевещут на меня: коммунисты называют меня ярым сторонником национал-социализма; сердитые неудачники — предателем своей страны». Цит. по: Рулинский В. «Проблема вины» в трудах Карла Ясперса // Вестник Университета МГИМО. 2011. № 3. С. 160–166. Критический анализ трактовки Ясперсом моральной и метафизической вины как ухода от разговора от уголовной и политической ответственности см. в работе: Rabinbach A. The German as pariah: Karl Jaspers and the Question of German Guilt // Radical Philosophy. 1996. Issue 75. P. 15–25.
275
Подробнее о репарациях Германии Израилю см.: Melamud A., Melamud M. «When Shall We not Forgive?» The Israeli-German Reparations Agreement: The Interface Between Negotiation and Reconciliation // Negotiating Reconciliation in Peacemaking. Quandaries of Relationship Building / Ed. by V. Rosoux, M. Anstey. Springer, 2017. P. 257–275. Истории послевоенных отношений Германии и Израиля посвящена четвертая часть монографии: Gardner Feldman L. Germany’s Foreign Policy of Reconciliation: From Enmity to Amity. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. P. 133–199.
276
Lübbe H. Der Nationalsozialismus im politischen Bewusstsein der Gegenwart // Deutschlands Weg in die Diktatur: Internationale Konferenz zur national-sozialistischen Machtübernahme im Reichstagsgebäude zu Berlin. Referate und Diskussionen. Ein Protokoll / Hrsg. M. Broszat, U. Dügger, et al. Berlin: Siedler, 1983.
277
Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» / Пер. с нем. М. Габовича // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–80.
278
Gruppenexperiment. Ein Studienbericht / Hrsg. F. Pollock // Frankfurter Beiträge zur Soziologie. Bd. 2. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1955.
279
Несмотря на важность вызванных им к жизни дискуссий, само исследование на многие годы оказалось вне сферы внимания — и даже не было переведено на английский. Это упущение было исправлено только в 2011 году, когда американские социологи Джеффри Олик и Эндрю Перрэн опубликовали собрание исследований и статей авторов Франкфуртской школы «Групповой эксперимент и другие работы»: Group Experiment and Other Writings: The Frankfurt School on Public Opinion in Postwar Germany. By Friedrich Pollock, Theodor W. Adorno, and colleagues / Ed., transl., and introd. by A. J. Perrin and J. K. Olick. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
280
Arendt H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press, 1963. «Арендт написала не исторический труд, а подробное, разделенное на множество случаев и примеров, рассуждение о причинах — прежде всего политических — того, почему люди отказываются слышать голос совести и смотреть в лицо действительности. Герои ее книги делятся не на палачей и жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил. Жесткий, часто саркастический тон книги, отсутствие пиетета к жертвам и резкость оценок возмутили и до сих пор возмущают многих. Арендт пишет о немцах — „немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета“. Но так же беспощадна она и к самообману жертв и особенно к тем, кто — подобно части еврейской элиты — из „гуманных“ или иных соображений поддерживал этот самообман в других». Дашевский Г. Примерное представление о зле // Коммерсантъ-Weekend. 2008. 3 октября. Интересное развитие многих тем Арендт и уточнение контекста дела Эйхмана см. в книге: Stangneth B. Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer / Transl. from German by R. Martin. New York: Vintage, 2015.
281
Лёзина Е. Память, идентичность, политическая культура и послевоенная германская демократия // Отечественные записки. 2013. № 6 (57). С. 171–172. http://www.strana-oz.ru/2013/6/pamyat-identichnost-politicheskaya-kultura-i-poslevoennaya-germanskaya-demokratiya.
282
Михалева Э. Петер Вайс на сцене Театра на Таганке. http://www.vagant2003.narod.ru/2002152025.htm.
283
Надпись на нескольких языках «Никогда снова» — часть мемориала на месте концлагеря Дахау, открытого в 1968 году (музей на месте лагеря был создан в 1965‐м). См.: Marcuse H. Das ehemalige Konzentrationslager Dachau. Der mühevolle Weg zur Gedenkstätte 1945–1968 // Dachauer Hefte. Dachau: Verlag Dachauer Hefte. Comité International de Dachau, 1990. № 6. P. 182–205; Young J. E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. Yale University Press, 1993.
284
Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München: R. Piper & Co., 1967.
285
Журналист и историк Эрнст Клее, исследовавший медицинские преступления нацистов, в одной из своих книг передает разговор, состоявшийся в ноябре 1940 года между Крейссигом и министром юстиции Третьего рейха Францем Гюртнером. Когда Гюртнер показал Крейссигу собственноручное письмо Гитлера с распоряжением инициировать программу эвтаназии, Крейссиг сказал, что «слово фюрера не создает право». «Если вы не признаете волю фюрера источником права, вы не можете оставаться судьей», — ответил министр. См.: Klee E. Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945? Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2005. S. 340.
286
Assmann A. Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany // A Companion to Nazi Germany / Ed. by S. Baranowski, A. Nolzen, C.‐Ch. W. Szejnmann. Wiley-Blackwell, 2018. P. 587.
287
Mihr A. Regime Consolidation and Transitional Justice. A comparative case study of Germany, Spain and Turkey. Cambridge University Press, 2018. P. 206.
288
Mihr A. Regime Consolidation and Transitional Justice. P. 213.
289
Статистика телерадиовещательной ассоциации ARD: http://web.ard.de/ard-chronik/index/2204?year=1979.
290
Лёзина Е. Память, идентичность, политическая культура и послевоенная германская демократия. С. 175.
291
Mihr A. Regime Consolidation and Transitional Justice. A comparative case study of Germany, Spain and Turkey. P. 325.
292
Lepsius M. R. Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des «Großdeutschen Reiches» // Kultur und Gesellschaft / Hrsg. M. Haller et al. Frankfurt am Main; New York: Campus, 1989. S. 247–262.
293
Более нюансированную и сочувственную по отношению к восточногерманской работе с прошлым картину рисует в новой книге американский культуролог Сьюзен Нейман. См.: Neiman S. Learning from the Germans: Race and the Memory of Evil. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019.
294
Лёзина Е. Открытие архивов Штази и процесс люстрации в объединенной Германии // Уроки истории. 2013. 30 октября. https://urokiistorii.ru/article/51881.
295
Ash T. G. The File: A Personal History. New York: Random House, 1997.
296
Gauck J. Die Stasi-Akten. Das unheimliche Erbe der DDR. Reinbek: Rowohlt, 1991. S. 91; Лёзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы // Вестник общественного мнения. 2015. № 2 (120). С. 59.
297
Поразительная деталь: с 1961 по 1989 год около 7000 восточногерманских пограничников предприняли попытки сбежать в ФРГ; 2500 из них это удалось, а 5500 получили тюремные сроки до 5 лет.
298
Сайт Фонда: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de.
299
Кауганов Е. Выставка «Преступления Вермахта» 1995–1999 гг. и ее вклад в немецкую культуру памяти о нацистском прошлом // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т. 13. № 3. С. 421–436; Assmann A. Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany // A Companion to Nazi Germany. P. 592–593.
300
A Companion. P. 593.
301
Deselaers M. «Und Sie hatten nie Gewissensbisse?» Die Biografie von Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, und die Frage nach seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Leipzig: St. Benno-Verlag, 1997. Английский перевод: «And Your Conscience Never Haunted You?» The Life of Rudolf Höss, Commander of Auschwitz, and the question of his responsibility before God and human beings. Auschwitz-Birkenau State Museum, 2017. Русский перевод книги выйдет в 2020 году в издательстве СФИ.
302
Манфред Дезелерс — не единственный немец, ставший священником под влиянием идей искупления зла, принесенного нацизмом. Так же поступил Мартин Адольф Борман (1930–2013), старший сын ближайшего сподвижника Гитлера и крестник последнего. В 17 лет, узнав о преступлениях отца, он принял католичество, в 28 стал священником и отправился миссионером в Конго, где провел несколько лет с риском для жизни. В 1970‐х он сложил с себя сан, женился и посвятил последние годы жизни изучению богословия и поездкам с лекциями об ужасах нацизма по школам Германии, Австрии и Израиля.
303
Miyazaki H. Constitutional Amendment is Out of the Question // The Asia-Pacific Journal. 2014. Vol. 12. Issue 36. № 1. P. 1.
304
Долин А. Черный ящик. «Крепчает ветер», режиссер Хаяо Миядзаки // Искусство кино. 2013. № 10. https://old.kinoart.ru/archive/2013/10/chernyj-yashchik.
305
Neppū. Special Edition on Constitutional Revision. 2013. July 18. http://www.ghibli.jp/docs/0718kenpo.pdf.
306
[Интервью газете «Асахи симбун». 2013. 25 июля.] Перевод наш. Полный перевод интервью см.: https://inosmi.ru/world/20130726/211312844.html.
307
Очень показательно, что страну, которая принесла более пяти десятков формальных извинений за преступления Второй мировой, не раз называли «Японией, которая не умеет просить прощения». Список извинений Японии см. здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_war_apology_statements_issued_by_Japan.
308
Rummel R. Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder since 1900. Münster: Lit Verlag, 1999. См.: Chapter 3. Statistics of Japanese democide. Estimates, calculations, and sources: http://www.hawaii.edu/powerkills/sod.сhap3.htm.
309
Об этом, в частности, говорит Берт Релинг, участник Токийского трибунала и автор особого мнения по его результатам. См.: Релинг Б. В. А., Кассезе А. За кулисами Токийского процесса. Размышления «поджигателя мира» / Пер. с англ. А. Евсеева. Харьков: Юрайт, 2015. С. 64–65. См. также: Butow R. J. C. Japan’s Decision to Surrender. Stanford: Stanford University Press, 1968.
310
Речь императора Хирохито о принятии условий капитуляции Японии. http://urakami.narod.ru/gaku/docs/emperor_sp.html.
311
Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. Boston: Houghton Mifflin, 1946. Русский перевод Н. Селиверстова см. в издании: Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. М.: Наука, 2016.
312
Прекрасный анализ Декларации и внутренних механизмов ее принятия см. в издании: Dower J. W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. 1st ed. New York: W. W. Norton, 1999. P. 308–314.
313
Отвечая на вопросы обвинителя, один из подсудимых, генерал Тодзио, сказал, что «ни один японский подданный не мог бы действовать против воли императора». Это заявление явно угрожало стратегии «вненаходимости» императора, и на следующем слушании Тодзио поправился: «император, пусть и неохотно, согласился с рекомендацией Верховного командования начать войну».
314
Buruma I. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and in Japan. New York: Meridian Books, 1995. P. 176.
315
Dower J. W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II.
316
Seraphim F. A Japan that Cannot Say Sorry? // Replicating Atonement: Foreign Models in the Commemoration of Atrocities. Palgrave Macmillan Memory Studies, 2017. P. 30–31.
317
Гринюк В. Политические проблемы храма Ясукуни // Проблемы Дальнего Востока. 2010. 4. С. 39.
318
Buruma I. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and in Japan. P. 221. Автор перечисляет наиболее заметные сражения Тихоокеанской войны.
319
Манга — японский комикс.
320
Mason M. Bodies of Anger: Atomic Survivors in Nakazawa Keiji’s Black Series Manga // Rewriting History in Manga Stories for the Nation / Ed. by N. Otmazgin, R. Suter. Palgrave Macmillan, 2016. P. 77.
321
Field N. In the Realm of a Dying Emperor. New York: Vintage, 1993.
322
«Город Хиросима обязан принять во внимание возможные реакции посетителей на выставку, посвященную японской агрессии. Что, если они сочтут атомную бомбардировку неизбежным последствием такой агрессии? Такое понимание противоречило бы нашему желанию передать посетителям Дух Хиросимы. Более того, мы опасаемся, что подобное понимание может побеспокоить души жертв ядерной бомбардировки. На Хиросиме лежит ответственность сообщить «правду об атомной бомбардировке», поэтому «исторические факты» о Хиросиме как главной военной базе и центре подготовки военных мы планируем представить в новом музее» (Mikyoung K. Pacifism or Peace Movement? Hiroshima Memory Debates and Political Compromises // Journal of International and Area Studies. 2008. Vol. 15. № 1. P. 61–78).
323
Buruma I. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and in Japan. P. 249.
324
Ibid. P. 258.
325
Asahi Shinbun. 1990. Feb. 16.
326
Данные с сайта Министерства иностранных дел Японии: https://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq16.html.
327
Barkan E. The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices. New York: W. W. Norton, 2000. P. 46–64.
328
Shields J. Revisioning a Japanese Spiritual Recovery through Manga: Yasukuni and the Aesthetics and Ideology of Kobayashi Yoshinori’s «Gomanism» // The Asia-Pacific Journal. 2013. November 22. Vol. 11. Issue 47. № 7; Berndt J. «Comfort Women» Comics, Multifaceted Revisiting the 2014 Manhwa Exhibit in Angoulême from the Perspective of Manga Studies // Orientaliska Studier. 2016. 147. P. 143–169.
329
Miyazaki H. Constitutional Amendment is Out of the Question. P. 3–4.
330
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина — один из путей атаки на Россию // ТАСС. 2017. 16 июня. https://tass.ru/politika/4341427.
331
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Официальный сайт президента РФ. 2005. 25 апреля. kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.
332
Проханов А. Слава Сталину. Обращение губернатору Орловской области Потомскому Вадиму Владимировичу // Завтра. 2017. 9 августа.
333
Zoran Mušič. Poesie der Stille: Ausst. Kat. Wien: Leopold Museum, 2018. https://www.leopoldmuseum.org/de/presse/presseunterlagen/972/ZORAN-MUSIC-Poesie-der-Stille.
334
After Auschwitz: Responses to the Holocaust in Contemporary Art / Ed. by M. Bohm-Duchen. London: Lund Humphries, 1995. P. 153.
335
Леви П. Человек ли это? / Пер. с итал. Е. Дмитриевой. М.: Текст, 2011; Он же. Канувшие и спасенные / Пер. с итал. Е. Дмитриевой. М.: Новое издательство, 2010.
336
О Музиче в более широком контексте искусства после Холокоста см.: Sujo G. Legacies of Silence: The Visual Arts and Holocaust Memory. London: Philip Wilson, 2001.
337
Brockmann S. German Culture at «Zero Hour». Rochester: Camden House, 2004.
338
Gluck C. The «End» of the Postwar: Japan at the Turn of the Millennium // States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection / Ed. by J. Olick. Duke University Press, 2003. P. 292.
339
Истории «института забвения» от древности до наших дней посвящена книга выдающегося немецкого историка Античности Кристиана Майера. См.: Meier C. Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns: Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München: Siedler Verlag, 2010.
340
Фрейд З., Брейер Й. Исследования истерии / Пер. С. Панкова // Фрейд З. Собр. соч.: В 26 т. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2020. Т. 1.
341
Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке // Афанасьев А. Народные русские сказки. Т. 1–3. M.: Государственное издательство художественной литературы (Гослитиздат), 1957.
342
Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 283.
343
«Акт гражданского согласия и примирения» // Расследование в отношении судьбы Карагодина Степана Ивановича. 2016. 21 ноября. https://karagodin.org/?p=11119.
344
О забвении как способе сохранения прошлого в связи с категорией прощения см.: Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. Особенно с. 693–700; см. также: Ямпольская А. Искусство феноменологии. М.: Рипол-Классик, 2018. С. 84–93.
345
Gluck C. The «End» of the Postwar: Japan at the Turn of the Millennium. P. 292–293.
346
Olick J. The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method. The University of Chicago Press, 2016. P. 257, 264, 331, 362.
347
Об эволюции значения выражения «преодоление прошлого» см.: Pietsch H. Changing Meanings of Mastering the Past // The Lost Decade? The 1950s in European History, Politics, Society and Culture / Ed. by H. Feldner, C. Gorrara, K. Passmore. Cambridge Scholars Publishing, 2011. P. 134–151.
348
Weizsäcker R. v. Ansprache des Bundespräsidenten am 8. Mai in der Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 8 Mai 1985.
349
Nolte E. Die Vergangenheit, die nicht vergehen will // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1986. Juni 6.
350
Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung // Die Zeit. 1986. Juli 11.
351
Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собр. соч.: В 12 т. Киев: Типография М. М. Фиха, 1902. Т. 6. С. 87–101.
352
Assmann A. Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany // A companion to Nazi Germany. P. 595.
353
Эстерхази П. Harmonia Caelestis / Пер. с венгерского В. Середы. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
354
Эстерхази П. Исправленное издание. Приложение к роману «Harmonia Caelestis» / Пер. с венгерского В. Середы. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
355
Там же. С. 72.
356
Дашевский Г. Изгнание отца // Коммерсантъ Weekend. 2009. № 2. 23 января. С. 15. https://www.kommersant.ru/doc/1104603.
357
Иван Бехер, рецензент газеты Népszabadság. Цит. по: Середа В. От переводчика // Эстерхази П. Исправленное издание. С. 238.
358
Ср. интересное замечание в интервью историка и философа Михаила Гефтера в ответ на вопрос о том, как относиться к сталинскому прошлому: «Отступим на минуту в 60‐е годы, вспомним человека, бесспорно стоявшего в эпицентре духовного обновления, — Александра Твардовского. Легкость отказа от наследства, где были и родные ему могилы, отвращала его не меньше, чем козни и лицемерие „наследников Сталина“: Сталин был для него, как вызов чести. Стоит подумать, чего бы мы лишились, если бы Твардовский не принял этого вызова. Пора открыть двери и войти хозяевами в свой дом, принадлежащий каждому, живому и мертвому». Гефтер М. Сталин умер вчера // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. С. 302.
359
См. напр.: «Мне помогают расстрелянные» // Радио «Свобода». 2016. 19 ноября; Потомок офицера НКВД извинился за деда // Комсомольская правда. 2016. 25 ноября; Siberian man tracks down great-grandfather’s executioners // bbc.com. 2016. 30 Nov.; In Putin’s Russia, it just got easier to find the perpetrators of Stalin’s purges // The Washington Post. 2016. Dec. 5.
360
База данных размещена по адресу: https://nkvd.memo.ru.
361
См. напр.: Стешин Д. Не будите в своих предках палачей и жертв. Иначе 37‐й год вернется // Комсомольская правда. 2016. 4 декабря; Палачи и жертвы. Раскол по историческому признаку // Телеканал «Звезда». 2016. 6 декабря.
362
См., напр.: Потомки чекистов просят Путина закрыть доступ к базе «Мемориала» // NEWSru.com. 2016. 27 ноября. В публикации КП, на которую как на первоисточник ссылаются многочисленные пересказы этой новости (Угланова К. В сети появилась база данных сотрудников НКВД, расстреливавших омичей. Потомки чекистов, работавших в годы «Большого террора», требуют закрыть сайт // Комсомольская правда. 2016. 27 ноября), в настоящее время нет упоминаний открытого письма В. Путину с требованием закрыть сайт.
363
«По-другому было и нельзя». Как потомки сотрудников НКВД оценивают деятельность своих родственников // Lenta.ru. 2016. 2 декабря.
364
Чарочкина В., Фещенко В., Менибаева А., Спасская К., Портнягина М., Алехина А. Палачи и жертвы внутри одной семьи // Секрет фирмы. 2017. 17 ноября. http://pamyat.secretmag.ru/.
365
Яковлев В. Меня назвали в честь деда // Facebook. 2016. 8 сентября. https://www.facebook.com/1206441856087060/photos/a.1214617398602839/1214765738588005.
366
Экс-главред AdMe и основатель «Коммерсанта» запустили издание об «отношениях общества» Splash // VC.ru. 2016. 11 ноября.
367
Льюис К. С. Национальное покаяние / Пер. Н. Трауберг // Льюис К. С. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Фонд имени о. Александра Меня, 1998. Т. 2. С. 258–260.
368
Ямпольский М. Изнасилование покаянием // Литературное обозрение. 1991. № 8. С. 89–96.
369
Лебедев С. Предел забвения. М.: Первое сентября, 2011. К настоящему моменту роман переведен на более чем десяток языков.
370
Друзья: Николай В. Кононов — Сергей Лебедев // Colta.ru. 2016. 21 декабря. https://www.colta.ru/articles/society/13431.
371
Собрание материалов о Назинской трагедии см. здесь: http://nkvd.tomsk.ru/researches/history_investigation/nazino_tragedy/.
372
Друзья: Николай В. Кононов — Сергей Лебедев.
373
Эстерхази П. Исправленное издание. С. 41.
374
Волчек Д. «Мы тычем палкой в пасть зверя». Разговор с правнуком чекиста // Радио «Свобода». 2018. 17 марта. https://www.svoboda.org/a/29101852.html.
375
Фомина Е., Рачева Е. От шофера «черного воронка» до Сталина // Новая газета. 2016. 23 ноября.
376
Вячеслав Никонов (родной внук сталинского министра иностранных дел Вячеслава Молотова) — историк, политолог, член Государственной думы РФ, председатель комитета ГД по образованию и науке.
377
Арендт Х. Ответственность и суждение / Пер. Д. Аронсона и др. М.: Изд. Института Гайдара, 2014. С. 205.
378
Teege J., Sellmair N. My Grandfather Would Have Shot Me. A Black Woman Discovers Her Family’s Nazi Past. New York: The Experiment Publishing, 2015. P. 199.
379
Jennifer Teege Author Q&A and Book Trailer: My Grandfather Would Have Shot Me // The Experiment. 2015. April 6.
380
Запись в Facebook от 25 ноября 2016 года: https://www.facebook.com/100001691577456/posts/1315976915135348/.
381
Bar-On D. Legacy of Silence: Encounters with the Children of the Third Reich. Harvard University Press, 1989.
382
Цитата дана по материалам пьесы «Груз молчания», составленной на основе книги Бар-Она Михаилом Калужским. Благодарю его за предоставление текста пьесы.
383
Bridging the Gap: Storytelling as a Way to Work through Political and Collective Hostilities / Ed. by Dan Bar-On. Hamburg: Edition Körber-Stiftung, 2000.
384
Сайт проекта «Мой ГУЛАГ»: https://mygulag.ru. В 2020 году 26 интервью будут изданы без сокращений в виде книги; средства на ее издание были собраны методом краудфандинга.
385
Kerski B., Kycia T., Żurek R. «Wir vergeben und bitten um Vergebung»: Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe 1965. Osnabrück: Fibre Verlag, 2006.
386
Венцлова Т. Евреи и литовцы (1975) // Пограничье. Публицистика разных лет. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. С. 188.
387
Michnik A. Poles and Jews: How Deep the Guilt? // The New York Times. 2001. March 11. Цитата по изданию: Михник А. По наказу совести // Гросс Я. Т. Соседи. История уничтожения еврейского местечка / Пер. В. Кулагиной-Ярцевой. М.: Текст, 2002.
388
Миклош Хорти — правитель Венгерского королевства в 1920–1944 годах.
389
Эстерхази П. Исправленное издание. С. 230–232.
390
Ельшевская Г. Соцреализм. От Дейнеки до картины «Опять двойка»: какой стиль живописи создал Сталин // Проект Arzamas. 2016. 25 ноября. https://arzamas.academy/materials/1204.
391
Серия военно-патриотических плакатов, выпускавшихся в 1941–1946 годах.
392
Такие заявления то и дело раздаются среди польских политиков, вплоть до самых высокопоставленных, но остаются риторическим инструментом. Подробнее о Варшавской высотке как наследии советской идеологической гегемонии см.: Zaborowska M. J. The Height of (Architectural) Seduction: Reading the «Changes» through Stalin’s Palace in Warsaw, Poland // Journal of Architectural Education. 2001. Vol. 54. Issue 4. P. 2015–217; Ochkovskaya M., Gerasimenko V. Buildings from the Socialist Past as Part of a City’s Brand Identity: The case of Warsaw // Bulletin of Geography. Socio-economic series. 2018. № 39. P. 113–112.
393
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 88–90.
394
Частное письмо, сентябрь 2016 года.
395
См., напр.: Трудолюбов М., Эппле Н. Убеждения: Кредо консерватора // Ведомости. 2013. 31 января; Трудолюбов М., Эппле Н. Убеждения: Кредо либерала // Ведомости. 2014. 14 января.
396
Об истории Дня победы и эволюции его восприятия в советское и постсоветское время см.: Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. New York: Basic Books, 1994; Габович М. Памятник и праздник: этнография 9 мая // Неприкосновенный запас. 2015. № 101.
397
О практиках отчуждения от власти в сталинскую эпоху см.: Дэвис С. Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941 / Пер. с англ. В. Морозова. М.: РОССПЭН, 2011. С. 119–137.
398
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 257. (Сравнение с понятием «внутренней эмиграции» см. на с. 265–266.)
399
Интересный анализ причин, по которым жители России выбирают одну или другую стратегию, см. в книге: Greene S. A., Robertson Gr.B. Putin v. the People The Perilous Politics of a Divided Russia. Yale University Press, 2019. P. 147–158. Авторы привлекают психологическую модель «Большой пятерки», описывающую личность человека через ряд самохарактеристик, показывая, что среди сторонников власти в России высок процент людей, для которых важно бесконфликтное сосуществование с социальным окружением (agreeableness, «доброжелательность» или «покладистость»).
400
Ср. стабильно высокий, согласно опросам, процент тех, кто не считает возможным финансово обеспечить себя и семью независимо от государства.
401
Светлана Давыдова: зря отпустили? // ВЦИОМ. 2015. № 2800. 25 марта. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=577.
402
«И реша к себе: „князя поищемъ, иже бы владелъ нами и рядилъ ны по праву“. Идоша за море к Варягомъ и ркоша: „земля наша велика и обилна, а наряда у нас нету; да поидете к намъ княжить и владеть нами“». Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 106.
403
Бибихин В. Власть России // Новая Юность. 1994. № 1. http://www.bibikhin.ru/vlast_rossii.
404
Художник Илья Глазунов поправит картину после замечаний Путина // РИА. 2009. 10 июня. https://ria.ru/20090610/173984358.html.
405
Соловьев С. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 631. (Цит. по: Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 93.)
406
Там же. С. 40.
407
См., напр.: Кынев А. Феномен губернаторов-«варягов» как индикатор рецентрализации (Опыт 1991–2018 гг.) // Полития. 2019. № 2 (93). С. 125–150.
408
Белоусов А. Провинциальность столичного мэра как обратная сторона вертикали власти // Ведомости. 2015. 18 марта.
409
Ответственность и влияние // Левада-центр. 2016. 13 июля. https://www.levada.ru/2016/07/13/otvetstvennost-i-vliyanie/. По данным другого опроса, не готовы участвовать в политике 80% респондентов, а готовы — всего 16%. 61% живут, избегая контактов с властью, а считают себя способными добиваться от нее необходимого только 9% (Политическое участие // Левада-центр. 2017. 12 апреля. https://www.levada.ru/2017/04/12/politicheskoe-uchastie/.
410
См. об этом: Александер Дж. О социальном конструировании нравственных универсалий: «Холокост» от военных преступлений до драмы травмы // Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Праксис, 2013.
411
Различение отрицания и осуждения как противоположных модусов отношения к прошлому может казаться непривычным и надуманным, но только на первый взгляд. Это проще понять на отвлеченном примере. Так, отказ признавать наличие заболевания очевидно противоположен согласию пройти медосмотр и диагностировать болезнь. Отказ от признания факта преступления в прошлом точно так же противоположен согласию признать его и осудить.
412
Об этом см., напр.: Полян П. Юбилей à la Glavpour? Российский организационный комитет «Победа» как естественная монополия; Рамазашвили Г. Есть такая профессия — историю зачищать: ЦАМО РФ в преддверии 60-летия Победы. Обе работы опубликованы в сборнике: Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
413
Добренко Е. «Грамматика боя — язык батарей» // Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Verlag Otto Sagner, 1993. С. 219.
414
Гефтер М. Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером // Век XX и мир. 1987. № 8. С. 48.
415
См. об этом: Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной/Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970‐х годов) // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
416
Чудакова М. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня…» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 238–239.
417
Гроссман В. Жизнь и судьба. М.: Советский писатель, 1990. С. 170.
418
Аптекарь П. Советско-финские войны. М.: Эксмо, 2004. С. 5.
419
«Попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической политической точки зрения — бессмысленными, вредными и опасными, — сказал Владимир Путин, тогда премьер РФ, выступая в Гданьске на церемонии, посвященной 70-летию начала Второй мировой войны. — Именно совокупность всех этих действий и привела к трагедии, к началу Второй мировой войны» (Вести.ru. 2009. 1 сентября). Позднее оценки Пакта российским руководством существенно изменились. Обзор оценок пакта Молотова — Риббентропа см. в издании: Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков / Ред. М. Наринский, С. Дембский. М.: Аспект Пресс, 2009.
420
Здесь показательно свидетельство активиста, занимающегося поиском захоронений военнослужащих времен Великой Отечественной войны, которое приводят авторы исследования «Какое прошлое нужно будущему России»: «Для поисковика это победа просто колоссальной ценой. Когда мы работаем в этом лесу, мы видим, что собой представляли поля сражений и как относились к тем, кто погиб, их просто оставляли на поле боя. Причем это не только в Долине смерти (место ожесточенных боев с конца 1941 по середину 1942 года рядом с деревней Мясной Бор Новгородской области. — Н. Э.), по всей России так, по всему Советскому Союзу и даже на Дальнем Востоке. Наши поисковики рассказывали, что они работали в месте последнего боя Второй мировой войны на японском театре на острове Курильской гряды или где-то там. И там стоит монумент, поставленный в честь победы над Японией, а внизу у монумента незахороненные останки солдат. Вот отношение к людям». Юдин Г., Хлевнюк Д., Максимова А., Фархатдинов Н., Рожанский М., Васильева Е. Аналитический отчет по социологическому исследованию в рамках доклада Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России». М., 2017. С. 61–62. https://komitetgi.ru/service/Социология_финал.pdf.
421
Гроссман В. Жизнь и судьба. С. 494.
422
Добренко Е. «Грамматика боя — язык батарей». С. 285.
423
Хапаева Д. Готическое общество: морфология кошмара. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 87.
424
Щербакова И. Память о войне: пропагандистский миф против «окопной правды» // Проект Arzamas. 2018. 5 апреля. https://arzamas.academy/materials/1551.
425
Зачем понадобился еще один «Бессмертный полк»? // НДН.инфо. 2015. 22 июня.
426
Более нюансированный анализ феномена «Бессмертного полка» (и других низовых практик, связанных с памятью о войне) в контексте имитационных движений в современной России см. в работе: Gabowitsch M. Are Copycats Subversive? Strategy-31, the Russian Runs, the Immortal Regiment, and the Transformative Potential of Non-Hierarchical Movements // Problems of Post-Communism. 2018. Vol. 65. № 5. P. 306–310.
427
Аптекарь П., Железнова М. Чей сегодня праздник // Ведомости. 2018. 3 июля (см. также: Плющев А. Успех России на ЧМ-2018 — достояние народа, а не властей. Deutsche Welle. 2018. 2 июля).
428
Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68.
429
Марголит Е. Живое и мертвые. Заметки к истории советского кино 1920‐х —1960‐х годов. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2012. С. 18.
430
Левада Ю. Рубежи и рамки семидесятых. Размышления соучастника // Неприкосновенный запас. 1998. № 2.
431
Новикова Л. Провинциальная «контрреволюция». Белое движение и гражданская война на русском Севере 1917–1920. М.: Новое литертурное обозрение, 2011.
432
Интересный пример рассказа об истории Русского Севера, соединяющий две несмешивающиеся и не раздельные до конца линии творческой инициативы и государственного насилия, представляет собой историко-публицистическое исследование по истории Соловков фотографа и краеведа Юрия Бродского: Бродский Ю. Соловки. Лабиринт преображений. М.: Новая газета, 2017.
433
Быков Д. Булат Окуджава. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 486.
434
О сопротивлении в сталинскую эпоху см., напр.: История сталинского ГУЛАГа. Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных. М.: РОССПЭН, 2004; Верт Н. Террор и беспорядок (глава «Сопротивление общества в сталинском СССР». С. 336–362); Виола Л. Э. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. М.: РОССПЭН, 2010; Православное церковное сопротивление в СССР. Биографический справочник. 1927–1988 / Сост. М. Шкаровский, Д. Анашкин. М.: РОССПЭН, 2013.
435
Наиболее объемное на сегодня исследование коррупции и «несистемных» явлений в экономике позднесталинского СССР представляет собой книга: Heinzen J. The Art of the Bribe: Corruption Under Stalin, 1943–1953. Yale University Press, 2016.
436
Khlevniuk O. The Pavlenko Construction Corporation. Large-scale Private Entrepreneurialism in Stalin’s USSR // Europe-Asia Studies. 2019. Vol. 71. № 6. P. 892–906.
437
Соколов А., Тяжельникова В. Курс советской истории, 1941–1999. М.: Высшая школа, 1999. С. 299.
438
Улыбин К. Теневая экономика. М.: Экономика, 1991. С. 18.
439
Романов П., Ярская-Смирнова Е. Фарца: Подполье советского общества потребления // Неприкосновенный запас. 2005. № 5 (43).
440
Возможно, лучший на сегодня обзор теневых практик в советской экономике и их влияние на экономику постсоветскую дан в работе: Ledeneva A. Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge University Press, 1998.
441
Юдин Г., Хлевнюк Д., Максимова А., Фархатдинов Н., Рожанский М., Васильева Е. Аналитический отчет по социологическому исследованию в рамках доклада Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России». М., 2017. С. 80. https://komitetgi.ru/analytics/3076/#5.
442
Там же. С. 78.
443
Яркий пример такого нарратива можно найти, например, в книге А. Житнухина «Владимир Крючков. Время рассудит» (М.: Молодая гвардия, 2016): «Представляя механизм использования национальных проблем в „цветных революциях“, нетрудно заметить, что для резкого обострения межэтнических конфликтов в Советском Союзе, усиления центробежных тенденций на фоне роста антирусских, антироссийских настроений в целом ряде республик, развернувшегося „парада суверенитетов“ не было серьезных объективных предпосылок. Большинство этих явлений было спровоцировано местными „элитами“ при активной поддержке из‐за рубежа и потакании со стороны Горбачева и его ближайшего окружения. Советский Союз разваливали вполне осознанно и целенаправленно. И напрасно те, кто превратил великую трагедию в свой праздник, упорно, до сегодняшнего дня, твердят нам о том, что в основе распада СССР лежали исключительно внутренние, неразрешимые системные проблемы и противоречия».
444
В этом проблема концепта «любви к родине»: она складывается из благодарности родителям, учителю, дому и двору, в котором ты вырос, но стоит обобщить ее до концепта любви к стране, как она теряет личное содержание и оказывается категорией идеологической, в каковом виде может использоваться государством в пропагандистских и манипулятивных целях.
445
«В этот день все этносы страны могут поблагодарить друг друга и казахский народ за гостеприимство и дружбу в годы депортации. Тогда сотни тысяч людей доставляли в страну вагонами и оставляли на произвол судьбы. Но местные жители приютили каждого, дав кров и пропитание. Многие семьи, пережившие годы репрессий, обосновались в Казахстане». Хабар 24. 2018. 1 марта. http://24.kz/ru/news/top-news/item/224492-kazakhstan-otmechaet-den-blagodarnosti.
446
Примечателен ответ Мариэтты Чудаковой, вдовы автора, на вопрос о главном уроке книги: «Мы должны остро ощущать, что Россия — наша страна. Для меня смысл книги в первую очередь в этом». Мариэтта Чудакова о муже и авторе романа «Ложится мгла на старые ступени» // Татьянин день. 2012. 20 марта. http://www.taday.ru/text/1539262.html.
447
Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. М.: Время, 2012. С. 51.
448
Очевидные утраты, сомнительные и несомненные приобретения // Коммерсантъ Weekend. 2009. 18 декабря. https://www.kommersant.ru/doc/1294305.
449
Бабицкая В. Максим Осипов. Грех жаловаться: Рецензия // Colta.ru. 2009. 6 октября. http://os.colta.ru/literature/events/details/12752/.
450
Сапрыкин Ю. Непривычная Россия. Молодость в многоэтажках // Сеанс. 2018. № 68.
451
Художник Павел Отдельнов о серии своих работ «Внутреннее Дегунино» // OilyOil. 2015. 22 февраля. http://oilyoil.com/ru/blog/artist-paul-otdelnov-about-his-works-internal-degunino.
452
Lynching in America: Confronting the Legacy of Racial Terror. Montgomery: Equal Justice Initiative, 2017 [3rd edition]. https://lynchinginamerica.eji.org/report/.
453
Сайт музея и мемориала расположен по адресу: https://museumandmemorial.eji.org. Сайт «Инициативы за равное правосудие»: https://eji.org.
454
Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. 2nd Edition. London; New York: Routledge, 2010. P. 10–12.
455
Отчет комиссии: From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador: Report of the Commission on the Truth for El Salvador. UN Security Council. 1993. S/25500, 5–8. Все материалы комиссии см.: https://www.usip.org/publications/1992/07/truth-commission-el-salvador.
456
Lanni A. Transitional Justice in Ancient Athens: A Case Study // Journal of International Law. 2010. Vol. 551. Соглашение 404–403 годов рассматривает в своей книге о памяти и забвении историк Античности Кристиан Майер (см. ссылку на с. 354 этого издания). Книга посвящена не Античности, а «институту забвения» трудного прошлого, и соглашение — лишь один из рассматриваемых в ней «кейсов».
457
Аристотель. Афинская полития / Пер. с древнегреч. С. Радцига. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. С. 53–54.
458
Там же. С. 55.
459
Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. P. 11.
460
Hayner P. B. Unspeakable Truths. P. 13.
461
Mendez J. E. A Miracle, A Universe… By L. Weschler [Book Review] // NYLS Journal of Human Rights. 1991. Vol. 8. Issue 2. Art. 10. P. 583–584.
462
Brasil: Nunca Maís. Rio de Janeiro: EditoraVozes, 1985; английское издание: Torture in Brazil: A Shocking Report on the Pervasive Use of Torture by Brazilian Military Governments, 1964–1979 / Trans. J. Wright. Austin: University of Texas Press, 1998. Впечатляющее описание этого сюжета см. в издании: Weschler L. A Miracle, A Universe: Settling Accounts with Torturers. New York: Penguin, 1990; reprint with postscript, Chicago: University of Chicago Press, 1998. Интересная деталь: поскольку «бразильский проект» существовал в подпольных условиях, Католическая церковь обеспечивала не только его финансовую поддержку, но и легитимность напечатанному докладу.
463
Uruguay: Nunca Más: Informe Sobre la Violación a Los Derechos Humanos (1972–1985). 2nd ed. Montevideo: SERPAJ, 1989. Парламентская комиссия обладала полномочиями только расследовать случаи исчезновения людей, таким образом подавляющее большинство совершенных в стране преступлений, прежде всего незаконные тюремные заключения и пытки, оказались вне ее рассмотрения.
464
Guatemala: Nunca Más, 4 vols. Guatemala City: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998. Сокращенная английская версия: Guatemala: Never Again! Maryknoll, NY: Orbis Books; London: Catholic Institute of International Relations, 1999.
465
Как не помешаться на возмездии // Милосердие.ru. 2017. 11 июля. https://www.miloserdie.ru/article/kak-nam-vosstanovit-istoricheskuyu-spravedlivost/.
466
Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 25.
467
From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador: Report of the Commission on the Truth for El Salvador. UN Security Council. 1993. S/25500. P. 25.
468
Показательную реализацию этой модели см. в книге: Архипова М., Михайлова М. Прощение. Как примириться с собой и другими. М.: Никея, 2018.
469
Эстерхази П. Исправленное издание. С. 61.
470
Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. P. 91–109.
471
Ibid. P. 92.
472
Хустик С. Скованные одной цепью // Такие дела. 2018. 31 июля. https://takiedela.ru/2018/07/skovannye-odnoy-cepyu/.
473
Из Сибири в Сибирь. Сборник памяти саянцев, пострадавших в годы политических репрессий / Сост. А. Гомер и др. Части 1–2. Агинское, 2011–2012.
474
О музее в поселке Тугач см. фильм Елены Козловой и Ивана Тоцкого «Совершенно секретно — Тугачинский КрасЛАГ»: https://www.youtube.com/watch?v=VIDzOQlNVDE; страница проекта на сайте конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»: http://cultmosaic.ru/winners/sovershenno-sekretno-tugachinskiy-kraslag/?sphrase_id=2475; страница мемориала на сайте «Виртуальный музей ГУЛАГа»: http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=55121154&language=1.
475
Потомки Строда и Пепеляева примирились в Якутии! // SakhaLife. 2018. 3 сентября. https://sakhalife.ru/potomki-stroda-i-pepelyaeva-primirilis-v-yakutii/. Якутск: потомки командира Строда и генерала Пепеляева встретились в Амге // Сибирь. Реалии. 2018. 29 августа. https://www.sibreal.org/a/29459023.html.
476
Barkan E. The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices. New York: W. W. Norton & Company, 2000. P. XXII.
477
См. постановление правительства РФ от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации и предоставления льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом РА „О реабилитации жертв политических репрессий“».
478
«Государство должно было извиниться» // Meduza. 2016. 18 октября. https://meduza.io/feature/2016/10/18/gosudarstvo-dolzhno-bylo-izvinitsya.
479
О конфликте правосудия и примирения, изначально заложенном в компромиссных моделях разбирательства с прошлым, см. работу: Rotberg R. I., Thompson D. Truth v. Justice: the Morality of Truth Commissions. Princeton University Press, 2000.
480
Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. P. 76.
481
Mihr A. Regime Consolidation and Transitional Justice, A comparative case study of Germany, Spain and Turkey. Cambridge University Press, 2018. P. 246.
482
Gibson J. Overcoming Apartheid: Can Truth Reconcile a Divided Nation? 2004. P. 7–8. (Также Politikon. P. 135.)
483
Ibid. P. 77.
484
Текст определения см. на сайте Альянса: https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism.
485
Преодоление сталинизма и большевизма как условие модернизации России в XXI веке // Официальный сайт партии «Яблоко». 2009. 11 марта. https://www.yabloko.ru/resheniya_politkomiteta/2009/03/11 См. также: Преодоление сталинизма. М.: РОДП «Яблоко», «КМК», 2009. https://www.yavlinsky.ru/stalinizm.pdf.
486
Комплекс мер по реализации Политики исторической памяти // Официальный сайт партии ПАРНАС. 2018. 9 июня. https://parnasparty.ru/news/460.
487
«Центральная задача комиссии правды — не терапия. Она состоит в том, чтобы собрать как можно более детальную информацию от как можно большего числа жертв, что дало бы возможность тщательного анализа злоупотреблений в рассматриваемый период времени» (Hayner P. B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. P. 151).
488
Шешенин С. Новая база данных жертв репрессий. Интервью с Яном Рачинским // Уроки истории. 2017. 5 декабря. http://www.urokiistorii.ru/article/54312.
489
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920‐х — первая половина 1950‐х гг. Собрание документов. В 7 т. М.: РОССПЭН, 2004.
490
См. прежде всего: Земсков В. ГУЛАГ: историко-социологический аспект // Социологические исследования. 1991. 6–7.
491
Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 2000. № 7–12; 2001. № 1, 3–7, 9–12; 2002. № 2.
492
Khlevniuk O. The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror. New Haven; London: Yale University Press, 2004. P. 287–327.
493
Вишневский А. Демографические потери от политических репрессий // Вишневский А. Избранные демографические труды. Т. 1–2. М.: Наука, 2005. С. 261–300.
494
База: https://base.memo.ru/, предисловие: http://lists.memo.ru/.
495
https://www.memo.ru/media/uploads/2017/08/22/masshtaby-sovetskogo-politicheskogo-terrora.pdf.
496
Копосов Н. К оценке масштаба сталинских репрессий // Polit.ru. 2007. 11 декабря.
497
Охотин Н., Рогинский А. О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921–1953 // Демоскоп Weekly. 2007. № 313–314. 10–31 декабря.
498
Кривень Е., Наумов О. Сталинские репрессии: что это было? // Официальный сайт партии «Яблоко». https://www.yabloko.ru/lp/repr/?1.
499
Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2015. С. 448.
500
Хлевнюк О. Причины «большого террора» // Ведомости. 2017. 6 июля. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/06/712528-bolshogo-terrora.
501
Сомнения в эффективности сталинской экономики посещали в ее последние годы и высшее руководство страны: «По запросу Берии, 9 октября 1950 года Круглов (Сергей Круглов, глава МВД СССР. — Н. Э.) представил ему записку о стоимости строительств МВД по сравнению со строительствами других ведомств. Из этой записки Берия мог узнать, в частности, что расходы на содержание лагерей значительно удорожают рабочую силу из заключенных и что стоимость содержания заключенного выше среднего заработка вольнонаемного рабочего. Например, на строительстве Волго-Донского канала в 1949 году содержание одного заключенного обходилось в 470 руб. в месяц, а его зарплата (которую начисляли по тем же расценкам, что и свободным рабочим) составляла 388 руб.». Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. С. 161.
502
Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. С. 150–165; см. также: Tikhonov A. The End of the GULAG // The Economics of Forced Labor. The Soviet Gulag / Ed. by P. Gregory, V. Lazarev. Stanford: Hoover Institution Press Publication, 2003. P. 68–72.
503
Hunter H., Szyrmer J. M. Faulty Foundations Soviet Economic Policies, 1928–1940. Princeton University Press, 1992.
504
Allen R. C. Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2003. Русский перевод: АлленР. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции. М.: РОССПЭН, 2013.
505
См.: Ellman R. Soviet Industrialization: A Remarkable Success? // Slavic Review. 2004. № 63 (4). P. 841–849. Русский перевод: Эллман Р. О книге Р. Аллена «От фермы к фабрике: реинтерпретация советской промышленной революции» // Экономическая история. Обозрение. Вып. 13. М.: Издательство Московского университета, 2007. С. 218–228; Голанд Ю., Аллен Р. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции. [Рецензия на книгу] // Вопросы экономики. 2014. № 6. C. 155–158; Harrison M. A review on Allen, Robert C. From Farm to Factory… // The Russian Review. 2004. № 63 (4). P. 715–717.
506
Markevich A., Harrison M. Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928 // Journal of Economic History. 2011. № 71 (3). P. 672–703.
507
Cheremukhin A., Golosov M., Guriev S., Tsyvinski A. Was Stalin Necessary for Russia’s Economic Development? 2013. NBER Working Paper № 19425. http://www.nber.org/papers/w19425.pdf.
508
Голосов М., Гуриев С., Цывинский О., Черемухин А. Был ли нужен Сталин для экономического развития России? // Slon.ru. 17.10.2013. https://republic.ru/economics/byl_li_nuzhen_stalin_dlya_ekonomicheskogo_razvitiya_rossii-1006101.xhtml.
509
Сайт проекта: http://ru.fallen.io/ww2/.
510
Сайт: http://iofe.center/necropol.
511
Сайт: https://gulagmap.ru.
512
Лодыженская О. Ровесницы трудного века. М.: Никея, 2016.
513
Maislinger A. Coming to Terms with the Past: An International Comparison // Nationalism, Ethnicity, and Identity. Cross National and Comparative Perspectives / Ed. by R. F. Farnen. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2004.
514
Другую схему последовательно сменяющих друг друга государственных нарративов, касающихся отношения к трудному прошлому, описывает американский политолог Дженнифер Диксон (Dixon J. M. Dark Pasts: Changing the State’s Story in Turkey and Japan. Cornell University Press, 2018. P. 16): 1) отказ от признания преступлений и их замалчивание, 2) распространение мифов или релятивизация преступлений, 3) признание факта преступлений, 4) признание ущерба и выражение сожаления, 5) декларация готовности нести ответственность, 6) принесение извинений, 7) выплата компенсаций, 8) формирование мемориальной политики, фиксирующей признание ответственности за преступления.
515
Памятник репрессированным [Дискуссия в обществе «Мемориал» 16 марта 2015 г.] // Радио «Свобода». 2015. 22 марта. https://www.svoboda.org/a/26912032.html.
516
Денис Карагодин: Прямо на ваших глазах я выявил очередного убийцу! // Deutsche Welle. 2016. 23 ноября.
517
Карагодин Д. Безотчетное уничтожение. Что происходит с архивными данными о сталинском терроре? // Republic. 2018. 9 июня. https://republic.ru/posts/91157. Одна из таких фантастических историй — обнаружение среди родственников расстрелянных вместе с прадедом Карагодина священника Николая Симо, расстрелянного в Кронштадте в 1931 году, а в 2006‐м канонизированного в чине новомучеников.
518
Фомина Е. Список дедушки Степана // Новая газета. 2016. 17 февраля. https://novayagazeta.ru/articles/2016/02/17/67479-spisok-dedushki-stepana; Волчек Д. Тайные бумаги палачей // Радио «Свобода». 2017. 18 ноября. https://www.svoboda.org/a/28859360.html.
519
Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т. 1–14. Красноярск, 2004–2016. http://memorial.krsk.ru.
520
Бабий А. Интернет как инструмент общественных организаций. Красноярск: КРОБО, 2012.
521
Книга памяти немцев-трудармейцев Севураллага НКВД/МВД 1942–1946 [Электронное издание] / Сост. В Кириллов, С. Аминова, Е. Фолленвайдер. Нижний Тагил: НТГСПИ, 2018. См. также: https://gedenkbuch.rusdeutsch.ru/.
522
В начале 2020 года разговор об этом уже ведется на уровне Президентского совета по правам человека. См.: Роман Романов: Процесс создания единой базы жертв политрепрессий должен начаться с объединения разрозненных ресурсов // Официальный сайт СПЧ. 2020. 4 марта. http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6127.
523
Пушкарская А. Ссылка во втором поколении // Медиазона. 2019. 4 июля. https://zona.media/article/2019/07/04/repression.
524
Черных А. Репрессированным помогли с жильем // Коммерсант. 2019. 11 декабря. https://www.kommersant.ru/doc/4188818.
525
Ходулова Ю. Музей ГУЛАГа — пока только виртуальный // Интернет-газета «Якутия». 25.05.2017. http://gazetayakutia.ru/muzej-gulaga-poka-tolko-virtualnyj/.
526
Старикова Н. Иван Александрович Паникаров: К 60-летию со дня рождения // Время и события. Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2015 год. Хабаровск: ДВГНБ, 2014. С. 297–300.
527
Осенева С. Не заблудиться в настоящем // Моя родина Магадан [без даты]. http://www.kolymastory.ru/glavnaya/eho-dalstroya/ne-zabluditsya-v-nastoyashhem/.
528
Сайт ассоциации: http://memorymuseums.ru/.
529
Фильм размещен на сайте ТВ2: https://tv2.today/Istorii/Yar.
530
Второй фильм этой серии, «Яма. Дорога спецпереселенцев», вышел в марте 2020 года: https://tv2.today/Istorii/Yama.