Книга: Притча о выборе
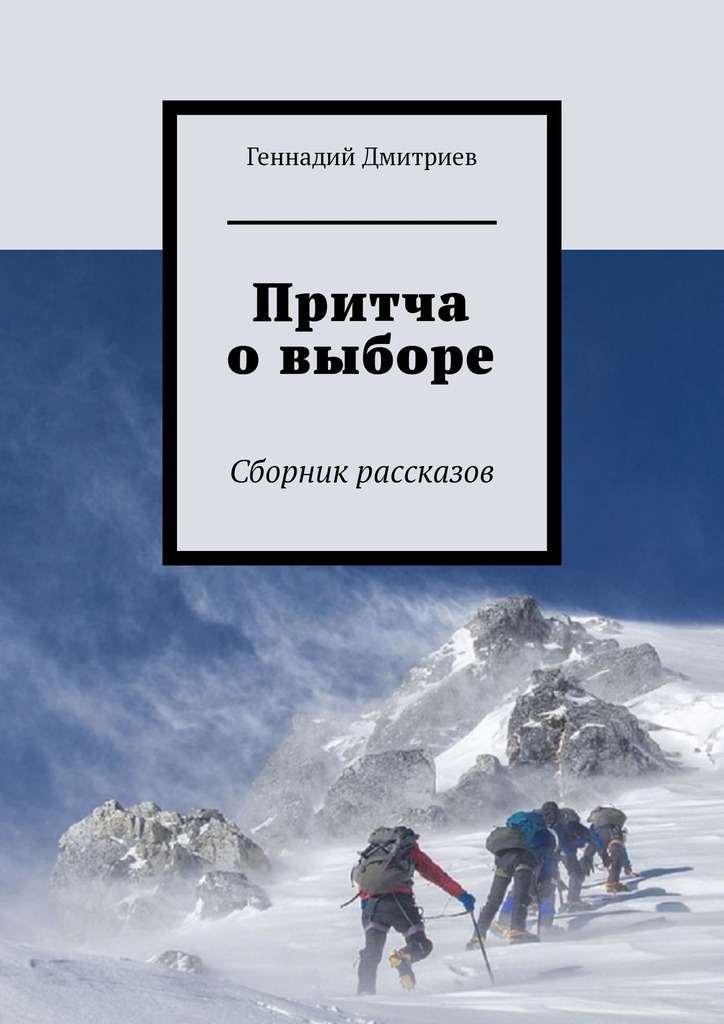
Сборник рассказов
Геннадий Дмитриев
© Геннадий Дмитриев, 2020
ISBN 978-5-4498-2017-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дело не в дороге, которую мы выбираем;
то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
О Генри «Дороги, которые мы выбираем»
Посадочная площадка альпинистского лагеря приютилась в горной долине. Саша уменьшил газ и отдал ручку управления от себя, переводя на снижение старенький «Як-12». Раз в неделю он доставлял в лагерь почту и продукты, иногда брал пассажиров. Развернув самолёт по створам посадочных знаков, он перевёл кран управления шагом винта в положение «малый шаг», и выпустил закрылки. Земля приближалась. И когда стало видно, как стебельки травы чуть колышутся под ветром, Саша убрал газ, выровнял самолёт, и, выдерживая его в нескольких сантиметрах от земли, посадил на зелёную, чуть примятую колёсами шасси траву. Срулил с полосы, выключил двигатель.
К самолёту двигался человек средних лет, спортивного телосложения.
— Здравствуйте, Николай Петрович! — приветствовал его Саша, спрыгнув с подножки на траву.
— Ну, здравствуй, Саша, что привёз? — ответил Николай Петрович, вот уже семнадцатый год бессменно занимавший должность начальника альпинистского лагеря.
— Как всегда: продукты и почту.
— Обратно когда летишь? Почту захвати.
— Да, сейчас разгружусь и обратно. Только вот…, — взгляд его бродил по палаточному городку. — Сейчас, вот только ….
— Да, не ищи, нет её в лагере.
Саша, широко открыв глаза, смотрел на Николая Петровича. Тот усмехнулся.
— Думаешь, не знаю, кого ты ищешь? Ларисой её зовут. Ушла она вчера с группой Родионова на Кемаль-Бурун. Через неделю вернётся.
Саша увидел её в альплагере неделю назад. Что-то произошло в нем, что, он ещё и сам не понимал. Эта хрупкая девочка в простой брезентовой штормовке, с короткой стрижкой, в одно мгновение заполнила всю его жизнь. Он не знал её имени, не пытался подойти к ней и заговорить. Нет, ни смущение, ни робость останавливали его. Он боялся, что очарование образа, который возник в его сознание слишком хрупко. Боялся, что одно неверно сказанное слово, один взгляд, брошенный вскользь, могут разрушить это хрупкое, нежное очарование.
Он взглянул вдаль, где на фоне неба маячил синеватый пик Кемаль-Буруна. Посмотрел и вздохнул.
— Они пойдут по восточному склону, — продолжал Николай Петрович. — Там ещё никто никогда не ходил.
— Но почему? — спросил Саша. — Почему не по Западному, по которому уже ходили? Ведь так проще добраться до цели?
— Важна не цель, а дорога, которую мы выбираем. Альпинисты выбирают пути, которыми ещё никто не ходил.
— Потому, что это спорт?
— Нет, Саша, потому, что это жизнь. В жизни не бывает проторенных путей. Каждый идет своим путем, своей дорогой. Вся наша жизнь — это дороги, которые мы выбираем. Один выбирает покой и уют, другой — блеск вершин и синеву небес. Хотя и того и у другого цель может быть одна, но не в цели суть, а в дороге.
Пока они беседовали, самолёт разгрузили, и Саша собрался в обратный путь. Николай Петрович взглянул на запад и покачал головой.
— Поторопись, Саша. Видишь, там, над Чугуром облачко дымится. Не к добру это.
Саша посмотрел в сторону горного массива Чугур-даг, чуть заметное легкое, почти невидимое облачко клубилось над ним.
— Так, Чугур-даг вот где, на западе, а мне на восток, через Ангорский перевал, в Южногорск. Да и метеослужба ничего плохого не обещала.
— Метеослужба! — хмыкнул Николай Петрович. — У меня своя метеослужба. Я уж, почитай, без малого двадцать лет в этих горах. Если над Чугуром облачко задымилось — ничего хорошего не жди. Эх! Родионова бы предупредить! Он, конечно, альпинист опытный, но группа уже вышла на маршрут, а оттуда Чугур им не виден. Сеанс связи с ними только вечером. А это поздно. Саша, слушай! Часа два у тебя есть. Сможешь отыскать группу, и сбросить им вымпел с запиской?
— Постараюсь, — ответил Саша.
— Нет, «постараюсь» — это не то. Сможешь или нет?
— Смогу.
— Ну, давай. Только смотри, если через час группу не обнаружишь — уходи, в горах не задерживайся. А то заметёт так, что и здесь уже не сядешь, и через перевал не пробьёшься. Ты понял?
— Понял, Николай Петрович.
— Тогда лети, сейчас записку им напишу, дашь красную ракету, и вымпел сбросишь. Ну, счастливо тебе, сынок!
Саша взлетел, набрал высоту и развернул машину в сторону Кемаль-Буруна. Через полчаса полета он достиг того района, где группа Родионова должна была выйти на маршрут. Прошло ещё полчаса поисков, но альпинистов нигде не было видно. Саша связался с альплагерем:
— «Гора», я двадцать второй, группы не вижу.
— Саша, уходи, уходи на восток. У нас уже сесть невозможно!
— «Гора», я двадцать второй, поиски продолжаю. Погода в норме.
— Саша, уходи! Через полчаса облака перевал закроют!
Но Саша упорно продолжал поиски, ведь там, в группе Родионова, была она! Наконец, он увидел группу. Саша снизился, прошел над самыми головами альпинистов, и дал красную ракету. Сделал второй заход, сбросил вымпел. Набрав высоту, с разворота он увидел — вымпел подобрали.
— «Гора», я двадцать второй, группу обнаружил, вымпел сбросил! Ухожу к перевалу!
Но пройти перевал он уже не успел. Погода в горах меняется быстро. Только что светило солнце, и казалось, ничто не предвещало беды. Но вот уже всё небо заволокли тяжёлые облака, поднялся штормовой ветер, началась пурга.
Маленький, лёгкий самолёт швыряло, как щепку. Прошел ещё час безумия вьюги, и Саша понял, что от перевала его отнесло опять к Кемаль-Буруну. Внизу только скалы. Сесть негде. Начала расти температура масла. Видимо обледенел маслорадиатор. Саша прикрыл створки, температура упала. Но едва успел он справиться с одной бедой, как пришла новая — обледенение крыльев и фюзеляжа. Слой льда нарастал на лобовом стрингере крыла, машина дрожала, теряя скорость и высоту.
Когда стало ясно, что в воздухе машину не удержать, Саша направил её вдоль склона, стараясь смягчить удар. Он успел выключить зажигание и закрыть пожарный кран. Самолёт скользнул по склону, и, сломав левое шасси, скапотировал, задрав вверх хвост, уткнулся мотором в снег. Что-то больно ударило в левую ногу. Пытаясь вылезти из кабины, Саша понял, что ногу заклинило между педалью и поврежденной от удара обшивкой. С трудом, превозмогая боль, он освободил ногу, и вывалился на снег. Вскочил. Но страшная боль в ноге уложила обратно. В глазах потемнело.
Над головой свистел ветер, заметая снегом и самолёт, и неподвижное Сашино тело. Он знал, что оставаться на месте нельзя, нужно двигаться, несмотря на боль, если нельзя идти, то нужно ползти. Он полз, хватаясь за снег руками и упираясь здоровой ногой. «Только не останавливаться! — думал он. — Остановиться — замёрзнуть». Он временами терял сознание, приходил в себя и снова полз. Наступила ночь. Хотелось остановиться и уснуть, провалиться в блаженство ночи. Но он знал: сон — это смерть. Движение, только движение. Непогода под утро утихла. Но и силы покидали его. И тут он увидел…
Метрах в ста от него, по склону шли в связке два альпиниста. Он пробовал закричать, но только слабый хрип вырвался из груди. Сейчас они уйдут, и всё. Кроме группы Родионова здесь никого нет. «Ракету, надо дать ракету!» Саша окоченевшими пальцами расстегнул кобуру, вытащил ракетницу, и поднял руку. И только сейчас он заметил: за альпинистами тянулся красный лавинный шнур. «Склон лавиноопасен! Нельзя стрелять! Звук выстрела может вызвать сход лавины!» «Всё, всё, конец» Он уткнулся лицом в снег, в глазах потемнело.
Когда он открыл глаза, было тепло и тихо. Её лицо склонилось над ним, она улыбнулась:
— Ну, слава Богу! Пришёл в себя! Почему ты не выстрелил? Мы бы прошли мимо и не заметили тебя! Мне показалось, что кто-то смотрит на меня снизу, я обернулась и увидела тебя. Почему же ты не дал ракету?
— Склон лавиноопасен. Побоялся, что от звука выстрела сойдет лавина.
— От звука ракетницы лавина бы не сошла. Склон опасен, но не настолько, иначе бы Родионов не пошёл этим путем. Мы шли с ним на разведку маршрута, вчера снега много навалило, нужно было посмотреть, можно ли пройти к западному склону. Ты как себя чувствуешь? Двигаться можешь?
— У меня нога сломана.
— Дай, посмотрю. Нет, нога не сломана, это вывих. Сейчас попробую вправить. Не бойся, я — врач-травматолог. Профессия не лишняя в группе альпинистов.
Лариса сжала сустав, Саша застонал.
— Потерпи, потерпи, миленький, потерпи, я сейчас!
Он готов был терпеть любую боль, лишь бы снова услышать это «миленький»
— Ну, вот и всё. Как ты?
Пот катился с побледневшего лица, но боль прошла, стало легко и спокойно.
— Всё нормально, спасибо, — ответил он.
— Погоди, я сейчас тугую повязку наложи. Полежи пока, не двигайся. Родионов ушел к ребятам за помощью, они внизу, в базовом лагере остались. Вдвоём мы тебя не спустили бы. К вечеру Родионов с ребятами вернётся. Будем спускаться.
— Где мы?
— На базальтовом плато.
Их разговор прервал нарастающий гул лавины.
— Что это? — спросил Саша.
— Лавина. Далеко. Пойду посмотрю, лежи.
Выйдя из палатки, Лариса увидела, что лавина сошла не так уж и далеко от них, главное поняла она — помощь уже не придет, ни сегодня к вечеру, ни завтра. Скальные ворота, единственный путь на базальтовое плато, завален лавиной.
— Что там?
— Ничего, всё в порядке.
Прошел день, другой. Помощи не было. Погода снова испортилась. Поднялся ветер, низкие облака укрыли горы, окутали базальтовое плато туманом. Лариса отдавала все оставшиеся продукты Саше, сама уже четвертый день не прикасалась к еде.
— Ешь, ешь Саша, тебе поправляться надо.
— А ты ела?
— Да, конечно, — лгала она.
Родионов с группой вернулся в альплагерь за помощью. Из Южногорска прилетел командир авиаотряда Владимир Иванович Дёмин на «Як-12». Все они собрались у Николая Петровича обсудить возможные варианты спасательных работ.
— Через скальные ворота сейчас не пройти, — сказал Родионов. — А другого пути просто нет.
— А если подняться на Кемаль-Бурун по западному склону, и по восточному спуститься на плато? — спросил Николай Петрович.
— Подняться по восточному склону ещё можно, а спуститься никак нельзя. Там по пути два отрицательных склона. Если подняться по этому склону и пробить крючья, что мы и собирались сделать, то спуститься можно было бы. А так нет.
— Тогда остается одно, — сказал Владимир Иванович, — попробовать приземлиться на базальтовом плато на «Як-12».
— Лучше на вертолёте.
— Лучше. Но нету у нас в отряде вертолётов. Как только установится погода, полечу туда, может, удастся посадить самолёт.
— Не стоит, Владимир Иванович, — ответил Николай Петрович. — Хочешь к тем, двоим добавить ещё и себя? Там же никто на самолёте не садился.
— Вы тоже ходите там, где никто ещё не ходил. Вот и я попытаюсь сесть, где никто ещё не садился. Как ты говоришь: «Важен путь, который мы выбираем»?
Утром Саша услышал над плато звук мотора «Як-12».
— Самолёт! Слышишь, самолёт! — пытался он разбудить Ларису. Но она, обессилев от голода, слабо ответила: «Слышу, слышу», и вновь провалилась в забытье.
Саша вышел из палатки. Самолёт два раза прошел над самой площадкой, и сел. Саша помог Ларисе выбраться из палатки, радостно сообщив, что пилоту удалось посадить самолёт.
— Владимир Иванович, как Вам удалось здесь приземлиться? — спросил Саша.
— Приземлиться то удалось. Вопрос в том, удастся ли взлететь? Площадка короткая, плюс высота, да снежный покров. Помнишь рассказ О. Генри «Дороги, которые мы выбираем»? «Боливар не вывезет двоих». Сейчас именно тот случай. Кому-то придется остаться на плато.
— Я останусь! — крикнул Саша.
— Нет, нет! Ему надо лететь! Останусь я! — отозвалась Лариса.
Но Владимир Иванович только усмехнулся:
— Да во мне одном веса больше, чем в вас двоих. Так что, оставаться придется мне.
— А кто же взлетит? — спросил Саша.
— Вот ты и взлетишь.
— Но у меня нет опыта, я не смогу.
— Сможешь. Все когда-то приходится делать впервые. А за мной прилетишь потом.
— Но ведь… — начала Лариса и умолкла.
Все понимали, что никакого «потом» уже не будет. Рев двигателя на взлётном режиме неизбежно вызовет сход лавины, которая сметёт с площадки всё.
— Когда будем взлетать, — сказала Лариса, — уйдите туда, под карниз, там безопаснее.
Саша запустил мотор, и, удерживая машину на тормозах, вывел двигатель на взлётную мощность. Мотор взревел, сотрясая окрестные горы. Саша отпустил тормоза и начал разбег. Самолет оторвался у самого конца площадки. Он набрал высоту, развернулся. Лавина сошла. На площадке никого не было. Только белые клубы снежной пыли, как облака, дымились над базальтовым плато.
Через пять дней группа спасателей, спустившись по восточному склону на плато, путём, которым ещё никто не ходил, обнаружила под завалами снега, у карниза, Владимира Ивановича, без сознания, но живого.
Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии.
А. Грин
Сознание медленно возвращалось, и когда я снова открыл глаза, передо мной была непроглядная темнота, только звуки просачивались сквозь неё. Журчала вода за бортом, слышались мерные удары волн по обшивке, — судно шло, то поднимаясь, то снова опускаясь на крутой волне. Выл ветер в снастях, что-то скрипело, звенело в такт размаха судна — обычные звуки, с которыми я уже свыкся за время плавания. Попробовал пошевелиться, но веревка впилась в тело — меня связали и бросили в трюм.
С ужасом вспоминал я подробности прошедшего дня: нас атаковала пиратская бригантина, команда, во главе с капитаном, сопротивлялась отчаянно, но пираты значительно превосходили нас числом, и вскоре всё было кончено. В живых не оставили никого, раненых матросов и пассажиров пираты заперли в трюме нашего корабля, а когда пиратская бригантина отошла на некоторое расстояние, в сторону нашего корабля полетели зажигательные ядра, брандскугели. Они разрывались на палубе, поджигая всё, что могло гореть. Корабль пылал, а с ним горели и люди, запертые в трюме; когда кому-то из них удавалось выбраться на горящую палубу, пираты стреляли в него, не давая добраться до борта. При этом старались не убить, а ранить, чтобы те, кто искал спасение в воде, находили свою смерть в огне.
Пираты смеялись, наблюдая за тем, как мечутся люди по палубе горящего судна, как вспыхивает на них одежда, и они, катаясь по дымящимся доскам, пытаются сбить пламя; тех, кто пытался броситься за борт, настигали пули. Так они все и сгорели, сгорели заживо под свист пуль и смех своих палачей.
Только меня оставили они на своей бригантине, не знаю, почему они не сожгли меня вместе со всеми, я смотрел, как гибнут те, с кем свыкся за время плавания. Среди них был юнга, совсем ещё мальчик, он любил слушать, когда я играл на флейте, душа его была чиста и безгрешна, но пираты не пощадили и его.
Слёзы текли по моим щекам, до боли в пальцах сжимал я флейту, а пираты, смеялись, плясали, и кричали мне, чтобы я играл, чтобы мои товарищи умирали с музыкой. Я ответил им, что все они будут гореть в аду, что придёт время, и они ответят за всё, и тогда я сыграю им такую музыку, от которой у них кровь застынет в жилах. Они связали меня и бросили в трюм, падая, я ударился о что-то головой и потерял сознание.
Почему они не убили меня? Я не матрос, не воин, не купец, я не держал в руках оружия, у меня нет ни золота, ни серебра, только флейта — это всё, что у меня есть. Я плыл в Новый Свет, чтобы услышать звуки первозданной природы, природы девственной, не тронутой развратом Старого Света. Я плыл за музыкой, которую пронизанная пошлостью, погрязшая в грехах Европа уже никогда не сможет родить.
Это неправда, будто композитор сочиняет музыку, человек ничего не может сочинить, музыку рождает природа: неистовый шум водопада, тихое журчание ручья, шепот листвы, завывание ветра, шум дождя — душа музыканта переболев этими звуками, выстрадав их, разрешается пением флейты, говором клавесина, плачем скрипки, громом литавр.
Я впитывал эти звуки первозданной природы, я жил ими, я пил их, как жадно пьёт воду из ручья усталый, измученный жаждою путник, я страдал ими, и флейта моя рождала новую, таинственную мелодию, которую никто никогда не слышал там, в Старом Свете. Но, видимо, никому уже не суждено услышать музыку, рожденную моей измученной душой. Меня продадут в рабство в каком-нибудь пиратском порту, и музыка моя умрёт вместе со мной, так и не успев родиться.
Глаза постепенно привыкли к темноте, и я разглядел в квадрате открытого люка, прямо над головой, тёмное ночное небо — ни звезд, ни луны, только тьма, пронизанная ветром. Внимание моё привлёк какой-то новый, незнакомый звук — странные шорохи, возня, попискивание. Я с ужасом понял — это крысы, те самые корабельные крысы, живущие в трюмах. Слышал, как полчища голодных крыс набрасывались на людей и съедали их живьём. Стали жутко и холодно. Если они нападут на меня, я не смогу даже пошевелиться.
Ночь была на исходе, неясные очертания внутренностей корабля стали едва различимы, и там, в углу, шевелилась серая, жуткая, бесформенная масса живых существ. Я замер в ожидании развязки. Время шло, но крысам не было до меня никакого дела, они были заняты чем-то более важным, чем моё грязное, пропахшее потом и затхлой водой трюма, истерзанное тело.
Крысы издавали какие-то неясные звуки, и казалось, они разговаривают между собой на человеческом языке, смеются над теми, кто живьем сгорел на ограбленном корабле, и надо мной, тем, кого приготовили им на ужин те, кто наверху. Мне показалось, что те, кто наверху, такие же крысы, как и те, что внизу, в трюме. Нет, они не люди, нет, разве люди могут так поступать? Разве люди могут жечь других людей? Разве могут люди смеяться, видя, как умирают в огне такие же, как и они, из плоти и крови, те, кто не чинил им зла, кого ограбили и сожгли, чья вина состоит только в том, что и они хотели жить?
Когда совсем рассвело, одна из крыс заметила меня, она осторожно подошла, потягивая воздух длинным усатым носом, взобралась мне на грудь, и внимательно смотрела на меня чёрными с красноватым отблеском глазами. Подбираясь ближе к моему лицу, она наткнулась на верёвку, которой меня связали, и стала обнюхивать её.
— Перегрызи верёвку, ну, что тебе стоит? — тихо попросил я.
Крыса подняла мордочку, определяя, откуда исходит звук, и, как будто вняв моей просьбе, стала грызть верёвку, видимо, засаленная, грязная верёвка пахла чем-то съестным. Когда крыса завершила свою работу, я пошевелился, освобождаясь от пут, и она испуганно отскочила в сторону, продолжая наблюдать за мной. Я осмотрелся, флейта моя лежала рядом, они бросили её в трюм вслед за мной.
Я открыл футляр, достал флейту и прикоснулся губами к мундштуку. Сердце радостно затрепетало. Но что толку от того, что флейта моя со мной? Меня разлучат с ней, как только мы придём в порт, если, конечно, эти мерзкие твари не сожрут меня раньше. Что я могу сделать один против целого полчища крыс? Всё моё оружие — только флейта, я не воин, не крысолов, я только флейтист. Крысолов. Флейта. Что-то знакомое шевельнулось в памяти, крысолов, вооруженный флейтой, победил целое полчище крыс. Но это легенда, всего лишь легенда.
В давние времена город Гамельн наводнили крысы, откуда они пришли, зачем, — никто не знал; крысы уничтожили все съестные запасы, нападали на людей, и люди никак не могли истребить их. Тогда бургомистр заявил: если найдется тот, кто избавит город от крыс, он даст ему столько золота, сколько тот сможет унести. Время шло, и, несмотря на обещанную награду, никто не мог противостоять полчищам крыс. И вот, однажды, в город пришёл музыкант, играя на флейте, он увлёк за собой стаи крыс, заполонивших город, и утопил в реке Везер, но когда городские власти отказались выплатить награду музыканту, он чарами волшебной музыки увел за собой детей на гору, где они и пропали.
Но куда я могу увести крыс? Когда я сам пленник? Мне не выбраться отсюда уже никогда. Когда корабль тонет, крысы покидают его. Но корабль уверенно шёл по крутой волне, об этом говорили привычные звуки, а тонущее судно рождает иные звуки, я мог себе представить их, я знал, какие звуки рождает разбитый волнами корабль. Я обещал вам музыку, от которой у вас застынет кровь в жилах, слушайте, вот она! Слушайте, слушайте крысы, те что внизу и те, которые наверху!
Я понёс флейту к губам. Грохот волн, треск ломающихся шпангоутов, рев воды, врывающейся в трюмы — эти страшные звуки рождала флейта, торжественная мелодия гибели наполнила трюм корабля; крыса, освободившая меня от пут, в ужасе рванулась наверх, за ней ринулись остальные.
Пираты, увидев, как крысы покидают корабль, пришли в ужас. Они кричали, метались по палубе, лихорадочно спускали шлюпки. Вскоре наступила тишина. Выбравшись из трюма, я понял, что остался один. Пираты оставили корабль, уйдя на шлюпках вслед за крысами в океан. Я был свободен, но я не моряк, я только флейтист, и если я имею власть над теми, кто слышит музыку, то я совершенно не умею управлять кораблём, я не знаю, куда он плывет, что нужно делать с рулём и парусами, чтобы корабль плыл в нужном мне направлении.
Я свободен, но я не знаю, что несёт мне эта свобода — гибель или спасение.
Геннадий Дмитриев Одесса — 2015
Пират
Торговый бриг «Виктория» шёл из Портленда к берегам Америки. Капитан Джон Тейлор был не на шутку встревожен. Ещё утром он заметил на горизонте паруса. С каждым часом они всё чётче вырисовывались на фоне безоблачного неба. В этих местах орудовал печально знаменитый пират, по прозвищу Чёрный Джек, гроза морей и океанов. Среди моряков ходили легенды о его беспредельной жестокости. Тейлор приказал поднять все паруса, но неизвестный корабль неумолимо приближался. Если ничего не изменится, то к вечеру он догонит «Викторию».
«Давно надо было поставить корабль в док, почистить дно от ракушек, — ворчал капитан. — Сколько раз говорил я Лаймену, что пора сделать „Виктории“ серьёзный ремонт, но жадность этого купчишки сейчас может привести к беде» Днище брига обросло ракушками и он, царапая воду корявым дном, уже не скользил, а полз по волнам. Из всего вооружения двадцати пушечного брига оставили только пять орудий, и всё ради лишней пары тонн груза. Так что в случае нападения пиратов и отбиваться нечем.
Владельцем корабля официально считался Тейлор, но фактически заложенная за долги «Виктория» давно стала собственностью купца Лаймена, и капитан не мог без его согласия даже отремонтировать порядком изношенную посудину.
На корабле кроме груза, команды да нескольких пассажиров, плыл и сын Лаймена Бенджамен со своей невестой Элизабет. Элизабет, юная романтическая натура, давно уговаривала жениха, вместе отправиться в плаванье, посмотреть на берега далекого, загадочного Нового Света. Но Бенджамен противился желанию невесты, как мог. Он не был любителем морских путешествий. Вопреки расхожему мнению, что каждый англичанин, должен хоть раз в жизни совершить кругосветное плавание, он предпочитал пыльные лабазы отцовской компании свежему ветру дальних дорог. Но настойчивость очаровательного юного создания сломила его сопротивление, и вынудила обратиться с просьбой к отцу. Отец не возражал, считая, что в дальнем плавании сын приобретет столь необходимый ему опыт в торговых делах.
Молодые люди стояли на палубе и любовались бесконечным простором океана, не сознавая ещё той опасности, которую всем существом своим ощущал капитан. Он то и дело подносил к глазам подзорную трубу, оценивая расстояние до неизвестного корабля. «Хорошо, если это просто торговое судно, идущее по тому же маршруту» — думал Тейлор, но настойчивость, с которой неизвестный корабль преследовал «Викторию», настораживала.
К вечеру, но гораздо раньше, чем рассчитывал капитан, неизвестное судно нагнало бриг. С угасающей надежной Тейлор вглядывался в силуэт корабля, стараясь разглядеть его флаг. Но когда, наконец, ему это удалось, он понял — никакой надежды уже не осталось. Их преследовала бригантина. На флагштоке развевался «Веселый Роджер». Капитан отдал команду готовиться к бою.
Элизабет, впившись в руку своего спутника, дрожащим голосом говорила:
— Боже мой! Боже мой! Ведь это же пираты! Бенджамен, что с нами будет? Они убьют нас?!
Но побледневший Бенджамен молчал.
Матросы стояли с зажженными пальниками у пушек, пиратский корабль поравнялся с бригом. Пират не открывал огня. Не торопился и капитан «Виктории». Силы не равны, и первым отрыть огонь — однозначно обречь себя и команду на гибель. А так ещё оставалась слабая надежда: ценой потери товара сохранить жизнь.
Капитан бригантины, приложив рупор к губам, крикнул:
— Эй, приятель! Советую тебе убрать матросов от пушек и спустить паруса, а то мои канониры понаделают дырок в твоих бортах!
Тейлор покорно выполнил требование пирата.
— Абордажные крючья готовь! — гаркнул пират своей команде.
С глухим звуком ударился борт бригантины о борт «Виктории». Пираты крючьями сцепили два судна, и беспорядочной толпой хлынули на палубу брига.
Когда груз «Виктории» перекочевал в трюмы пиратского корабля, всю команду, кроме капитана, Бенждамена и Элизабет, заперли в трюме брига. Отойдя на некоторое расстояние, бригантина тремя залпами всех пушек левого борта отправила на дно «Викторию» вместе с командой и пассажирами.
Капитан Тейлор, Бенджамен и его бедная спутница, поражённые жестокостью пиратов, молча стояли на палубе в ожидании своей участи. Предводитель головорезов, крепко сложенный пират с густой черной бородой и потемневшим от солнца и ветра лицом, оценивающе разглядывал пленников. Он подошел вплотную к Элизабет, схватил её за руку, и потащил за собой:
— Со мной пойдёшь! Девввка! — сказал он, смачно пришлепывая губами.
Элизабет плакала и упиралась:
— Бенджамен! Бенджамен! — кричала она, обращаясь за помощью. — Ну, сделай же что-нибудь!
Но Бенджамен не двигался с места. Капитан Тейлор бросился к пирату, пытаясь оттолкнуть его и освободить руку несчастной девушки, но отброшенный мощным ударом кулака в грудь, упал на палубу. И тут к атаману подскочил молодой пират, ещё юноша, и гневным голосом крикнул:
— Эй, Джек! По какому праву ты тащишь ее к себе! Мы ещё не разделили добычу! Оставь её! Ты ведь знаешь законы!
— Она моя, — прохрипел пират. — Заткнись, щенок! Не тебе учить меня законам! Уйди с дороги!
— Ах, так! — воскликнул юноша, выхватывая шпагу. — Я буду драться с тобой! Бери шпагу и защищайся!
— Что? Ты будешь драться со мной? Со своим капитаном? Ах, ты дрянь! А ну прочь с дороги, селедка вонючая! Раздавлю, как мидию!
Юноша направил шпагу в грудь капитану:
— Если ты сейчас же не отпустишь её, я проткну твою жирную тушу!
Капитан отшвырнул руку девушки и выхватил шпагу:
— Ну, щенок, держись! Пожалеешь о своей глупости!
Он сделал выпад всей глыбой тела в сторону противника, но юноша увернулся от удара. Капитан обладал огромной силой, но был тяжёл и грузен, а его юный соперник ловок и проворен. Молодой пират не атаковал первым, а ждал выпада капитана, ловко уходя от него, и не дав закончить атаку, наносил удар с самой неожиданной стороны. Но на могучее тело капитана эти удары действовали, как укусы комара. Но если вы один, а комаров целый рой, состояние ваше будет незавидно.
Получив ряд ударов, капитан уже чувствовал себя не так уверенно, как в начале поединка. Сквозь одежду проступила кровь. Он больше не исторгал проклятий в адрес юноши, а лишь тяжело сопел. Выпады его становились вялыми и неуклюжими. Во время одного такого выпада юноше удалось выбить у него шпагу.
Обезоруженный капитан отступал, пока не уткнулся спиной в мачту. Юноша приставил шпагу к горлу противника:
— Я победил тебя, Чёрный Джек! Теперь она моя!
— Черта с два ты получишь ее! — прохрипел в ответ капитан, но пираты неодобрительно зашумели. Большинство было на стороне юноши, он победил соперника в честном бою и имел полное право распоряжаться добычей. Капитан вынужден был уступить:
— Чёрт с тобой, щенок, забирай эту девку.
— Идемте со мной, мисс, — сказал юноша, обращаясь к Элизабет. — Теперь здесь Вас никто не посмеет обидеть. Вот моя каюта, входите.
— Как? — удивилась девушка. — У Вас своя каюта? Разве Вы не живете вместе с матросами внизу?
— Мой отец был капитаном этого корабля, это была его каюта, но он погиб в бою, а каюту сохранили за мной. Моего отца уважали, он был настоящим моряком.
Юноша отворил дверь каюты. Они вошли.
— Меня зовут Джим, — представился юноша.
— Элизабет, — ответила девушка, протягивая ему руку.
Джим прикоснулся к нежной руке пленницы, и ощутил, как забилось сердце в груди.
— Не бойтесь, мисс, я не причиню Вам вреда. Как только мы зайдём в порт, я посажу Вас на корабль, и Вы сможете вернуться домой.
— Спасибо, Джек, Вы очень добры ко мне, Вы настоящий джентльмен.
— Я, джентльмен удачи, мисс! Таким был и мой отец. А этот Чёрный Джек — просто грязная свинья.
— Вы не боитесь, что Джек расправится с Вами?
— Нет, мисс, он меня не тронет. Команда не даст меня в обиду, все они ненавидят Джека, когда-нибудь он получит «черную метку», и тогда капитаном стану я! Я заведу на корабле такие прядки, какие были при моем отце. Он был справедлив, его любила вся команда. Он не позволял себе творить такие мерзости, какие творит Джек. Мой отец никогда не расправлялся с пленными, а отпускал их, забрав добычу. Он даже оставлял побеждённым достаточный запас еды и питья, чтобы они могли добраться до порта.
— Скажите, Джим, а что будет с капитаном Тейлором и Бенджаменом?
— Не беспокойтесь, мисс, Чёрный Джек не станет убивать их, он захочет получить выкуп. Мы придем в порт, и там наверняка найдутся богатые англичане, желающие выкупить их из плена.
— А если таких не найдется?
— Ну, не знаю. Тогда продаст кому-нибудь.
— Как продаст? Разве можно продавать людей?
— Но ведь продают же негров.
— Так то негры, а они же англичане!
— Какая разница, мисс. Но не переживайте, всегда найдутся добрые люди, которые сжалятся над несчастными, и дадут Чёрному Джеку деньги в обмен на их свободу.
— А Ваш отец тоже продавал людей?
— Нет, мисс, что Вы! Мой отец никогда не опускался до такой мерзости! Он был настоящим моряком, джентльменом удачи! Посмотрите, вот его инструменты.
Джим показал Элизабет навигационные инструменты: секстант, астролябию, компас.
— С помощью этих инструментов можно определить место корабля в океане. Я умею всем этим пользоваться, мисс! Отец научил меня. И если Чёрный Джек меня убьет, то никто уже не сможет привести бригантину в порт.
Джим рассказывал юной леди о морях и штормах, о боях и абордажах, о дальних странах. А она слушала его рассказы с замиранием сердца, поражаясь тому, как много довелось повидать этому юноше за свою короткую, полную опасностей жизнь. И в глазах Элизабет этот юный моряк не шёл ни в какое сравнение со скучным, унылым Бенджаменом, погрязшим в ворохе бумаг, счетов, накладных, среди пыльных лабазов в монотонных серых буднях, где не было места романтике и приключениям.
В разговорах они не заметили, как солнце уже повисло над горизонтом и коснулось края воды, озарив волны океана багровым, кровавым цветом. Наступили сумерки, близилась ночь.
— Оставайтесь здесь, в моей каюте, — сказал Джим юной леди, — а пойду вниз, к матросам, чтобы не смущать Вас.
— Спасибо, Джим, Вы благородны и очень добры ко мне. Но мне будет страшно оставаться здесь ночью одной, что если Черный Джек ворвется в каюту?
Сердце молодого пирата забилось сильнее при этих словах юной красавицы.
— Не беспокойтесь, мисс, я запру каюту ключом, и никто не сможет войти сюда, здесь Вы в безопасности, — сказал Джим и, пожелав спокойной ночи, ушел.
Ночь действительно выдалась спокойной, а утром Элизабет разбудил гром пушечной канонады. Шел бой. Перед самым рассветом эскадра британского королевского флота встретила одинокий пиратский корабль и атаковала.
Пираты дрались, как черти, с остервенением обречённых. Им оставалось либо погибнуть в неравном бою, либо быть повешенными на рее. И когда флагманский фрегат своим форштевнем проломил борт бригантины, и матросы королевского флота ворвались на её палубу, из всех пиратов в живых осталось лишь несколько человек. Среди них был и юный Джим.
Все награбленное перегрузили в трюмы флагмана, на палубе собрали оставшихся в живых пиратов для зачтения и исполнения приговора, и уже готовились потомить пиратский корабль, но тут Джим крикнул адмиралу:
— Сэр, погодите, не топите корабль! Там в каюте юная леди, а в канатном ящике заперты ещё двое пленников!
Капитана Тейлора, несчастного Бенджамена и чуть живую от страха Элизабет сняли с тонущего корабля и доставили на борт фрегата. Искалеченная бригантина, накренившись на левый борт, всё ещё держалась на воде. Прогремел залп. Пороховой дым рассеялся, и на месте, где был корабль, плавали лишь обломки рангоута и обрывки такелажа. Бригантина Чёрного Джека, так долго державшая в страхе купцов, путешественников и прочих морских бродяг, навсегда исчезла с поверхности океана.
Адмирал именем королевы произнес приговор, и матросы начали нехитрые приготовления, чтобы вздёрнуть не рее оставшихся в живых пиратов. Верёвки с петлями уже перебросили через рей, и тут Элизабет ринулась к адмиралу:
— Господин адмирал! Прошу Вас, умоляю, Христом Богом заклинаю, помилуйте этого юного пирата! Это он спас меня! Их капитан хотел надругаться надо мной, а он не позволил, он вступился за меня! Он дрался с капитаном! Пощадите его, прошу Вас, ради всего святого! Если любовь и справедливость существует ещё на этой земле, если Бог есть над нами, прошу Вас, отпустите его!
— Весьма сожалею, мисс, — ответил адмирал, — но у меня приказ королевы: всех пиратов вешать на рее. Я обязан выполнить свой долг. Возможно, Вы и правы, но я не могу поступить иначе. Я слуга Её Величества, и не имею права идти против её воли.
— Но ведь бывают же исключения, господин адмирал! Когда Чёрный Джек, это грязное, мерзкое чудовище, тащил меня в свою каюту, а мой жених и пальцем не пошевелил, чтобы хоть попытаться освободить меня, этот юный джентльмен, да именно джентльмен, иначе я не могу назвать его, набросился со шпагой на своего капитана и спас мою честь и жизнь! Прошу Вас, адмирал, пощадите его!
— Джентльмен? Они называют себя джентльменами удачи! Все они разбойники и бандиты, и не может быть им пощады.
— Да этот разбойник благороднее многих из вас! Видели бы Вы, как он сражался за мою жизнь!
Адмирал, растроганный столь пылкой защитой юной леди своего спасителя, подал знак матросам не торопиться. Он уже готов был выполнить просьбу Элизабет, как Бенджамен, не произнесший ни слова с момента нападения пиратов на их корабль, вдруг заговорил:
— Послушайте меня, господин, адмирал. О каком помиловании может идти речь, когда эти мерзавцы, заперев в трюме нашего корабля всю команду, расстреляли его из пушек и отправили ко дну!? А этот бандит дрался с капитаном не за жизнь моей невесты, а за свою добычу! Они дрались, как дерутся хищные звери за кусок мяса! Эти выродки не имеют права называться людьми! Мерзавец затащил её в свое логово, и никому не известно, что он там сделал с ней! Но я прощаю её! Я готов простить тебя, Элизабет, слышишь? А этот бандит ничего не заслуживает, кроме петли! Это грязный и мерзкий пират!
Адмирал взмахнул рукой. И когда матросы надели на шею Джима петлю, он, глядя на Элизабет, крикнул:
— Элизабет! Я скажу Вам то, что никогда бы не осмелился сказать, если бы у меня была надежда остаться в живых. Я люблю Вас, мисс! Люблю, как никто никогда не любил на свете! Прощайте, мисс!
Матросы рванули веревку, и тело юного пирата, взметнувшись вверх, дернулось несколько раз и затихло.
Элизабет, вскрикнув, в слезах бросилась на грудь Бенджамену.
— Не плачь любимая, — утешал он её. — Я прощаю тебя. А о нем не стоит жалеть, ведь это был всего лишь грязный, мерзкий пират.
Элизабет подняла голову, посмотрела в глаза своего жениха, и улыбнулась тихой печальной улыбкой. Слезинки на её щеках блеснули в лучах утреннего солнца, как жемчужинки. Она тихо сказала:
— Наверное, ты прав, любимый. Не стоит о нем жалеть, ведь это был всего лишь грязный, мерзкий пират.
Домик старого рыбака стоял у самого моря на крутом обрывистом берегу. Внизу под обрывом сушились сети, и у дощатого причала покачивалась на волнах большая лодка с мачтой посередине. Сам рыбак, Оливер Маклорен, крепкий мужчина лет шестидесяти, когда-то, видимо, был красив, но сейчас лицо его исказил ужасный сабельный шрам, который начинался от правого глаза, пересекал нос, разделив его на две уродливые половины, и от левого угла рта опускался по скуле, обнажая в постоянной дьявольской улыбке жёлтые зубы. Жил Оливер одиноко, местные жители боялись его, поговаривали, будто в молодости он был пиратом, и сторонились этого страшного старика. Рыбу, когда был удачный улов, он отвозил в расположенное по соседству селение и сдавал перекупщикам, понимая, что его внешность никак не может способствовать успешной торговле.
Прикрывшись ладонью от солнца, он смотрел на море, над которым клубились тяжёлые облака. «Надо собрать сети и вытащить лодку, — подумал Оливер, — на днях будет шторм, какого давно не бывало в этих местах». Он спустился с обрыва по крутой тропе, собрал сети и перенес их к домику под навес, затем размотал канат, зацепил лодку, и стал вращать скрипучий кабестан, вытаскивая судёнышко по деревянному настилу наверх. Окончив нелегкую работу, он вытер пот со лба, посмотрел вдаль и заметил человека, который шёл к его дому со стороны поселка. «Кого это дьявол несёт!?» — подумал он, крепя лодку. Человек подошёл поближе и остановился.
— Эй, приятель! — обратился он к старику. — Не подскажешь ли, где изволит проживать мой старый друг, Оливер Маклорен?
— Ну я, Оливер Маклорен, а ты кто?
— Что, не узнал меня, старина Оло?
Оливер вгляделся в человека. Это был немолодой моряк, с обветренным измятым лицом, рыжие грязные, тронутые сединой волосы спускались на плечи.
— А, это ты, Рыжий пёс! Что тебе надо от меня?
— Не слишком ласково встречаешь ты старого друга, может, в дом пригласишь? Сколько же мы не виделись?
— Лет двадцать. Ну, пойдем, угощу старого приятеля.
Они вошли в дом, где были лишь голые стены, очаг да стол. Оливер насыпал в миски каши, положил рыбу, поставил бутылку рома.
— Ну, что, выпьем за тех, чьи косточки обглодали морские твари, — предложил Рыжий пёс.
— Да, упокоит их души господь на небесах, — сказал Оливер, поднимая кружку.
Они выпили, закусили, потом выпили ещё, за живых, и Оливер спросил:
— Так зачем же я тебе нужен, Рыжий пёс?
— Помнишь Джона Грея? Он был нашим капитаном.
— Грей стал капитаном? — удивился Оливер. — Помню, он был помощником у меня, в те времена, когда я плавал штурманом у старого Тома. Тогда он был молод.
— Да, ребята выбрали его капитаном, после того, как старого Тома повесили сушиться на солнышке. Но теперь и Грей отправился кормить рыб на дно, а мы остались и без капитана, и без штурмана. Ребята предлагают тебе стать нашим капитаном, или штурманом, как тебе будет угодно.
— Но я давно уже не ловлю ветер удачи, теперь я ловлю рыбу. А ты всё ещё плаваешь по морям, старый пёс?
— Пока плаваю. Ребята решили сделать налёт на испанские острова, там золото, много золота, всем хватит. Вот только без штурмана не обойтись, за этим и послали меня к тебе.
— Золото, — хмыкнул Оливер, раскуривая трубку, — с собой в могилу его не унесёшь. Вон, у старого Тома было много золота, и что? Спасло оно его от виселицы? А Питер Кид, а Гарри Кларк? У тех было золота больше, чем у испанского короля, и где они? Где они, я тебя спрашиваю? А помнишь Чёрного кота? Он поссорился с капитаном, оспаривая свою долю, и его высадили на необитаемом острове вместе с золотом. А через полгода его кости обглодали птицы, тогда мы вернулись и забрали золото, а он так и остался гнить на своём острове. Нет, мне много не надо. Я ловлю рыбу и тем живу, мне хватит.
— Не узнаю, не узнаю старого друга. Неужели эта царапина на твоем форштевне так изменила тебя? Кто оставил тебе её? А?
— Один лейтенант с королевского корвета. Но получив эту царапину, я ещё продолжал драться, а когда он всадил мне под ребро кортик по самую рукоятку, палуба ушла из-под ног. Троих наших парней повесили сушиться на рее, меня сочли убитым, и не тронули, что толку вешать покойника? А потом нас всех бросили в вельбот и отправили плавать по морю, в назидание другим джентльменам удачи. Когда я очнулся, вокруг была одна вода, да тела с обрывками веревок на шеях. Солнце поджарило их, и они начали разлагаться, стоял невыносимый смрад. Тогда я, собрал последние силы и выбросил их в море. Меня подобрал корабль. Люди на корабле не знали, кто я. Сказал, что пираты напали на нашу шхуну — поверили. Я был очень плох, привезли меня в поселок и определили в лечебницу для нищих бродяг. Доктор посмотрел, и решил, что дела мои безнадёжны: «Не доживет до утра ваш моряк, — сказал он, и добавил, — кладите здесь, в проходе, в палате у меня нет места для умирающих».
Но одна девчонка выходила меня. Она кормила меня из ложечки, как младенца, давала мне лекарства, смазывала раны и выносила за мной горшки. Это был сам ангел, но я никогда не видел её, доктор обработал мои раны, и забинтовал лицо. Я мог только слышать её голос — это был голос ангела, я бы узнал его среди тысяч других голосов. А когда мне сняли повязку с лица, она исчезла, говорили, что уехала к своему отцу в Южную Америку, так или нет, но с тех пор я её не встречал. Тогда я дал слово, что никогда больше не выйду в море под Веселым Роджером. Поселился здесь и стал ловить рыбу. Вот уже двадцать лет я рыбачу тут.
— Ты стал сентиментален, прежде за тобой ничего подобного не замечалось.
— Что было прежде, того уже нет. Тогда мне было тридцать восемь лет, я был жесток и жаден до денег, я не знал женщин и презирал их. Помнишь ту красотку, что мы захватили на испанском галеоне? Тогда капитан с боцманом никак не могли её поделить. Я решил проблему просто — снес ей голову, и никто тогда не обиделся на меня. Из-за этой испанской стервы назревал конфликт между командой и капитаном. Тогда я считал, что поступил правильно, но сегодня я раскаиваюсь в своем поступке. Я раскаиваюсь во всех своих грехах, я молюсь каждый день, но Бог не слышит меня, для таких грешников, как мы с тобой, нет милости Божьей.
— Ты был прав Оло, когда прикончил эту стерву, а сейчас ты не прав. Ты бросаешь в беде своих друзей. Как же мы поплывем без штурмана? Ведь ты же был джентльменом удачи!
— Это было двадцать лет назад. Теперь я рыбак, простой рыбак, и всё!
— Ты не можешь так поступить, Оло! Через три дня мы должны выйти в море! Иначе золото достанется другим!
— Мне нет дела до вашего золота, меняй галс, Рыжий пёс, делай поворот фордевинд, и плыви своим курсом! Да, поторопись, через три дня, ты говоришь? Через три дня здесь будет такой шторм, какого не видели лет десять в наших краях! Горе тому кораблю, который окажется в это время у Чёрной скалы. Если вы собрались в море, то выходите завтра, а лучше сегодня, это я тебе говорю, Оливер Маклорен!
— Что ж, и за то спасибо. А мы надеялись на тебя, очень надеялись. Прощай.
— Прощай, Рыжий пёс.
Гость тяжёлой походкой вышел из дома, обернулся, посмотрел на Оливера, махнул рукой, и ушёл в сторону поселка. Маклорен долго глядел ему вслед, потом повернулся влево, туда, где три мыса выступали в море: первый виделся четко, второй терялся в тумане, а третий едва угадывался в дымке, повисшей над водой. Вода сливалась с небом так, что линии горизонта не было видно, тяжёлые облака, казалось, вставали прямо из воды, клубясь, темнея, заволакивая всё небо. «Непременно будет шторм, непременно, — подумал Оливер, — давно я не видел такого неба и моря».
Шторм начался, как и предполагал старый рыбак, через три дня. Выл ветер, ломая деревья, огромные, тяжёлые волны с грохотом бились о берег, взлетая выше обрыва, обдавая брызгами дом. Четыре дня бесновалась природа, на пятый день шторм начал утихать. Только к вечеру седьмого дня волны успокоились, и Оливер вышел из дому осмотреть свои владения, оценить, какие повреждения нанёс шторм его хозяйству. То, что увидел он, привело его в ужас, нет, повреждения были незначительны, благодаря заранее принятым мерам. На берегу повсюду валялись выброшенные волнами обломки мачт, рей, прочего рангоута и обрывки такелажа. Были и мертвые тела моряков, чей корабль настигла буря у Чёрной скалы.
Чуть поодаль, наполовину в воде, лежало тело человека, вцепившегося окоченевшими руками в обломок рея. Волны, набегая на берег, покачивали тело, и казалось, человек дышал. Оливер подошёл, склонился над ним, и с удивлением заметил, что тот и впрямь дышит. Старый рыбак с трудом оторвал руки моряка от обломка рея, схватил их, и закинул тело себе на спину, как мешок. Человек чуть застонал.
— Потерпи, любезный, сейчас я тебя в дом занесу, отогрею.
Он поднимался по крутой тропе, тяжело дыша. Наконец он одолел нелёгкий путь и внёс моряка в дом. Оливер снял мокрую одежду с несчастного, уложил его в постель и прикрыл теплым одеялом. Затем он расцепил ему зубы лезвием ножа, и влил в рот немного рому. Лицо моряка порозовело, и он открыл глаза. Моряк был немолод, и, судя по одежде, был не простым матросом, а принадлежал к командному составу погибшего корабля.
— Ну вот, слава Богу, — вздохнул Оливер, — пришли в себя, сэр. Сейчас, разожгу печь, разогрею кашу, покормлю Вас.
— Кто Вы? — слабым голосом прохрипел спасённый моряк, пристально вглядываясь в обезображенное сабельным шрамом лицо старого рыбака. В голосе послышалась тревога.
— Не беспокойтесь, сэр, я рыбак, простой рыбак, зовут меня, Оливер Маклорен.
— Откуда у Вас этот шрам?
— А-а, — отмахнулся Оливер, — плавал когда-то по морям, был ранен в бою. Давно это было, не стоит и вспоминать.
— Холодно, — сказал моряк, тело его дрожало.
— Вот, выпейте ещё рому, согреетесь, сейчас печь разгорится, теплее будет, — ответил Маклорен, орудуя в печи кочергой.
— Холодно, очень холодно, — повторил моряк.
Оливер налил рому в кружку, и протянул моряку, тот выпил, но облегчения не наступило, его продолжало трясти. Маклорен потрогал лоб моряка, покрытый испариной.
— О, да у Вас жар, сэр, — произнёс он, снимая с себя куртку, — сейчас укутаю Вас потеплее. Это хорошая куртка, из овечьей шерсти.
Он плотно укутал моряка своей курткой. На могучей груди рыбака синела татуировка — человеческий череп, под ним роза ветров. Моряк впился взглядом в татуировку, дрожь в теле прекратилась.
— Что это? — спросил он.
— Не обращайте внимания, сэр, так, грехи молодости. Сейчас напою Вас отваром и жар как рукой снимет, поспите, а я пока просушу Вашу одежду.
Моряк выпил предложенный Оливером отвар, дрожь в теле прошла, стало тепло, веки потяжелели, и он погрузился в сон, страшный сон из прошлой, давно забытой жизни.
Фрегат преследовал пиратскую бригантину. Она пыталась уйти, но командиру фрегата удалось навязать ей бой. Мощный бортовой залп фрегата снёс всё с палубы пиратского корабля, бригантина горела. Команда её была обречена, но оставшиеся в живых спустили вельбот с правого борта, и попытались уйти, надеясь, что с фрегата не заметят их. Огонь и дым горящей бригантины не давал возможности увидеть с фрегата маленькое спасательное суденышко. Но бригантина затонула, дым рассеялся, открыв панораму моря, и вельбот был замечен. Командир фрегата хотел просто раздавить лёгкое суденышко ударом мощного форштевня, но пираты, поняв его намерение, уже не пытались уйти, а сами атаковали фрегат. Взобравшись на его палубу, они ввязались в свой последний, смертельный бой.
Молодой лейтенант дрался с обнажённым до пояса пиратом с татуировкой на груди — человеческий череп, а под ним роза ветров. Лейтенант ударом сабли разрубил пирату лицо, но тот продолжал вести бой, и лишь когда он ударил противника кортиком, тот замертво рухнул на палубу. Вскоре всё было кончено, трое взяты в плен, двое застрелены при попытке взобраться на палубу, и один убит. Этих троих тут же повесили на рее, после все трупы сбросили в вельбот, и отправили скитаться по волнам, на устрашение прочим джентльменам удачи.
Оливер развесил сушиться одежду спасенного моряка, разложил на столе его оружие — пистолет и кортик. «Надо бы почистить пистолет, — подумал он, — а то от морской воды он поржавеет». Он разрядил пистолет, высыпал мокрый порох, почистил, смазал, и вновь зарядил. Потом взял в руки кортик, вытащил из ножен. Это был необычный кортик, рукоятка выполнена в виде головы змеи, из раскрытой пасти которой разящим жалом торчал клинок. Именно это жало мелькало перед Оливером в том, смертельном бою, оно и нанесло последний удар. Ошибки быть не могло, спасённый моряк и был тем молодым лейтенантом с королевского фрегата.
Моряк проспал остаток дня и всю ночь, проснулся он утром, здоровым и бодрым.
— Как Вы себя чувствуете, сэр? — спросил Оливер. «Он не знает, что именно я был тем пиратом, которому он разрубил саблей лицо».
— Спасибо Вам, Вы спасли меня, теперь я вполне здоров. «Этот рыбак и не подозревает, что это я оставил ему отметину на лице».
— В такой шторм нельзя входить в эту бухту, ещё никому не удавалось в бурю миновать Чёрную скалу, Вашему капитану следовало держаться в море, пока не утихнет шторм. «Знал бы я, кого вытаскиваю из воды!».
— Это я был капитаном этого несчастного брига, — ответил моряк. — Мы шли с грузом из Южной Америки, судно низко сидело в воде, и не выдержало бы шторма в открытом море. У меня не было другого выхода, я пытался зайти в бухту. «Не думал я встретить тебя живым, пират!»
— Немногим удавалось справиться с течением и ветром у Чёрной скалы. «Сколько лет подряд снился мне тот бой, и твои глаза, сколько было в них злости и презрения». Выпейте рома, сэр, поешьте.
Оливер поставил на стол бутылку рома, две кружки и две миски с кашей. Они выпили молча, так же молча поели, после чего Оливер сказал:
— Я высушил Вашу одежду, сэр, почистил Ваше оружие.
Он принёс одежду и оружие моряку, тот оделся, нацепил кортик, осмотрел пистолет.
— Я его зарядил, сэр, — сказал Оливер.
— Это было неблагоразумно с Вашей стороны.
— Почему, сэр?
— Ты не узнал меня, зато я узнал тебя, это я изуродовал тебе лицо, ты был пиратом, сожалею, что тебе удалось выжить, сожалею.
— Я тоже узнал Вас, сэр, но с тех пор я не плаваю по морям, я ловлю рыбу. Прошло двадцать лет, многое изменилось, Вы, я вижу, больше не служите в королевском флоте, я не держу на Вас зла, я давно Вас простил.
— Я уволен со службы после того боя, ты перебил мне сухожилие на левой ноге, теперь она не сгибается. По этой причине мне пришлось военный флот сменить на торговый. Я не простил тебя, пират, и никогда не прощу.
Моряк поднял пистолет, и прицелился в Оливера.
— Неужели Вы станете стрелять, сэр, ведь я спас Вам жизнь?
— Любое дело нужно доводить до конца, я не добил тебя тогда, двадцать лет назад, так сделаю это сейчас.
— Христос говорил: «Возлюбите врагов своих, молитесь за ненавидящих и проклинающих вас», и я молюсь за Вас, сэр. Не стреляйте, не губите свою душу.
— Это тебе не поможет, я выстрелю.
В этот момент дверь со скрипом отворилась, в проёме возникла фигура человека.
— Оло! Ты где? Что тут происходит?
В комнату влетел Рыжий пёс. Моряк обернулся на звук, выстрелил в Оливера, и ринулся к выходу, но тут же наткнулся на нож Рыжего пса. Оливер был ранен в плечо.
— О, чёрт! — взревел Рыжий пёс. — Кто это такой, Оло? Он ранил тебя!
— Это тот, кто оставил отметину на моём форштевне, ты явился вовремя.
— Ребята выбрали меня капитаном, я принёс карту, чтобы ты показал, как пройти в бухту Синего кита.
Он перевязал Оливеру рану, но кровотечение не останавливалось.
— Тебе надо к доктору, сейчас спущу лодку и отвезу тебя.
Силы покинули старого рыбака, тёмная волна захлестнула его, всё померкло. Очнулся он в лечебнице, женщина-врач склонилась над ним. Она была немолода, некрасива, горбата. И тут Оливер услышал её голос. Это был голос ангела, тот голос, который он узнал бы среди тысячи других голосов.
— Ангел мой! — вырвалось из его груди. — Это Вы, Вы спасли меня тогда, двадцать лет назад? Но почему? Почему Вы исчезли, когда врач снял бинты с моего лица? Я так мечтал увидеть Вас!
— Теперь Вы знаете, почему. Я полюбила Вас, я думала, что Вы ужаснетесь, увидев меня, и уплыла на попутном корабле в Южную Америку к своему отцу. Все эти двадцать лет я думала о Вас, я люблю только Вас, только Вас, и никого другого. Я люблю Вас так, как может любить только несчастное, бедное существо, не имея права надеяться на взаимность. Теперь отец мой умер, и у меня никого не осталось, кроме Вас. Я вернулась сюда, в этот поселок, чтобы издали, хоть краешком глаза посмотреть на Вас, я никогда бы не осмелилась с Вами заговорить. И никогда, никогда бы Вы не узнали меня. Теперь Вы знаете всё, простите меня. Я урод, и не имею права любить Вас.
— Вы, ангел, — он обнял её голову и прижал к своей груди. Вы ангел, мой ангел, никогда, нигде не видел я женщины, прекраснее Вас. Я полюбил Вас с той минуты, когда услышал Ваш голос. Я не имею права на эту любовь. Я — чудовище, теперь Вы видите это. Я был пиратом, жестоким, беспощадным. Я никогда не знал любви, только ненависть жила в моей душе. Ваша любовь спасла меня, я навсегда покончил с разбоем, стал рыбаком, каждый день молю я Бога простить все мои прошлые грехи. Я люблю Вас все эти двадцать лет. Я не надеялся, что Бог подарит мне эту встречу с Вами. Будьте со мной навсегда, до конца моих дней, ангел мой.
Отставной драгунский капитан Григорий Томский на склоне лет оставил службу и возвратился в Петербург, в свою квартиру в небольшом домике на Охте, чтобы провести остаток жизни в полном уединении и покое. Владение своё, отданное под управление дворецкому много лет назад, нашёл он в состоянии запустения и полной разрухи. Все шпалеры в комнатах, некогда блиставшие позолотой, давно поблекли, выцвели и покрылись плесенью, растрескавшиеся по углам, свисали они со стен длинными лохмотьями. Штукатурка на потолках частично обвалилась, и края её свешивались бахромой, люстры с тяжелыми подсвечниками, выполненные из бронзы и серебра, почернели, и представляли собой жалкое, унылое зрелище. Шторы, истлевшие, кое-где поеденные молью, ещё сохранились на тусклых, покрытых многолетней пылью окнах и с трудом пропускали солнечный свет. В комнатах было мрачно и сыро. Мебель, включая шкафы и буфеты работы известных мастеров, пришла в полную негодность, изъеденная шашелем, она давно утратила былое величие и красоту. Дворецкий, отдав Григорию ключи от комнат, без каких-либо объяснений исчез и более не появлялся.
Григорий, приняв от него ключи, вступил во владение своим жилищем, не предпринимая никаких усилий для того, чтобы привести все эти убогие помещения в жилой вид. Ни семьи, ни друзей, ни знакомых, к которым можно было бы обратиться за помощью, у него не было, да и сам он встреч ни с кем не искал. Он осознал ту печальную истину, что жизнь его прошла бесцельно, нелепо и бестолково, прошла в бесконечных сражениях и кутежах и не принесла никому радости, потому, полагал он, и смерть его в этих печальных стенах никому не принесет никаких огорчений. Того скромного пенсиона, что получил он за свою многолетнюю службу во славу царя и отечества, вполне хватало ему на ежедневную бутылку вина и скромную закуску, которые покупал он в лавке купца Пантелеева, что располагалась в доме напротив.
Каждый день Григорий медленно спускался по лестнице со второго этажа, выходил из подъезда, так же медленно, неторопливо переходил улицу, не обращая внимания ни на мчащиеся по мостовой экипажи, ни на прохожих. Молча, не говоря ни слова, он клал деньги на прилавок, так же молча брал бутылку вина и закуску, поворачивался и уходил, так и не проронив ни слова. В лавке все к этому привыкли и не удивлялись. Поднимался по лестнице он тяжело дыша и останавливаясь на каждой третьей ступеньке, ожидая, когда утихнет тупая давящая боль в сердце. Добравшись до своей комнаты, он тут же откупоривал бутылку и прямо из горлышка делал несколько больших глотков. Вино несколько успокаивало его, боль в сердце стихала, в голове появлялись мысли.
В далёкой молодости своей, когда он был строен, красив и мог нравиться противоположному полу, на балах и прочих пиршествах он волочился за каждой юбкой, ни одно смазливое личико прелестной кокетки не проходило мимо его внимания, но сама мысль о том, чтобы жениться и создать семью, как делали это его товарищи по полку, вызывала в нем страх, несомненно, гораздо больший, чем тот, который испытывал он под вражескими пулями, потому пришёл он к печальному итогу своей жизни совершенно один, разбитый, страдающий от многочисленных ранений, полученных в боях, дряхлый, измученный, и был никому не нужен. Его немногочисленные родственники, отношений с которыми он никогда не поддерживал, вскоре забыли его, считая погибшим в бою или вовсе пропавшим безвестно в дальних чужих краях. От жизни прошлой, что мелькнула, как сон и ушла безвозвратно, не осталось у него ничего, кроме одной вещицы, это был портрет, висящий на стене в его спальне. На портрете в полный рост красовался офицер в драгунском мундире, левая рука его была заложена за спину, в правой он держал пистолет и, казалось, целился прямо в сердце того, кто смотрел на эту картину. Хотя сама картина, как и всё в этом доме, была покрыта многими слоями пыли, но Григорий, смахнув с неё пыль, с удивлением обнаружил, что она, как ни странно, до сих пор сохранила всю свежесть и яркость красок, никакого объяснения этому он найти не мог.
Выпив ежедневную бутылку вина и утолив кое-как голод, он подолгу лежал на кровати в спальне и смотрел на эту картину. Она вызывала в угасающей памяти его далекие воспоминания, которые, впрочем, не приносили ему ни радости, ни страданий, так как все эти чувства, ощущения и желания, что связывают человека с жизнью, были давно утрачены, из всего, что обычно испытывают люди, пусть даже и опустившиеся, но не превратившиеся ещё в животных, остались у него только тяга к выпивке и закуске. Нужно сказать, что целей высоких в жизни своей Григорий никогда не имел, такие понятия, как служение отечеству, долг перед Родиной, и многое из того, что для иных офицеров было не пустым звуком, для него никогда значения не имело. Он, как и прочие, бесстрашно бросался в бой, но не долг перед царем и отечеством руководил им, просто и сама жизнь для него ровным счетом ничего не значила, ибо всегда была бессмысленна и пуста.
Он часами смотрел на портрет и вспоминал. Всё это было давно, так давно, что и припомнить уже невозможно, когда это было. Их полк квартировал тогда в далёком, затерянном в степях, маленьком уездном городке, названия которого он и вспомнить уже не мог, где текла скучная, не богатая какими-либо событиями жизнь, однообразная и монотонная. Прибытие драгунского полка в этот затерянный мир вызвало немалое оживление, особенно среди прекрасной половины его скудного населения, безмерно тоскующей о тех прелестях жизни, которых лишены были местные кокетки ввиду удалённости от больших городов, где кипела, бурлила и опьяняла и совсем ещё юных, и зрелых дам разнообразная светская жизнь. Прибытие молодых, красивых, хорошо сложенных офицеров, несомненно, мужественных и привлекательных, сулила им разнообразные развлечения, которые свелись в конечном счёте к частым балам, светским приёмам и многочисленным кутежам. Григорий, в те времена красивый, стройный, имевший хорошую выправку и, безусловно, соблазнительный молодой человек, пользовался несомненным успехом среди истосковавшихся по мужскому обществу дам. Он, как впрочем и остальные драгунские офицеры, отчаянно ухлёстывал за каждой, независимо от возраста и красоты, которая хоть легкой обнадёживающей улыбкой отвечала на его нахальный, откровенно проникающий сквозь роскошные наряды взгляд.
Его товарищ по полку, Александр Альбенин, на одном из таких балов отчаянно увлёкся молодой смазливой блондинкой, не уделявшей Григорию Томскому того внимания, которым одарила она его более удачливого соперника. Самолюбие Григория было задето, и он решил во что бы то ни стало завладеть ею, отбив её у Альбенина. Он приглашал эту блондинку на каждый танец, несмотря на то, что она уже обещала этот танец другим, однажды он просто выхватил её у Альбенина из-под руки, закружив в неистовом вальсе. Но никакие ухищрения не помогли, блондинка не обращала на Григория никакого внимания. Тогда он, удручённый своим поражением на поле любовных баталий, принялся в кругу своих собутыльников отпускать грязные пошлые шуточки по поводу Александра и его юной поклонницы. Товарищи Григория, не обладавшие высокой моралью и нравственностью, откровенно смеялись его пошлым и заезженным шуткам, всё более и более разогревая его. Шутки эти не отличались оригинальностью и воспринимались естественно в армейских кругах того времени, но Альбенина поведение Григория явно задело, он вдруг, оставив свою партнёршу посреди мазурки, подошёл вплотную к Томскому, резко бросив в лицо ему обвинение в пошлости и бестактности, он потребовал извиниться перед ним и перед его дамой, но Григорий только рассмеялся ему в ответ. Раздался звонкий всплеск пощёчины, и даже музыка стихла, все замерли в немом ожидании. Такого оскорбления Томский вынести не мог, он, картинно бросив перчатку к ногам Александра, вызвал его на дуэль.
— Стреляемся завтра в дубовой роще на шести шагах! — крикнул он. — Надеюсь здесь найдутся двое достойных офицеров, в качестве моих секундантов!
Секунданты, естественно, нашлись, нашлись и те, кто высказал желание стать секундантами Альбенина. Один из секундантов Александра, прапорщик Репнин, обладал несомненными художественными способностями, он повсюду таскал за собой мольберт и рисовал, у него великолепно выходили пейзажи, он написал портреты почти всех местных красавиц и офицеров полка, каждый, кто видел его работы, находил их превосходными. Вероятно, он мог бы стать знаменитым живописцем, если бы тяга к кутежам и азарту военных баталий не превосходила его тяги к живописи. На место поединка он также принёс мольберт, пообещав увековечить на полотне это весьма знаменательное в серой полковой жизни событие. Все отнеслись к его поступку с должным чувством юмора, поскольку смерть одного из участников этой совершенно бессмысленной дуэли, в сущности, никого бы не огорчила.
Секунданты отмерили оговоренную дистанцию, воткнули в землю сабли в качестве барьеров, зарядили, проверили оружие и предложили пистолеты дуэлянтам на выбор, Григорий взял пистолет из руки Репнина, а Альбенин из руки секунданта Григория, они разошлись и по команде начали сходиться, медленно поднимая пистолеты. Григорий, подойдя к барьеру, прицелился в грудь Альбенина и нажал на курок первым, но выстрела не последовало. Пистолет дал осечку. Кремниевые затворы пистолетов, применяемых на поединках того времени, были далеки от совершенства и нередко давали осечки. Однако, по правилам дуэлей, осечка засчитывалась, как выстрел, и второй попытки не предоставлялось. Теперь очередь стрелять была за Александром, он прицелился прямо в сердце Григорию и выбрал свободный ход курка, это означало, что за малейшим движением его пальца мог последовать выстрел. Томский понимал, у второго пистолета осечки не будет, а промахнуться на шести шагах просто невозможно, да и Альбенин слыл в полку отличным стрелком.
— Прикройтесь пистолетом! Прикройтесь! — кричали Григорию секунданты. Правила поединка позволяли прикрыть оружием место, куда целил противник, это было единственное, что могло спасти Томскому жизнь, но он продолжил стоять, опустив оружие, спокойно, с легкой улыбкой на губах, ожидая смерти. Он ещё тогда осознавал, что жизнь его безнадёжно пуста, и какая разница в том, оборвёт ли её чеченская пуля, или погибнет он от руки своего боевого товарища, которого сам не раз прикрывал в жестоких боях?
Прошла секунда, вторая, прошла уже цела минута, а Альбенин всё не стрелял, и пока он так стоял с пистолетом, нацеленным в грудь противника, Репнин успел легкими штрихами набросать его портрет, а уже на следующий день портрет был готов, и все признали его лучшим из всех портретов, что когда-либо написал этот, одарённый талантом художника, прапорщик.
— Да, стреляйте же Вы, сударь! Чего Вы медлите? — крикнул Григорий. — Я готов принять пулю от Вас!
Но Александр расслабил руку и опустил пистолет.
— Я не стану Вас убивать, я не намерен поступить с Вами так, как всего минуту назад Вы собирались поступить со мной, мне достаточно будет Ваших извинений.
Григорий подошёл к противнику и с лёгким поклоном едва заметным движением головы тихо произнёс:
— Приношу Вам свои извинения, сударь, согласен, я вёл себя недостойно, прошу простить меня.
Александр ответил ему тем же едва заметным поклоном:
— Прощаю Вас, сударь, я удовлетворен, дуэль окончена, господа.
Все разошлись.
А через день Альбенин подошёл к Томскому, в руках он держал портрет, написанный Репниным на поединке:
— Я действительно простил Вас, искренне, от души, согласитесь, ссора наша была нелепа, прошу Вас, Григорий, в знак нашего примирения, примите от меня этот подарок.
Он протянул Томскому свой портрет, Григорий взял портрет, они пожали друг другу руки.
С той поры больше они не встречались, Альбенина перевели в другой полк, который вскоре был направлен на Дунай, в действующую армию, под командование генерала Горчакова. Через время до Григория дошли известия о том, что Александр был убит при неудачном штурме турецких укреплений, предпринятым под началом генерала Данненберга.
Как давно всё это было, как давно! Теперь уже и вспомнить даже невозможно когда, и Гиргорий вдруг понял, что даже та, нелепая и беспутная жизнь с кутежами, балами и пьянками, когда они не задумываясь готовы были стрелять друг в друга по малейшему поводу, утрачена навсегда. И ничего не осталось, только один портрет, висящий на стене.
Что оставалось ему? Больше не было никакого смысла влачить это жалкое, убогое существование. Оставалось только одно — одним коротким движением руки оборвать эту тонкую, почти истлевшую нить, что связывала его с этим миром. Григорий зарядил пистолет, насыпал пороха на полку, взвел курок и поднёс пистолет к виску. Он знал, на этот раз осечки не будет. Он стал перед портретом Александра, который всё так же, как и много лет назад, целился ему прямо в сердце, он смотрел на него с портрета, молодой, красивый, полный жизненных сил, смотрел своими чёрными немигающими глазами, смотрел и ждал.
— Ну, что же Вы медлите, сударь? — спросил он, как тогда, на том давнем поединке. — Стреляй же, стреляй, сюда, прямо в сердце, там нет уже ничего, ничего не осталось, оно пусто, пусто, пуля пройдёт насквозь, а я даже не замечу этого.
Затем он повернулся к зеркалу, что висело на другой стене, из темных глубин запылённого стекла на него глядела сама смерть. Тот, кто отразился в этом потускневшем от времени зеркале, уже не был человеком, пустыми, выцветшими глазами смотрел на Григория призрак того, кем был он сам когда-то, много лет назад, так давно, что уже и вспомнить невозможно когда. Он поднял пистолет и выстрелил в это ненавистное зеркало, прямо в своё отражение. Брызнули осколки стекла, и он, не опуская пистолета, повернулся лицом к портрету. Альбенин по-прежнему спокойно и бесстрастно целился в него.
— Стреляй! — крикнул он тому, кто был на портрете. — Ты выиграл этот поединок, хотя тебя уже и нет на этом свете, а я жив, пока. Стреляй!
События многолетней давности возникли в памяти Григория с такой ясностью, как будто всё произошло только вчера. Он знал, что хотя Альбенина и давно уже нет в живых, но он ещё не разрядил свой пистолет, и вот он снова целится в него, пистолет заряжен, тяжёлая пуля в стволе ждёт, когда вспышка пороха отправит её в полёт. И в этот миг ему показалось, что офицер на картине пошевелился, Григорий невольно отшатнулся, но рука Александра с пистолетом последовала за ним, он видел, как Альбенин надавил пальцем на курок, выбирая слабину спускового механизма, потом он слегка улыбнулся загадочной и жестокой улыбкой и выстрелил.
Острая боль пронзила грудь Григория, сердце его, сражённое пулей, пущенной сквозь тьму лет, замерло и остановилось. Рука его ослабла, он уронил ещё дымящийся пистолет и тяжело опустился на пол. Его бескровные губы еле слышно прошептали:
— Ну, вот, ты и сделал свой выстрел, — глаза его закрылись, и капитан Томский затих навсегда.
Майор в отставке Георгий Карецкий тихо проживал в своём поместье, удалившись от друзей и знакомых. Супруга его, Люси, медленно угасая от чахотки, оставила сей грешный мир, упокоившись на небольшом деревенском кладбище, на невысоком холме, выглядевшим островком зелени среди бескрайней степи.
Жену свою Георгий никогда не любил, всю жизнь он тосковал о той, далёкой женщине в которую был влюблен с ранней юности, видевшись с нею всего несколько раз, и не имевший смелости признаться ей в своих чувствах. Но со смертью супруги он вдруг понял, что жизнь его стала невообразимо пуста, лишь с потерей жены он почувствовал, что вместе с нею ушла в небытие и часть самого Георгия, ушла безвозвратно, оставив пустоту в душе и уныние. Слишком поздно понял он, что бедная Люси и была его той единственной, настоящей любовью, без которой жизнь пуста, безрадостна и бессмысленна.
Неподалеку, в своём скромном имении, проживал его бывший полковой товарищ, отставной поручик Александр Бельский. Иногда они встречались, распивали бутылку вина, вспоминая былые годы, полные опасностей, сражений, овеянные боевой славой, покрытые пылью военных дорог. Бывало, они засиживались до утра, а когда поручик возвращался в своё имение, Георгий падал на кровать в полном изнеможении от беспредельной тоски, захлестнувшей горло, завидуя тем, кто не вернулся с полей сражений, почив славною смертью в жестоких боях.
Вот и теперь поручик заехал в имение к Георгию, и они сидели за столом перед бутылкой вина, вспоминая былые годы.
— Жизнь моя кончена, Алекс, — говорил Георгий Бельскому, разливая по бокалам вино, — всё, что было когда-то, безвозвратно ушло, ни вино, ни работа не может отвлечь меня от тоски, которая разъедает душу. Нет более смысла существования на этой земле. Пуля в висок? — Глупо и бестолково. Но ничего другого не приходит на ум. Нет, я не пущу себе пулю в висок — это слишком просто, да и в этом не вижу я смысла. Нет более никого, кто оплачет мою могилу, ни жизнь, ни смерть не принесет утешения, мне кажется, что душа моя и на том свете будет скитаться в бесконечной тоске между адом и раем. Нет у меня ни друзей, которые помянут грешника, ни врагов, которым в радость будет моя кончина.
— Враги покоятся в степях, пав под ударами наших сабель, а вот на счет друзей, ты ошибаешься, Жорж. Старые полковые друзья помнят о нас. Полковник Томич, намедни прислал мне письмо, по этому поводу, собственно, я и нагрянул к тебе, он собирает старых полковых друзей у себя в имении. Расположено оно в маленькой деревушке на самом берегу моря. Ты непременно должен ехать со мной, думаю, встреча старых товарищей сумеет развеять твою тоску.
Георгий задумался. С полковником Евгением Томичем, бывшим его закадычным другом, от всей души любившим кутежи и веселья, у Георгия была связана принеприятнейшая история. Как-то, будучи уже в отставке, лет пятнадцать назад, полковник устраивал бал для своих бывших сослуживцев с женами. На балу было веселье, танцы, рекою текли благородные вина, но в самом конце, когда гости уже расходились, полковник, изрядно выпивши, в присутствии офицеров и их жен, напомнил вдруг Георгию историю с блондинкой из салона мадам Жозефины, которая содержала девиц определенного свойства для развлечения господ офицеров. С блондинкою этой закрутился у Георгия роман, естественно супруга его о том романе ничего не знала. Было это в одном маленьком, захолустном городке, где их полк стоял во время летней кампании.
— Что он говорит, Жорж? — воскликнула Люси, — Скажи, скажи, что это неправда!
— Он шутит, Люси, не было никакой блондинки, Евгений просто пьян, он сам не знает, что говорит.
По всем правилам, Георгий должен был бы вызвать на дуэль болтуна, но это было бы расценено так, что он придает слишком большое значение пьяной болтовне полковника, и то, что история эта действительно имела место. Они расстались, и с той поры более никогда не виделись.
Когда Люси, угасая, лежала на кровати, раскинув по подушке свои прекрасные волосы, готовясь навсегда покинуть этот мир, она нежно взяла Георгия за руку, и тихо сказала:
— А ведь Евгений не шутил тогда, по поводу этой блондинки, я знаю, но я прощаю тебя, я давно тебя уже простила. Прости и ты меня.
С этими словами она затихла навсегда, отойдя в мир иной.
Ни слышать ничего о полковнике Томиче, ни тем более видеть его, Георгий не желал. Он никогда о нем не вспоминал, вычеркнув навсегда из памяти своего бывшего друга. Приглашение на встречу друзей молнией прошло сквозь сознание Георгия, всколыхнув в душе давно забитые обиды.
— Что ж, я, пожалуй, поеду, — ответил он Бельскому.
— Вот и прекрасно! — обрадовался Александр, — Вот и прекрасно! Сегодня же прикажу готовить карету, и завтра с самого утра и отправимся в путь!
На утро следующего дня карета Бельского уже стояла у имения Георгия. Собрав на скорую руку багаж, Георгий сел в карету, и они отправились в неблизкий путь, туда, где их ожидали друзья, вино, и ласковые волны южного моря.
Когда они уже подъезжали к небольшому прибрежному городку, в котором находилось имение полковника, Георгий спросил:
— Скажи, Алекс, а не знаешь ли ты, где здесь можно остановиться в уединенном местечке, поближе к морю? Ведь ты частенько бываешь в здешних краях.
— К чему тебе это, Жорж? Мы все славно разместимся в имении Евгения, там уже всё готово к нашему приезду.
— Не скажу тебе, что не хотел бы стеснять полковника, но с некоторых пор я чувствую потребность к уединению, особенно после бурных общений с кем бы то ни было.
— Здесь неподалеку, возле самого моря живет капитанская вдова, она то и денег возьмет с постояльца немного, лишь бы кто скрасил ее скудное одиночество.
— А, вот этого мне как раз и не надо, — ответил Георгий, — нет хуже занятия на этом свете, чем развлекать скучающую даму. Нет ли у тебя чего другого на примете?
— Есть, но это, возможно, не совсем то, что тебе нужно. Живет тут у моря один старый грек, он угрюм, неразговорчив, но ходят темные слухи, будто укрывает он в своём дому контрабандистов и пиратов, и никто из порядочных людей с ним никаких дел не имеет.
— Это, пожалуй, то, что мне нужно, Алекс — уединение, а слыть порядочным человеком — не более чем предрассудки, да и стороннее мнение меня мало волнует.
Грек жил у самого моря, возле скал, к дому его вела крутая узкая дорога, серпантином сбегающая вниз, возница, ворча себе что-то под нос, с трудом сдерживал лошадей. Грек, издали завидев гостей, вышел навстречу.
— Здравствуй, грек, — сказал Александр, — не приютишь ли гостя на несколько дней? Вот господин майор хочет поселиться возле самого моря.
— Приютить могу, если господина майора устроит моё скромное жилище. У меня всё по-простому, и благородные господа тут не останавливались.
— Мне много не надо, — ответил Георгий, — достаточно кровати и тумбочки, лишь бы никто не беспокоил.
— У меня для гостей отдельный домик, простенький, безо всякого уюта, но беспокоить Вас тут никто не будет, это уж точно.
— Вот и славно, — ответил Георгий, снимая багаж, и перенося его в маленький домик под соломенной крышей.
— Ты поезжай, Алекс, — сказал он Бельскому, — а я здесь останусь, отдохну с дороги.
— Но полковник ждет нас, он будет весьма огорчен, если я приеду один, банкет назначен на завтра, на двенадцать часов.
— Вот, завтра, к двенадцати за мной и заедешь, а пока я отдохну, отвык я от долгих переездов. Передашь полковнику мои извинения, скажешь, что завтра к двенадцати буду.
Бельский уехал, а Георгий вошёл в низкую хату-мазанку под соломенной крышей и, не раздеваясь, лег на кровать. На душе было скверно и тяжело. «И зачем я только согласился ехать? — думал он, — Все давно забыто, Евгений не существует для меня, простить я его не смог, и никогда не смогу, я просто забыл о его существовании. Для чего мне снова с ним видеться? Бередить прошлое? Как вести себя при встрече? Сделать вид, что ничего не произошло? Ведь он тогда был пьян, сильно пьян, и наверняка ничего не помнит, он еле стоял на ногах. Еле стоял, но говорить мог, значить думал и понимал, что говорит. Но сейчас, через пятнадцать лет, сейчас, конечно же, он ничего не помнит, а может, помнит? А какая, собственно, разница, помнит он о той своей глупости или нет? Будет делать вид, что не помнит — это точно. Но мне-то что с того?»
Размышляя таким образом, Георгий пришел к выводу, что вести себя следует так, будто бы ничего не происходило между ними, что могло навсегда разрушить их дружбу. Полковник Томич был смелым, мужественным воином, он был, несомненно, хорошим другом, и не раз выручал друзей в бою. Да и в мирной жизни он никогда никому не отказывал в помощи. Его любили, уважали, ценили и друзья, и начальство. Да, он любил пировать на широкую ногу, как в бою, так и гулянках он не признавал полумер.
День клонился к закату, последние лучи солнца, пробиваясь сквозь низкие окна, наполняли комнатку странными сочетаниями света и мрака, и Георгию казалось, будто по комнатке бродят призраки каких-то существ, или людей, живших в ней когда-то, но давно уже покинувших этот мир. И чудилось ему, что и сам он жил на этом свете давно, очень давно, а теперь остался от него лишь бесплотный призрак, и люди ошибочно принимают его за живое существо, в то время как он всего лишь плод их больного воображения, принимающего игру света и тени за проявление жизни.
Георгий лежал в полудрёме, мысль уносила его в те далекие времена, когда он был молод, и жизнь галопом неслась по степи, она казалась прекрасной, полной опасностей и тревог, радости и любви. Постепенно конь его перешёл на шаг, и вот теперь он, спешившись, уныло вел под уздцы старую клячу к своему концу. Так, в мыслях о прискорбности и бессмысленности своего бытия, он уснул. Проснулся он, когда солнце, отражаясь от игривых волн, рождало на потолке причудливые, живые блики, создавая впечатление, будто комната куда-то плыла, покачиваясь на волнах.
Предстоящая встреча со старыми полковыми друзьями не радовала его. Вся прошлая жизнь, представлялась теперь бессмысленной чередой войн и кутежей, и то, что когда-то воспринималось как доблесть и слава, оказалось жестокостью, кровью и смертью. И радость побед, и горечь поражений — все было полито кровью и вином, и жизненный путь был отмечен множеством могил с покосившимися крестами. Георгий уже пожалел, что согласился на эту встречу, желание, как проявление жизни, внезапно вспыхнувшее в нём, угасло, и полное безразличие к происходящему вновь охватило его. Когда раздался стук копыт, и карета Бельского, подняв клубы пыли, остановилась во дворе, он встал, умылся и вышел из хаты.
— Жорж! Как жаль, что тебя не было вчера! — воскликнул Александр, ринувшись навстречу Георгию. — Тебя все вспоминали, был чудный вечер, думаю, ты многое потерял, что не приехал!
— И много выпили вчера? — с иронией в голосе спросил Георгий.
— Ой! — воскликнул Бельский. — И вспомнить невозможно. Разве ведет кто счёт бокалам, когда встречаются старые полковые друзья? Просто голова раскалывается!
— Ну, стало быть, и жалеть не о чем, я прекрасно отдохнул, а попойка сразу же после дороги была бы мне в тягость.
Георгий уселся в карету рядом со своим старым другом, и Александр, подняв руку, крикнул кучеру: «Трогай!». Лошади уныло потянули карету на подъем, и она жалобно заскрипела на рытвинах и ухабах разбитой дороги. Через несколько минут пути показалось имение полковника, сам хозяин, завидев приближающуюся карету, вышел навстречу.
— Георгий! Наконец-то! Как я рад тебя видеть! — воскликнул Евгений, протягивая руки навстречу Георгию. Он намеревался обнять старого друга, но тот, уклонившись от объятий, лишь сухо пожал протянутую руку.
— Что же ты не приехал вчера? Отчего не остановился у меня? — Евгений был возбужден, и не обратил внимания на холодность Георгия, граничащую с полным безразличием.
— Устал с дороги, нездоровилось, — ответил он.
— Но сегодня, сегодня-то, надеюсь, ты останешься у меня?
— Там видно будет.
— О! Ты как всегда, как всегда непредсказуем, загадочен! Узнаю, узнаю старого друга! — Евгений поправил пышные усы, пожелтевшие от табачного дыма, и уже тронутые сединой.
Они прямиком направились в банкетный зал, где были накрыты столы, и гости оживленно беседовали в предвкушении весёлой попойки, обещавшей поправить состояние здоровья, весьма пострадавшее от вчерашнего «легкого ужина», закончившегося на рассвете. Увидев Георгия, они все шумно загалдели, изобразив на лицах радость встречи со старым полковым другом. Георгий поприветствовал всех, сдержанно улыбаясь, и пожимая протянутые руки. Евгений произнес тост, и бокалы, наполненные дорогим вином, сошлись со звоном, обозначившим начало пьянки. Произносились тосты, речи, заранее заготовленные для такого торжественного случая, но вскоре общее управление застольем было потеряно, гости разбились на группы, в которых беспорядочно пили и галдели, перебивая друг друга, все спешили высказать свои мысли, которые неожиданно всплывали в затуманенных, захмелевших головах. Георгий пил мало, в общих разговорах участия не принимал, и скоро был забыт, так и не присоединившись ни к одной группе. Капитан Чернецкий, сидевший справа от Георгия, сказал, повернувшись к нему:
— Что же ты так печален? Неужели не рад встрече? Разве не скучал ты по старым полковым друзьям?
— И печаль и скука, — ответил Георгий, — удел тех, в ком ещё не угасла жажда жизни, я давно не испытываю ни радости, ни печали. Сегодняшнее веселье не вернет никому из нас того времени, когда жизнь наша ещё чего-то стоила и имела смысл. Все когда-то проходит, даже жажда жизни угасает.
— Ты не прав, тебе нужно встряхнуться, в своем уединенном селении ты вовсе одичал, нельзя предаваться унынию, необходимо менять образ жизни.
— Всё дело в том, что я ничего не хочу менять. Каждый из нас думает так, как я, но никто не хочет признаться в этом.
Веселье подходило к концу, мысли текли медленно и лениво, явно отставая от темпа наполнения бокалов. В самом конце Евгений, желая вновь взять управление в свои руки, призвал к тишине, и произнес тост за полковое братство, за дружбу и верность.
— Что бы ни случалось с нами, — сказал он, — никогда мы не предавали друг друга, и не предадим никогда! За это и выпьем, господа!
Все встали, подняв бокалы, и лишь Георгий остался сидеть, не притронувшись к наполненному заботливой рукой соседа бокалу.
— Жорж! — воскликнул Евгений. — Ты о чем задумался? Тост произнесен, вставай, присоединяйся!
— Не хочу, — ответил тот с вызовом.
— В чем дело, Георгий?
— Дело в том, что ты лжешь.
Все опустили бокалы и шумно загалдели, требуя объяснений.
— Много лет назад, здесь, в этом доме, в присутствии всех этих людей, которых ты называешь друзьями, ты предал меня.
Наступила удивлённая тишина, рука Евгения с полным бокалом застыла в воздухе.
— Ты видимо забыл, что ты рассказывал о моих любовных похождениях в присутствии моей жены. Ты не считаешь это предательством?
— Бог с тобой, Жорж! Я ничего такого не помню, ну если и было, то стоит ли уделять внимание пьяной болтовне? Ей богу, не помню, чтобы я что-то подобное говорил. Ну, если и было что, то прости, прости старого друга.
— Друзья так не поступают. Я должен был вызвать тебя на дуэль, но тогда я не сделал этого. Простить тебя я не могу, потому делаю это сейчас. Я вызываю тебя!
Георгий встал, подошел к Евгению, внезапно побледневшему, судорожно сжавшему бокал. Супруга Евгения, Елена, в слезах бросилась к Георгию, умоляя его прекратить сору.
— Прошло так много времени, пора забыть старые обиды! Что же Вы делаете, Жорж? Мы все так любим Вас, а Вы…
— Для меня время остановилось, и я не могу забыть, меня предали здесь, в этом доме. Сделано это по глупости, или из злого умысла — значения не имеет, но каждый должен рано или поздно ответить за свои поступки. Если Ваш супруг не помнит того, что произошло здесь много лет назад, то Вы, думаю, этого не забыли.
— Но тогда Евгений сказал правду? Ведь у Вас был роман, с той блондинкой?
— Евгений солгал, романа не было, было мимолетное увлечение, но никаких отношений меж нами не было, я ни разу не приблизился к ней, и не дал повода для сплетен. Поступок Евгения отвратителен, он не достоин мужчины и офицера.
— Почему же Вы не вызвали его тогда? Почему? Если это все неправда?
— Я не хотел, чтобы супруга моя восприняла всерьез этот пьяный бред. Но перед тем, как покинуть этот мир, она сказала, что поверила Евгению тогда, но простила меня. А меня не за что было прощать, у меня нет вины перед ней. Память о бедной моей супруге не позволяет мне оставить безнаказанным поступок Евгения.
Гости, возбужденные таким поворотом событий, живо подхватили тему, восприняв вызов, как очередное развлечение. Поручик Бельский вызвался быть секундантом Георгия, а секундантом Евгения — капитан Чернецкий.
— Мои условия, — заявил Георгий, — мой выстрел первый, я слишком долго этого ждал, дуэль продолжается до тех пор, пока не окончится смертью одного из участников. Стреляться будем завтра, в четыре часа вечера, в берёзовой роще.
Секунданты отошли в сторону, обговаривая условия поединка. Через некоторое время они вернулись, заявив, что условия Георгия приняты.
— Итак, до завтра, господа, — сказал Георгий, повернулся и вышел из зала. Бельский бросился за ним.
— Жорж, позволь, я отвезу тебя.
— Не стоит, Алекс, я хочу пройтись, мне нужно побыть одному. Завтра заедешь за мной, а сейчас прощай.
Когда Георгий спустился с обрыва к домику старого грека, стояла глубокая ночь, огромная, полная луна висела над морем, и свет её, отражаясь в волнах, рисовал зыбкий путь, казалось, что по нему можно было уйти в вечность. Георгий уселся на камень, и долго смотрел на луну, которая опускалась всё ниже, и ниже, наливаясь тяжёлым, багровым цветом. Когда луна, утонув в волнах, исчезла за горизонтом, и потянуло утренним холодом, Георгий вошел в низкую хату, не зажигая огня, лег на кровать. Несмотря на всю опасность принятого решения, оно успокоило его, и Георгий уснул, как только голова его коснулась подушки.
Когда после полудня следующего дня Бельский, заехав за Георгием, спросил:
— Ты не передумал, Жорж? Ещё не поздно всё изменить.
— Я не меняю своих решений, ты знаешь.
До места дуэли ехали молча, не проронив ни слова, и только храп лошадей, скрип кареты, да понукания возницы нарушали тревожную тишину. Когда они добрались до березовой рощи, все гости уже были в сборе. Одни искренне сожалели о ссоре старых друзей, другие воспринимали поединок как новое развлечение, способное скрасить серое уныние жизни отставного офицера. Как положено, секунданты предложили противникам простить друг другу обиды и прекратить дуэль, Евгений тут же принёс свои извинения, но Георгий не принял их, он был решительно настроен стреляться.
Противники стали к барьеру, и Георгий подняли пистолет. Он прицелился в лоб Евгению, но с выстрелом не спешил. Прошла секунда, другая, прошла уже минута, а Георгий все ещё не стрелял.
— Ну, что же ты медлишь? Стреляй! — крикнул Евгений.
Георгий опустил пистолет:
— Успею, куда торопиться? Мне спешить некуда, да и тебе не советую.
Он вновь поднял пистолет, и навел его на грудь Евгения, но потом поднял его выше головы противника, и выстрелил. Пуля звонко пропела, и глухо ударила в ствол березы.
— Теперь твоя очередь стреляй.
Евгений поднял пистолет, его рука дрожала.
— Смотри, не промахнись, — сказал ему Георгий, — помни условия поединка.
Евгений выстрелил не целясь, но промахнулся. Секунданты перезарядили оружие, и поединок продолжился. Георгий, продержав противника под прицелом минуты четыре, вновь выстрелил в воздух.
— Я не буду стрелять! — крикнул Евгений. — Ты нарочно хочешь, чтобы я убил тебя! Этого не будет!
— Ты однажды уже сделал это, тогда, двадцать лет назад. Что же останавливает тебя теперь? Стреляй, Евгений, стреляй, другого выхода у тебя нет.
Теперь все поняли замысел Георгия.
— Остановите их! Ведь это же убийство! — раздался возглас из толпы.
— Не мешайте им сводить счеты, — ответил капитан Чернецкий.
— Но один из них решил свести счеты с жизнью! — воскликнул Бельский.
Евгений выстрели в воздух. Когда вновь перезарядили пистолеты, и Георгий снова прицелился в лоб противника, Евгений крикнул:
— Да, выстрели же ты, наконец! Стреляй в меня, и покончим с этим.
— Хочешь, чтобы я выстрели в тебя? Что же мешает тебе сделать свой выстрел так, чтобы покончить со всем раз и навсегда?
Он вновь выстрелил поверх головы противника, и опустил пистолет. Евгений прицелился, рука ходила ходуном, цель расплылась перед глазами, он несколько раз поднимал и опускал оружие, потом он отбросил пистолет в сторону, и крикнул:
— Хватит! Я не буду стрелять! Убирайся вон! Вон из моего поместья! Вон! Вон! Слышишь?
— Ну, что ж, как тебе будет угодно. Дуэль не закончена, господа, она только отложена до тех пор, когда Евгений найдет в себе мужество сделать свой выстрел. Выстрел за тобой, я жду!
С этими словами Георгий повернулся и ушёл, никто не окликнул его, не бросился вслед. Гости понуро стояли, не двигаясь с места.
— Вон! Пошли все вон! Не хочу никого видеть! Не желаю! Оставьте меня!
Гости разошлись, а Евгений вернулся в дом и потребовал вина. Он пил весь вечер, но хмель не брал его, чем больше они пил, тем яснее становилось в голове, и решение созрело. Он взял пистолет, зарядил его, и вышел из дому. Когда он подошёл к домику старого грека, стояла глубокая ночь. Огромная, полная луна висела над самым морем. Евгений хотел разбудить Георгия и продолжить поединок, но тут он увидел его. Георгий стоял на камне, скрестив руки на груди, и смотрел на луну. Евгений стал у камня, поднял пистолет. Рука его была тверда, грудь спокойна. Он понял пистолет вверх, сделал вдох, затем, опуская его, прицелился, задержал дыхание, и плавно, как в тире, нажал курок.
Выстрела Георгий не слышал, лишь резкая боль вспыхнула в груди. Всё померкло вокруг, и море, и скалы, осталась лишь одна лунная дорога, ведущая в вечность.
Зима отступала, легкий ветерок доносил запахи весны, вечер, наполненный светом неоновых огней, был чист и спокоен. Василий Васильевич отпустил машину и охрану, и решил пройтись не спеша по вечерним улицам родного города, как в далёкие молодые годы, когда самой большой неприятностью казался несданный экзамен по сопротивлению материалов. В нем, успешном бизнесмене, имеющем всё, что только можно желать, вдруг проснулась тоска по той, далекой, простой до килек в томате жизни, по тому состоянию души, которое не могут дать ни деньги, ни уважение и почет, ни прочие материальные и духовные блага. Возможно, это была тоска по молодости, ушедшей навсегда, а возможно, по чему-то другому, по тому, что нельзя выразить словами, что делало жизнь неповторимой, наполненной смыслом, величием и простотой.
Он шёл по улице, залитой светом фонарей, сквозь толпу спешащих куда-то прохожих, мимо красочных реклам, окон магазинов, кафе и баров, по талому, смешанному с грязью, снегу. Остановился он возле подвальчика, знакомого со студенческих лет, когда они с друзьями иногда заваливали туда шумной толпой, чтобы пропустить стаканчик вина за тридцать семь копеек, и закусить тремя шариками мороженого в широкой вазочке на высокой ножке. То время давно прошло, он уже не посещал забегаловок подобного типа, а вальяжно входил в ресторан, где у него с услужливой улыбкой принимали пальто, и официант, изогнувшись в радостном приветствии, спрашивал: «Как всегда?». Но сегодня ему вдруг до боли в груди захотелось зайти ни кем не узнаваемым в простое, дешёвое заведение, и выпить стаканчик портвейна, такого, какой продавали за тридцать семь копеек во времена его студенческой юности.
Семь ступенек из мрамора, вытертого за долгие годы сотнями тысяч ног, привели его в знакомый полуподвал. Обстановка была совсем не та, что в те далекие годы, но несмотря на евроремонт, на Василия Васильевича повеяло знакомым теплом юности, будто старый, забытый кабачок узнал его. Стойка бара располагалась там, где и прежде, но выполнена в форме полукруга, темно-коричневого цвета, рядом стояли три стула на высоких ножках, без спинок, с круглыми вращающимися сидениями. У левой стены разместились пять столиков, у правой — три игральных автомата. Посетителей не было, кроме одного немолодого человека за третьим столом. Василий Васильевич узнал его сразу — это был его давний, хороший друг, Гриша, с которым они с первого класса сидели за одной партой, потом вместе учились в политехническом институте, и получили направление на один и тот же завод. Но вначале девяностых, когда их завод, как и многие другие, прекратил своё существование, они более не встречались — закружили, завертели их буйные девяностые годы, разбросали в разные стороны.
После того, как, успешно работавший ранее, завод поделил участь страны, которая вложила в его создание немалые средства, Гриша, а теперь Григорий Антонович, смог организовать свой небольшой бизнес, приносящий ему ощутимый доход. Сборку вычислительной техники, на основе поставляемых из Таиланда и Китая комплектующих Григорий Антонович организовал в своем собственном доме, расположенным в прибрежной зоне. Все шло хорошо, но однажды его пригласили в районную администрацию и предложили продать свой бизнес вместе с домом. Обращение в вышестоящие инстанции ничего не дало, хотя никаких претензий со стороны множества служб, от пожарной инспекции до налоговой к Григорию Антоновичу предъявить не смогли, ему настойчиво предлагали продать свой бизнес. Когда он, проигнорировав эти предложения, продолжал свою деятельность, некие лица пригрозили тем, что если он не пожелает прислушаться к голосу рассудка, то в однажды его дом, вместе со всем оборудованием, может просто сгореть. Деньги, которые ему предложили, были вполне достаточны для того, чтобы приобрести квартиру в престижном районе, и получать стабильный доход от оставшейся суммы, если, разумеется, распорядиться ей с умом.
Поняв, что в случае дальнейшего упрямства, он рискует остаться не только без денег, но и без жилья, Григорий Антонович решил выполнить требования тех, кто вообразил себя вершителем судеб города и его жителей. В те бандитские девяностые, когда ещё не были распространены повсеместно электронные карточки для безналичного расчета, подобные сделки принято было оплачивать наличными, а именно американскими долларами, которые скромно назвались «условными единицами». Расчет производили тут же, в нотариальной конторе, при оформлении сделки. Чтобы обезопасить себя от того, что называлось простым грубым выражением, «кинуть клиента», Григорий Антонович пригласил на сделку своего начальника охраны, который его и «кинул», исчезнув из помещения нотариальной конторы вместе с деньгами.
Разумеется, он обратился в милицию, разумеется, милиция приняла соответствующие меры к розыску бывшего начальника охраны и похищенных им денег, но, разумеется, никого и ничего не нашла. А через три дня труп разыскиваемого был обнаружен на пустыре, возле полуразрушенного здания за домом, в котором располагалась нотариальная контора, денег при нем не было. Так Григорий Антонович стал человеком без определенного места жительства, то есть, бомжем. Нет, он не спился, не стал бродяжничать, скитаясь по подвалам и собирая пустую тару от вина и объедки, он устроился на предприятие теплоснабжения города по своей специальности, и снял комнату в пригородном районе.
Увидев старого друга, Василий Васильевич радостно воскликнул, и Григорий Антонович, обернувшись на оклик, тоже его мгновенно узнал. Пожалуй, трудно найти в жизни момент более радостный, чем неожиданная встреча с хорошим старым другом, тем более, что ностальгическое состояние души, охватившее Василия Васильевича, располагало к тому. После выражения взаимной радости, подкрепленной бутылкой благородной внешности, с тремя медалями, и с сомнительным содержимым, явно не соответствующим этикетке и цене, меж старыми друзьями завязался разговор, какие обычно возникают в подобных случаях. Василий Васильевич рассказал о своем нынешнем положении, подчеркнув, что, в отличие от многих своих коллег по бизнесу, работает честно, не обманывая ни государство, ни простых граждан, пользующихся услугами его фирмы, по поводу чего Георгий Антонович заметил:
— Не помню, кто сказал, что можно вести бизнес честно, но первый миллион непременно нужно украсть.
— Не поверишь, — ответил Василий Васильевич, — но начальный капитал, не миллион, конечно, но весьма значительную сумму, я просто нашел!
— Да ну!? — удивленно воскликнул Григорий Антонович. — Быть такого не может! Клад, что ли, обнаружил?
— Вот именно, клад! Я тогда на стройке вкалывал, чтобы хоть как-то перебиться, завод-то наш тю-тю, помнишь?
— Как не помнить!
— Так вот, — Василий Васильевич налил ещё по бокалу вина, поднял его, заменив тост кивком, разом опрокинул содержимое в рот, крякнул и продолжал, — Сносили мы старое здание на пустыре, крутой дом там после построили, разбивал я ломом фундамент, как вдруг за кирпичной кладкой «дипломат» с деньгами обнаружил. Что делать? Не класть же его обратно, все равно бетоном зальют, вот и забрал. Дома деньги пересчитал, проверил, вроде настоящие. Сдать в милицию? Нет! Потом неприятностей не оберешься! В общем, годик я выждал, а потом в дело пустил, вот с того бизнес мой и начался.
— А мне с бизнесом не повезло, — вздохнул Григорий Антонович, — наехали на меня, заставили продать бизнес вместе с домом моим, да и кинули на деньги.
— Это как?
— Да, — Григорий Антонович махнул рукой, — когда сделку оформляли, я предполагал, что кинуть могут, деньги реальные предлагали, вот я и взял с собой на сделку начальника охраны своего и двух охранников. Вроде всё предусмотрели, он деньги проверил детектором, сложил в «дипломат», пристегнул его браслетом к руке, ключ мне отдал. При выходе из нотариальной конторы, в туалет он захотел. Охранники зашли, туалет проверили — никого, окно решеткой забрано, и у двери стали, пока он там свои надобности справлял. Но что-то долго не выходил, мы дверь открыли — ни его, ни «дипломата», и решетка с окна так аккуратненько на полу лежит — подпилена была заранее. За окошком пустырь, и всё — ищи ветра в поле.
— Вот гад! — Василий Васильевич стукнул кулаком по столу. Нашел бы — убил бы скотину!
— Именно так кто-то и сделал, труп его на пустыре через три дня нашли, а деньги так и пропали.
В разговоре наступила неловкая пауза, в голове Василия Васильевича возникла страшная догадка — а не эти ли деньги он нашел там, в фундаменте старого дома? Перед пустырем стоял жилой дом, а в нем, в четвертом подъезде, — нотариальная контора. Уж, не та ли самая?
— А когда, ты говоришь, тебя кинули? — поинтересовался он у друга и, получив ответ, пробормотал. — Так-так.
Григорий Антонович молчал, те же мысли роились и в его голове, он даже не сомневался, что именно его деньги, спрятанные начальником охраны, который не захотел делиться с заказчиками, за что и пострадал, нашёл в фундаменте старого дома его лучший друг, Вася. Но высказывать свои соображения он не спешил, понимая, что Василий Васильевич думает сейчас о том же.
Проанализировав события, Василий Васильевич пришел к выводу, что деньги, найденные им, были именно теми, которые похитил покойный начальник охраны. Неприятная, до тошноты, мысль о том, что деньги другу надо бы вернуть, настойчиво вертелась в его слегка затуманенном алкоголем мозгу. Он даже открыл было рот, чтобы произнести фразу: «Гриня, друг! Гадом буду! Деньги верну!», но вовремя одумался, понимая, что так дела не делаются. Нужно на трезвую голову все продумать, взвесить, не просто так, сразу, этакую сумму из дела вынуть. Но закрывать рот, не произнеся ни слова, было уже поздно, и он бесцветным, отрешенным голосом спросил:
— А, как, это… жена, дети?
— Да, нормально всё, Вася, жена со мной в теплосетях работает, дочка в университете учится, вот только с жильем хреново, на квартире живем.
Дальнейший разговор проистекал в полном разногласии слов и мыслей, и вскоре стал в тягость обоим собеседникам.
— Может ещё вина взять? — робко предложил Василий Васильевич, когда Григорий Антонович разливал по бокалам последние капли напитка, отдаленно напоминающего портвейн.
— Нет, не стоит, — ответил Григорий Антонович, — что-то голова разболелась от этого вина.
— Ну и ладно, давай ещё раз за встречу.
Чокнулись они вяло, без прежнего энтузиазма, и выпили. После чего поднялись и вышли на улицу.
— Ну, ты забегай, звони, не забывай старого друга, — сказал на прощание Василий Васильевич, пожимая руку Григорию Антоновичу. Но Григорий Антонович знал — больше они никогда не встретятся, ни адресами, ни телефонами они не обменялись. Сегодня он потерял нечто гораздо большее, чем деньги, с потерей которых давно смирился, и гораздо большее, чем дружбу, он потерял веру в то, что когда-то, в старые времена, считалось дороже самой жизни, то ради чего стрелялись на дуэлях или пускали себе пулю в висок, то, что когда-то называлось красивыми, ныне утратившими значение словами: совесть, достоинство, честь.
Низкие, тёмные осенние тучи плыли над городом, цепляясь за крыши домов, грязными серыми космами падали они на землю, моросил мелкий, холодный дождь. Ветер голодным псом выл в проводах, раскачивая полуобнаженные ветви деревьев, срывал последние уцелевшие листья, швырял их в грязь, в лужи, на мокрый асфальт. Сквозь рваные клочья облаков на минуту выглянуло солнце, в кустах блеснула темно-зелёным цветом пивная бутылка. Иван Степанович, человек без определенного места жительства, с двухнедельной щетиной на немытом лице, в засаленном военном кителе и военной шапке без кокарды, подобрал бутылку, внимательно осмотрел, не отбито ли горлышко, и аккуратно положил в сумку, такую же грязную и замусоленную, как и он сам.
Когда-то Иван Степанович был человеком уважаемым, подполковником, и служил в должности командира эскадрильи военно-транспортной авиации в Вооруженных Силах бывшего Советского Союза. Но после известных событий девяносто первого года, когда авиация многочисленных суверенных государств — осколков бывшей, некогда могучей державы, стояла на аэродромах без горючего, Иван Степанович был уволен в отставку. Пенсия, назначенная ему ещё в советских рублях, после стремительного взлета цен в результате инфляции, превратилась в жалкие гроши, на которые прожить было просто нереально.
В поисках заработка, который давал бы возможность кое-как сводить концы с концами, устроился он работать завхозом в одном НИИ, находящемся в процессе развала, но ещё как-то существовавшем, разделившись на множество мелких частных предприятий. Все было бы ещё терпимо, если бы Иван Степанович не был человеком честным, и не противился всяческим махинациям руководства НИИ. И поскольку он не только не желал сам наживаться за счет развала хозяйства, когда-то бывшего социалистической и ставшей вдруг ничей собственностью, но и всячески препятствовал в этом другим, то сделался костью в горле для руководства НИИ и был уволен по обвинению в том, чему он всегда противодействовал. От такой несправедливости он, прежде всего, напился, затем, протрезвев, стал искать новое место работы, и устроился сторожем на государственном автопредприятии. Но и там он выполнял свои обязанности честно, и не давал выносить и вывозить с предприятия ценности не только простым работягам, но и руководству, чем вызвал естественное недовольство лиц, облеченных властью, и был вновь уволен.
Возмущенный несправедливостью, он стал искать утешение в стакане и, поскольку светлое будущее уже не маячило на мрачном политическом горизонте, а несправедливость сделалась нормой жизни, он довольно быстро спился. После развода с женой, состоявшегося ещё во времена его службы в армии, жил Иван Степанович один, и остановить его безысходное пьянство, переходящее в алкоголизм, было некому.
Однажды летом явился к нему некий молодой человек, опрятно одетый, очень вежливый и учтивый, и рассказал, что он представляет организацию социального обеспечения, которая заботится о ветеранах Советской армии, и обещал отставному подполковнику материальную помощь. Для чего он попросил Ивана Степановича заполнить многочисленные анкеты, с данными паспорта и налогового кода, под которыми необходимо было поставить свою подпись. Время шло, а обещанная материальная помощь не поступала, но однажды, вернувшись домой, он с удивлением обнаружил, что ключи не подходят к замку на двери его квартиры, да и сама дверь была уже совершенно другой. В жилищной конторе, куда он обратился за разъяснением, ему сказали, что квартира его продана им же самим, и показали документы, подтверждающие этот факт. Так Иван Степанович стал бомжем.
Положив бутылку в сумку, он обнаружил рядом с ней еще не успевший промокнуть окурок, поднял его, и спрятал в карман. Обходя территорию своим привычным маршрутом, он нашел ещё несколько бутылок, и направился в пункт приема стеклотары. Перед дверьми пункта на железобетонном блоке, оставленным неизвестно кем, и неизвестно зачем, сидел Санёк, молодой бомж, лет тридцати, в грязной поролоновой куртке оранжевого цвета, и курил. Завидев Ивана Степановича, он крикнул:
— Привет подполковник! Богатый улов нынче?
— На стакан хватит, — мрачно ответил Иван Степанович. Он вошел в пункт, сдал бутылки, и вышел, недовольно ворча.
— Ну что, пошли, сообразим на троих? — спросил Санёк. — Там у ларька Юрасик ждет.
Иван Степанович молча направился к ларьку, который располагался напротив пункта приема стеклотары, где продавщица Клава торговала дешёвой водкой, происхождение которой было более чем сомнительно, но относительно низкая цена привлекала людей определенного свойства, не имеющих претензий к качеству пойла. Торговля, разумеется, шла из-под полы, кому на разлив, кому бутылку, но только тем, кто числился постоянным покупателем, которых Клава знала в лицо, для всех же остальных ларек спиртными напитками не торговал. Бывший сантехник ЖЭКа, Юрасик, мужик лет сорока, которого очередной раз выгнали с работы за беспробудное пьянство, крутился у ларька, ожидая собутыльников. Одет он был более прилично, чем Санёк и Иван Степанович, на нем была целая и довольно чистая куртка из искусственной кожи, и кроликовая шапка из домашнего кота средней пушистости. Юрасик бомжем не был, жил он в своей квартире с женой и детьми, и перебивался случайными заработками по сантехнической части, в те редкие дни, кода бывал трезв по причине отсутствия денег на выпивку.
— Пузырь на троих возьмём? — спросил Юрасик, когда Иван Степанович и Санёк подошли к ларьку. — А то мне на стакан не хватает, а в долг Клавка не дает.
— Как же, щас, в долг они захотели! — отозвалась Клава. — Вам в долг наливать — без заработка совсем останешься!
— Ладно, Клавка, кончай базар, давай пацанам бутылку, — сказал Иван Степанович, вытаскивая из кармана деньги, принимая долю от Санька и Юрасика.
— Берите, — Клава протянули им бутылку, взяв деньги, — только чешите подальше отсюда, не делайте рекламу моему заведению.
— Да, ладно, ладно, — сказал Санёк, — мы что, когда-нибудь тебя подводили?
— Ты бы хоть конфетку на сдачу дала, закусить, чтобы по-честному, — проворчал Иван Степанович.
— Какая сдача? — удивленным голосом взвизгнула Клава. — Вам ещё полтинника на бутылку не хватает, если уж по-честному!
— У тебя что, опять водка подорожала? — возмущенно воскликнул Юрасик.
— А то! Всё нынче дорожает, инфляция!
— Ладно, пошли, ребята, — сказал Иван Степанович, и двинулся впёред.
Они зашли за девятиэтажный дом, справа от магазина, расположенного метрах в ста от ларька, и уселись на ствол завалившегося тополя. Тополь этот, сгнив от старости, рухнул в прошлом году около кустарника, отделявшего поляну позади дома от тротуара улицы, да так и остался лежать, превратившись в место отдыха любителей выпить на природе. Сквозь кусты был виден магазин под вывеской «Черномор» и улица, названная в честь первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой. В кустах был спрятан дежурный стакан. Кто бы ни приходил сюда выпить: свои ли, местные бомжи, или пацаны из соседнего двора, или вовсе чужие люди — стакан всегда оставался на месте.
Иван Степанович достал стакан, налил сначала себе, потом Юрасику, а после уже Саньку, затем вытащил из кармана найденный окурок, и закурил. Он видел, как напротив магазина остановился военный «УАЗик», из которого вышли два офицера-авиатора: подполковник и майор — они вошли в магазин, через несколько минут вышли, сели в «УАЗик» и уехали. Иван Степанович узнал их, с этими ребятами когда-то он летал на «Ан-26», — это был его штурман и помощник командира, второй пилот. «Хорошо, что они меня не видели, — подумал он, — да если бы и увидели, всё равно бы не узнали. Вот до чего докатился!». Он курил и молчал.
— Ну, что молчишь, Степаныч? — спросил Юрасик.
— А что говорить? Ты и так всё знаешь. Жизнь хреновая!
— А чё хреновая? — отозвался Санёк. — Вот выпили, и хорошо, а чё ещё человеку надо?
— Человеку, Санёк, много чего надо, если он, конечно, человек, а не то, что мы с тобой.
— А чё мы? Мы не люди, что ли?
— Люди, не люди. Вот ты, молодой здоровый пацан, почему работать не идёшь? Хоть бы грузчиком на базар пошёл или дворником. Вон, дворников не хватает, дядя Костя один на три двора метлой машет.
— Ха! Сдурел, что ли, подполковник? Чтобы я, свободный человек, стал горбатить на всяких там крутых сволочей? Да, мне свобода дороже, чем гроши от этих эксплуататоров!
— Работа, она дураков любит, — многозначительно произнес Юрасик, — а нормальному человеку завсегда выпить хочется. Мне, вот, начальник говорит, мол, опять на работу пьяным пришел. Во-первых, не пьяным, а выпимши, а во-вторых, я свою работу знаю, что трезвым, что выпившим, всё одно сделаю.
— Ну, понеслась! — сказал Санёк. — Работу он знает! Кто Петровне кран чинил? И за кем она с веником по двору гонялась?
— Всякое бывает. Кто не без греха? Но работу свою я знаю, вон, недавно, меня писатель Осинский приглашал канализацию чинить. Это ж понимать надо! Творческая интеллигенция, кого попадя не позовут, уважают, значить, меня, и работу мою ценят.
— Не люблю я эту творческую интеллигенцию, — ответил Иван Степанович, — писатели там всякие, поэты, артисты, чёрти что о себе понимают, а на деле…
— А чё они тебе, Степаныч? — отозвался Санёк. — Пишут себе, и пусть пишут, нам по фиг.
— От этой творческой интеллигенции, Санёк, все беды и происходят, из-за них и Союз развалился. Всем они недовольны, свободу им подавай! Ладно бы, сами до чего, своим умишком, додумались, ат нет! Ночью под одеялом «Голос Америки» слушают, а после пишут песенки разные, диссидентские, рассказики да романы, как плохо советскому народу живется, товарища Сталина навозным жуком представляют. Что, свободы им не хватало? Вот теперь она, свобода их, жри — не хочу! Только мне такая свобода на хрен не нужна!
— Ну, тебе не нужна, а другим, так в самый раз, — сказал Юрасик, — вон, сколько богатых людей нынче, машин во дворе — плюнуть не где! Живут же люди! Вот у кого свобода!
— А ты тем людям не завидуй, Юрасик. Какая свобода? Воровать? Не люди стали, а звери, хуже волков, в горло друг другу вцепиться готовы. Что такой свободы эти писатели да поэты хотели? Не свобода это, а беспредел!
— Нормальная свобода, Степаныч! — возразил Санёк. — Никто меня заставить делать, что не хочу, не может, права такого теперь никто не имеет. Права человека уважать надо.
— Какие твои права? По помойкам лазать, да по подвалам ночевать? Это твои права? Да, раньше тебя за твои права посадили б за тунеядство, и правильно бы сделали!
— Ты, Степаныч, лучше скажи, как ты среди нас оказался, — спросил Санёк, — человек заслуженный, и награды имеешь, а бомжуешь?
— Все это Санёк от слабости моей. Когда в Афгане меня подбили, и я самолет с горящим мотором посадил, думал — все могу, думал — сильный я, а вот этот стакан сильнее меня оказался. Хотел по совести жить, по справедливости, да сил не хватило.
— Это где же ты сейчас справедливость видел? — отозвался Юрасик. — Надо было не по совести жить, а воровать, как все, глядишь, и на Канарах жил бы, а так в подвале мерзнешь.
— Нет, Юрасик, по совести жить надо. А у меня сил не хватило. Обида меня взяла за несправедливость, от обиды и пить начал. А обида, она от слабости бывает. Сильный человек не обижается, и других не обижает, сильный, он по совести живет.
— Во даешь, Степаныч! — хихикнул Санёк. — Сильные, говоришь, по совести живут, а воруют, значит, слабые?
— Именно так, от слабости своей человек и ворует.
— Ха! И те качки, что на базаре рэкетом промышляют, тоже слабые, по-твоему?
— Слабые, Санёк, слабые. Это руки и ноги у них накачанные, а душонка, хилая, тощая, слабенькая. И не может эта душонка против жадности да алчности устоять.
Сзади незаметно подошел дворник, дядя Костя.
— Опять пьёте? Не положено тут распивать!
Юрасик обернулся.
— Привет, дядя Костя, чё злой такой? Не похмелялся ещё после вчерашнего?
— Похмелишься тут. Один я на три двора! Загоняло меня начальство.
— Присаживайся, дядя Костя, — сказал Иван Степанович, — нальем грамульку.
Он взял стакан, налил в него немного водки и протянул дяде Косте.
— Ваше здоровье, — пробормотал дядя Костя, отправив одним глотком содержимое стакана в рот. Потом он крякнул и сказал. — Прогноз получили, штормовое предупреждение. Мороз сегодня ночью будет, снег с ветром и гололед.
— А чё? В подвале не замерзнем, отопление уже неделю назад включили, — отозвался Санёк.
— А подвалы все нынче заколотят, и замки на двери повесят, новый начальник ЖЭКа порядки наводит.
— Гад, — смачно сказал Санёк и грубо выругался. — Ладно, не пропадём.
Стемнело. Холодный, сырой, пронизывающий ветер усилился. Мокрый снег, возникая из мутной темноты, кружил над городом, налипал на проводах и ветвях деревьев, тут же замерзая, покрывал ледяной коркой всё на своем пути. Неба не стало, оно превратилось в сплошное месиво снега и дождя. Обойдя все входы в подвал, Иван Степанович убедился, что дядя Костя не соврал, все дыры были заколочены наглухо, на дверях висели замки. Он пошел к мусорным контейнерам, и, отыскав в их вонючих недрах тряпки, рваные одеяла и прочие теплые вещи, соорудил тут же, у контейнеров постель, лег, свернувшись калачиком, как кот, прикрылся грязным, вонючим тряпьем, и уснул.
К рассвету ветер стих, Иван Степанович открыл глаза и увидел склонившегося над собой человека в авиационной форме с погонами подполковника. Он узнал его — это был штурман из его экипажа.
— Иван Степанович, вставайте, — сказал подполковник, помогая ему подняться, — домой Вас отведем, а то замерзнете тут.
— Нету у меня дома, Вася, — ответил Иван Степанович, поднимаясь.
— Тогда давайте с нами, мы на север летим, согласны?
— Согласен.
Его привезли на аэродром, помыли, побрили, переодели. Военно-транспортный самолет «Ан-26» стоял на стоянке, техники прогревали моторы. Это была та же самая стоянка, на которой когда-то стоял и его самолет, подойдя ближе, он увидел бортовой номер, выведенный потускневшей синей краской на сером борту, и понял, что это, действительно, его самолет.
— А, самолет-то мой? — удивленно спросил он.
— Ваш, конечно, мы вместе под Вашим командованием на нём летали. Помните?
— Как не помнить.
Они поднялись на борт, вошли в кабину. Вася предложил ему занять место командира, по старой памяти. Он снова держал в руках теплый штурвал, привычно светились приборы, всё, как прежде, вот и царапина на приборной доске, слева в углу, и облупившаяся, вытертая краска возле кнопки согласования гирокомпаса. Набирая обороты, привычно взвыли винты. Иван Степанович вырулил на взлетную полосу, моторы взревели, унося самолет в заснеженное небо, он оторвался от земли, пробил облака. Яркий солнечный свет ударил по глазам, заполняя собой всё пространство, всё его существо, стало светло, тихо и спокойно.
Наутро, дворник дядя Костя обнаружил возле мусорных баков, под грудой старого, грязного, вонючего тряпья, окоченевшее, мертвое тело Ивана Степанович, человека без определенного места жительства, отставного подполковника, бывшего командира эскадрильи военно-транспортной авиации.
Низкие тяжёлые облака медленно ползли над городом, стекая мелким моросящим дождем на крыши домов, на тротуары, мостовые, покрытые грязью и лужами. Из окон местной гостиницы небольшого районного городишка, сквозь мутную пелену дождя, была видна площадь, в центре которой на высоком постаменте стоял памятник вождю, указывающему вытянутой рукой направление движения к лучшей жизни. На голове вождя восседала ворона, оглашая пространство заунывным тоскливым криком.
— Прочь! Прочь, проклятая! — махнула на неё рукой Анна Павловна, будто ворона могла её услышать.
Но ворона как ни в чем не бывало продолжала изливать одной лишь ей понятную тоску, нахохлившись под мелким осенним дождём.
Анна Павловна отошла от окна, уселась на застеленную кровать и тяжёло вздохнула. Завтра предстоял трудный день, от встречи с незнакомым ей человеком зависит, узнает ли она, наконец, правду о своем отце, которого расстреляли в тридцать седьмом здесь, в этом, затерянном на просторах России, небольшом провинциальном городке, или же последние дни жизни его навсегда останутся для нее тайной. Сколько пройдено инстанций! Сколько порогов обито! Сколько написано запросов! Сколько их осталось без ответа, и сколько ответов получено, вежливых, уклончивых, сухих, резких, но никогда ничего не обещающих и не проясняющих, за исключением того, что уже было известно. И вот, когда надежда узнать правду, восстановить честное имя отца, уже почти иссякла, какой-то важный чин, бывший сотрудник бывшего комитета безопасности бывшего государства при личной встрече сообщил, что здесь, в этом районном городке, в здании бывшего КГБ, а теперь ФСБ, ей дадут возможность ознакомиться с делом отца.
Вечерело. Сумерки сгустились, дождь усилился. Капли его ударялись о стекло, сползая извилистыми змейками вниз, к подоконнику; там, за окном, на площади, одинокий фонарь на высоком столбе, раскачиваясь под ветром, бросал свет на потемневшую фигуру вождя, делая тень его на мокрой, грязной площади живой, подвижной. Вороны не было.
Анна Павловна задёрнула занавеску, включила свет и, переодевшись в дорожный халат, легла на кровать, не расстилая её — она знала, уснуть сегодня ей не удастся. Она лежала, глядя в потолок, на лампочку под желтым абажуром и думала, думала, думала. Мысли её были далеко от этого городка, в том, крупном промышленном центре, где прошло её детство, где отец, которого она уже почти не помнит, работал инженером на заводе оборонного значения. Мать мало рассказывала о нём, в ответ на все расспросы она только вздыхала, повторяя одну и ту же заученную фразу: «Трудное было время».
В гостинице было тихо, лишь дождь стучал по стеклам да завывал ветер, проникая в щели противным, зябким сквозняком. В номере было сыро и холодно, Анна Павловна расстелила постель и легла в халате, укутавшись одеялом. Тусклый свет под грязным абажуром раздражал её, она встала, повернула выключатель, свет погас, и теперь только мутный отсвет одинокого фонаря на площади проникал сквозь занавешенное окно, рождая причудливые тени на потрескавшихся местами обоях. Тени напоминали фигуры людей, живших в далёком прошлом, как призраки, бродили они по полутемному пространству, будоража воображение.
Анна Павловна пыталась уснуть, но сна не было, был лишь какой-то неясный полубред-полуявь, всплывающий из глубины подсознания, состоящий из обрывков фраз где-то, когда-то услышанных, осколков давних, забытых снов, картинок из той, прошлой жизни, перемешанных в беспорядке, словно карты на зелёном сукне. Так она и лежала, не смыкая глаз, пока серый, тусклый рассвет не разогнал эти бредовые тени.
Дождь почти прекратился, но не утих совсем, он, то усиливался, то вновь затихал, и Анне Павловне казалось, что эта осень плачет по невинным, погибшим, расстрелянным здесь, в этом городке в те далекие, страшные годы.
Анна Павловна встала, умылась, долго приводя себя в порядок перед зеркалом — ей не хотелось, чтобы её видели уставшей, осунувшейся после бессонной ночи, она должна выглядеть твёрдой, решительной, как всегда. Она оделась, вышла из номера, слегка кивнув на приветствие дежурной по этажу, и, решительным жестом растворив дверь гостиницы, окунулась в дождливое, зябкое утро. Она держалась прямо, горделиво, не прячась от ветра и дождя, а лишь слегка прикрываясь зонтом.
В сером здании, находившимся недалеко от площади, её уже ждали, дежурный выписал пропуск и показал кабинет, в котором её примут.
— Разрешите? — спросил она, открывая дверь кабинета.
— Входите, — ответил ей невысокий, лысоватый человек с выцветшими усталыми глазами и сморщенным, желтым лицом. Он представился Иваном Сергеевичем, бывшим сотрудником НКВД, ныне заведующим архивом.
Иван Сергеевич жестом указал ей на стул напротив себя, и сказал:
— Я знаю, мне звонили относительно Вас, просили. Просил человек, отказать которому я не могу, но не в этом суть. Я готов ознакомить Вас с материалами по делу Вашего отца, но подумайте — нужно ли это Вам? Подумайте хорошо.
Анна Павловна стиснула зубы, взгляд её стал жёстким и злым, сколько сил потрачено, неужели опять отказ?!
— Я уже подумала! Подумала хорошо! И не вижу причин, чтобы Вы отказали мне!
— Помилуйте, — ответил Иван Сергеевич, — я не отказываю Вам, просто предлагаю подумать, выдержите ли Вы всё то, что узнаете из этого деда? Вот оно, дело Вашего отца, его звали Савелий Игнатьевич, а Вы Павловна, почему?
— После того, как моего отца арестовали, а затем расстреляли как врага народа, мать сменила мне отчество, Павел — брат отца, мать не хотела, чтобы меня считали дочерью врага. Но потом, в пятьдесят шестом, моего отца реабилитировали.
— Знаю, знаю, реабилитировали, — ответил Иван Сергеевич и вздохнул, подумав: «Так реабилитированный Савл стал Павлом».
— Вот дело, возьмите, — он протянул Анне Павловне толстую папку, — пройдите в ту комнату и читайте, не торопитесь, я подожду.
Анна Павловна рывком выхватила папку из его рук, резко повернулась и гордой походкой направилась в комнату, на которую указал ей Иван Сергеевич. Она вошла, плотно закрыла за собой дверь, села, положив дело на стол перед собой, и открыла первую страницу.
Она с трудом узнавала человека, смотрящего на неё с фотографии, как не похож он был на того, на старом пожелтевшем снимке, который хранила она всю жизнь! Тот был уверенным, красивым, сильным, молодым, а здесь она видела измученного, усталого человека с пустым озлобленным взглядом. Она смотрела на фотографию, и слезы сами собой катились по её щекам, смотрела, не решаясь перевернуть страницу.
Иван Сергеевич ждал, сидел, временами постукивая карандашом по столу; прошёл час, другой, третий, наконец, она вышла, швырнула дело на стол, и со злостью сказала:
— Лучше бы Вы мне не давали это читать!
— Я предупреждал Вас.
— Но я же не знала! — возмущенно вскрикнула Анна Павловна.
— Да, Вы не знали. По доносам Вашего отца сажали и расстреливали невинных людей. Он был секретным сотрудником аппарата Ежова, «сексотом». Ну, а когда Ежова арестовали, то и ему пришлось ответить за свои грехи. Поверьте, он заслужил своё наказание.
— Но ведь его же реабилитировали! — возмущенно вскрикнула Анна Павловна.
— Да, реабилитировали, это Хрущев, у него у самого руки по локоть в крови. Сути дела это не меняет.
— Так, это всё правда? — поникшим голосом спросила Анна Павловна.
— Да, правда, — ответил тихо Иван Сергеевич.
— И как же мне жить теперь?
— Как жить? Честно, по совести.
В глуши северных лесов, где высокие сосны устремляют к небу свои верхушки, да серые скалы, поросшие мхами, омываются водами быстрых рек, жил старик-отшельник. Он выращивал на маленьком огороде злаки, дающие пищу, и молился Богу.
Третий день шёл путник по горным тропам, чтобы встретиться со стариком, спросить совета. Наконец пришёл он к горному озеру, на берегу которого, среди высоких сосен, стоял деревянный скит старика. Старик сидел на камне и смотрел вдаль, заметив путника, он подождал, пока тот приблизится, встал, поклонился ему в приветствии, и спросил:
— Приветствую тебя, путник, желаю здравия и благополучия. Что привело тебя в эти края, уделенные от мирской суеты? Долго ли идёшь? Куда путь держишь?
— Привет и тебе, старик, и тебе здоровья желаю. Иду я три дня, чтобы поговорить с тобой, совета мудрого твоего спросить.
— О чем спросить хочешь? Спрашивай. Что знаю, скажу, а чего не знаю, того и сказать не сумею.
— Скажи, как жить в мире, где слова потеряли смысл, где люди молятся Богу, строят церкви, но не живут по законам его? Где нелюди и бандиты богаты и почитаемы, а люди честные бедны и несчастны?
— А как жить ты хочешь, путник? — спросил, в свою очередь, старик.
— Хочу жить по справедливости, но не в бедности и нищете, а в достатке.
— А что есть справедливость, по-твоему? Что справедливо, что — нет, как поймешь ты?
Путник задумался, озадаченный вопросом старца, и отвечал:
— Если имеющий власть и силу подавляет того, кто не имеет ни силы, ни власти, — это не справедливо.
— А если имеющий власть прав, и подавляет он зло? На чьей стороне справедливость?
— Как могу я понять, где зло, где добро, если оно не проявлено?
— Значит, если сильный подавляет слабого, станешь ты на защиту слабого, не рассуждая о том, кто прав, кто виноват?
— Я стану на защиту слабого, в этом вижу я справедливость.
— А если проявится воля защищенного тобой, и злой окажется воля эта, как поступишь ты? Пожалеешь ли о своем поступке?
— Но ведь я поступил справедливо, защитив слабого? Почему я должен жалеть об этом?
— Потому, что не понял разницы ты между добром и злом, и стал на защиту зла.
— Но как понять, где зло, где добро, когда оно не проявлено?
Старик усмехнулся в седую бороду, и сказал:
— Христос учил, что нельзя зло одолеть насилием, ибо зло подавляемое, но не проявленное, вызывает сострадание тех, кто не имеет различения добра и зла, не видя последствий, и не умея предвидеть. И будут люди сострадать злу, и защищать зло, пока не проявит оно себя, и не поглотит защищающих его.
****************************************************
Серые, сырые, мрачные сумерки уступили место ночной непроглядной тьме. Низкие осенние облака быстро погасили эти унылые сумерки. Мелкий моросящий дождь покрывал брызгами лобовое стекло, и мерные взмахи стеклоочистителя убирали мутную пелену с глаз, открывая пространство, отвоёванное светом фар у ночной тьмы. Мокрая дорога плохо освещалась ближним светом, и только пунктирная, местами переходящая в сплошную, осевая линия позволяла удерживать машину на дороге. Мокрые обочины тонули во мраке, темные стволы деревьев и часть голых черных ветвей пролетали по обеим сторонам, и, казалось, кроны их сплетаются над самой дорогой. Ветер свистел, проникая холодом и сыростью в узкую щелку чуть приоткрытого бокового стекла.
Только на мгновение вырывали фары из тьмы небытия реальность мира, и вновь эта мимолетная реальность уходила в небытие ночи. Вся наша жизнь, как ночная дорога — будущее скрыто во тьме, лишь краткий миг настоящего мелькнет перед нами, чтобы навеки уйти в небытие. И никак не угадать нам, что скрыто там, за поворотом судьбы, да и сам поворот не разглядеть в непроглядной тьме.
А за поворотом, у самой обочины стояла легковая машина, видимо, иномарка, Грид не успел ничего сообразить, как задняя дверь машины открылась, из неё выпал человек, дверь захлопнулась, и машина рванула с места, быстро набирая скорость. Грид затормозил. Выскочил из машины и бросился к человеку на помощь. Помог подняться.
— Что с Вами? Вы целы?
Человек встал, отряхнулся, стер грязь с лица и ответил:
— Цел, всё в порядке.
— Садитесь в машину, я довезу Вас до больницы.
— Нет, мне не надо в больницу, у меня всё в порядке, довезите до города.
— Хорошо, садитесь.
Незнакомец расположился на заднем сидении, и Грид нервно тронул машину с места, выжимая всё, что можно, из своего старенького «вилса».
— Что произошло? — поинтересовался он.
— Бандиты, — ответил незнакомец, — бандиты мне попались. А Вас мне сам Бог послал, вижу, Вы человек порядочный. Спасибо Вам, если бы не Вы, не знаю, что и делал бы один на ночной дороге.
— Мы их, конечно, догнать не сможем, у них иномарка, но до поста полиции быстро доедем, сообщим о происшествии, Вы номер машины не запомнили?
— Не надо полиции. Сворачивайте в лес, там через триста метров поворот направо.
— Зачем в лес? Там дорога чёрт знает какая! Сейчас по трассе быстро до города доедем!
— Не поняли, что я сказал? Поворачивайте в лес!
Грид удивленно обернулся и увидел в руке незнакомца пистолет, направленный на него, выражение лица попутчика не предвещало ничего хорошего.
— Но я не понимаю, какого чёрта? — возмутился Грид.
— Снижайте скорость и поворачивайте направо!
Пришлось подчиниться, он снизил скорость и повернул вправо на проселочную дорогу, покрытую остатками асфальта многолетней давности и грязью.
— Может быть, Вы объясните, что всё это значит? — спросил Грид раздраженно.
— Это значит, что я использую Ваш автомобиль, и Вас. Будете выполнять всё, что скажу — останетесь живы. С ними мне не повезло, оказались бандитами, и машина угнана, мне такая компания не подходит, да и я им не подходил. Пришлось расстаться.
— Вы считаете, что Вы мне подходите?
— Это не имеет значения, главное, — что Вы подходите мне.
— Ничего себе! Я, можно сказать, спасаю человека, а он угрожает мне пистолетом. Да, если бы я не подъехал, они запросто могли бы Вас убить!
— Не исключено. Мне повезло, а Вам нет. Потому, слушайте, что говорю. Могли бы просто проехать мимо, как сделали бы это десятки других, и не было бы у Вас проблем.
— Ни один порядочный человек не проехал бы мимо.
— Вот именно, я сразу понял, что Вы порядочный человек. Потому не сомневаюсь, что Вы мне поможете. Я не вор и не грабитель, я выполняю важную миссию — я должен убить президента.
— Что? — возмущенно воскликнул Грид. — Убить президента Арконы? Законно избранного всего неделю назад? Что за бред Вы несете?
— Это не бред, и Вы не ослышались, я действительно должен убить президента Арконы. Люди из спецслужб сели мне на хвост. Пришлось добираться до города на попутках. С теми мне не повезло, а Вы мне вполне подходите. Если договоримся, оставлю Вас в живых, если нет, то лишние свидетели мне ни к чему.
Машина медленно ползла на второй передаче по разбитой, покрытой лужами и колдобинами дороге. Грид понял, что влип в какую-то страшную, нелепую историю. В покушение на президента верилось с трудом, город, куда они ехали, не был ни столицей, ни сколько-нибудь приметным промышленным центром, достойным внимания первого лица государства.
— Послезавтра президент посетит этот город, завтра оцепят всё так, что и муха не пролетит, а сегодня мы ещё можем прорваться, но не по главной дороге, а по той, на которой нет постов полиции, то есть, по этой. Если вдруг на въезде в город, или в городе будет проверка документов, скажете, что я Ваш родственник, если спросят, разумеется.
— А потом, в городе, Вы меня отпустите?
— Нет. Вы будете со мной до конца выполнения моей миссии, и поможете мне.
— Но как? Как я должен Вам помочь?
— Посмотрим. По обстоятельствам. Во-первых, нет гарантии, что Вы не заявите обо мне в соответствующие органы, если я Вас отпущу, а во-вторых, мне нужна машина, лучше, когда водитель с настоящими документами.
****************************************************
Путник опустился на камень подле старца и задумчиво смотрел вдаль. Он повернулся к старцу и спросил:
— Что нужно, чтобы различить добро и зло? Если дать проявиться злу, то различение может прийти слишком поздно.
— Различение добра и зла зависит от того, какой смысл видишь ты в жизни этой. То, что является добром для одних, может оказаться злом для других, — отвечал старец.
— Смысл жизни? Но как найти его? Если у каждого свой смысл, то у всех разное понятие о добре и зле.
— Смысла жизни только два: или ты признаешь господина над собой, и верно служишь ему, как раб, и можешь иметь и своих рабов, и тогда смысл жизни в служении господину твоему; или ты свободен, и не признаешь над собой никакого господина, кроме Бога, и никого не можешь сделать рабом своим, ибо все люди от рождения свободны, и тогда смысл жизни в служении Богу.
— Но в мире существуют господа и рабы, так установлено Богом, и человек — раб Божий. Так написано в книгах святых.
Старец погладил седую бороду, показал рукой на скалы, воды озера и тёмные леса вдали, и произнес:
— Видишь ли ты скалы эти, леса и озёра, эти синие небеса?
— Вижу, — ответил путник.
Всё это — природа, и наполнена она птицами небесными, рыбами речными, морскими и зверями лесными. Скажи, кто из них раб, кто господин? Бог создал этот мир, и не поставил одного над другим, а всем дал свободу. Человеку же, дал он разумение и волю устраивать жизнь свою по разумению своему. И когда человек захотел иметь рабов себе, то себя объявил рабом Божьим, и записал это в книгах святых, но не во всех книгах так написано. В Коране сказано: «…приходите к слову равному для нас и для вас, (…) чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Бога»
— Но Коран — не наша вера, — возразил путник, — мы веруем во Христа, господа нашего, и только эта вера истинна на Земле.
— Но мусульманин скажет тебе, что истинна его вера, как возразишь ты ему? Бог един для всех, он выше Библии и выше Корана, он выше всех верований на Земле. То же говорил и Христос, он велел не делать себе кумиров, а люди сделали кумиром его.
**************************************************
Дорога, на которую попутчик заставил Грида свернуть, была давно заброшена, по ней никто не ездил с той поры, как построили новую, покрытие местами разрушилось, а кроны деревьев сплелись над ней, образую туннель.
— Скажите, а для чего Вам нужно убивать президента? — раздраженно спросил Грид.
— А Вам нравится мир, в котором слова потеряли смысл, где люди молятся Богу, строят церкви, но не живут по законам его? Где нелюди и бандиты богаты и почитаемы, а люди честные бедны и несчастны? Мир, в котором люди разделены на господ и рабов? Вам нравится такая страна, такая власть? — Ответил вопросом на вопрос попутчик.
— Нет, мне такой мир не нравится, и власть такая мне не нравиться, но неужели, для того чтобы изменить мир, нужно непременно кого-то убивать?
— А Вы знаете другой способ? Знаете, как сделать, чтобы богатые добровольно отказались от своего богатства, и раздали всё бедным? Чтобы господа дали свободу рабам?
— Не знаю я такого способа, но не думаю, что убив президента, можно изменить мир к лучшему. Президента избрал народ, значит, он возлагает на него определенные надежды. Проблему нужно решать демократическим путем.
— Демократическим путем? — попутчик рассмеялся. — Да, знаете ли Вы, что такое демократия? Демократия — это игрушка для дураков. Народ никого и ничего не выбирает, у народа просто нет выбора. Людям задурили головы, им предлагают выбор между одной ложью и другой, правда недоступна народу.
— А Вы предлагаете людям правду? И где ваша правда? В стволе пистолета? Думаете, примет вашу правду народ? Насилие, кровь и смерть — вот ваша правда!
— Да, в этом наша правда, в насилии, в насилии над теми, кто довёл страну до полного развала, а народ её до полной деградации. Только насилие — и другого способа нет!
— Христос считал по-другому, он учил, что нельзя насилием одолеть зло, зло сотворенное в ответ, порождает новое зло.
— Христос? Да, Христос учил так, но был еще и Варавва. Он считал, что только вооруженным путем можно избавиться от римского владычества, и народ пошел за ним. «Отпусти нам Варавву» — вот слова народа! Народ верит в силу, и пойдет за силой, а не за тем, кто проповедует мир и смирение.
********************************************************
Путник сидел на камне напротив старца и смотрел, как ручей тихо и спокойно бежал под скалой, пробивая себе дорогу среди камней, подтачивая и дробя камни, лежащие на его пути. Речь старца текла так же тихо и спокойно, как этот ручей, прокладывая путь истине к душе путника.
— Христос пришёл, чтобы изменить мир, — сказал путник, — но и после него мир не стал лучше, ведь ничего не изменилось с той поры. Всё также мир разделен на господ и рабов, всё те же пороки присущи ему, и кто же может изменить мир, если и Христос не смог этого сделать?
— Один человек, даже если он посланник божий, не может изменить мир. Мир могут изменить люди, но для этого, они должны изменить себя. Христос учил людей, как жить, для того, чтобы мир изменился, он нёс людям истину, но ноша эта оказалась слишком тяжела для них, и тогда они предпочли Варавву.
— Варавва был разбойник, почему люди требовали отпустить его?
Ветер стих, и ветви деревьев застыли, взметнувшись к небу, и птицы умолкли, в ожидании ответа старца, и облака повисли, остановив свой бег, и только ручей всё так же бежал меж камней, падая со скалы в озеро, поднимая мириады брызг, искрящихся в солнечных лучах, рождая радугу, встающую над озером волшебным мостом между двумя мирами. Старик посмотрел на путника, и сказал:
— Я расскажу тебе историю Вараввы. Многие из людей читали Библию, многие знают на память строки священного писания, но не все разумеют смысл, что открыт, и что сокрыт в строках. Но не только Библия несет истину, нужно прочесть много книг, чтобы открылся тебе смысл сокровенного знания. Имеющий уши, да услышит, имеющий разумение, да поймет. Варавва, Вар Авва, означает — сын божий, а имя его было Иисус, так же, как и имя Христа.
Христос и Варавва хорошо знали друг друга, они были родственниками, хотя и дальними: оба происходили из рода царя Давида, но Варавва происходил от рода Соломона, сына Давида и Вирсавии, а Христос — из рода Нафана, второго их сына. Варавва был на двенадцать лет старше Христа, и отца его звали Иосифом, а мать Марией, но Варавва был внуком Иакова, а Христос — внуком Илии. Когда родился Иисус Варавва, по всей земле иудейской прошел слух, что родился царь Иудейский, который поднимет народ на борьбу и сметет римское владычество. Три волхва пришли поклониться ему, вождю, который поведет народ за собой. Тогда Ирод Великий призвал волхвов тех к себе, чтобы узнать, где родился царь Иудейский, но не открыли ему волхвы места рождения вождя, и повелел Ирод предать смерти всех младенцев, родившихся в тот год в Иудее.
Семья Вараввы бежала в Египет от гнева Ирода, и находилась там, пока не умер владыка Иудеи. Когда же родился Христос, поклониться ему пришли простые пастухи. Варавве исполнилось четырнадцать лет, и мать его, Мария, умерла от тяжелой болезни, отец был слишком стар и немощен, и семья Иисуса Христа приютила своего дальнего родственника. Несмотря на разницу в возрасте, между Христом и Вараввой постоянно возникали споры, Варавва считал, что лишь мечом можно добиться справедливости и свободы, Христос же убеждал брата в том, только любовь может спасти мир. «Не мир пришел я принести, а меч» — то были слова Вараввы, а не Христа. Знал он, что не все поддержат его в борьбе, и возникнет гражданская война на земле Иудейской. «И поднимется брат на брата, и сын на отца» — так говорил он, и так случилось, но возглавил восстание не он, — Варавву распяли.
Путник удивленно смотрел на старца, всё, что говорил тот, противоречило его представлениям о том, произошло на земле Иудейской две тысячи лет назад.
— Но ведь народ просил: «Отпусти нам Варавву», и Понтий Пилат подчинился воле народа, хотя и не находил вины Иисуса Христа, — возразил он старцу.
— Понтий Пилат не спрашивал у народа совета, как ему поступить, он никогда не считался с народом покоренной земли. То, что написано в Евангелии, — притча, притча о выборе. Христос предлагал народу свободу, а знаешь ли ты, что такое свобода? Не вседозволенность заключена в понятии свободы, а великая ответственность за дела и за мысли свои, ответственность перед Богом, перед совестью. Идти за вождем проще — всю ответственность за поступки свои люди возлагают на тех, кто ведёт их, кому вверили они судьбы и надежды свои, а если вожди не оправдывают этих надежд, пусть даже и по вине народа — народ распинает их, тех, кого боготворил, из кого создал кумира, перед кем преклонялся. И всю вину за дела свои он взваливает на них, поверженных кумиров. Так проще жить. Ответственность — вот крест, который нес Христос, и который предлагал он народу, но слишком тяжким оказался этот крест для людей, и они предпочли Варавву.
********************************************************
Лес заканчивался, появились предместья города, дорога становилась шире, колдобины местами уже покрывали латки асфальта. Грид остановил машину и сказал попутчику:
— Всё. Я дальше не поеду. Хотите, можете застрелить меня, но я не желаю участвовать в преступлении. Пусть оно будет на совести членов организации, которую Вы представляете.
— Я не представляю никакую организацию, я сам по себе, я человек, у которого есть совесть и чувство долга. А Вы не хотите брать ответственность на себя. Ведь и Вы ничего хорошего не ждёте от нынешней власти, и вовсе не против того, что кто-то устранит эту власть, кто-то, но не Вы. Даже выбор между жизнью и смертью Вы готовы сделать так, чтобы не брать ответственность на себя. Пусть другие отвечают за то, что происходит в этой стране, за то, что происходит в этом мире, а Вы будете брюзжать, поносить эту власть последними словами, но ничего не предпримите, чтобы изменить этот мир, изменить ситуацию в стране. И если те, другие, добьются успеха, Вы будете говорить, что всегда думали так же как и они, всегда были на их стороне, а если они погибнут в неравной борьбе, то Вы за чашкой кофе будете рассуждать о бессмысленных жертвах, но никогда ничего не предпримите, чтобы поддержать их, либо воспрепятствовать им.
И если бы не случайный попутчик встретился Вам, а авторитетный лидер, за которым идет большинство, то Вы бы непременно пошли за ним. Пошли бы, потому, что он берет всю ответственность на себя. А когда дело, которому он служил, не будет иметь успеха, либо когда другой вождь, взяв ответственность на себя, устранит прежнего вождя, Вы будете распинать его. Вы будете поносить того, кого ещё вчера считали своим кумиром, Вы взвалите на него, поверженного кумира, всю свою вину, и всю ответственность за то, что натворили.
И чем же Вы лучше тех, кто две тысячи лет кричал на площади: «Распни его, распни!»? Нет, я не буду Вас убивать, это было бы слишком просто, я оставлю Вас Вашей совести.
Дождь стучал по крыше автомобиля, капли его стекали по ветровому стеклу, искажая пространство, и в этом тёмном, искаженном водой пространстве, едва угадывались силуэты одноэтажных домов предместья. Огни в окнах ещё не горели, лишь одинокий фонарь на столбе раскачивался под ветром метрах в ста впереди машины, где-то протяжно и тоскливо выл пёс.
— Значит, Вы маньяк-одиночка, — сказал Грид, — один, с заржавленным пистолетом против всего мирового зла? На что Вы надеетесь? Что после Вашего выстрела за Вами пойдет народ?
— Да, я одиночка, но вовсе не маньяк. Я знаю, что люди не пойдут вслед за мной тут же, знаю, но знаю и то, что выстрел мой отзовется в сердцах людей. Герой-одиночка прокладывает путь массам, это путь борьбы, путь Вараввы. И другого пути нет.
— Я верю, что есть и другой путь, но народ сам должен сделать свой выбор. Нельзя насильно провести народ к счастью, свобода выбора — вот что главное.
— Свобода выбора? — попутчик рассмеялся. — Это самое великое заблуждение. Никакой свободы выбора нет. В самом этом словосочетании заключен обман. Выбор люди делают на основании критерия, а критерий этот в них вкладывают с самого детства: система образования, развлечения, информация с экранов телевизоров, сериалы, и всё прочее. Людям навязывают те представления о добре и зле, которые выгодны тем, кто управляет миром. А потом людям дают свободу выбора, но никакой свободы нет, критерий выбора уже определен, и те, кто управляет миром, знают, что выберут люди, потому и предоставляют им эту мнимую свободу.
Грид завел двигатель, включил фары и, смахнув щетками стеклоочистителя пелену воды со стекла, вновь повёл машину по грязной, мокрой дороге.
— Ладно, идите, прокладывайте свой путь, — сказал он попутчику, — но я в этот путь не верю, помните, куда привел народ иудейский путь Вараввы? Государство, за свободу которого он боролся, просто перестало существовать.
Серое, дождливое утро устало ползло над городом, когда Грид с попутчиком въехали туда. Город ежился поднятыми воротниками прохожих и колючками зонтов, заслоняясь от монотонного, холодного бесконечного дождя. Серые, промокшие стены домов уныло смотрели сквозь перечёркнутое косыми полосами пространство. На какой-то грязной, покрытой разбитым булыжником улице попутчик попросил Грида остановить машину.
— На этом я прощаюсь с Вами. Вы свободны, делайте, что хотите, — сказал он.
— А, не боитесь, что я обращусь в полицию? — спросил Грид.
— Это уж, как подскажет Вам Ваша совесть, не могу же я лишать Вас свободы выбора, — усмехнулся попутчик, — Вы же считаете, что это главное, что ж, делайте свой выбор.
Захлопнув дверцу автомобиля, он растворился в сером, пронизанном дождем и ветром пространстве. Грид не знал, как ему поступить, ещё два часа назад, он непременно пошел бы в полицию, но сейчас он сомневался, свободен ли он в своем выборе? Возможно, попутчик прав? И его, Грида, критерий выбора, ложен? Нет, он не разделял взглядов своего случайного попутчика, он не мог даже представить себе, что этот безумный террористический акт может изменить судьбу страны и его народа. Но стоило ли идти в полицию? По закону он должен, непременно должен сообщить полиции о готовившемся покушении, а по совести? Измученный бессонной ночью он не мог принять правильное решение и, отыскав гостиницу, попросил отдельный номер на три дня. Оставив машину на стоянке, во дворе гостиницы, он поднялся в свой номер, на второй этаж и, не раздеваясь, лег на кровать. Проснулся Грид вечером, который ничем не отличался от мрачного серого утра, все так же шёл дождь, тускло горели фонари, не добавляя света к вечерним сумеркам. В полицию Грид так и не пошёл, не пошёл он туда и на следующее утро.
А через день, когда всё так же шел дождь, кортеж президента двигался по одной из улиц города, Грид стоял в толпе зевак и смотрел, он видел, как от толпы отделился человек, вышел на середину дороги и вытянул руку с пистолетом в сторону президентского кортежа, откуда-то раздалась автоматная очередь, человек упал, а президентский кортеж, не сбавляя скорости, промчался мимо. Толпа рассеялась, а на дороге так и осталось лежать окровавленное, пробитое пулями тело попутчика, имя которого Грид так и не успел узнать.