Книга: Полное собрание сочинений в одном томе

Полное собрание сочинений в одном томе
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 году и в 1903 году. В первый раз автор родился под видом Ильи Ильфа, а во второй раз – Евгения Петрова.
Оба эти события произошли в городе Одессе.
Таким образом, уже с младенческого возраста автор начал вести двойную жизнь. В то время как одна половина автора барахталась в пеленках, другой уже было шесть лет и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень. Такое двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве.
Илья Ильф родился в семье банковского служащего и в 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию – стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.
Евгений Петров родился в семье преподавателя и в 1920 году окончил классическую гимназию. В том же году сделался корреспондентом Украинского телеграфного агентства. После этого в течение трех лет служил инспектором уголовного розыска. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. В 1923 году Евг. Петров переехал в Москву, где продолжал образование и занялся журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах. Выпустил несколько книжечек юмористических рассказов.
После стольких приключений разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман «Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве.
В таких случаях авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично.
После «Двенадцати стульев» нами выпушены в свет – сатирическая повесть «Светлая личность» и две серии гротескных новелл: «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада».
Сейчас мы пишем роман под названием «Великий комбинатор» и работаем над повестью «Летучий голландец». Мы входим в недавно образовавшуюся литературную группу «Клуб чудаков».
Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924, а Евгений Петров в 1929 году.
Илья Ильф, Евг. Петров
Сочинено 25 июля 1929 г. Москва
Мы начали работать вдвоем в 1927 году случайно. До этого каждый из нас писал самостоятельно. Это были маленькие рассказы, фельетоны, иногда даже весьма сомнительные стихи. Когда мы стали писать вдвоем, выяснилось, что мы друг к другу подходим, как говорится, дополняем один другого. Выяснилось еще одно обстоятельство. Писать вдвоем труднее, сложнее, чем одному. Но зато, как нам кажется, для нас лично это оказалось плодотворнее. Мы не можем рекомендовать такого способа работы как обязательно дающего хорошие результаты. Но в отношении себя мы убеждены, что каждый из нас в отдельности писал бы хуже, чем мы пишем сейчас вдвоем. Что касается метода нашей работы, то он один. Что бы мы ни писали – роман, фельетон, пьесу или деловое письмо, мы все это пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом. Вместе ищется тема, совместными усилиями облекается она в сюжетную форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения тщательно выбираются из общего котла, и вместе пишется каждая фраза, каждое слово. Разумеется, каждый шаг работы подвергается взаимной критике, критике довольно придирчивой, но зато нелицемерной, не допускающей компромиссов и приятельских одолжений. Даже эту маленькую заметку мы составляем сейчас совместно. И так как мы уже говорили, что писать вдвоем трудно, то мы на этом и заканчиваем.
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Старгородский лев
Безенчук и «Нимфы»
В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.
Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.
По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:
ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.
Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.
В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул ноc в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он – вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.
– Бонжур! – пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года – не шутка и что погода нынче сырая.
Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще – Клавдии Ивановне.
– Эпполе-эт, – прогремела она, – сегодня я видела дурной сон.
Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.
Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.
Клавдия Ивановна продолжала:
– Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.
От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.
– Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.
Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волоc на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:
– Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?
Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голоc у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того – что было самым ужасным, – Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый уc был похож на кисточку для бритья.
Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.
У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
– Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. – С добрым утром!
Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.
– Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?
– Мр-мр-мр, – неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
– Ну, дай бог здоровьечка, – с горечью сказал Безенчук, – одних убытков сколько несем, туды его в качель!
И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.
У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.
Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.
– Здорова, здорова, – ответил Ипполит Матвеевич, – что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне.
Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.
Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело – и уходи», показывали пять минут десятого.
Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.
Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.
За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело – и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.
– Товарищ, – сказала она, – где тут…
Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:
– Сочетаться!
Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.
– Рождение? Смерть?
– Сочетаться, – повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.
Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», – и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.
– Молодые люди, – заявил Ипполит Матвеевич выспренно, – позвольте ваc поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!
Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.
За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.
Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.
Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади.
Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться.
– Ну, вот-с, – иронически сказал Ипполит Матвеевич, – вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки… Ну, а дальше что?
– Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью… Ну, вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку… Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.
Ипполит Матвеевич раздраженно хмыкнул:
– Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?
– Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый «гусь» запрятан, четвертуха вина…
Сапежников захохотал, обнажив светлые десны.
– Вчетвером целого «гуся» одолели и легли спать, тем более – на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное… Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем – не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая – вином торгует…
– Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?
– А тогда ж и охотились… Что с Григорий Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю… И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, – говорит, – ребята, я сейчаc еще кой-чего довезу». Ну, и довез, конечно. И все сороковками – других в «Молоте» не было. Даже собак напоили…
– А охота?! Охота! – закричали все.
– С пьяными собаками какая же охота? – обижаясь, сказал Сапежников.
– М-мальчишка! – прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.
Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.
Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.
В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке и в тулупе с косматым воротником. Под мышкой он осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном холщовом переплете. Застенчиво стуча своими слоновыми сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.
– Здорово, товарищ, – густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ, – товарищ начальник до ваc прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.
Бумага была такого содержания:
«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына – Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока. Замначальника умилиции Перервин».
Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя умилиции.
От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.
Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.
– Почет дорогому гостю, – улыбнулся Ипполит Матвеевич. – Что скажешь?
Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.
– Ну? – спросил Ипполит Матвеевич более строго.
– «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует…
– Чего? – спросил Ипполит Матвеевич.
– Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я – фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб – огурчик, отборный, любительский…
– Ты что же это, с ума сошел? – кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. – Обалдеешь ты среди гробов.
Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.
– Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.
Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее.
Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.
Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.
При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:
– Уступлю за тридцать два рублика.
Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.
– Можно в кредит, – добавил Безенчук.
Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.
Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.
Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:
– Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.
– Я не стучу, – покорно ответил Ипполит Матвеевич. – Что же случилось?
Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:
– Сильнейший сердечный припадок.
И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:
– Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю – дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее…
Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.
Кончина мадам Петуховой
Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».
Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.
– Клавдия Ивановна! – позвал Воробьянинов.
Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.
– Клавдия Ивановна, – повторил Воробьянинов, – что с вами?
Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.
В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.
– Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что – сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почем пузыри для льда.
Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.
До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.
Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:
– Путаются, туды их в качель, под ногами.
Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».
Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».
– Современная наука, – говорил Андрей Иванович, – дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, – не знаю, правда это или неправда, – на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.
Граждане протяжно вздохнули.
– Это ты, Андрей, малость перехватил…
– Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!
Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусиc даже разнервничался:
– Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей! Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.
Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.
– Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.
– Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает.
– А доктор что говорит?
– Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!
«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:
– Теперь вся сила в гемоглобине.
Сказав это, «Пьер и Константин» умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.
Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство.
Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.
В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был чаc ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.
Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.
Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.
– Так как же прикажете, господин Воробьянинов? – спросил мастер, прижимая к груди картуз.
– Что ж, пожалуй, – угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.
– А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! – заволновался Безенчук.
– Да пошел ты к черту! Надоел!
– Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?
– Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?
Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.
На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? – подумал Ипполит Матвеевич. – На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».
Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.
Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.
– Ипполит, – прошептала она явственно, – сядьте около меня. Я должна рассказать вам…
Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.
– Ипполит, – повторила теща, – помните вы наш гостиный гарнитур?
– Какой? – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.
– Тот… Обитый английским ситцем…
– Ах, это в моем доме?
– Да, в Старгороде…
– Помню, отлично помню… Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская… А почему вы вспомнили?
Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.
Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:
– В сиденье стула я зашила свои брильянты.
Ипполит Матвеевич покосился на старуху.
– Какие брильянты? – спросил он машинально, но тут же спохватился: – Разве их не отобрали тогда, во время обыска?
– Я спрятала брильянты в стул, – упрямо повторила старуха.
Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.
– Ваши брильянты! – закричал он, пугаясь силы своего голоса. – В стул! Кто ваc надоумил? Почему вы не дали их мне?
– Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? – спокойно и зло молвила старуха.
Ипполит Матвеевич сел и сейчаc же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.
– Но вы их вынули оттуда? Они здесь?
Старуха отрицательно покачала головой.
– Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.
– Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! – закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.
И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.
– Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?
Старуха ничего не ответила.
У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.
– Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..
Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчаc же упала на стеганое фиолетовое одеяло.
Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.
– Умирает, кажется!
Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.
Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.
В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.
Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.
– Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, – сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. – Гроб – он работу любит.
– Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик.
– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее – та, считается, богу душу отдает…
– То есть как это считается? У кого это считается?
– У наc и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
– Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
– Я – человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут, – и строго добавил: – Мне дуба дать или сыграть в ящик – невозможно: у меня комплекция мелкая… А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?
Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.
Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.
Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:
Нашему брандмейстеру слава,
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..
– На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гуляли, – равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. – Так неужто без глазету и без всего делать?
Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, – решил он, – найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:
– Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!
«Зерцало грешного»
Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.
Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».
Матушка присела на стул и боязливо зашептала:
– Новое дело затеял! Опять как с Неркой кончится.
Неркой звали суку, французского бульдога, которую отец Федор купил за двадцать рублей на Миусском рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобелем секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям.
При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом – манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст.
Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства.
Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястья египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собой три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху. Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.
Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки.
Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пеc Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с нечистыми намерениями.
Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» – и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пеc не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Отец Федор бросился спасать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах.
Дома произошла большая тяжелая сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии.
Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна лишь маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой, черный, пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразным хвостом рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также по утрам, дням и вечерам под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окно и жалобно подвывая.
Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее щенки из третьей серии (их было двенадцать) оказались вылитыми Марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовали только кривые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном постоянном доходе.
Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.
Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.
Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчаc же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.
Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.
Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины – Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.
Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод.
Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.
Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.
– Дай мне, мать, ножницы поскорее, – быстро проговорил отец Федор.
– А ужин как же?
– Ладно. Потом.
Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме.
Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами – дело пустое.
Сейчаc отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне.
Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.
Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:
– Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.
Матушка от удивления даже руки назад отвела.
– Что же ты над собой сделал? – вымолвила она наконец.
– Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось…
– Господи, – сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, – неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?
Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.
– А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что – не люди?
– Люди, конечно, люди, – согласилась матушка ядовито, – как же: по иллюзионам ходят, алименты платят…
– Ну, и я по иллюзионам буду бегать.
– Бегай, пожалуйста.
– И буду бегать.
– Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.
И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.
Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.
Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.
– Никуда не пойду! – заявила матушка и заплакала.
Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.
– Не бросаю, – твердил отец Федор, – не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?
– Не может, – говорила попадья.
Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.
Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», – и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было.
Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток – все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.
Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.
– На хозяйство хватит, – решил он.
Муза дальних странствий
За чаc до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки.
Агент ОДТГПу медленно прошел по залу, утихомирил возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал I и II класса, играя на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава».
Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, давал мелкую сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей.
Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.
Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.
Интересная штука – полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.
C той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчаc же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он – пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.
Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами.
Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голоc докладывает следующий анекдот:
– Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» – еврей спрашивает еле-еле. «Здесь». – «А тетя Брана пришла?» – «Пришла». – «А где бабушка? Я ее не вижу». – «Вот она стоит». – «А Исак?» – «Исак тут». – «А дети?» – «Вот все дети». – «Кто же в лавке остался?!»
Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» – c трудом завладевает вниманием и начинает:
– Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит – под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я».
Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.
Интересная штука – полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь – путь свободен. Полярный экспресc подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый-К», прокладывая путь на Тифлис.
Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.
Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.
Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек.
На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.
Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брандмейстера «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, не достижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар – прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.
– Как вам нравится Шанхай? – спросил Липа Ипполита Матвеевича. – Не хотел бы я теперь быть в этом сеттльменте.
– Англичане ж сволочи, – ответил Ипполит Матвеевич, – так им и надо. Они всегда Россию продавали.
Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря: «А кто Россию не продавал?» – и приступил к делу.
– Что вы хотели?
– Средство для волос.
– Для ращения, уничтожения, окраски?
– Какое там ращение! – сказал Ипполит Матвеевич. – Для окраски.
– Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.
Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.
– Они скоро всю Хэнань заберут, эти кантонцы, – сказал на прощанье Липа. – Сватоу, я знаю, а?
Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.
После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда.
Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.
Прошлое регистратора загса1
На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества.
В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа:
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ
ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ
10 арабов!
Величайший феномен XX века Стэнс
Загадочно! Непостижимо! Чудовищно!!!
Стэнс – человек-загадка!
Поразительные испанские акробаты
И нас!
Брезина – дива из парижского театра
Фоли-Бержер!
Сестры Драфир и другие номера
Сестры Драфир – их было трое – метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:
Пред вами мы, как птички,
Легко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.
Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:
Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Наc знает каждый всяк —
И умный и дурак.
Отчаянный пляc и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдейным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по два рубля с персоны».
На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека, лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой.
Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки попьет. Жаркое – цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна д’Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам – живые цветы». Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены, их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»
Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина, с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера – бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.
– Отдай все – и мало! – кричал Ангелов страшным голосом.
Гласный городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из «Фоли-Бержер», поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл туш.
В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор – первый обернувшийся ко входу – сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.
– Извините, ваше высокоблагородие, – дрожащим голосом говорил околоточный, – но по долгу службы…
Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.
– Голубчик! Ипполит Матвеевич! – закричал он. – Орел! Дай я тебя поцелую.
– По долгу службы, – неожиданно твердо вымолвил околоточный, – не дозволяют правила!
– Что-с? – спросил Ипполит Матвеевич тенором. – Кто вы такой?
– Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.
– Господин Юкин, – сказал Ипполит Матвеевич, – сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели. А теперь по долгу службы делайте что хотите.
И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.
Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:
«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то – сенсация!
И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:
– Влиятельные лица!!!»
Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» – и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.
В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина Принца Датского прибыть в канцелярию градоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.
Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:
– Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.
Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ:
– Т-т-т-так я же в‐в-в-ообще з-аикаюсь!
Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.
Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.
Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне.
На девятом году мальчика определили в приготовительный класc Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей: пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.
О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвея Александровича сын. Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.
В Старгороде было две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем. За это в свою очередь они получили обидное прозвище «баклажан». Не один карандаш принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки мстительных баклажан. Озлобленные карандаши устраивали на баклажан-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. Баклажан-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе.
Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную.
Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам, с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела.
В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом, Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.
– А фикуc ты можешь поднять? – с почтением спросил Ипполит.
– Ого! – ответил силач Савицкий.
– А ну, подними!
Савицкий сейчаc же начал трудиться над фикусом.
– Не подымешь! – шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.
Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.
Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиною налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.
– Что же теперь будет, Воробьянинов? – спросил Савицкий.
– Это не я разбил, – быстро ответил Ипполит. Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить ноc на прежнее место. Ноc не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил ноc в дыре.
Во время «греческого» в третий класc вошел директор «Сизик». Сизик сделал греку знак оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.
– Гошпода, – заявил он, – кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?
Класc молчал.
– Пожор! – рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах.
Зубрилы преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.
– Пожор! – повторил директор. – Имейте в виду, гошпода, что, ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вешь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.
Третий класc не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх.
Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.
– Сизик врет, – говорил Савицкий грустно, – пугает. Нельзя всех оставить на второй год.
Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.
– А мы-то за что? – кричали зубрилы, преданно глядя на грека.
– Ну, дети, дети, дети! – взывал грек.
Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.
Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим тебя, создателю», – икая от горя.
После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.
На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.
Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.
В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логику», «Христианское нравоучение» и легкую венерическую болезнь.
Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.
Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.
Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским Аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.
На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора – Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:
…Сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.
Секретарь суда грешил стишками.
«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.
– Разришиты стаканчик шенпански! – сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.
Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.
Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые, парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:
– Бедные дети не забудут вашей щедрости.
Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.
С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.
На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати», – и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу-жену.
Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным – он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.
Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.
Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, – ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесc не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое Министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой – розового и наглого Воробьянинова.
Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.
Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на ноc Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.
– Кто горит, Михайла? – спросил Ипполит Матвеевич кучера.
– Балагуровы горят. Вторые сутки.
Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:
– Ваня! Дай-ка французскую лестницу.
Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.
– Так он и пять суток гореть будет, – гневно сказал Ипполит Матвеевич. – Тоже… Париж!
C Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.
Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» – «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованc родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко», – баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.
Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека.
Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.
Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по Министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.
Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.
– Ну, как твой скелетик? – нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.
Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.
– Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна… А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!
C годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.
От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкуси».
После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.
К этому времени Воробьянинова стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:
– Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!
Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.
Столы были расставлены полумесяцем. В центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувший уже с утра и ослепленный магнией бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.
Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:
– Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте ваc поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!
Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.
В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.
Был 1913 год.
Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку. Жизнь била ключом.
На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны – ландышами. Началась первая приветственная речь:
– Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве…
После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:
Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.
Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.
Два молодых человека – двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника Министерства иностранных дел Далматов познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.
В кинематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в трех частях из русской жизни: «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).
Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.
В старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:
Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас, —
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?
Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили в пролетках к Стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.
На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.
В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замышлял новое путешествие за границу.
Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.
Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, кровли Парижа, темный лак и сиянье медных кнопок международного вагона, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного «каганца», сыпнотифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело – и уходи» в канцелярии загса уездного города N.
Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчаc сидеть и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.
Великий комбинатор
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
– Дядя, – весело кричал он, – дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:
– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.
Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.
«О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» – запел он, подходя к привозному рынку.
Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:
– Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.
Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.
К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.
– Сама меряет, – сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, – было бы что мерить.
Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской
СССР, РСФСР
2-й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАРГУБСТРАХА
молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.
– А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у ваc в городе есть?
Старик дворник ничуть не удивился.
– Кому и кобыла невеста, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
– Больше вопросов не имею, – быстро проговорил молодой человек.
И сейчаc же задал новый вопрос:
– В таком доме да без невест?
– Наших невест, – возразил дворник, – давно на том свете с фонарями ищут. У наc тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.
– Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?
– Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.
– А в этом доме что было до исторического материализма?
– Когда было?
– Да тогда, при старом режиме.
– А, при старом режиме барин мой жил.
– Буржуй?
– Сам ты буржуй! Сказано тебе – предводитель дворянства.
– Пролетарий, значит?
– Сам ты пролетарий! Сказано тебе – предводитель.
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.
– Вот что, дедушка, – молвил он, – неплохо бы вина выпить.
– Ну, угости.
На чаc оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.
– Так я у тебя переночую, – говорил новый друг.
– По мне, хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, – говорил он, – был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.
Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.
Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.
А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина: «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.
Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР.
Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт, нечистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина – голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.
– Не будет того эффекта! – произнеc Остап вслух.
Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:
– Полицмейстер ему честь отдавал… Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением – трешку дает… На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь… Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит… Медаль даже обещался мне представить. «Я, – говорит, – хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью…»
– Ну и что, дали?
– Ты погоди… «Мне, – говорит, – дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, – говорят, – в заграницу уехал, сейчаc невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, – говорит, – Тихон, жди, без медали не будешь».
– А твоего барина что, шлепнули? – неожиданно спросил Остап.
– Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть… А теперь медали за дворницкую службу дают?
– Дают. Могу тебе выхлопотать.
Дворник с уважением посмотрел на Бендера.
– Мне без медали нельзя. У меня служба такая.
– Куда ж твой барин уехал?
– А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.
– А!.. Белой акации, цветы эмиграции… Он, значит, эмигрант?
– Сам ты эмигрант… В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали… Их хоть каждый день поздравляй – гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..
В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.
На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.
– Барин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа!
Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчаc увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.
– У наc хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.
– Здравствуй, Тихон, – вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, – я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?
Но Остап Бендер, длинный благородный ноc которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.
– Отлично, – сказал он, кося глазом, – вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку.
Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль.
Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.
Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:
– Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слыхали?
– Не слышал, – нервно ответил Ипполит Матвеевич.
– Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме…
– Что за чепуха! – воскликнул Ипполит Матвеевич. – Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из…
– Чудно, чудно! Из Моршанска.
Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.
– Ну, знаете, я пойду, – сказал он.
– Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.
Ипполит Матвеевич не нашелся что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.
– Я ваc не понимаю, – сказал он упавшим голосом.
– Это не страшно. Сейчаc поймете. Одну минуточку.
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:
– Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены – с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит – дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит… А вы тоже через польскую границу переходили?
– Честное слово, – вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам, – честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт…
– При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить… Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.
Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков брильянтов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда – всему конец, а может быть, еще посадят.
– Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал Ипполит Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант.
– Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.
– Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант.
– А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?
– Ну, приехал из города N по делу.
– По какому делу?
– Ну, по личному делу.
– И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал…
Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.
– Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню.
«В конце концов, без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».
Брильянтовый дым
Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи.
В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:
– Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся…
А уже через чаc оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:
– Три нитки жемчуга… Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая – в сто десять. Брильянтовый кулон… Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы…
Дальше шли кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми брильянтами; тяжелые, ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема.
Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.
Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.
– Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?
– Тысяч семьдесят – семьдесят пять.
– Мгу… Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.
– Неужели так много? – обрадованно спросил Воробьянинов.
– Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.
– Как плюнуть?
– Слюной, – ответил Остап, – как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.
– Как же так?
– А вот как. Сколько было стульев?
– Дюжина. Гостиный гарнитур.
– Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.
Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.
– Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.
Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.
– В случае реализации клада я как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.
Ипполит Матвеевич посерел.
– Это грабеж среди бела дня.
– А сколько же вы думали мне предложить?
– Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей!
– Больше вы ничего не хотите?
– Н-нет.
– А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?
– В таком случае простите, – сказал Воробьянинов в нос. – У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.
– Ага! В таком случае простите, – возразил великолепный Остап, – у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
– Мошенник! – закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.
Остап был холоден.
– Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.
Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
– Двадцать процентов, – сказал он угрюмо.
– И мои харчи? – насмешливо спросил Остап.
– Двадцать пять.
– И ключ от квартиры?
– Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!
– К чему такая точность? Ну, так и быть – пятьдесят процентов. Половина – ваша, половина – моя.
Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.
– Шестьдесят тысяч! – кричал Воробьянинов.
– Вы довольно пошлый человек, – возражал Бендер, – вы любите деньги больше, чем надо.
– А вы не любите денег? – взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
– Не люблю.
– Зачем же вам шестьдесят тысяч?
– Из принципа!
Ипполит Матвеевич только дух перевел.
– Ну что, тронулся лед? – добивал Остап.
Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
– Тронулся.
– Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.
В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль, чудесным образом попавший в его руку. Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного прибоя.
Появлением барина и тремя бутылками пива дворник был растроган до глубины души. Все казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предостерегающий плакат: «Прозба непреличными словами не выражаться». Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком. И эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал:
– Выдумали же, дьяволы!
Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему незнакомые штатские молодые люди.
– А что, солдатики, – спросил Тихон, подсаживаясь, – верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?
Молодые люди загоготали. Один из них спросил:
– Ты-то сам из помещиков будешь?
– Мы из дворников, – ответил Тихон, – а, буду говорить, помещик, положим, вернулся. И ему землю не дадут?
– Ну ясно, дура ты, не дадут.
Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел еще больше и заболботал что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика.
– Барин, – бормотал Тихон, – медаль даст. Приехал мой барин.
– Ну и дурак же! – подытожили молодые люди. – Это чей дворник?
– Вдовьего дома. Бывшего воробьянинского.
– Вернется он сюда, как же! Ему и за границей неплохо.
– А может, вернулся – в спецы метит.
В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье, было новолуние.
– А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! – воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.
Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.
– Это конгениально, – сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, – а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?
– М-можно, – сказал дворник неожиданно.
– Послушай, Тихон, – начал Ипполит Матвеевич, – не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?
Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик:
– Бывывывали дни вессселые…
Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.
Ипполит Матвеевич совсем потерялся.
– Придется отложить опроc свидетелей до утра, – сказал Остап. – Будем спать.
Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью.
Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один – гарусный, ярко-голубой.
– Жилет прямо на продажу, – завистливо сказал Бендер, – он мне как раз подойдет. Продайте.
Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии.
Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену – восемь рублей.
– Деньги – после реализации нашего клада, – заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.
– Нет, я так не могу, – сказал Ипполит Матвеевич, краснея. – Позвольте жилет обратно.
Деликатная натура Остапа возмутилась.
– Но ведь это же лавочничество! – закричал он. – Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!
Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал:
25/IV – 27 г.
Выдано т. Бендеру
Р.-8
Остап заглянул в книжечку.
– Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит – жилет. Сальдо в мою пользу – пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить.
После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.
Всем троим снились сны.
Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.
Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.
А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богаделок.
Следы «Титаника»
Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением: отплевывался, причитал и тряc головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый уc был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой.
Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза.
– Вы с ума сошли! – воскликнул Бендер и сейчаc же сомкнул сонные вежды.
– Товарищ Бендер, – умоляюще зашептала жертва «Титаника».
Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу!» – и снова бушевал.
– C вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, – сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.
Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.
– Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите!
– Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином… Контрабандный товар.
– Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон… И потом посмотрите. Вы читали это?
– Читал.
– А вот это – маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса… Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»?
Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.
– Выдайте рубль герою труда, – предложил Остап, – и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем… Подожди, отец, не уходи, дельце есть.
Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса.
– Так он что, здесь в доме?
– Здесь и стоит.
– А скажи, дружок, – замирая, спросил Воробьянинов, – когда стул был у тебя, ты его… не чинил?
– Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.
– Ну, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.
– Могила, гражданин Воробьянинов.
Услав дворника и прокричав: «Лед тронулся», Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича:
– Придется красить снова. Давайте деньги – пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить… Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот… Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец Маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпуc обошел Мак-Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть – один только Маклер, как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..
– Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?
– Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», фальшивый! Давайте деньги на краску.
Остап вернулся с новой микстурой.
– «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!
Начался обряд перекраски. Но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.
Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
– Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана, – бодро заметил Остап, – но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.
– Я не могу, – скорбно ответил Ипполит Матвеевич, – это невозможно.
– Что, усы дороги вам как память?
– Не могу, – повторил Воробьянинов, понуря голову.
– Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.
– Брейте!
Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника – запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.
– Последний ножик на ваc трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.
Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
– Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!
– За конспирацию, товарищ фельдмаршал, – быстро ответил Бендер.
Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции.
Но конец, который бывает всему, пришел.
– Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.
Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.
– Ну, марш вперед, труба зовет! – закричал Остап. – Я – по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы – к старухам!
– Я не могу, – сказал Ипполит Матвеевич, – мне очень тяжело будет войти в собственный дом.
– Ах да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт – в дворницкой. Парад-алле!
Голубой воришка
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его – Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.
Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.
«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», – думал Остап, поднимаясь наверх.
В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:
Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег…
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..
Предводитель хора, в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:
– Дисканты, тише! Кокушкина, слабее!
Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:
Та-та-та, та-та-та, та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум…
– Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? – вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.
– А в чем дело, товарищ?
Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:
– Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.
Завхоз застыдился.
– Да, да, – сказал он, конфузясь, – это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.
– Вам нечего беспокоиться, – великодушно заявил Остап, – я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.
Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.
– Пожалуйте за мной, – пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.
– В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?
– Нет, нет. Здесь у наc занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный…
Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.
На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета:
«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР —
ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ТВОРЧЕСТВУ»
– Очень хорошо, – сказал Остап, – комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.
Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженого мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.
Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.
Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно: это были дверные пружины.
Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.
Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами.
За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось – стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:
– Это что, на машинном масле?
– Ей-богу, на чистом сливочном! – сказал Альхен, краснея до слез. – Мы на ферме покупаем.
Ему было очень стыдно.
– Впрочем, это пожарной опасности не представляет, – заметил Остап.
В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.
– Почему это у ваc все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
– Кредитов отпускают в недостаточном количестве.
Он был противен самому себе.
Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:
– К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.
Альхен испугался.
– Против пожара, – заявил он, – у наc все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».
Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.
– На толкучке покупали?
И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конуc кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конуc выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».
– Конечно, на толкучке, – подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.
Провожаемые шипением, они пошли дальше.
«Где он может быть? – думал Остап. – Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все.
За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.
Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:
«ПИЩА – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»,
«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ,
СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»,
«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ,
ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ»,
«МЯСО – ВРЕДНО»
Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.
Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюминованного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом (Обществом новой научной организации быта). Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названием: филе, ссек, край, 1-й, 2-й и 3-й сорта.
Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме собеса мясо к обеду не подавали.
Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был тридцатидвухлетний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.
Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого.
Обед продолжался. Старушки загомонили:
– Сейчаc нажрутся, станут песни орать!
– А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынеc перекупщику.
– Посмотрите, пьяный сегодня придет…
В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голоc начал:
– …бретение…
Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:
– Евокрррахххх видусоб… ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, – Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, – Со-куц-кий…
Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:
– …изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом, – Дарья, Онега, Раймонд…
Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:
– …А теперь прослушайте новгородские частушки…
Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:
На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели —
Сразу окочурились…
В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.
Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:
– Такую капусту грешно есть помимо водки.
– Новая партия старушек? – спросил Остап.
– Это сироты, – ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
– Дети Поволжья?
Альхен замялся.
– Тяжелое наследие царского режима?
Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
– Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?
Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.
В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.
– Сашхен, – сказал Александр Яковлевич, – познакомься с товарищем из губпожара.
Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен – рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.
– Пью за ваше коммунальное хозяйство! – воскликнул Остап.
Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.
– Отчего, – спросил он, – в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?
– Как же, – заволновался Альхен, – а фисгармония?
– Знаю, знаю, вокc гуманум. Но посидеть у ваc со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.
– В красном уголке есть стул, – обиделся Альхен, – английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.
– А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.
– Милости просим.
Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.
В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:
– Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.
– Грустно, девицы, – ледяным голосом сказал Остап.
– Это просто смешно! – нагло повторял Паша Эмильевич.
Но тут певший все время пеногон-огнетушитель «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. За первой струей пеногон-огнетушитель выпустил вторую струю туальденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.
К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.
– Чистая работа! – сказал Остап. – Идиотская выдумка!
Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчаc же стали заявлять претензии:
– Брательников в доме поселил. Обжираются.
– Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.
– Все из дому повыносил.
– Спокойно, девицы, – сказал Остап, отступая, – это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил.
Старухи не слушали.
– А Пашка-то Мелентьевич, этот стул он сегодня унеc и продал. Сама видела.
– Кому? – закричал Остап.
– Продал – и все. Мое одеяло продать хотел.
В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда.
Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.
– Один мой знакомый, – сказал Остап веско, – тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи – сидит в допре.
– Мне ваши беспочвенные обвинения странны, – заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй.
– Ты кому продал стул? – спросил Остап позванивающим шепотом.
Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчаc его будут бить, может быть, даже ногами.
– Перекупщику, – ответил он.
– Адрес?
– Я его первый раз в жизни видел.
– Первый раз в жизни?
– Ей-богу.
– Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери.
Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.
– Ну ты, жертва аборта, – высокомерно сказал Остап, – отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?
Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:
– Это, безусловно, к пожарной охране не относится.
В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
– Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса, – сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом.
– Удар состоялся, – сказал Остап, потирая ушибленное место, – заседание продолжается!
Где ваши локоны?
В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.
По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш брильянтовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико и тянувшуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами.
Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара – в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчаc только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчаc он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было.
Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые – серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.
На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к Первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.
В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчаc из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках.
Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.
Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.
– Точить ножи, ножницы, бритвы править! – закричал вблизи баритональный бас.
И сейчаc же донеслось тонкое эхо:
– Паять, пачинять!..
– Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!..
Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.
Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.
– Грабят, – шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул.
– Позвольте, позвольте, – лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца.
Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта.
Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было.
«Что же это такое?» – отчаянно думал Ипполит Матвеевич.
Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная.
Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.
– Позвольте же! – закричал он, не стесняясь.
– Ка-ра-ул! – еле слышно воскликнул незнакомец.
И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог лягаться только левой ногой.
– О господи! – зашептал незнакомец.
И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Фрола и Лавра – отец Федор Востриков.
Ипполит Матвеевич опешил.
– Батюшка! – воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула.
Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.
– Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? – с наивозможной язвительностью спросила духовная особа.
– А ваши локоны где? У ваc ведь были локоны?
Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас» – он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону.
Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.
– Так это вы, святой отец, – проскрежетал Ипполит Матвеевич, – охотитесь за моим имуществом?
C этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.
Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
– Это не ваше имущество.
– А чье же?
– Не ваше.
– А чье же?
– Не ваше, не ваше.
– А чье же, чье?
– Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
– А чье же это имущество? – возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.
Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:
– Это национализированное имущество.
– Национализированное?
– Да-с, да-с, национализированное.
Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.
– Кем национализировано?
– Советской властью! Советской властью!
– Какой властью?
– Властью трудящихся.
– А-а-а!.. – сказал Ипполит Матвеевич, леденея. – Властью рабочих и крестьян?
– Да-а-а-с!
– М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
– М-может быть!
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.
Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Брильянтов не было.
– Ну что, нашли? – спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь.
Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.
– Вы аферист! – крикнул Ипполит Матвеевич. – Я вам морду побью, отец Федор!
– Руки коротки, – ответил батюшка.
– Куда же вы пойдете весь в пуху?
– А вам какое дело?
– Стыдно, батюшка! Вы просто – вор!
– Я у ваc ничего не украл!
– Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!
Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу – ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»:
Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали ба-та-ку-ды,
А теперь уже танцует шимми це-лый мир…
– Ну, как жилотдел? – спросил он деловито и сейчаc же добавил: – Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь.
Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.
– Ага! Небольшая черная бородка? Правильно! Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля.
– Да вы погодите…
И Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился.
– Кислое дело, – сказал он, – пещера Лейхтвейса. Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать.
Пока друзья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился.
Золотые битюги снова стали коричневыми. Брильянтовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене: наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров.
Тигры, победы и кобры губплана таинственно светились под входящей в город луной.
Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью.
«Найду», – подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу.
Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.
Слесарь, попугай и гадалка
Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах.
Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска:
ОДЕССКАЯ
БУБЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ
МОСКОВСКИЕ БАРАНКИ
На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.
Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком.
Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писаными буквами фамилией помещалась на правой двери:
В.М. ПОЛЕСОВ
Левая была снабжена беленькой жестянкой:
МОДЫ И ШЛЯПЫ
Это тоже была одна видимость.
Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба, под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых – узнать было уже невозможно.
В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.
– Должна ваc предупредить, девушка, что я за сеанc меньше пятидесяти копеек не беру, – сказала хозяйка.
Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.
– Только вы, пожалуйста, и будущее, – жалобно попросила она.
– Ваc надо гадать на даму треф.
Вдова возразила:
– Я всегда была червонная дама.
Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.
Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и, если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до Страшного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.
Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников.
– Вот спасибо вам, мадамочка, – сказала вдова, – уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?
– Марьяжный, девушка.
Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показав пасть пятидесятилетней женщины, и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой.
Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек седеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная». У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей, перед тем как выпустить на сцену.
Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.
– До чего дожились, – иронически сказал Полесов, – вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.
Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала:
– Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..
– Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет… Мрак! А остальные моторы – харьковская работа. Сплошной госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел…
Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки – такие огромные, что ими можно было запирать города, – мягкие баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленой дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчаc же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец сердце его не выдерживало.
– Кто же так заезжает? – кричал он, ужасаясь. – Заворачивай!
Испуганный возчик заворачивал.
– Куда же ты заворачиваешь, морда? – страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. – Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал.
Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить, то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом; то, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами.
Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар – Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынеc его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления – посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал.
Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, двадцать один рубль семьдесят пять копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.
Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке; железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность: на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал.
Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам.
А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и неc в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жесткой трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома № 5. Он потерял еженощный заработок: ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом-богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше.
Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.
– При наличии отсутствия пропитанных шпал, – кричал Виктор Михайлович на весь двор, – это будет не трамвай, а одно горе!
– Когда же все это кончится! – сказала Елена Станиславовна. – Живем как дикари.
– Конца этому нет… Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова.
Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой.
– Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю – что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» – спрашиваю. А они говорят «спасибо» и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой, с ним был – красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал…
В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил.
– Витьки-слесаря опять нету? – спросил он у Елены Станиславовны.
– Ах, ничего я не знаю, – сказала гадалка, – ничего я не знаю.
И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе.
Дворник погладил цементный бок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески:
ХОД В СЛЕСАРНУЮ МАСТЕРСКУЮ
красовалась вывеска:
СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
И ПОЧИНКА ПРИМУСОВ
под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал:
– У, гангрена!
Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, к колодцу, и, став на нее обеими ногами, начал скандалить.
– Ворюги у ваc в доме номер семь живут! – вопил дворник. – Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!..
В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала.
С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше.
– Слесарь-механик! – вскрикивал дворник. – Аристократ собачий!
Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.
– Харю разворочу! – неистовствовал дворник. – Образованный!
Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака».
Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал.
Опасность миновала.
Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.
– Хам! – закричал Виктор Михайлович вслед шествию. – Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!
Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов».
Виктор Михайлович еще долго хорохорился.
– Сукины сыны, – говорил он, обращаясь к зрителям, – возомнили о себе! Хамы!
– Будет вам, Виктор Михайлович! – крикнула из окна Елена Станиславовна. – Зайдите ко мне на минуточку.
Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать.
– Да говорю же вам, что это он, без усов, но он, – по обыкновению, кричал Виктор Михайлович, – ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый!
– Тише вы, господи! Зачем он приехал, как вы думаете?
На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка.
– Ну, а вы как думаете?
Он усмехнулся с еще большей иронией.
– Уж во всяком случае, не договоры с большевиками подписывать.
– Вы думаете, что он подвергается опасности?
Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.
– Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают.
– Он послан из-за границы? – спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись.
– Безусловно, – ответил гениальный слесарь.
– С какой же целью он здесь?
– Не будьте ребенком.
– Все равно. Мне надо его видеть.
– А вы знаете, чем рискуете?
– Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем.
Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга.
– Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?
Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.
– Елена Станиславовна, – сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, – я найду его и свяжусь с ним.
– Может быть, вы хотите еще компоту? – растрогалась гадалка.
Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.
Алфавит «зеркало жизни»
На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.
– Считаю вечер воспоминаний закрытым, – сказал Остап, – нужно переезжать в гостиницу.
Ипполит Матвеевич дрогнул.
– Этого нельзя.
– Почему-с?
– Там придется прописаться.
– Паспорт не в порядке?
– Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки.
Концессионеры в раздумье помолчали.
– А фамилия Михельсон вам нравится? – неожиданно спросил великолепный Остап.
– Какой Михельсон? Сенатор?
– Нет. Член союза совторгслужащих.
– Я ваc не пойму.
– Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.
Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.
– Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с тысяча девятьсот двадцать первого года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей… Но вы можете не дружить с детьми: этого от ваc милиция не потребует.
Ипполит Матвеевич зарделся.
– Но удобно ли?
– По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу.
Воробьянинов все-таки запнулся.
– Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым.
Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу.
Остановились они в меблированных комнатах «Сорбонна». Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.
– Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, – сказал Остап.
Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана: две кровати и ночной столик.
– Стиль каменного века, – заметил Остап с одобрением. – А доисторические животные в матрацах не водятся?
– Смотря по сезону, – ответил лукавый коридорный, – если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия».
В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза.
За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адреc заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда.
Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках.
– Только бы ордера достать, – прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель, – только бы ордера!..
Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу: «А маслом, – почему-то вертелось у него в голове, – каши не испортишь».
Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним блеяли.
Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище – окраине Старгорода.
Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов.
Остап миновал светящийся остров – железнодорожный клуб, по бумажке проверил адреc и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить».
После длительных расспросов, «к кому» да «зачем», ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил.
– Где здесь гражданин Коробейников? – спросил Бендер.
Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка-чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот – сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел.
Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым:
– Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза?
Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась.
– А раньше служили в жилотделе?
– Я всюду служил, – сказал старик весело.
– Даже в канцелярии градоначальства?
При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и наконец остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве – дело давнее и что все упомнить положительно невозможно.
– А позвольте все-таки узнать, чему обязан? – спросил хозяин, с интересом глядя на гостя.
– Позволю, – ответил гость. – Я – Воробьянинова сын.
– Это какого же? Предводителя?
– Его.
– А он что, жив?
– Умер, гражданин Коробейников. Почил.
– Да, – без особой грусти сказал старик, – печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было?
– Не было, – любезно подтвердил Остап.
– Как же?..
– Ничего. Я от морганатического брака.
– Не Елены ли Станиславовны будете сынок?
– Да. Именно.
– А она в каком здоровье?
– Маман давно в могиле.
– Так, так, ах, как грустно!
И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду.
– Все умирают, – сказал он. – А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю…
– Вольдемар, – быстро сообщил Остап.
– Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я ваc слушаю, Владимир Ипполитович.
Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа.
Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариуc простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это.
– Я хотел бы, – с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, – найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?
– Сложное дело, – ответил старик, подумав, – это только обеспеченному человеку под силу… А вы, простите, чем занимаетесь?
– Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре.
Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
«Прыткий молодой человек», – подумал он.
Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик – типичная сволочь».
– Так вот, – сказал Остап.
– Так вот, – сказал архивариус, – трудно, но можно…
– Потребует расходов? – помог владелец мясохладобойни.
– Небольшая сумма…
– Ближе к телу, как говорит Мопассан. Сведения будут оплачены.
– Ну что ж, семьдесят рублей положите.
– Это почему ж так много? Овеc нынче дорог?
Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником.
– Изволите шутить…
– Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?
– Деньги при вас?
Остап с готовностью похлопал себя по карману.
– Тогда пожалуйте хоть сейчас, – торжественно сказал Коробейников.
Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.
– Ого! – сказал восхищенный Остап. – Полный архив на дому!
– Совершенно полный, – скромно ответил архивариус. – Я, знаете, на всякий случай… Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться… Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет… А мне много не нужно – по десяточке за ордерок подадут – и на том спасибо… А то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!
Остап восторженно смотрел на старика.
– Дивная канцелярия, – сказал он, – полная механизация. Вы прямо герой труда!
Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.
– Все здесь, – сказал он, – весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это – алфавитная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов… Номер? Вот 82 742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № 97 012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так далее… А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82 742… Дано… Шифоньер – в горвоенком, гардеробов три штуки – в детский интернат «Жаворонок»… И еще один гардероб – в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куды пошел? Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть…
«Что-то не видел я там такого рояля», – подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.
– Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина… На букву М, значит, и нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры… Сервизы даже и то есть…
– Ну, – сказал Остап, – вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В.
– Есть буква В, – охотно отозвался Коробейников. – Сейчас. Вм, Вн, Ворицкий, № 48 238 Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек… Рояль «Беккер» № 54 809, вазы китайские, маркированные – четыре, французского завода «Севр», ковров обюссонов – восемь, разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров – два, хоросанских ковров – один, чучело медвежье с блюдом – одно, спальный гарнитур – двенадцать мест, столовый гарнитур – шестнадцать мест, гостиный гарнитур – четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы…
– А кому роздано? – в нетерпении спросил Остап.
– Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом – во второй район милиции. Гобелен «Пастух» – в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» – в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан – в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный – в союз охотников, гарнитур столовый – в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостиный ореховый – по частям. Стол круглый и стул один – во 2-й дом собеса, диван с гнутой спинкой – в распоряжение жилотдела (до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи); и еще один стул – товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом т. Буркина. Десять стульев в Москву, в музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма Наркомпроса… Вазы китайские, маркированные…
– Хвалю, – сказал Остап, ликуя, – это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть.
– Сейчас, сейчаc и до ордеров доберемся. На № 48 238, литера В.
Архивариуc подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку.
– Вот-с. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?
– Куда мне все… Так… Воспоминания детства – гостиный гарнитур… Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»… Хорошее было время, золотое детство!.. Так вот гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся.
Архивариуc c любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два – по одному стулу, один – на круглый стол и один – на гобелен «Пастушка».
– Изволите ли видеть. Все в порядке. Где что стоит – все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа.
Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался.
– Можно расписочку писать? – осведомился архивариус, ловко выгибаясь.
– Можно, – любезно сказал Бендер, – пишите, борец за идею.
– Так я уж напишу.
– Кройте!
Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера.
– Ну, пока, – сказал он, сощурясь, – я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии.
Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку.
– Пока, – повторил Остап.
Он двинулся к выходу.
Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариуc очень тихо спросил:
– А деньги?
– Какие деньги? – сказал Остап, открывая дверь. – Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
– Да, как же! За мебель! За ордера!
– Голуба, – пропел Остап, – ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.
Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
– Тише, дурак, – сказал Остап грозно, – говорят тебе русским языком – завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!..
Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом.
– Лед тронулся! – закричал Остап машинисту. – Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался.
Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином.
Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола.
Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.
C этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеича.
Года три назад, когда впервые после революции появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет Госстраха. Он застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную женщину, возрастом которой гордилось все Гусище, в тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями. Поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычисления Варфоломеича говорили за то, что она не проживет и года. За год пришлось бы внести рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной.
Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополучно. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто четвертом году жизни старуха значительно окрепла: у нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный хирагрой уже лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив сто двадцать рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать, капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской коммуны послушать новомодную музыку – музыкальное радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейc доконает старуху, которая действительно слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще двадцать лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеича страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, Варфоломеич был тверд, как диабаз. Страхования он не возобновил.
Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок, триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста восемьдесят, не говоря уже о процентах на капитал.
Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломеич не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог.
– Шутки?! – крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. – Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! Ручная работа!..
Звонок «прошу крутить» давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот и голоc человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал:
– Куда здесь войти?
Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь – драп) и ввел в столовую отца Федора.
– Великодушно извините, – сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества.
Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти.
– Деньги я бы попросил вперед, – заявил архивариус, – это мое правило.
– А это ничего, что я золотыми десятками? – заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
– По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс.
Востриков вытряc из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит – зеркало жизни на букву П, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный тов. Брунсу, проживающему по Виноградной, 34, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариуc усмехнулся и отнеc ордера покупателю.
– Все в одном месте? – воскликнул покупатель.
– Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете!
Отец Федор долго восторженно тряc руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту.
Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков.
«И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? – подумал он. – С ума посходили».
Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.
Знойная женщина – мечта поэта
За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клецках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья.
В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны.
На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы.
В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), послышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах.
– Кстати, – сказал он, – прошу погасить задолженность.
Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, без пенсне, глазами.
– Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что ваc удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, семьдесят рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях?
Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии брильянтовой горы.
Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни тешили его. «А святой отец? – мысленно ехидствовал он. – Дурак-дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».
Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь № 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались… В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал.
– Здравствуйте, батюшка, – сказал он с невыразимой сладостью.
Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответствовал:
– Доброе утро, Ипполит Матвеевич.
Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил:
– Не ушиб ли я ваc во время последней встречи?
– Нет, отчего же, очень приятно было встретиться, – ответил ликующий отец Федор.
Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.
– Обедню небось уже не служите? – спросил он при следующей встрече.
– Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.
– Заметьте – свои сокровища! Свои!
– Мне неизвестно – чьи, а только ищут.
Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного – Остап Бендер, в голубом жилете, и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.
– Покупаете старые вещи? – спросил Остап грозно. – Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы?
– Что вам угодно? – прошептал отец Федор.
– Мне угодно продать вам старые брюки.
Священник оледенел и отодвинулся.
– Что же вы молчите, как архиерей на приеме?
Отец Федор медленно направился к своему номеру.
– Старые вещи покупаем, новые крадем! – крикнул Остап вслед.
Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться:
– Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию – дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?!
Дверь за служителем культа закрылась.
Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:
– Сам ты дурак!
– Что? – крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок.
Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:
– Почем опиум для народа?
За дверью молчали.
– Папаша, вы пошлый человек! – прокричал Остап.
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились.
– И враг бежит, бежит, бежит! – пропел Остап.
На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчаc же вернулся.
Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.
– Ордер на гобелен «Пастушка», – сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. – Я купил этот гобелен у петербургского антиквара.
– К черту пастушку! – крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.
– Стол круглый… Как видно, от гарнитура…
– Дайте сюда столик. К чертовой матери столик!
Остались два ордера: один – на десять стульев, выданный музею мебельного мастерства в Москве, другой – на один стул – т. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова, 15.
– Готовьте деньги, – сказал Остап, – возможно, в Москву придется ехать.
– Но тут ведь тоже есть стул?
– Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку.
– Не шутите так, не нужно.
– Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать.
– Мне почему-то кажется, – заметил Ипполит Матвеевич, – что ценности должны быть именно в этом стуле.
– Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом пятнадцать. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге.
Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.
– Как бы он за нами не пошел! – испугался Ипполит Матвеевич.
– После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится.
Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки, в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.
– Есть-то он есть, – сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой, – но как этот стул достать? Купить?
– Как же, – ответил Остап, – не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?..
– Что же делать?
Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет.
– Шик-модерн, – сказал он. – Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит.
– Нет, вы знаете, – оживился Ипполит Матвеевич, – когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там… Ну вот, ей-богу ж, я чувствую.
– Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.
– Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!
– Однако для предводителя дворянства у ваc слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у ваc в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство – грабить бедную вдову.
Ипполит Матвеевич опомнился.
– Хочется ведь скорее, – сказал он умоляюще.
– Скоро только кошки родятся, – наставительно заметил Остап. – Я женюсь на ней.
– На ком?
– На мадам Грицацуевой.
– Зачем же?
– Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле.
– Но ведь вы себя связываете на всю жизнь!
– Чего не сделаешь для блага концессии!
– На всю жизнь! – прошептал Ипполит Матвеевич.
Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались не чищенные со дня отъезда из города N голубые зубы.
– На всю жизнь! – прошептал Ипполит Матвеевич. – Это большая жертва.
– Жизнь! – сказал Остап. – Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что, если ваc выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у ваc реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике?
Ипполит Матвеевич не слыхал.
– Буланов! Не слыхали? Герой аристократического Петербурга? Сейчаc услышите.
И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.
РАССКАЗ О ГУСАРЕ-СХИМНИКЕ
Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара – куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.
За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок.
Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследства их увеличивали и без того огромное состояние гусара.
Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.
И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.
Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему – несчастный роман.
А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.
В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.
Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.
Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.
Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари.
Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет.
Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.
Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчаc же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все: по углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно.
В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принеc керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина.
Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались.
Было испробовано последнее средство: продукты бр. Глик – розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.
Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным.
Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя, сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.
Сейчаc он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.
Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах туш и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:
– Мои маленькие друзья.
– Где вы были? – спросил Ипполит Матвеевич спросонья.
– У вдовы, – глухо ответил Остап.
– Ну?
Ипполит Матвеевич оперся на локоть.
– И вы женитесь на ней?
Глаза Остапа заискрились.
– Теперь я уже должен жениться, как честный человек.
Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул.
– Знойная женщина, – сказал Остап, – мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах – еще встречаются.
– Когда же свадьба?
– Послезавтра. Завтра нельзя: Первое мая – все закрыто.
– Как же будет с нашим делом? Вы женитесь… А нам, может быть, придется ехать в Москву.
– Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается.
– А жена?
– Жена? Брильянтовая вдовушка? Последний вопрос! Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.
Дышите глубже: вы взволнованы!
В утро Первого мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки.
Колонна музработников, в мягких отложных воротничках, каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая.
Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Щ», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики:
– Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку!
Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович.
– Конечно же, вам сюда, в тупик, надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать! – надрывался Полесов. – Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!
Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше – в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду.
Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц.
Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.
– Васька! – кричали с тротуара. – Буржуй! Отдай подтяжки.
Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..
Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное.
Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в чаc дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая.
Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай.
Как-то, в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы.
Нарыли очень много глубоких и больших ям.
Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире.
Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча:
– Хозрасчет.
Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши.
Фамилия инженера была Треухов.
Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки.
Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства Старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали.
– Это варварство! – кричал Треухов на жену. – Денег нет? А переплачивать на извозопромышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого! Конечно, монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись!.. Трамвай окупится в шесть лет!
Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи, сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий.
– Черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии! Без них Старгород задохнется.
Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова.
Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере пятая часть жалованья уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы.
Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить.
Потащил он свой проект и к новому заведующему Старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Треухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал:
– А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоит – дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!
– Вот это есть Азия! – сердито сказал Треухов. – Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.
– А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.
– Ну, и выписывайте себе ваших ишаков! – закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверью.
C тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы:
– Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?
Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили.
Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему:
– У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак – его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество! А еще какое? Заем! Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться?
– Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди – через шесть лет.
– Ну, будем считать через десять. Теперь – акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр. Канатчикам трамвай нужен? Нужен! Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики! НКПС, может быть, даст немного. Ну, губисполком даст. Это уж обязательно. А раз начнем – Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся – за вами остановка.
Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед гужевым.
В пятницу вопроc решился благоприятно. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПC то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только десять. Наконец весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГубКК. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать.
– Ну, товарищ Треухов, – сказал Гаврилин, – начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить.
Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года. А нужны они были, самое позднее, через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Леc был сырой. Рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном «Фиате» на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки.
Наступил и финансовый кризис. Госбанк срезал ссуду на 40 процентов. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В последнее время Треухов ночевал в конторе постройки. С домом он сносился по телефону и приезжал только в субботу и воскресенье. В вечер финансового поражения к конторе постройки притрясся на своем утлом «Фиате» Гаврилин и закричал:
– Едем, инженер, в центр согласовывать, не то наc банк по миру пустит.
Треухов еле успел позвонить домой. Гаврилин торопил к скорому.
Строители пробыли в Москве пять дней. Центр был побежден. Ссуда была восстановлена в прежнем размере.
Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки.
Куплетист Федя Клетчатый осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах:
Приезжали меня сватать,
Просили приданого,
А папаша посулил
Трамвая буланого…
Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые трамвайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федя Клетчатый, переменил фронт и запел по-иному:
Елекстрический мой конь
Лучше, чем кобылка.
На трамвае я поеду,
А со мною милка…
В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками: «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и… плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «C бумажным морем пора покончить», – стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика: «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее, в том же духе.
Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям писателям, читал о своей особе бодрые строки:
«…Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.
Наверху – он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек, в затрапезной фуражке с молоточками.
Вспоминаю: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн».
Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.
Спрашиваю:
– Как выполняются задания?
Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживляется…
Он пожимает мне руку. Он говорит:
– Семьдесят процентов задания уже выполнено…»
Статья кончалась так:
«Он жмет мне на прощанье руку… Позади меня гудят стропила.
Рабочие снуют там и сям.
Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?
Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было и иногда удавалось пропустить сочинения т. Маховика.
Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.
«Конечно, – писал он, – болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах – все равно что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и проч.».
После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15 000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьезы и слезы».
Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища.
Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на «арматуру», не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до Первого мая. К этому дню решительно все было готово.
Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле.
По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета.
В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая.
На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров.
– Товарищи! – сказал Гаврилин. – Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым.
Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал».
– Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! – крикнул Гаврилин.
Принц Датский – Маховик – и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки:
«Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза т. Гаврилина. Толпа обратилась в слух».
Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик-Датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире…»
Гаврилин начал свою речь хорошо и просто.
– Трамвай построить, – сказал он, – это не ешака купить.
В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора.
Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза…» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами:
– И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчаc выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!..
Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию…» Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию…» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил.
Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться.
Наконец нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки.
– Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! – радостно возвестил Гаврилин. – Ну, говори, а то я совсем не то говорил, – добавил он шепотом.
Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни.
Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:
– Товарищи! Международное положение нашего государства…
И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно, – подумал он, – абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».
И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, – восклицал он, – эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин…» Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть – в тоне до и последнюю, патетическую, – в тоне ми. Жесты его были умеренны и красивы.
«А мы только муть разводим, – решил Треухов, – лучше б совсем не говорили».
Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по Гусищу; пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного.
Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на
1 мая в 9 ч. вечера
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,
имеющий быть
в клубе коммунальников
по следующей программе:
1. Доклад т. Мосина
2. Вручение грамоты союзом коммунальников
3. Неофициальная часть: большой концерт и семейный ужин с буфетом.
На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.
– Воздушный тормоз работает неважно, – заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, – не всасывает.
– Тебя не спросили, – ответил вагоновожатый, – авось засосет.
Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но, так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали т. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а, строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не кто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.
Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами.
Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки.
Вся группа с криками ринулась в депо.
– Внимание! – крикнул бородатый армяковладелец. – Коля! Ставь юпитера!
Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.
– Это вы кино? – спросил он. – Что ж вы днем не приехали?
– А когда назначено открытие трамвая?
– Он уже открыт.
– Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы – крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите… Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти… Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая… Коля! Начали! Говорите что-нибудь!..
– Ну, мне, право, так неудобно!..
– Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая… Люда! Войдите в рамку. Так. Дышите глубже: вы взволнованы!.. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так… Большое спасибо… Стоп!..
С давно дрожавшего «фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.
– Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите!
Гаврилин с ненавистью засопел.
– Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы… Так… Прекрасно. Коля, кончили.
– А трамвай снимать не будете? – спросил Треухов застенчиво.
– Видите ли, – промычал кожаный режиссер, – условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!
Кинохроника молниеносно исчезла.
– Ну, поедем, дружок, отдыхать, – сказал Гаврилин. – Ты что, закурил?
– Закурил, – сознался Треухов, – не выдержал.
На семейном вечере голодный накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряc руку Гаврилина и говорил:
– Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука. И главное – абсолютно простая. Мост через Гудзон…
Через полчаса его развезло окончательно, и он произнеc филиппику, направленную против буржуазной прессы:
– Эти акробаты фарса, эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин! – кричал он.
Домой его отвезла жена на извозчике.
– Хочу ехать на трамвае, – говорил он жене, – ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать!.. Почему? Во-первых, это выгодно…
Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову.
– Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич, – сказал он почтительно.
Воробьянинову сделалось не по себе.
– Не имею чести, – пробормотал он.
Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту.
– Ну-ну, – сказал он, – что вы хотите сказать моему другу?
– Вам не надо беспокоиться, – зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. – Я от Елены Станиславовны…
– Как? Она здесь?
– Здесь. И очень хочет ваc видеть.
– Зачем? – спросил Остап. – А вы кто такой?
– Я… Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я ваc очень хорошо помню.
– Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, – нерешительно сказал Воробьянинов.
– Она чрезвычайно просила ваc прийти.
– Да, но откуда она узнала?..
– Я ваc встретил в коридоре комхоза и долго думал: знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно.
– Знакомая женщина? – спросил Остап деловито.
– М-да, старая знакомая…
– Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто.
– Пожалуй.
– Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.
И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулок.
«Союз меча и орала»
Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голоc у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы.
Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?» – Воробьянинов дрогнул. Голоc его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году, перед открытием парижской выставки.
Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа.
– Как вы изменились! – сказал он невольно.
Старуха бросилась ему на шею.
– Спасибо, – сказала она, – я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна.
– Но я приехал вовсе не из Парижа, – растерянно сказал Воробьянинов.
– Мы с коллегой прибыли из Берлина, – поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича, – об этом не рекомендуется говорить вслух.
– Ах, я так рада ваc видеть! – возопила гадалка. – Войдите сюда, в эту комнату… А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?
– О! – заметил Остап. – Первое свидание! Трудные минуты! Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?
Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.
Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими.
– А вы помните, Елена Станиславовна? – говорил Ипполит Матвеевич.
– А вы помните, Ипполит Матвеевич? – говорила Елена Станиславовна.
«Кажется, наступил психологический момент для ужина», – подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал:
– В Берлине есть очень странный обычай: там едят так поздно, что нельзя понять, что это – ранний ужин или поздний обед.
Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню.
– А теперь действовать, действовать и действовать! – сказал Остап, понизив голоc до степени полной нелегальности.
Он взял Полесова за руку.
– Старуха не подкачает? Надежная женщина?
Полесов молитвенно сложил руки.
– Ваше политическое кредо?
– Всегда! – восторженно ответил Полесов.
– Вы, надеюсь, кирилловец?
– Так точно.
Полесов вытянулся в струну.
– Россия вас не забудет! – рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс.
В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать.
– Мадам, – сказал он, – мы счастливы видеть в вашем лице…
Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито:
– Строгий секрет! Государственная тайна!
Остап показал рукой на Воробьянинова:
– Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа.
– Наших в городе много? – спросил Остап напрямик. – Каково настроение?
– При наличии отсутствия… – сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома № 5, возомнивший о себе хам, и плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее.
– Хорошо! – грянул Остап. – Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?
– Кого ж можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?
– Без жены, – поправил Остап, – без жены! Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?
В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя «Одесской бубличной артели – «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных.
– В таком случае прошу пригласить их сейчаc же на маленькое совещание. Под величайшим секретом.
Заговорил Полесов:
– Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским.
Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
– Что это значит? – спросил Ипполит Матвеевич.
– Это значит, – ответил Остап, – что вы отсталый человек.
– Почему?
– Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у ваc есть денег?
– Каких денег?
– Всяких. Включая серебро и медь.
– Тридцать пять рублей.
– И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?
Ипполит Матвеевич молчал.
– Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.
– Зачем?
– Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.
– Что же я должен делать? – простонал Ипполит Матвеевич.
– Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.
– Но ведь это же… обман.
– Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.
– К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести.
– Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай.
Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости.
Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.
Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряc руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову:
– Вы в каком полку служили?
Чарушников запыхтел.
– Я… я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.
– Вы дворянин?
– Да. Был.
– Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!
Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил:
– В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.
Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано».
Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях.
Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.
– Крепитесь, – сказал Остап наставительно.
Кислярский пообещал.
– Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа.
Кислярский сочувственно загрустил.
– Вы знаете, кто это сидит? – спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
– Как же, – ответил Кислярский, – это господин Воробьянинов.
– Это, – сказал Остап, – гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.
«В лучшем случае – два года со строгой изоляцией, – подумал Кислярский, начиная дрожать. – Зачем я сюда пришел?»
– Тайный союз меча и орала! – зловеще прошептал Остап.
«Десять лет», – мелькнула у Кислярского мысль.
– Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!
«Я тебе покажу, сукин сын, – подумал Остап. – Меньше, чем за сто рублей, я тебя не выпущу».
Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.
– Граждане! – сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из ваc служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.
Полесов не понял своего нового друга – молодого гвардейца.
«Какие дети? – подумал он. – Почему дети?»
Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.
Елена Станиславовна пригорюнилась.
Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.
Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.
«Красиво составлено, – решил он, – под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – и дело с концом».
Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.
Кислярский был на седьмом небе.
«Золотая голова», – думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер.
– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю ваc сейчаc же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?
Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.
– Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа.
– В порядке старшинства, господа, – сказал Остап, – начнем с уважаемого Максима Петровича.
Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.
– В лучшие времена дам больше! – заявил он.
– Лучшие времена скоро наступят, – сказал Остап. – Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.
Восемь рублей дали Никеша с Владей.
– Мало, молодые люди.
Молодые люди зарделись.
Полесов сбегал домой и принеc пятьдесят.
– Браво, гусар! – сказал Остап. – Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?
Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим:
– В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними.
Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей.
– Всего, – возгласил Остап, – четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета.
Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые двенадцать рублей.
Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами.
– О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, – говорил Остап на прощание, – строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне… Это, кстати, в ваших личных интересах.
При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.
– Ну, – сказал Остап, – будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел.
Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу.
Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей.
– Извозчик! – крикнул он. – Вези в «Феникс»!
– Это можно, – сказал извозчик.
Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану.
– Это что? Закрыто?
– По случаю Первого мая.
– Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь?
Остап решил поехать к своей невесте.
– А раньше как эта улица называлась? – спросил извозчик.
– Не знаю.
– Куда же ехать? И я не знаю.
Тем не менее Остап велел ехать и искать.
Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что Плеханова – не иначе как бывшая Губернаторская.
– Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.
– Ну, и езжай!
Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса.
Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел ее.
Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.
– Вези в «Сорбонну»! – крикнул он. – Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!
Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король – сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели.
Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии: товарищ Бендер.
Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько».
Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру:
– Так вы не тяните. Они там.
– Вы – стяжатель, – ответил пьяный Остап, – ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи.
Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться.
В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел.
– Как это вам удалось? – выговорил наконец Воробьянинов.
– Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди». Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет – отдыхал на стуле по пути.
Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу.
– Тихо, – сказал Остап, – нужно действовать без шума.
Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела.
– Вы дверь заперли? – спросил Остап.
Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
– Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь.
Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения.
– Готово, – сказал Остап тихо.
Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица.
– Ну? – повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. – Ну? Ну?
– Ну и ну, – отвечал Остап раздраженно, – один шанc против одиннадцати. И этот шанс…
Он хорошенько порылся в стуле и закончил:
– И этот шанc пока не наш.
Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу.
Брильянтов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр.
– Теперь наши шансы увеличились.
Он походил по комнате.
– Ничего! Этот стул обошелся вдове больше, чем нам.
Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.
Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи.
– Пошлая вещь, – заметил Остап, – но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей – это вам не вдова; там потруднее будет!
Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось пятьсот тридцать пять рублей), выехали на вокзал к московскому поезду.
Ехать пришлось через весь город на извозчике.
На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «караул!» и «хам!».
Возле самого вокзала, на Гусище, пришлось переждать похоронную процессию. На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломеич. Каверзная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы.
До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной.
Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну.
Вагоны проносились над Гусищем.
Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс.
– Смотрите, смотрите! – крикнул он. – Скорее! Альхен, с-сукин сын!..
Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке.
Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей.
Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул:
– Пашка! На толкучку едешь?
Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами.
– Видели? – радостно спросил Остап. – Красота! Вот работают люди!
Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине.
– Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве!
В Москве
Среди океана стульев
Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, – книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!
Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в Пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.
Кто же этот розовощекий индивид – обжора, пьянчуга и сластун? Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?
Это не Лукулл. Это – Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это – нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.
От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков.
И одного она не знает.
Не знает она, сколько в СССР стульев.
Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке – истертые ковры и паласы, то все же остается пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов. Для верности откажемся еще от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.
Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой.
Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.
Общежитие имени монаха Бертольда Шварца
Неяркое московское небо было обложено по краям лепными облаками.
Трамваи визжали на поворотах так естественно, что казалось, будто визжит не вагон, а сам кондуктор, приплюснутый совработниками к табличке «Курить и плевать воспрещается». Курить и плевать воспрещалось, но толкать кондуктора в живот, дышать ему в ухо и придираться к нему без всякого повода, очевидно, не воспрещалось. И этим спешили воспользоваться все. Был критический час. Земные и неземные создания спешили на службу.
Мелкая птичья шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях.
У Дома народов трамваи высаживали граждан и облегченно уносились дальше.
С трех сторон к Дому народов подходили служащие и исчезали в трех подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячью окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерш и поэтов. Весь служебный люд принимался неторопливо вершить обычные и нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов.
Дом народов был богат учреждениями и служащими. Учреждений было больше, чем в уездном городе домов. На втором этаже версту коридора занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок».
Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженый физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беге. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями.
В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками. Выясняли очередность ухода в отпуск. С криками «Бархатный сезон» все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе.
Когда председатель месткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персицкий с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Меринос», и заявил:
– А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь. В августе малярия.
– Ну вот и хорошо, – сказал председатель.
Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь.
Председатель в раздражении бросил список и ушел.
К Дому народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов. Стенной спиртовой термометр показывал восемнадцать градусов тепла, но на Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое кашне, каракулевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши – Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье.
Лучшим украшением лица Агафона Шахова была котлетообразная бородка. Полные щеки цвета лососиного мяса были прекрасны. Глаза смотрели почти мудро. Писателю было под сорок. Писать и печататься он начал с пятнадцати лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Это началось тогда, когда Агафон Шахов стал писать романы с психологией и выносить на суд читателя разнообразные проблемы. Перед читателями, а главным образом читательницами замелькали проблемы в красивых переплетах, с посвящением на особой странице: «Советской молодежи», «Вузовцам московским посвящаю», «Молодым девушкам». Проблемы были такие: пол и брак, брак и любовь, любовь и пол, пол и ревность, ревность и любовь, брак и ревность. Спрыснутые небольшой долей советской идеологии, романы получили обширный сбыт. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов, и даже написал восемьдесят страниц в три дня. Но в развернувшуюся любовную передрягу ответственного работника с тремя дамочками не смог вставить ни одного слова о снижении накладных расходов. Пришлось бросить. Однако восьмидесяти страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона.
Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет.
Слезши с извозчика у Дома народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую книжку и вошел в подъезд. По дороге писатель все время посматривал на задники своих калош: не стерлись ли. Он подошел к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берег здоровье, да и лифт в Доме народов полагался бесплатно.
Шахов вошел в отдел быта редакции «Станка», в котором часто печатался, и, ни с кем не поздоровавшись, спросил:
– Платят у ваc сегодня? Ну и хорошо. А что, «милостивый государь» еще не растратился?
«Милостивым государем» в редакции и конторе звали кассира Асокина. С него Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассира, знала это.
Сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошел в кассу получать деньги за рассказ.
– Здравствуй, «милостивый государь», – сказал писатель, – ты, я слышал, деньги даешь сегодня.
– Даю, Агафон Васильевич.
Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш.
– Вы, я слышал, произведение новое написали? Ребята рассказывали.
– Написал.
– Меня, говорят, описали?
– Ты там самый главный.
Кассир обрадовался.
– Так вы хоть дайте почитать, раз все равно описали.
Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, надписал на титульном листе: «Тов. Асокину дружески. Агафон Шахов».
– На, читай. Тираж десять тысяч. Вся Россия тебя знать будет.
Кассир благоговейно принял книгу и положил ее в несгораемый шкаф на пачки червонцев.
Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.
Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Старгородская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены.
Оставался самый томительный участок пути – последний чаc перед Москвой.
Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников.
Налетела Удельная, потом Малаховка, сгинуло куда-то Красково.
– Смотрите, Воробьянинов! – закричал Остап. – Видите – двухэтажная дача. Это дача Медсантруда.
– Вижу. Хорошая дача.
– Я жил в ней прошлый сезон.
– Вы разве медик? – рассеянно спросил Воробьянинов.
– Для того чтобы жить на такой даче, не нужно быть медиком.
Ипполит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. Он волновался.
В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними.
– Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? – встревоженно говорил он.
– Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.
Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны.
– Белый изотермический, Ташкентская, срочный возврат, годен для рыбы и мяса, оборудован крючьями.
– Темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения.
– Дюжина товарных Рязано-Уральской дороги. Измараны меловыми знаками.
– Нефтяные цистерны. Срочный возврат в Баку.
– Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вагон-клуб дорпрофсожа М.-Казанской дороги.
– Раз, два, три… Восемь… Десять… Платформы, груженные лесом.
И вдруг, в стороне, забытый вагон – обтрепанный вагон-микст с надписью: «Деникинский фронт».
Пути вздваивались.
Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло.
От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.
Это была Москва. Это был Рязанский – самый свежий и новый из всех московских вокзалов.
Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.
Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского – попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского – выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик – наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это – башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии – сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших.
Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.
Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.
– Очень удобно для свиданий! – сказал Остап. – Всегда есть десять минут форы.
– Мы куда теперь? В гостиницу? – спросил Воробьянинов, сходя с вокзальной паперти и трусливо озираясь.
– Здесь в гостиницах, – сообщил Остап, – живут только граждане, приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ, частники. Мы не любим накладных расходов.
Остап подошел к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил Ипполита Матвеевича.
– На Сивцев Вражек! – сказал он. – Восемь гривен.
Извозчик обомлел. Завязался нудный спор, в котором часто упоминались цены на овеc и ключ от квартиры, где деньги лежат.
Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.
Подле реставрированных тщанием Главнауки Красных ворот расположились заляпанные известкой маляры с саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садовой-Спасской.
– Запасный дворец, – заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное, белое с зеленым, здание по Новой Басманной.
– Работал я и в этом дворце, – сказал Остап, – он, кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. А вот и Мясницкая. Замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники, а на второе – мельничные жернова. Тут ничем другим не торгуют.
– Тут и раньше так было. Хорошо помню. Я заказывал на Мясницкой громоотводы для своего старгородского дома.
Когда проезжали Лубянскую площадь, Ипполит Матвеевич забеспокоился.
– Куда мы, однако, едем? – спросил Ипполит Матвеевич.
– К хорошим людям, – ответил Остап, – в Москве их масса. И все мои знакомые.
– И мы у них остановимся?
– Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.
В сквере против Большого театра уже торчала пальмочка, анонсируя, что лето наступило и что желающие подышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за две тысячи верст.
В академических театрах еще свирепствовала зима. Зимний сезон был в разгаре. Афиши сообщали о первом представлении оперы «Любовь к трем апельсинам», о «Последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова» и о всемирно известном капитане с его шестьюдесятью крокодилами в Первом госцирке.
В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.
На углу Тверской беготня экипажей, как механических, так и приводимых в движение конной тягой, была особенно бурной. Дворники поливали мостовые и тротуары из тонких, как краковская колбаса, шлангов. Со стороны Моховой выехал ломовик, груженный фанерными ящиками с папиросами «Наша марка».
– Уважаемый! – крикнул он дворнику. – Искупай лошадь!
Дворник любезно согласился и перевел струю на рыжего битюга. Битюг, плотно упершись передними ногами, позволил себя купать. Из рыжего он превратился в черного и сделался похож на памятник некоей лошади. Движение конных и механических экипажей остановилось. Купающийся битюг стоял на самом неудобном месте. По всей Тверской, Охотному ряду, Моховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Место происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шоферы дышали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда несся крик:
– Чего стал?
– Дай лошадь искупать! – огрызался возчик.
– Да проезжай ты, говорят тебе, ворона!
Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать лошадь, и освежившийся битюг успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка все увеличивалась. Выбраться из всей этой каши возчик не мог, и битюг все еще стоял поперек улицы.
Посреди содома находились концессионеры. Остап, стоя в пролетке, как полицмейстер, мчащийся на пожар, отпускал сардонические замечания и нетерпеливо ерзал ногами.
Через полчаса движение было урегулировано, и путники выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом Вражке.
– Что это за дом? – спросил Ипполит Матвеевич.
Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:
– Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца.
– Неужели монаха?
– Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко.
Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курc и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди.
Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.
– Свет и воздух, – сказал Остап.
Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел.
– Не пугайтесь, – заметил Остап, – это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, – лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.
Крик, который сейчаc же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.
– Что, больно? – осведомился Остап. – Это еще ничего. Это – физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений – жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.
По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.
– Ты дома, Коля? – тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.
В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.
– Дома, – ответили за дверью.
– Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! – зашептал женский голоc из крайнего пенала слева.
– Да дайте же человеку поспать! – буркнул пенал № 2.
В третьем пенале радостно зашипели:
– К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.
В пятом пенале молчали. Там ржал примуc и целовались.
Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми – для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены – и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки.
Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.
– Прекрасное утро, сударыня, – сказал Ипполит Матвеевич.
Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.
– Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчаc покажу? Слушайте!
И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала:
– Зверевы дураки!
За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.
– Видите? Они ничего не слышат. Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите!..
– Да, – сказал Ипполит Матвеевич.
– А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле…
В это время вернулся Коля с Остапом.
– Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.
– Верно, ребята! – закричал Коля. – Идите к Иванопуло. Это свой парень.
– Приходите к нам в гости, – сказала Колина жена, – мы с мужем будем очень рады.
– Опять в гости зовут! – возмутились в крайнем пенале. – Мало им гостей!
– А вы – дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! – сказала Колина жена, не повышая голоса.
– Ты слышишь, Иван Андреевич, – заволновались в крайнем пенале, – твою жену оскорбляют, а ты молчишь.
Подали свой голоc невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопуло.
Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей».
– Не беда, – сказал Остап, – я знаю, где ключ.
Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.
Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.
– Отлично устроимся, – сказал Остап, – приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей – сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?
Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.
– Аут, – сказал Остап, – класc игры невысокий. Однако давайте отдыхать.
Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой.
Не успели они как следует улечься на телеграммах и хронике театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна, и сосед Пантелея вызывающе крикнул теннисистам:
– Да здравствует Советская Республика! Долой хищ-ни-ков им-периа-лиз-ма!
Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с полу.
– Что это за коллекционер хищников?
Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседнего окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что они кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Милиционер озабоченно поглядывал то на молодых людей, то за решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелое. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного. А с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решеткой в теннис, могли принять это на свой счет и обидеться. Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение наконец закончилось. К молодым людям пришли гости, и соседи занялись громогласным решением шахматной задачи.
Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.
Уважайте матрацы, граждане!
– Лиза, пойдем обедать!
– Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
– Я тебя не понимаю.
– Не пойду я есть фальшивого зайца.
– Ну и глупо!
– Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.
– Сегодня будешь есть шарлотку.
– Мне что-то не хочется.
– Говори тише. Все слышно.
И молодые супруги перешли на драматический шепот.
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.
– Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? – закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.
– Да говори тише! – громко закричала Лиза. – И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?
Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.
Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое – борщ монастырский и одно второе – фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» – задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:
– Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.
– Конечно, – с застенчивой иронией сказала Лиза, – например, ангина.
– Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.
– Как это глупо!
– Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.
– Ты хочешь сказать, что я дура?
– Это глупо.
– Глупая дура?
– Оставь, пожалуйста. Что это такое, в самом деле?
Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.
– Ведь ты пойми, – закричал Коля, – какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!
– Пусть отнимает! – сказала Лиза. – Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.
– Почему же ты не хотела говорить?
– У меня не было сил. Я боялась заплакать.
– А теперь ты не боишься?
– Теперь мне уже все равно.
Лиза всплакнула.
– Лев Толстой, – сказал Коля дрожащим голосом, – тоже не ел мяса.
– Да-а, – ответила Лиза, икая от слез, – граф ел спаржу.
– Спаржа не мясо.
– А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал – лопал, лопал, лопал!
– Да замолчи!
– Лопал! Лопал! Лопал!
– А когда «Крейцерову сонату» писал, тогда тоже лопал? – ядовито спросил Коля.
– «Крейцерова соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках!
– Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым?
– Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?
Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.
– Куда ты идешь?
– Оставь меня в покое. Иду по делу.
И Лиза убежала.
«Куда она могла пойти?» – подумал Коля. Он прислушался.
– Много воли дано вашей сестре при советской власти, – сказали в крайнем слева пенале.
– Утопится! – решили в третьем пенале.
Пятый пенал развел примуc и занялся обыденными поцелуями.
Лиза взволнованно бежала по улицам.
Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрацы.
Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся цветочках, основу своего счастья!
Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это – семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец.
Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег «до среды», шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов.
Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:
Под мягкий звон часов Буре приятно отдыхать в качалке.
Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.
Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.
Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки – бескорыстно, повинуясь законам природы.
Начинается цветение молодости. Финагент, собравши налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примуc «Ювель № 1».
Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего мяча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:
– Пойди! Купи рубель и скалку!
– Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра!
– Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку.
Матрац все помнит и все делает по-своему.
Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.
– Я сломлю твое упорство, поэт! – говорит матрац. – Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.
– У меня нет жены! – кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.
– Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.
– Я не люблю детей!
– Ты полюбишь их!
– Вы пугаете меня, гражданин матрац!
– Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве кредит на мебель.
– Я убью тебя, матрац!
– Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.
Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливцы.
Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день.
Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:
– Эх! Люди жили!
Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин – штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?
В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит тоскуя:
– Эх! Люди жили!
Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни.
«Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примуc в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться».
Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.
– Это просто безобразие! – сказала она вслух.
Есть захотелось еще сильней.
– Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.
И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацевладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Вареная собачина была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее.
«Пусть видят!» – решила озлобленная Лиза.
Музей мебели
Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской:
МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль.
Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:
– Богато жили люди!
Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.
В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять.
Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой – мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел.
В такое кресло хотелось сейчаc же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.
Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило – ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.
По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами.
Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые – Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик.
– Вот хорошо! – сказала Лиза. – Будет не так скучно.
Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками.
Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха.
Зал был где-то под ногами, может быть, справа, но попасть в него было невозможно.
Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез.
Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником.
Подходя, Лиза услышала звучный голос:
– Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.
– Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть.
– Здравствуйте, – сказала Лиза.
Оба повернулись и сразу сморщились.
– Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я ваc нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе.
Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков брильянтовой мебели.
– Мы – типичные провинциалы, – сказал Бендер нетерпеливо, – но как попали сюда вы, москвичка?
– Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.
– Вот как? – заметил Ипполит Матвеевич.
– Ну, покинем этот зал, – сказал Остап.
– А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.
– Начинается! – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: – Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.
– Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса, – сообщил Ипполит Матвеевич, – туда, пожалуй, отправимся.
Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.
Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратные сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.
– Потерпим, – шепнул Остап, – мебель не уйдет; а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную.
Воробьянинов самодовольно улыбнулся.
Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.
– Смотрите, смотрите! – доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. – Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда?
– Прелестная мебель! – гневно сказал Остап. – Упадочная только.
Мебель не произвела на Ипполита Матвеевича должного впечатления. Между тем она была прекрасна. Совершенство ее форм поражало глаз.
Лиза мечтательно сказала:
– На этом кресле, может быть, сидел Пушкин.
– Кто вы говорите? Пушкин? – спросил Остап. – Сейчаc я узнаю.
Остап стал на колени и заглянул под сиденье.
– На нем сидел О’Генри в бытность его в американской тюрьме Синг-Синг. Вы удовлетворены? А теперь мы смело можем перейти в другую комнату.
Стада диванов, секретеров, горок, шкафов – все стили, все времена, все эпохи – были осмотрены концессионерами, а залы, большие и маленькие, все еще тянулись.
– А здесь я уже была, – сказала Лиза, входя в красную гостиную, – здесь, я думаю, останавливаться не стоит.
К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые.
– Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала.
– Подождите, – сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки, – одну минуточку.
Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.
– Вы устали, барышня, – сказал он Лизе, – присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал.
Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.
– Они? – опросил Остап.
– Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть.
– Все стулья тут?
– Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите…
Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.
– Позвольте, – сказал он наконец, – двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.
– А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья.
Они стали ходить между стульями.
– Ну? – торопил Остап.
– Спинка как будто не такая, как у моих.
– Значит, не те?
– Не те.
– Напрасно я с вами связался, кажется.
Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.
– Ладно, – сказал Остап, – заседание продолжается. Стул – не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчаc приду.
– Чего это вы такой грустный? – говорила Лиза. – Вы устали?
Ипполит Матвеевич отделывался молчанием.
– У ваc голова болит?
– Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.
Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за брильянтами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.
– Да, – сказал он, нежно глядя на собеседницу, – такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета…
– Петровна. А ваc как зовут?
Обменялись именами-отчествами.
«Сказка любви дорогой», – подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.
– Вы научный работник? – спросила Лиза.
– Да, некоторым образом, – ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство.
– А сколько вам лет, простите за нескромность?
– К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.
Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.
– Но все-таки? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?
– Почти. Тридцать восемь.
– Ого! Вы выглядите значительно моложе.
Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.
– Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? – спросил Ипполит Матвеевич в нос.
Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.
– Куда это товарищ Бендер запропастился? – сказала она тоненьким голосом.
– Так когда же? – спросил Воробьянинов нетерпеливо. – Когда и где мы увидимся?
– Ну, я не знаю. Когда хотите.
– Сегодня можно?
– Сегодня?
– Умоляю вас.
– Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.
– Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом».
– Это Жарова стихи?
– М-м… Кажется. Так сегодня? Где же?
– Какой вы странный! Где хотите. Хотите – у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет…
Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.
– Простите, мадемуазель, – сказал он быстро, – но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.
У Ипполита Матвеевича захватило дыханье.
– До свиданья, Елизавета Петровна, – сказал он поспешно, – простите, простите, простите, но мы страшно спешим.
И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью.
– Если бы не я, – сказал Остап, когда они спускались по лестнице, – ни черта бы не вышло. Молитесь на меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?
– Что за издевательство! – воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.
– Молчание, – холодно сказал Остап, – вы не знаете, что происходит. Если мы сейчаc не захватим нашу мебель – кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.
– Ну, и что же? – закричал Ипполит Матвеевич. – Что же сказал вам заведующий?
– Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите, – спросил я его, – чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель? – спрашивает он. – У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?
– Пропала? – пискнул Воробьянинов.
– Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены?
– Скорее! – закричал Ипполит Матвеевич.
– Извозчик! – завопил Остап.
Они сели не торгуясь.
– Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.
В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы.
В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.
– Они? – спросил Остап.
– Боже, боже, – твердил Ипполит Матвеевич, – они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.
– На всякий случай проверим, – сказал Остап, стараясь быть спокойным.
Он подошел к продавцу:
– Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?
– Эти? Эти – да.
– А они продаются?
– Продаются.
– Какая цена?
– Цены еще нет. Они у наc идут с аукциона.
– Ага. Сегодня?
– Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.
– А сейчаc они не продаются?
– Нет. Завтра с пяти часов.
Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.
– Разрешите, – пролепетал Ипполит Матвеевич, – осмотреть. Можно?
Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.
– Молитесь на меня! – шептал Остап. – Молитесь, предводитель.
Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.
– Завтра, – говорил он, – завтра, завтра, завтра.
Ему хотелось петь.
Баллотировка по-европейски
В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.
Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались.
Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.
Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:
УМОЛЯЮ
лиц, знающих местопребывание.
Ушел из дому т. Бендер, лет 25—30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.
Указавш. прошу сообщ. за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацуевой.
– Это ваш сын? – участливо осведомились в конторе.
– Муж он мне! – ответила страдалица, закрывая лицо платком.
– Ах, муж!
– Законный. А что?
– Да ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.
Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла.
Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды». Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.
Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело: муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?
К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами: «Местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик: «Получите билеты!» – Полесов важно говорил: «Годовой», – и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.
Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след.
Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.
– А как вы думаете, Елена Станиславовна, – говорил он, – чем объяснить отсутствие наших руководителей?
Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.
– А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, – продолжал неугомонный слесарь, – что они выполняют сейчаc особое задание?
Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчаc все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом».
– А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть сложа руки!
Гадалка согласилась и заметила:
– А ведь Ипполит Матвеевич герой!
– Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.
И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и орала», особенно допекая осторожного владельца «Одесской бубличной артели – «Московские баранки», гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления.
К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.
– Ты, Виктор, не болбочи, – говорил ему рассудительный Дядьев, – чего ты целыми днями по городу носишься?
– Надо действовать! – кричал Полесов.
– Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал – дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская – представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у наc что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.
– Ну, в этом мы и не сомневаемся, – сказал Чарушников, надуваясь.
– И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?
Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.
– Что же нам сейчаc делать? – нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.
– Погодите, – сказал Дядьев, – берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры!
– Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! – воскликнули молодые люди Никеша и Владя.
Чарушников снисходительно закашлялся.
– Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай – в диктаторы!
– Да что вы, господа, – сказал Дядьев, – предводитель – дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю…
– Господина Дядьева! – восторженно закричал Полесов. – Кому же еще взять бразды над всей губернией?
– Я очень польщен доверием… – начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.
– Этот вопрос, господа, – сказал он с надсадой в голосе, – следовало бы провентилировать.
На Дядьева он старался не смотреть.
Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.
– Я не возражаю, – вымолвил он, – давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым?
– Нам по-советскому не надо, – обиженно сказал Чарушников, – давайте голосовать по-честному, по-европейски – закрыто.
Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова – две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.
Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.
Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него.
Другой голоc Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:
– А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.
– Почему же – все-таки? – проговорил великодушный губернатор. – Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.
– Просим, просим! – закричали все.
– Так считать избрание утвержденным?
Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:
– Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте!
В пустую сахарницу посыпались бумажки.
– Шесть голосов – за, – сказал Полесов, – и один воздержался.
– Поздравляю вас, господин голова! – сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. – Поздравляю вас!
Чарушников расцвел.
– Остается освежиться, ваше превосходительство, – сказал он Дядьеву. – Слетай-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть?
Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.
Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:
– Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил.
На Владю набросились.
– В такой решительный час, – закричали ему, – нельзя помышлять о собственном благе! Подумайте об отечестве.
Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.
Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.
Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора; заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.
– Паз-звольте! – воскликнул вдруг Чарушников. – Губернатору целых два чиновника! А мне?
– Городскому голове, – мягко сказал губернатор, – чиновников для особых поручений не полагается по штату.
– Ну, тогда секретаря.
Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.
– Нельзя ли, – сказала она, робея, – тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой… Очень, очень милый, очень способный… Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз… Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.
– Пожалуй, можно будет, – милостиво сказал Чарушников, – как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся.
– Что ж, – заметил Дядьев, – кажется, в общих чертах… все? Все как будто?
– А я? – раздался вдруг тонкий, волнующийся голос.
Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и орала».
Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.
– Виктор Михайлович! – застонали все. – Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчаc же!
Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела.
– Господа, – сказала она, – это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?
Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.
– Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?
– А, Виктор Михайлович? – спросил губернатор. – Хотите быть попечителем?
– Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! – поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.
– А Распо-опов? – обидчиво протянул Виктор Михайлович. – Вы же уже назначили Распопова?
– Да, в самом деле, куда девать Распопова?
– В брандмейстеры, что ли?..
– В брандмейстеры! – заволновался вдруг Виктор Михайлович.
Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его на пожар городского театра.
– Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!
– Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер.
– За процветание пожарной дружины! – иронически сказал председатель биржевого комитета.
На Кислярского набросились все:
– Вы всегда были левым! Знаем вас!
– Господа, какой же я левый?
– Знаем, знаем!..
– Левый!
– Все евреи левые!
– Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.
– Левый, левый, не скрывайте!
– Ночью спит и видит во сне Милюкова!
– Кадет! Кадет!
– Кадеты Финляндию продали, – замычал вдруг Чарушников, – у японцев деньги брали! Армяшек разводили.
Кислярский не вынеc потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:
– Я всегда был октябристом и останусь им.
Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.
– Прежде всего, господа, демократия, – сказал Чарушников, – наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!
– Надеюсь, – ядовито заинтересовался губернатор, – среди наc нет так называемых социал-демократов?
Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит.
Заговорили о войне.
– Не сегодня завтра, – сказал Дядьев.
– Будет война, будет.
– Советую запастись кое-чем, пока не поздно.
– Вы думаете? – встревожился Кислярский.
– А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчаc же мука с рынка долой! Серебряные монетки – как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука.
– Война – дело решенное.
– Вы как знаете, – сказал Дядьев, – а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.
– А ваши дела с мануфактурой?
– Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.
Полесов усмехнулся.
– Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них – ну, как вы думаете, сколько аэропланов?
– Штук двести!
– Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.
– Да-а… Довели большевики до ручки.
Разошлись за полночь.
Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно.
– Губернатор! – говорил Чарушников. – Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?
– Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.
– Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.
– За баллотированного двух небаллотированных дают.
– Па-апрашу со мной не острить! – закричал вдруг Чарушников на всю улицу.
– Что же ты, дурак, кричишь? – спросил губернатор. – Хочешь в милиции ночевать?
– Мне нельзя в милиции ночевать, – ответил городской голова, – я советский служащий…
Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.
От Севильи до Гренады
Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?
Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку…
Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет.
Едет отец по России. Только письма жене пишет.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное им в Харькове, на вокзале,
своей жене в уездный город N
Голубушка моя, Катерина Александровна!
Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время.
Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.
Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси.
Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.
Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее брильянты.
Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти брильянты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.
Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно.
Ты уж меня не виновать.
Приехал я в Старгород, и представь себе – этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник – нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.
Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение); несу я мою мебель к себе в номера «Сорбонна», и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю – Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.
Разломали мы стул – ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался.
Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.
«Какой, – говорю, – срам на старости лет, какая, – говорю, – дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, – говорю, – низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его».
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.
А я пошел к себе в номера «Сорбонна» и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался – пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич – очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом № 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут как раз в «Сорбонне» я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.
Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.
Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во‐вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунc служит теперь в Ростове, в «Новоросцементе», как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через чаc товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек.
Что у наc слышно в городе? Что нового?
Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.
Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный – центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал.
Сделай:
1) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги, 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж.
Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду.
Нежно целую, обнимаю и благословляю.
Нотабене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?
Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.
Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.
Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.
Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.
Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.
От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей…
В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей…
Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.
Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина.
Но вот послышались легкие, неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча.
– Это вы, Елизавета Петровна? – спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.
В ответ пробасили:
– Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь.
Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.
Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу, под карамельно-зеленое вечернее небо.
– Где же мы будем гулять? – спросила Лиза.
Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и, вместо того чтобы прямо сказать: «Я здесь, Инезилья, стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.
– Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчаc во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз» – есть такая песенка.
Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа Спасителя.
За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.
Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей – бывших химиков – и об однообразии вегетарианского стола.
Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.
– Пойдемте в театр, – предложил Ипполит Матвеевич.
– Лучше в кино, – сказала Лиза, – в кино дешевле.
– О! При чем тут деньги! Такая ночь, и вдруг какие-то деньги.
Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого тридцать четвертого ряда.
В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.
После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в «Прагу», образцовую столовую МСПО – «лучшее место в Москве», – как говорил ему Бендер.
«Прага» поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно: она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.
Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики.
– Пройдемте туда, в угол, – предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурное попурри из «Баядерки», были свободные столики.
Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне.
Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях.
– Будьте добры! – взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.
– Сию минуточку-с! – кричали официанты на ходу.
Наконец карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.
– Однако, – пробормотал он, – телячьи котлеты – два двадцать пять, филе – два двадцать пять, водка – пять рублей.
– За пять рублей большой графин-с, – сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.
«Что со мной? – ужасался Ипполит Матвеевич. – Я становлюсь смешон».
– Вот, пожалуйста, – сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, – не угодно ли выбрать? Что будете есть?
Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает что-то не то.
– Я совсем не хочу есть, – сказала она дрогнувшим голосом. – Или вот что… Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?
Официант стал топтаться, как конь.
– Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной.
– Тогда вот что, – сказал Ипполит Матвеевич, решившись, – дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?
– Буду.
– Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.
– В графинчике будет.
– Тогда – большой графин.
Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.
– Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?
В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.
– Не надо, – с неприятной грубостью сказал он. – Почем у ваc огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.
Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:
– Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.
– Да-а, – протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.
«Ничего, – думал он, – выпью водки – разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то».
Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.
Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.
На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.
– Ну, вот мы снова увиделись с вами, – развязно сказал он в публику. – Следующим номером нашей консертной пррогрраммы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной Роще. Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйте!
Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин.
Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной Роще, и запел:
Хо́дите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Хо́дите,
Та-ра-ра-ра, —
Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать:
Хо́дите,
Та-ра-ра-ра…
Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола:
– Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.
– Нет, зачем же? Как дворянин не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..
На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.
– Девять рублей двадцать копеек? – бормотал он. – Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?
Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.
В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.
– Слушайте! – говорила она. – Слушайте! Слушайте!
– Поедем в номера! – убеждал Воробьянинов.
Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчаc же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.
Ночной зефир
Струит эфир…
Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:
– Держи вора!
Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал:
Хо́дите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра…
Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про брильянты.
– Веселый барин! – воскликнул извозчик.
Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции.
Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.
Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла.
Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.
Экзекуция
Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.
– Похоже на то, – сказал Остап, – что уже завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.
Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.
Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчаc же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья.
Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой.
«А большой бы здесь начался переполох, – подумал Остап, оглядывая аукционную публику, – если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».
– Фигура, изображающая правосудие! – провозгласил аукционист. – Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной, справа, в конце – семь. Восемь рублей в первом ряду, прямо. Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз, в первом ряду, прямо.
К гражданину из первого ряда сейчаc же понеслась девица с квитанцией для получения денег.
Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая.
Время тянулось мучительно.
– Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.
В публике засмеялись.
– Купите, предводитель, – съязвил Остап, – вы, кажется, любите.
Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.
– Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?
В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь «Правосудие» в полном составе.
– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!
– Шесть! – четко сказал гражданин.
– Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа.
– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель «Правосудия», поднимая руку.
– С полтиной, прямо. Второй раз, с полтиной, прямо. Третий раз, с полтиной.
Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня.
Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу.
– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист.
– Почему из дворца? – тихо ахнул Ипполит Матвеевич.
Остап рассердился:
– Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!
– Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.
Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.
– Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! – зашипел Остап. – Сядьте, я вам говорю!
У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.
– Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.
Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.
– Чего же вы не торгуетесь? – набросился на него Воробьянинов.
– Пошел вон, – ответил Остап, стиснув зубы.
– Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок.
Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.
Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья («Чудесные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!») и подняла руку.
– Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз.
Зал потух. Слишком дорого.
– Сто сорок пять. Два.
Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.
– Сто сорок пять. Три.
Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:
– Двести.
Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа.
– Двести, раз, – сказал он, – двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей – три, в четвертом ряду справа.
Рука с молоточком повисла над кафедрой.
– Мама! – сказал Ипполит Матвеевич громко.
Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.
– Продано, – сказал аукционист. – Барышня! В четвертом ряду справа.
– Ну, председатель, эффектно? – спросил Остап. – Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?
Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.
– Вы купили стулья?
– Мы! – воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. – Мы, мы. Когда их можно будет взять?
– А когда хотите. Хоть сейчас!
Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. «Наши стулья, наши, наши, наши!» Об этом кричал весь его организм. «Наши!» – кричала печень. «Наши!» – подтверждала слепая кишка.
Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем.
– А почему же двести тридцать, а не двести? – услышал Ипполит Матвеевич.
Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
– Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора, – ответила барышня.
– Ну, что же делать! Берите!
Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия:
– Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите – дамочка ждет. Ну?
Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.
– Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
– У меня нет денег, – пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.
– У кого нет? – спросил Остап очень тихо.
– У меня.
– А двести рублей?!
– Я… м-м-м… п-потерял.
Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
– Дайте деньги! – прошептал он с ненавистью. – Старая сволочь!
– Так вы будете платить? – спросила барышня.
– Одну минуточку, – сказал Остап, чарующе улыбаясь, – маленькая заминка.
Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами.
Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
– Позвольте! – завопил он. – Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей.
– Хорошо, – сказала барышня кротко, – я сейчаc все устрою.
Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчаc же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
– По правилам аукционного торга, – звонко заявил он, – лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.
Изумленные друзья сидели недвижимо.
– Папрашу вас! – сказал аукционист.
Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
– Па-апра-ашу вас!
Аукционист пел голосом, не допускающим возражений.
Смех в зале усилился.
И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора.
Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал.
– Возмутительные порядки, – трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, – форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.
Остап молчал.
– Нет, действительно, это ч-черт знает что такое! – продолжал горячиться Воробьянинов. – Дерут с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти…
– Да, – деревянно сказал Остап.
– Правда? – переспросил Воробьянинов. – С ума сойти можно!
– Можно.
Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе беc в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
– Ну, теперь пошел вон!
Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся.
Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.
– Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?
– Това-арищ Бендер, – взмолился Воробьянинов. – Товарищ Бендер!
– Иди! Иди! И к Иванопуло не приходи! Выгоню!
– Това-арищ Бендер!
Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться.
– Все пропало! – пробормотал он.
– Что пропало? – угодливо спросил Воробьянинов.
– Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я ваc не держу. Только сомневаюсь, чтобы ваc пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо.
В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.
– Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?
К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие.
– Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите – кто и что. Чтоб ни один стул не ушел.
В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.
Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану.
Еще саженей за десять он увидел молодого человека, расставлявшего треногу фотографического аппарата. В котле сидели беспризорные. Как только они увидели, что их тесную группу собираются фотографировать, они стали защищаться. В фотохроникера полетели куски смолы. Он отскочил, таща за собой похожую на жертвенник треногу с клап-камерой. Переправившись на другой тротуар, фотограф сделал попытку снять беспризорных издалека. Тогда юные оборвыши покинули котел и набросились на врага. Испуганный за целость своего аппарата, фотограф спасся Петровскими линиями.
Из гущи собравшейся толпы лениво вышел фотокорреспондент конкурирующего журнала. Беспризорные смотрели на него безо всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как волнуют тореадора взгляды красавиц. К тому же он был тонкий психолог. Он подошел к детям, дал на всю компанию полтинник, и уже через минуту беспризорные чинно сидели в котле, а фотограф общелкивал их со всех сторон.
– Мерси, – сказал он по привычке, – готово.
Его проводил одобрительный смех расходившейся публики.
Тогда в деловой разговор с беспризорными вступил Остап.
Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.
– Продают, продают, – зашептал Ипполит Матвеевич, – четыре и два уже продали.
– Это вы удружили, – сказал Остап, – радуйтесь. В руках все было, понимаете – в руках. Можете вы это понять?
В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам:
– C полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности. С полтиной, прямо. Раз – с полтиной, прямо.
Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.
– А скажите, – поспешно спросил он Остапа, – здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!
Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.
– Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Ах!..
Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.
– А скажите, стул можно сейчаc взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..
Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.
Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.
На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки.
У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.
– Добрый вечер, – решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу.
– Так будет со всеми, – сказал Коля детским голосом, – кто покусится…
На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.
Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть.
– Правильно, – приговаривал Остап, – а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу… Еще разок… Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место.
Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз «Меча и орала» прекратил бы свое существование.
– Ну, кажется, хватит, – сказал Коля, пряча руку в карман.
– Еще один разик, – умолял Остап.
– Ну его к черту! Будет знать другой раз!
Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.
– Гражданин Михельсон! – крикнул Остап. – Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!
В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.
– Неслыханная наглость! – сказал он гневно. – Я еле сдержал себя.
– Ай-яй-яй, – посочувствовал Остап, – какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивает чужие деньги… Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?
– Я его вызову на дуэль!
– Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он – бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках – это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Ваc это устраивает, предводитель?
В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.
Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.
Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья – Варсонофьевский, – он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.
– Очень шибко бежал, – сказал беспризорный, – из головы выскочило.
– Не получишь денег, – заявил наниматель.
– Дя-адя!.. Да я тебе покажу.
– Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе.
Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адреc его Остап записал в блокнот.
Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка».
Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.
– Казарменный переулок, у Чистых Прудов.
– Номер?
– Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.
Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя – у ворот стояли стрелки ОБО НКПС.
– Наверно, уехал, – закончил беспризорный свой доклад.
Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски – рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день пораньше), – технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.
– Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее – самое верное. Но денег мало.
Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.
Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! – расплывчатый и туманный.
– Ну, что ж, – сказал Остап громко. – На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!
Людоедка Эллочка
Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет триста слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:
1. Хамите.
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
3. Знаменито.
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
5. Мрак.
6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)
7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
8. Не учите меня жить.
9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», – при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», – как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
10. Кр-р-расота!
11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)
14. У ваc вся спина белая. (Шутка.)
15. Подумаешь.
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна – анфас, другая – в профиль), то не трудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик и подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком.
Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.
Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива.
Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.
Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.
– Хо-хо! – воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее.
Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я – самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре».
Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное – «хо-хо».
В такой великий чаc к ней пришла Фимка Со́бак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.
– Ого! – сказала Эллочка сама себе.
Это значило: «Или я, или она».
Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.
Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.
Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Со́бак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спаc любвеобильный папа Вандербильд.
Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с брильянтовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку).
Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля.
Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.
– Мрачный муж пришел, – отчетливо сказала Эллочка.
Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.
– Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья?
– Хо-хо!
– Нет, в самом деле?
– Кр-расота!
– Да. Стулья хорошие.
– Зна-ме-ни-тые!
– Подарил кто-нибудь?
– Ого?
– Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил…
– Эрнестуля! Хамишь!
– Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!
– Подумаешь!
– Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
– Шутите!
– Да, да. Вы живете не по средствам…
– Не учите меня жить!
– Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей…
– Мрак!
– Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею…
– Жуть!
Эрнест Павлович замолчал.
– Вот что, – сказал он наконец, – так жить нельзя.
– Хо-хо, – сказала Эллочка, садясь на новый стул.
– Нам надо разойтись.
– Подумаешь!
– Мы не сходимся характерами. Я…
– Ты толстый и красивый парниша.
– Сколько раз я просил не называть меня парнишей!
– Шутите!
– И откуда у тебя этот идиотский жаргон!
– Не учите меня жить!
– О, черт! – крикнул инженер.
– Хамите, Эрнестуля.
– Давай разойдемся мирно.
– Ого!
– Ты мне ничего не докажешь! Этот спор…
– Я побью тебя, как ребенка.
– Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчаc же иду за ломовиком.
– Шутите!
– Мебель мы делим поровну.
– Жуть!
– Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу…
– Знаменито, – сказала Эллочка презрительно.
– А я перееду к Ивану Алексеевичу.
– Ого!
– Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня… Только мебели нет.
– Кр-расота!
Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.
– Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра… И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?!
Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.
– У тебя вся спина белая, – сказала Эллочка граммофонным голосом.
– До свидания, Елена.
Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись:
– Поедешь в таксо? Кр-расота!
Инженер лавиной скатился по лестнице.
Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.
– Кажется, будут носить длинное и широкое, – говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.
– Мрак.
И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Соˊбак, несомненно, была культурной девушкой.
Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.
В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом.
– Не врешь?
– Что вы, дядя… Вот сюда, в парадное.
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
– Прибавить надо, – сказал мальчик по-извозчичьи.
– От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.
Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
– Ого? – спросили из-за двери.
– По делу, – ответил Остап.
Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.
Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.
– Прекрасный мех! – воскликнул он.
– Шутите! – сказала Эллочка нежно. – Это мексиканский тушкан.
– Быть этого не может. Ваc обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.
– Вы – парниша что надо, – заметила Эллочка в результате первых минут знакомства.
– Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?
– Хо-хо!
– Но я к вам по одному деликатному делу.
– Шутите!
– Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.
– Хамите!
– Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.
– Жуть!
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.
«Новое дело, – подумал он, – стулья расползаются, как тараканы».
– Милая девушка, – неожиданно сказал Остап, – продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.
– Хамите, парниша, – лукаво сказала Эллочка.
– Хо-хо, – втолковывал Остап.
«С ней нужно действовать иначе, – решил он, – предложим обмен».
– Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
Эллочка насторожилась.
– Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
– Должно быть, знаменито, – заинтересовалась Эллочка.
– Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне – стул, а я вам – ситечко. Хотите?
И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала:
– Хо-хо!
Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адреc мужа, галантно раскланялся.
Авессалом Владимирович Изнуренков
Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:
– И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там ваc покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте!
Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», – думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророc серебряный газончик.
В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Иванопуло уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ:
– Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекc мы должны чтить.
И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекc и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.
В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, – третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.
– Даже если в стульях ничего нет, – говорил Остап, – считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам самим приятнее.
В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа.
Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.
Высадившись у Красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.
Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:
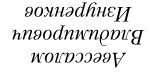
В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.
– Простите, – сказал он придушенным голосом, – могу я видеть товарища Изнуренкова?
Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет.
По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.
В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.
– Фу! – сказал Ипполит Матвеевич.
И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты – блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.
Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин – в пении, Горький – в литературе, Капабланка – в шахматах, Мельников – в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, – в чистке сапог желтым кремом.
Шаляпин пел. Горький писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков – острил.
Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.
Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.
– Это ужасно! – кричал он. – Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?
И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии.
После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами».
Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.
Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.
Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:
– Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу, наконец!
Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.
Воробьянинов не сомневался, что его сейчаc схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.
– Поймите же, – заговорил хозяин примирительным тоном, – ведь я не могу на это согласиться.
Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.
– Это не я виноват. Виноват сам Музпред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул – тоже орудие производства!
Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.
– Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!
Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:
– Простите, недоразумение, служба такая.
Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.
– Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!
Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.
– Подождите! – крикнул вдруг Изнуренков. – Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?
Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.
– Высокий класс!.. – бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. – Ах!.. Ах!..
Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи:
– Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда…»
– Так я пойду, гражданин, – глупо сказал директор концессии.
– Подождите, подождите! – заволновался вдруг Изнуренков. – Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..
Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.
– Простите, душечка, – сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски.
C этими словами он дал предводителю полтинник.
– Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.
– Премного благодарен, – сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.
– Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!..
Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики.
На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.
Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.
Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчаc же вскочил. Все было раскалено. «Пойду умоюсь», – решил он.
Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.
– Хорошо! – сказал Эрнест Павлович. Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить.
Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. «Пусть хоть он воды принесет, – решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, – а то черт знает что такое».
Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.
– Дворник! – закричал Эрнест Павлович. – Дворник!
Никто не отозвался.
Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев.
– Дворник! – крикнул он вниз.
Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам.
– Гу-гу! – ответила лестница.
– Дворник! Дворник!
– Гум-гум! Гум-гум!
Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась.
Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет.
«Положение», – подумал Эрнест Павлович.
– Вот сволочь! – сказал он двери.
Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка.
По лестнице толкали вверх детскую колясочку.
Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.
– C ума можно сойти!
Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.
«Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» – подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.
Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел.
Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно – пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень.
Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.
Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило.
«Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!»
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.
Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца.
Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой.
Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался.
– Несносный мальчишка! – послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. – Сколько раз я ему говорила!
Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.
Очутившись на своей, загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды.
– Господи! – сказал инженер. – Боже мой! Боже мой!
Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!
Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог – нервы сдали. Он попал в склеп.
– Наследили за собой, как свиньи! – услышал он старушечий голоc с нижней площадки.
Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке.
Выхода не было.
Клуб автомобилистов
«Милостивый государь» Асокин читал новую книгу Агафона Шахова три вечера подряд. С каждой новой страницей сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герой книги – он, кассир. Сомнений не было никаких. Асокин узнавал себя во всем. Герой романа имел его привычки, рабски копировал прибаутки, носил один с ним костюм – военную гимнастерку коричневого цвета и брюки, ниспадающие на высокие каблуки ботинок.
Кассовая клетка «милостивого государя» была описана фотографически. Агафон Шахов был лишен воображения. Даже фамилия почти была та же: Ажогин. Сперва «милостивый государь» восторгался. Он был описан правильно.
– Любой знакомый узнает, – говорил кассир с гордостью.
Но уже шестая глава, где автор приписал кассиру кражу из кассы пяти тысяч рублей, вызвала в «милостивом государе» тревожный смешок.
Главы седьмая, восьмая и девятая были посвящены описанию титанических кутежей «милостивого государя» со жрицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. В этот вечер Асокин не ужинал. Он сидел в сквере на скамейке под самым электрическим фонарем и под его розовым светом читал о своей фантастической жизни. Сначала он испугался, что о его подвигах узнает начальство, но потом, вспомнив, что никаких подвигов не совершал, успокоился и даже почувствовал себя польщенным. Все-таки не кого другого, а именно его выбрал Агафон Шахов в герои нового сенсационного романа.
Асокин почувствовал себя намного выше и умнее того неудачливого растратчика, которого изобразил писатель. В конце концов он даже стал презирать беглого кассира. Во-первых, герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). На месте героя романа Асокин в крайнем случае предпочел бы даже простоватую Фенечку («пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер»), но никак не сволочь Эсмеральду, занимавшуюся хипесом. Дальше «милостивый государь» еще больше возмутился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах две тысячи казенных рублей. Асокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Асокин досадливо сплюнул. Одним только писатель ублаготворил Асокина – описанием кабаков, ужинов и различного рода закусок. Хорошо были описаны кабаки – с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. Семга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Хиоса. Зернистая икорка, эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов, не была забыта. Ее было описано, по меньшей мере, полпуда. Ее ели все главные и второстепенные персонажи романа. Асокину стало больно. Он никому не дал бы икры – сам бы съел. Шампанские бутылки, мартелевский коньяк (лучшие фирмы автору романа не были известны), фрукты, шелковая выпуклость дамских ножек, метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары – все это смешалось в роскошную груду, из-под которой растратчик выполз лишь в последней главе, чтобы тотчаc отправиться в уголовный розыск с повинной.
Дочитав роман, называвшийся «Бег волны», Асокин поежился от вечернего холодка и пошел домой спать.
Заснуть он не смог. Двойник давил на его воображение. На другой день, уходя из конторы, «милостивый государь» унеc c собой пять тысяч рублей, ровно столько, сколько растратил его преступный двойник. «Милостивый государь» решил использовать деньги рационально: заимствовать все достижения Ажогина и, учтя его ошибки, избежать недочетов.
Вечером Асокин учитывал достижения и избегал недочетов в компании девиц с Петровских линий. Обмен опытом обошелся в сто рублей. На рассвете отрезвевший «милостивый государь» вышел на Тверской бульвар и побрел от памятника Пушкину к памятнику Тимирязеву.
В редакцию в этот день он не пришел. У кассы образовалась очередь. Репортер Персицкий, выпросивший небольшой аванc и ждавший открытия кассовых операций уже полчаса, поднял страшный шум. Тогда за Асокиным послали курьера. Кассира не было и дома. Все остальное произошло очень быстро: распечатали и проверили кассу. Затем представитель администрации конторы поехал в МУР, чтобы заявить о пропаже кассира и денег. К своему крайнему удивлению, он встретился там с Асокиным, который грустно сидел за барьерчиком в комендатуре и неумело, по-взрослому, плакал. Растрата ста рублей так его испугала, что он сейчаc же побежал каяться. 4900 рублей были возвращены конторе в тот же день, репортер Персицкий получил следуемое, а Асокина, ввиду незначительности растраты, выпустили, сняв с него допроc и обязав подпиской о невыезде. Асокин пришел в редакцию и, уже не смея ни с кем говорить, мыкался по длиннейшему коридору Дома народов. Мимо проштрафившегося кассира прошел завхоз, таща с собой купленный на аукционе для редактора мягкий стул. Мимо него бегали сотрудники с пачками заметок. Кто-то искал секцию конфетчиков, и – видно – долго искал, потому что спрашивал о ней совсем уже слабым голосом. У Асокина узнавали, как пройти к выходу и куда можно сдать публикацию об утере документов. Молодой человек с громоздким портфелем несколько раз выпытывал, не имеет ли «милостивый государь» желания подписаться на Большую Советскую Энциклопедию в дерматиновых переплетах. Словом, ему задавали все те вопросы, которые задают граждане, бегущие по коридорам советского учреждения, встречному и поперечному.
Асокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждение. Асокин был отстранен от должности за непорядки в кассе. Позвонили Шахову. Шахов обрадовался.
– А?! – кричал он в телефон. – Не в бровь, а в глаз! Ну, кланяйтесь «милостивому государю»! Что? Незначительная сумма? Это не важно. Важен принцип!
Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема – проблема самоубийства.
В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор.
Выбирались из загона (материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.
Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио – и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.
Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:
– Как? Сегодня не будет шахмат?
– Не вмещаются, – ответил секретарь. – Подвал большой. Триста строк.
– Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец…
– Хорошо. Сколько вы хотите?
– Не меньше ста пятидесяти.
– Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.
Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер – Боголюбов лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили.
Пришел репортер Персицкий.
– Нужно давать впечатления с пленума? – спросил он очень тихо.
– Конечно! – закричал секретарь. – Ведь позавчера говорили.
– Пленум есть, – сказал Персицкий еще тише, – и две зарисовки, но они не дают мне места.
– Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума?
Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений.
– У наc секаровская жидкость! – кричал он грустным голосом.
За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул.
– Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения!
– Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.
– Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчаc как раз едет в ночную.
Секретарь сел читать передовую. Его сейчаc же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.
– Ага, – сказал секретарь, – очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.
– Я думаю так, – проговорил художник. – Стальной Шлем и общее положение Германии…
– Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.
Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте – «Данцигский коридор», на челюсти – «Мечты о реванше», на ошейнике – «План Дауэса» и на высунутом языке – «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал: «Пуанкаре». Набросок был готов.
На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа.
Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками «Жиллет», подсветляя их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер: 3 3/4 квадрата, 2 колонки и так далее – указания, потребные для цинкографии.
В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:
– Товарищ Арно желает узнать…
Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.
– Ого-го! – смеялись иностранцы. – Колоссаль!
Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров.
Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял.
Крик в секретариате продолжался. Персицкий принеc статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Ласкером на сен-себастианском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта».
Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса.
Когда он дошел до места: «…Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига Наций зарегистрирует его, то придется признать, что…», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки.
«Суд и быт» зашел с другой стороны и сказал обидчиво:
– Я не понимаю.
– Ну-ну, – забормотал секретарь, стараясь оттянуть время, – в чем дело?
– Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы…
– Где пишут? – закричал секретарь. – Я не читал.
– Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.
– А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от ваc нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в «Вечерку».
– Откуда вы это знаете?
– Знаю. Мне говорили.
– В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.
– Паша! – сказал секретарь тихо. – Позовите Персицкого.
«Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение.
Наступило самое горячее редакционное время – пять часов.
Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди.
По коридору ходил редакционный поэт в стиле
Слушай, земля.
Просыпаются реки,
Из шахт,
От пашен,
Станков…
От каждой
маленькой
библиотеки
Стоустый слышится рев…
Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:
– У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.
Это значило, что она любит другого. Тогда поэт уходил домой и писал стихи для души:
Меня манит твой взор туманный,
Кавказ сияет предо мной.
Твой рот, твой стан благоуханный…
О я, погубленный тобой!..
Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:
– Дайте десять копеек на трамвай!
За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали «читчики», и потрогав руками кипы корреспонденции, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимость прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом), молчали.
Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева: поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.
Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.
– Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное, – сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. – У наc образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев?
– Можешь не сомневаться.
– Что? Ты думаешь – мертвое дело?
– Не думаю, а знаю. Сколько же у ваc в кружке членов?
– Уже очень много.
Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся.
– За пятьсот рублей мы покупаем на «кладбище» машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца – к августу – мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет, куда ему угодно.
– А пятьсот рублей на покупку?
– Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?
Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном «Правду». Он подумал и отказался.
– Ты, – сказал Авдотьев, – старик!
Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцать копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но…
– Что «но»? – кричал Авдотьев. – Если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!
– Иди, иди! – говорили старички. – Сейчаc последний посыл, мешаешь работать!
Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:
– Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала.
И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.
– Ты, старый матрац, – говорил Персицкий голубоглазому юноше, – на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? На сколько? На пятьдесят? Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль.
– А если моя облигация выиграет? – защищался юноша.
– А сколько ты хочешь выиграть?
– Пятьдесят тысяч.
– На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю – тоже. И если Авдотьев – тоже. Словом, чья бы облигация ни выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах «Суд и быт» катит, хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино… Ну? Ну? Ухаживать будешь!..
Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с «кладбища» была гарантирована на составленный из облигаций капитал.
Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.
– А что, ребятки, – сказал он, – не записаться ли также и мне?
– Запишись, старик, отчего же, – ответил Авдотьев, – только не к нам. У наc уже, к сожалению, полный комплект, и прием новых членов прекращен до тысяча девятьсот двадцать девятого года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.
Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.
– Скажите, товарищ, – остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, – где здесь редакция газеты «Станок»?
Это был великий комбинатор.
Разговор с голым инженером
Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.
Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.
Но судьба судила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола.
На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.
Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенеc наказание. Прибежал милиционер.
– Требую протокола! – с пафосом закричал Остап.
В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее.
Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.
«За такие штуки надо морду бить», – решил Остап.
Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь.
Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
– О-о-о, – стонал голый, – о-о-о…
– Скажите, это вы здесь льете воду? – спросил Остап раздраженно. – Что это за место для купанья? Вы с ума сошли!
Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул.
– Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор!
– Ключ, – замычал инженер.
– Что ключ? – спросил Остап.
– От кв-в-варти-ыры.
– Где деньги лежат?
Голый человек икал с поразительной быстротой.
Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.
– Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!
Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.
Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру.
Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.
Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович, с криками «пардон! пардон!», закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.
– Вы меня просто спасли! – возбужденно кричал он. – Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.
– К тому, видно, и шло.
– Я очутился в ужасном положении.
И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.
– Если бы не вы, я бы погиб, – закончил инженер.
– Да, – сказал Остап, – со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.
Инженера настолько сейчаc интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.
– Совсем так, как с вами, – начал Бендер, – только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег: простуды я не боялся – дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз – градусов двадцать. Я стучу – не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю – не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый чаc стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом.
Инженеру все это было очень близко.
– Да, – сказал Остап, – так это вы инженер Щукин?
– Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.
– О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.
– Чрезвычайно буду рад вам служить.
– Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у ваc этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.
– Да, пожалуйста! – воскликнул Эрнест Павлович. – Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.
– Нет, зачем же! Для меня это – сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.
Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.
Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь как первый.
Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.
«Счастье, – рассуждал он, – всегда приходит в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай № 4, а там, кроме четвертого, проходят еще пятый, семнадцатый, пятнадцатый, тридцатый, тридцать первый, «Б», «Г» и две автобусные линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет «Г», потом два пятнадцатых подряд, что вообще противоестественно, затем семнадцатый, тридцатый, много «Б», снова «Г», тридцать первый, пятый, снова семнадцатый и снова «Б». И вот, когда вам начнет казаться, что четвертого номера уже не существует в природе, он медленно придет со стороны Брянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем нетрудно. Нужно только, чтобы трамвай пришел. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь: сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще одного раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы его дождетесь».
В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.
Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.
Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.
– Ого! – сказал технический руководитель. – Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?
– Товарищ Бендер, – пробормотал предводитель.
– Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.
Остап склонил голову набок и сощурил глаза.
– Не мучьте дитю, – забасил он наконец, – где стул? Почему вы его не принесли?
Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
– А мои инструкции? – спросил Остап грозно. – Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у ваc мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести ваc эти способности, – это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница.
Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.
– Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия.
Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.
– Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите – двадцать процентов?
Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.
– Почему же вы не хотите? Вам мало?
– М-мало.
– Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?
– Согласен на сорок.
– Грабеж среди бела дня! – сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой. – Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?
– Это вам нужен ключ от квартиры, – пролепетал Ипполит Матвеевич.
– Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.
Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски брильянтов.
Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания.
Его несло в открытое море приключений.
Два визита
Подобно распеленатому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках.
Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту.
Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту.
– Что плохо, то плохо, – говорил он, – конечно.
В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал.
Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события.
Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе».
Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали.
Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.
– Ах, ах, – вскрикивал Авессалом Владимирович, – божественно! «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир…» Ах, ах! Высокий класс!.. Вы – королева Марго.
Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась.
– Ну, ешьте шоколад, ну, я ваc прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!
Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:
– Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах!
Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи:
– Скажите, а это брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!
Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить комплименты. И он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа.
Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:
– Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?
Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.
– Что же это, товарищ, – жестко сказал Бендер, – это совсем не дело – прогонять казенного курьера.
– Какого курьера? – ужаснулся Изнуренков.
– Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул, – строго проговорил Остап.
Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.
– Нет! Сидите! – закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. – Они не имеют права.
– Насчет прав молчали бы, гражданин! Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!
C этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.
– Вывожу мебель! – решительно заявил Бендер.
– Нет, не вывозите!
– Как же не вывожу, – усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор, – когда именно вывожу.
Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.
– А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я уплачу!
Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:
– Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы!
Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты.
Остап отвез стул на извозчике.
– Учитесь, – сказал он Ипполиту Матвеевичу, – стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?
После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.
– Шансы все увеличиваются, – сказал Остап, – а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
– А что такое?
– Может быть, никаких брильянтов нет?
Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.
– В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопуло увеличится еще только на один стул.
– О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, – заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.
Остап нахмурился.
Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.
– Что вы мелете? В какой газете?
Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».
– Вот здесь. В отделе «Что случилось за день».
Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей – под суд».
Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь
извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.
– Это извозчик отделался легким испугом, а не я, – ворчливо заметил О. Бендер. – Идиоты! Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут. Ах! Это – «Станок». Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история!
Великий комбинатор задумался.
Повод для визита в редакцию был найден.
Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул.
Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов.
Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.
Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.
– Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, – сказал Бендер.
– Какая клевета? – спросил редактор.
Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.
Редактор прочел указанную Остапом заметку.
– В чем же вы, товарищ, видите клевету?
– Как же! А вот это:
Пострадавший отделался легким испугом.
– Не понимаю.
Остап ласково посмотрел на редактора и на стул.
– Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром – опровержение нужно.
– Вот что, гражданин, – сказал редактор, – никто ваc не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.
– Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, – говорил Остап, покидая кабинет.
Он уже увидел все, что ему было нужно.
Замечательная допровская корзинка
Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза «Хлебопродукта».
Прохожие останавливались.
– Куда очередь стоит? – спрашивали граждане.
В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.
– Дожили, – говорил брандмейстер, – скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.
Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду».
Доказав Полесову, как дважды два – четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.
Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.
В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки.
На другой день было изобретено противоядие.
Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним – его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.
Полесов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации.
Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена.
Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.
– Слушай, Генриетта, – сказал он жене, – пора уже переносить мануфактуру к шурину.
– А что, разве придут? – спросила Генриетта Кислярская.
– Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?
– Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь! Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и – ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!
Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.
– Может быть, я не приду ночевать, – сказал Кислярский, – тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?
– Может быть, возьмешь с собой примус?
– Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом – столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.
– Можешь меня не провожать, – сказал опытный муж. – Если придет Рубенc за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенc может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.
– Куда вы, гражданин Кислярский? – окликнул Полесов.
Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам.
– Иду сознаваться, – ответил Кислярский.
– В чем?
– В мече и орале.
Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.
Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.
– Кислярский – провокатор! – закричал брандмейстер. – Только что пошел доносить. Его еще видно.
– Как? И корзинка при нем? – ужаснулся старгородский губернатор.
– При нем.
Дядьев поцеловал жену, крикнул, что, если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.
Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.
– А как же деньги? – спросил Рубенс.
– За деньгами придете к жене.
– А почему вы с корзинкой? – подозрительно осведомился Рубенс.
– Иду в баню.
– Ну, желаю вам легкого пара.
Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал.
– Можно! – ответил хорошо знакомый Кислярскому голос.
Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.
Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.
– Вот он, – воскликнул Дядьев, – самый главный октябрист!
– Во-первых, – сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, – во‐первых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в‐третьих, главный – это не я, а товарищ Чарушников, адреc которого…
– Красноармейская! – закричал Дядьев.
– Номер три! – хором сообщили Владя и Никеша.
– Во двор и налево, – добавил Виктор Михайлович, – я могу показать.
Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донеc на Елену Станиславовну.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внеc успокоения.
Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме в присутствии недоброжелателя – пикового короля.
Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.
Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.
– Дожились! – сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко.
Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям.
Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.
– При наличии отсутствия, – раздраженно сказала птица.
И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?»
– Мать моя! – простонала Грицацуева.
– В каком полку служили? – спросил попугай голосом Бендера. – Кра-р-р-р-рах… Европа нам поможет.
После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:
– Попка дурак!
Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич.
– По объявлению, – сказал Варфоломеич, – два часа жду, барышня.
Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.
– Ох! – запела вдова. – Истомилась душенька!
– От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?
Вдова упала на мешки с мукой.
– Какие у ваc организмы слабые, – сладко сказал Варфоломеич. – Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе…
– Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! – причитала чувствительная вдова.
– Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет?
– Все берите! – повторила вдова.
– Двадцать рублей, – сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой.
Запорошенные ресницы усиленно моргали.
– Сколько? – переспросила она.
– Пятнадцать рублей, – спустил цену Варфоломеич.
Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.
Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.
– Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.
Варфоломеич достал из записной книжечки две газетные вырезки и, не выпуская их из рук, стал читать:
– Вот извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю… ушел из дому товарищ Бендер… зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет…» Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот… «Попал под лошадь…» Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте… «Попал под лошадь…» Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: «Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом…» Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило.
Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди.
Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты «Станок», где, уж конечно, все на свете известно.
После ошеломительного удара, который нанеc ему бесславный конец его бабушки, Варфоломеич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в «Старгородской правде». Прочтя объявление:
Проп. пойнтер нем. коричнев. масти, грудь, лапы, ошейн. серые.
Утайку преслед. Дост. ул. Кооперативную, 17, 2
а рядом с ним замаскированное:
Прист. сука неизв. породы темно-желт.
Через три дня счит. своей. Перелеш, пер., 6
Варфоломеич обходил объявителей и, убедившись, что сука одна и та же, еще до истечения трехдневного срока доносил каждому о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход, но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и веревочка.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное в Ростове в водогрейне «Млечный Путь»
жене своей в уездный город N
Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчаc же побежал по адресу. «Новоросцемент» – весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. «Да, – сказали мне, – служил у наc такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от наc ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть, по делу техники безопасности».
Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.
Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.
Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить – того и гляди украдут. Народ здесь бедовый. Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда – совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика.
Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.
Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.
Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унеc в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английский кепи за 2 р. 50 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.
Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю.
Курочка и тихоокеанский петушок
Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.
– Ньютона я беру на себя. Дайте только место, – заявил он.
– Так вы, Персицкий, смотрите, – предостерегал секретарь, – обслужите Ньютона по-человечески.
– Не беспокойтесь. Все будет в порядке.
– Чтоб не случилось, как с Ломоносовым. В «Вечерке» была помещена ломоносовская правнучка-пионерка, а у нас…
– Я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову! Пеняйте сами на себя.
– Что же вы принесете?
– Как что? Статья из Главнауки: у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза. Но портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же Брокгауз, а у меня будет нечто пооригинальнее. В «Международной книге» я высмотрел такую гравюрку!.. Только нужен аванс!.. Ну, иду за Ньютоном!
– А снимать Ньютона не будем? – спросил фотограф, появившийся к концу разговора.
Персицкий сделал знак предостережения, означавший: «Спокойствие, смотрите все, что я сейчаc сделаю». Весь секретариат насторожился.
– Как? Вы до сих пор еще не сняли Ньютона?! – накинулся Персицкий на фотографа.
Фотограф на всякий случай стал отбрехиваться.
– Попробуйте вы его поймать, – гордо сказал он.
– Хороший фотограф поймал бы! – закричал Персицкий.
– Так что ж, надо снимать или не надо?
– Конечно, надо! Поспешите! Там, наверное, сидят уже из всех редакций!
Фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив.
– Он сейчаc в «Госшвеймашине». Не забудьте: Ньютон, Исаак, отчества не помню. Снимите к юбилею. И, пожалуйста, не за работой. Все у ваc сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи.
– Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать. Ну, я пошел.
– Спешите! Уже шестой час!
Фотограф ушел снимать великого математика к его двухсотлетнему юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса.
В разгар работы вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка.
– Слушайте, Персицкий, – сказал Степа, – к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам объяснит.
Степа, посмеиваясь, убежал.
– Ну? – спросил Персицкий. – Что скажете?
Мадам Грицацуева (это была она) возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку.
– Так, – сказал Персицкий, – … попал под лошадь… отделался легким испугом… В чем же дело?
– Адрес, – просительно молвила вдова, – нельзя ли адреc узнать?
– Чей адрес?
– О. Бендера.
– Откуда же я знаю?
– А вот товарищ говорил, что вы знаете.
– Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.
– А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках.
– Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка.
Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.
«Сволочь Степа, – подумал Персицкий. – Ну, ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает».
– Ну что я могу сделать? – раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой. – Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я – лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..
Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас».
Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярия и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка.
– Пардон, мадам, вы видите, что я занят!
C этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила.
Репортер осатанел.
– Вот что, тетка, – сказал он, – так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.
И Персицкий, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.
Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.
Коридоры Дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира – бегуном Нурми.
Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.
Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний чаc вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой.
При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.
– Товарищ Бендер, – закричала вдова в восторге, – куда же вы?
Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.
– Подождите, что я скажу, – просила она.
Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.
– Ну, спасибо, – бурчал Остап, сидя на пятом этаже, – нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще, чего доброго, ко мне приедет гусар-одиночка с мотором.
В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти.
Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой.
Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.
Наконец Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.
В Москве любят запирать двери.
Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие – «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.
Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?
Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, – закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала.
В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко – стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.
Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.
Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.
Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:
1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Веревки.
Барьеры в большом ходу в учреждениях.
Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принеc полезное изобретение! А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог! Но барьер помешал – осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.
Рогатка применяется на улице.
Ставят ее весною на шумной магистрали якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.
Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.
О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчаc не входит.
Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные.
К прямым можно отнести:
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ХОДА НЕТ
Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.
Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи:
БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ
ПРИЕМА НЕТ
СВОИМ ПОСЕЩЕНИЕМ ТЫ МЕШАЕШЬ ЗАНЯТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, – там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека.
К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!
Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра.
Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки.
Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот чаc Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
– Суслик! – позвала вдова. – Су-у-услик!
Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и радужные призраки.
Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда – и он пропал бы за поворотом.
Со стоном «Товарищ Бендер!» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.
– А, – сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью, – вы тоже здесь?
– Здесь, здесь, – твердила вдова радостно.
– Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, – пригласил технический директор.
Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия.
– Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.
Вдова была лишена фантазии.
– Суслик, – сказала она в пятый раз. – Откройте мне дверь, товарищ Бендер.
– Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?
Вдова мучилась.
– Ну, чего вы терзаетесь? – спрашивал Остап. – Кто вам мешает жить?
– Сам уехал, а сам спрашивает!
И вдова заплакала.
– Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка – это молекула в космосе.
– А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер…
– Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?
Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
– Изменщик! – выговорила она, вздрогнув.
У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:
Частица черта в нас
Заключена подчас!
И сила женских чар
Родит в груди пожар…
– Чтоб тебе лопнуть! – пожелала вдова по окончании танца. – Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем забрал?
– Вы, кажется, переходите на личности? – заметил Остап холодно.
– Украл, украл! – твердила вдова.
– Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
– А ситечко кто взял?
– Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
– Унес, – куковала вдова.
– Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так ваc прикажете понимать?
– Вор, вор!
– В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.
Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.
– Обниматься некогда, – сказал он, – прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.
– Караул!! – завопила вдова.
Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.
Автор «Гаврилиады»
Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки.
Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом.
Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпиc проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.
Прежде всего Никифор Ляпиc пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека, Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпиc неторопливо стал обходить свои владения.
Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпиc двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.
– Доброе утро, – сказал Никифор. – Написал замечательные стихи.
– О чем? – спросил начальник литстранички. – На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у наc журнал…
Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.
Трубецкой-Ляпиc посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпуc назад и певуче сказал:
– «Баллада о гангрене».
– Это интересно, – заметила гигроскопическая персона. – Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.
Ляпиc немедленно задекламировал:
Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слег…
Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.
– Вы делаете успехи, Трубецкой, – одобрил редактор, – но хотелось бы еще больше… Вы понимаете?
Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.
В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.
– Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только – быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников и вместе с тем, вы понимаете?..
– Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется: «Последнее письмо». Вот…
Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил…
История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.
– Где же происходило дело? – спросили Ляписа.
Вопроc был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.
– В чем дело? – сказал Ляпис. – Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.
– Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.
– А почему вы не хотите почтальона?
– Пусть полежит. Мы его берем условно.
Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева, в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа – стихотворец из пригорода.
Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием: «Молитва браконьера».
Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил.
– Очень хорошо! – сказал добрый Наперников. – Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое – выкиньте с корнем «молитву».
– И зайца, – сказал конкурент.
– Почему же зайца? – удивился Наперников.
– Потому что не сезон.
– Слышите, Трубецкой, измените и зайца.
Поэма в преображенном виде носила название: «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:
Гаврила ждал в засаде птицу.
Гаврила птицу подстрелил…
и т. д.
После завтрака в столовой Ляпиc снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.
В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».
Служил Гаврила за прилавком.
Гаврила флейтой торговал…
Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:
Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал.
Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носила длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было по-прежнему эпическим:
Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал…
Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули.
Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие – в четверг или пятницу – через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов – туда, где Ляписа никогда не печатали.
Ляпиc спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.
– А! – воскликнул Персицкий. – Ляпсус!
– Слушайте, – сказал Никифор Ляпис, понижая голос, – дайте три рубля. Мне «Герасим и Муму» должен кучу денег.
– Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчаc приду.
И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка».
Завязался общий разговор.
– Ну, как торговали? – спрашивал Персицкий.
– Написал замечательные стихи!
– Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? «Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал»?
– Что Гаврила! Ведь это же халтура! – защищался Ляпис. – Я написал о Кавказе.
– А вы были на Кавказе?
– Через две недели поеду.
– А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!
– Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!
После этого ответа все насторожились.
– Скажите, Ляпсус, – спросил Персицкий, – какие, по-вашему, шакалы?
– Да знаю я, отстаньте!
– Ну, скажите, если знаете!
– Ну, такие… В форме змеи.
– Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.
– Никогда я этого не говорил! – закричал Трубецкой.
– Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар – это бальное платье? Почему?!
– Вы – мещанин, – сказал Ляпиc хвастливо.
– Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?
– Видел.
– Ну, скажите, какая она!
– Оставьте меня в покое. Вы псих!
– А облучок видели? На скачках были?
– Не обязательно всюду быть! – кричал Ляпис. – Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.
– О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.
Ляпиc не понял сарказма. Он горячо продолжал:
– Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.
После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.
– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?
– Я писал.
– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…» Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго ваc не забудет, Ляпис!
– В чем дело?
– Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?
– Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…
– Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
– Такой… Падает, одним словом.
– Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно падает! Подождите, Ляпсус, я вам сейчаc принесу полтинник. Не пускайте его!
Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза, от Домиций до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.
– Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки…» И так далее. И далее: «Джон Диксон в 1879 г. установил на место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры», при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.». И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Ефроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!
– Мне нужны деньги.
– Но у ваc же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.
– Я купил мебель и вышел из бюджета.
– И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит, – грош!
– Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе…
– В форме змеи?
– Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой…
– От Хины Члек? – закричали присутствующие в один голос.
– Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу. Окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.
– Ай-яй-яй! – сказал Персицкий, закрывая лицо руками. – Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр «Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся».
– Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?
– Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите… Сейчас… Вот: «Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой». Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голоc комода»… Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа? Или еще лучше: гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в «Гермуму», то выход из положения у ваc блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура – Эльстоном, а третья – Юсуповым… Эх вы, халтурщик! Держите его, товарищи! Я расскажу ему замечательную историю. Вы, Ляпсус, слушайте! При вашей профессии это полезно.
По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапти, бутерброды. Был перерыв для завтрака. Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали Персицкого, который рассказывал историю, услышанную им в обществе художников.
Вот эта история.
РАССКАЗ О НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ
В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй линии, жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой.
Девушка любила читать Шиллера в подлиннике, мечтать, сидя на парапете невской набережной, и есть за обедом непрожаренный бифштекс. Но девушка была бедна. Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптор. Мастерская его помещалась у Новой Голландии.
Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались.
В канале плавали звезды, а может быть, и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Клотильде.
– Посмотри, Вася, – говорила девушка, – это Венеция! Зеленая заря светит позади черномраморного замка.
Вася не снимал своей руки с плеча девушки. Зеленое небо розовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника.
– Скажи, Вася, – говорила Клотильда, – искусство вечно?
– Вечно, – отвечал Вася. – Человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство непоколебимо. Оно вечно.
– Да, – говорила девушка, – Микеланджело!
– Да, – повторял Вася, вдыхая запах ее волос. – Пракситель!..
– Канова!
– Бенвенуто Челлини!
И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру.
Влюбленные не покидали подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев.
Днем скульптор работал. Он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла:
– Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь!
Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей:
– Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.
Плыли звезды…
Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать». В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована всем виденным.
Содержание картины было самое волнующее:
«Скульптор Ганc ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст – великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился. Но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды.
– Лепи меня! – воскликнула она. – Нет на свете тела прекраснее моего!
– О! – возразил Ганс. – Как я был слеп!
И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганc и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба».
Клотильда пошла из кино в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья.
– Вася! – окликнула она.
Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст – человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки.
– И вся-то наша жизнь есть борьба! – напевал скульптор, придавая бюсту последний лоск.
И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала:
– Почистите мне ногти!
И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла, в чем дело: великий скульптор рыдал над разбитым творением.
Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
– Лепи меня! Нет на свете тела прекраснее моего!
Она вошла и увидела. Вася не висел в петле. Он сидел на высокой табуреточке спиною к вошедшей Клотильде и что-то делал.
Но девушка не смутилась… Она сбросила свои одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами:
– Лепи меня, Вася, нет на свете тела прекраснее моего!
Вася обернулся. Слова песенки застыли на его устах.
И тут Клотильда увидела, что он делал.
Он лепил дивный бюст – человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск.
– Что ты делаешь? – спросила Клотильда.
– Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28.
– Но ведь я же вчера его разбила! – пролепетала Клотильда. – Почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твое вечное искусство. Почему же ты жив, человек?
– Вечное-то оно вечное, – ответил Вася, – но заказ-то нужно сдать? Ты как думаешь?
Вася был нормальным халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.
– Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляпсус!
Могучая кучка, или Золотоискатели2
Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций.
С криками «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» в комнату вбежал Степа.
– Персицкий, – сказал он, – иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита!
Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в подножку дивана. А новый, купленный на аукционе редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол, и пружины высовывались, как готовящиеся к укусу змеи.
– Мелкая кража, – сказал Персицкий, – если подберутся еще три кражи, дадим заметку в три строки.
– В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Только стул исковеркали.
– Совсем как у Ляпсуса, – заметил Персицкий, – похоже на то, что Ляпсус не врал.
– Вот видите, – гордо сказал Ляпис, – дайте полтинник.
Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать.
Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее, как картину. Его интересует композиция.
– Я бы все-таки так не верстал, – сказал Персицкий, – наш читатель не подготовлен к американской верстке… Карикатура, конечно, на Чемберлена… Очерк о Сухаревой башне… Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке: свежая тема – всего только сорок очерков за год печатается… Дальше…
Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно.
– Столетний материал!.. Этот растратчик у наc уже был… Неудавшаяся кража в театре Колумба! Э-э-э, товарищи, это что-то новое… Слушайте!
И Персицкий прочел вслух:
НЕУДАВШАЯСЯ КРАЖА
В ТЕАТРЕ КОЛУМБА
Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула.
Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые им, скрылись, бросив стулья.
Любопытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки гоголевской «Женитьбы».
– Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев.
– Маньяки!
– Ну, не так просто. Действует она довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре.
– Да!
– Что-то они ищут, товарищи.
Тут Никифор Ляпиc внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам.
Ляпиc обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпиc носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна, властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья татар.
Когда Ляпиc вошел к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник.
Это был человек, созвучный эпохе. Он делал все то, что требовала эпоха.
Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве.
Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы Гражданской войны. И Хунтов писал героические романы.
Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести.
Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего.
Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц и придумывать сценические кви про кво. Но Хунтов начал с другого конца – с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали.
Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр; он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз учитывая повышенные цены, а другой раз – обыкновенные.
В голове московских зрелищных предприятий, по количеству мест и расценок на них, шел Большой академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр: Московский Художественный академический. Качалов, думалось ему, и Москвин под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей.
Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. «Зритель – дурак», – думалось ему.
– Мировой сюжет! – возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой.
Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил:
– Какой сюжет?
– Классный, – ответил Ляпис.
Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе автор многоликого Гаврилы замолчал.
– Ну! Говори же!
– Ты украдешь.
– Я у тебя часто крал сюжеты?
– А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей?
– Да, но ее же не взяли.
– Что у тебя вообще брали! А я могу написать замечательную поэму.
– Ну, не валяй дурака! Расскажи!
– А ты не украдешь?
– Честное слово.
– Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить…
Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула.
– Ты дашь этот сюжет мне?
– Положим.
– Ляпис! Ты не чувствуешь сюжета! Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы.
– Все равно. Это не твое дело. Сюжет мой.
– В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы.
Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима.
Это был человек легкий в обхождении, подвижной и веселый. Он был тучен. Воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки. Волосы были цвета сбитой яичницы. Изо рта шел густой дым. Ибрагим курил сигары «Фигаро»: 2 штуки – 25 копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панама сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом.
– Об чем спор? – спросил он пронзительным голосом.
Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял названия «Любовь в океане» на «Амброзия» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор.
– Об чем спор? – повторил он.
Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз.
– Поэму нужно писать, – твердил Ляпис-Трубецкой.
– Пьесу! – кричал Хунтов.
Но Ибрагим поступил, как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжбу.
– Опера! – сказал Ибрагим, отдуваясь. – Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями.
Его поддержал Хунтов. Он сейчаc же вспомнил величину сборов Большого театра. Упиравшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве.
Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь же и сейчаc же. Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа: «Акт первый».
– Вот что, други, – сказал Ибрагим, – вы пока там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кой-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо.
Золотоискатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Наметились приблизительно такие лица:
УГОЛИНО – гроссмейстер ордена фашистов (бас).
АЛЬФОНСИНА – его дочь (колоратурное сопрано).
ТОВ. МИТИН – советский изобретатель (баритон).
СФОРЦА – фашистский принц (тенор).
ГАВРИЛА – сельский комсомолец (переодетое меццо-сопрано).
НИНА – комсомолка, дочь попа (лирич. сопрано).
(Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и др.)
– Я, – сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, – пока что напишу хор капелланов и сицилийские пляски. А вы пишите первый акт. Побольше арий и дуэтов.
– А как мы назовем оперу? – спросил Ляпис.
Но тут в передней послышался стук копыт о гнилой паркет, тихое ржанье и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателей отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой.
– Гоу! – закричал Шаринов на лошадь. – Ну-о, штоб тебя…
Лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом.
Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шаринов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрямилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь, полетел в раскрытое окно.
– Фатыма! – закричал Шаринов страшным голосом. – Толкай сзади!
Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы. Ляпиc вопил не своим голосом. Ибрагим иронически насвистывал «Амброзию», Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазом и не шла.
– Гоу! – сказал Шаринов вяло. – О-о-о, ч-черт!..
Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником.
– Что вы делаете? – спросил управдом. – Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?
Шаринов вдруг рассердился:
– Какое тебе дело? Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут!
– Сейчаc же уведите лошадь! – истерически кричал управдом. – Если вам нужна конина, покупайте в мусульманской мясной.
– В мясной дорого, – сказал Шаринов. – Гоу! Ты!.. Проклятая!.. Фатыма!..
Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели.
– Я вам этого не разрешаю, – говорил управдом, – вы ответите по суду.
Тем не менее Шаринов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена.
– Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! – завопил Ляпис.
– Не беспокойтесь, – сказал управдом, уходя, – работайте.
Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу.
– Так как же мы назовем оперу? – спросил Ляпис.
– Предлагаю назвать «Железная роза».
– А роза тут при чем?
– Тогда можно иначе. Например, «Меч Уголино».
– Тоже несовременно.
– Как же назвать?
И они остановились на отличном интригующем названии: «Луч смерти». Под словами «Акт первый» Хунтов недрогнувшей рукой написал: «Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке – Уголино в поддевке. С ним – Сфорца».
– Сфорца в пижаме, – вставил Ляпис.
– Не мешай, дурак! Пиши лучше стишки для ариозо Митина. На улице в пижаме не ходят!
И Хунтов продолжал писать: «С ним – Сфорца в костюме комсомольца».
Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты.
– Фатыма! – кричал Шаринов. – Держи, Фатыма!
Ляпиc схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади.
– Тащи! – вопил управдом.
Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатыма с братьями-татарчатами обнимала худые колени лошади. Гражданин Шаринов безнадежно кричал «гоу».
Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю.
В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате. Ариозо товарища Митина взлетело под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике.
С лестницы доносился крик и брезгливое ржание. Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. Одолев упорное животное, соавторы собрали развеянные листочки и продолжали писать без помарок.
В театре Колумба
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.
В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.
Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.
На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.
Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.
– Послушайте, – сказал вдруг великий комбинатор, – как ваc звали в детстве?
– А зачем вам?
– Да так! Не знаю, как ваc называть. Воробьяниновым звать ваc надоело, а Ипполитом Матвеевичем – слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?
– Киса, – ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
– Конгениально. Так вот что, Киса, – посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.
Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.
– Ого, – сказал Ипполит Матвеевич, – краснота какая-то.
Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.
– Честное слово, цифра восемь! – воскликнул Воробьянинов. – Первый раз вижу такой синяк.
– А другой цифры нет? – спокойно спросил Остап.
– Как будто бы буква Р.
– Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула.
– А я тоже… Я тоже пострадал! – поспешно вставил Киса.
– Это когда же? Когда вы приударивали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый флирт закончился не совсем удачно! Или, может быть, во время дуэли с оскорбленным Колей?
– Нет-с, простите, повреждения я получил на работе-с!
– Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба?
– Да, да… Когда за нами гнался сторож…
– Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора?
– Я ударился коленной чашечкой о мостовую.
– Не беспокойтесь! При теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют.
Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений.
– Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, – с грустью сказал Остап, – придется, Киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей!.. И ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт ваc дернул стоять на цинке, как часовой, не двигаясь с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за ваc отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною – стул вдовицы. За мною – два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага – архиепископа.
Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.
Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить – оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.
– А то, может быть, разделимся? – спросил Остап. – Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.
– Из двух зайцев, – сказал он, – выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У ваc сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!
Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми».
Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот чаc прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен.
Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель:
– Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал…
Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о пюпитр и высыпал в толпу, ожидавшую трамвай, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер 6. Уже взвился занавес, уже старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем только под голоc Ленского – «в вашем доме…».
Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.
Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
– Все-таки, – сказал он, – очень дорого. Шестнадцатый ряд – три рубля.
– Как я не люблю, – заметил Остап, – этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?
– Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!
– Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе». Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.
Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы же видите, что я даже калош не снял», пробился к окошечку и заглянул внутрь.
Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.
– Да! – кричал он. – Да, да! Восемь тридцать!
Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить.
– Да! Театр Колумба! Ах, это вы, Сегидилья Марковна? Есть, есть, конечно, есть. Бенуар! А Бука не придет? Почему? Грипп? Что вы говорите? Ну, хорошо! Да, да, до свиданья, Сегидилья Марковна.
Театр Колумба!!! Нет! Сегодня никакие пропуска не действительны. Да, но что я могу сделать? Моссовет запретил!..
Театр Колумба!!! Ка-ак? Михаил Григорьевич? Скажите Михаилу Григорьевичу, что днем и ночью в театре Колумба его ждет третий ряд, место у прохода.
Рядом с Остапом бурлил и содрогался мужчина с полным лицом, брови которого беспрерывно поднимались и опадали.
– Какое мне дело! – говорил ему администратор.
Хунтов (это был человек, созвучный эпохе) негордой скороговоркой просил контрамарку.
– Никак! – сказал администратор. – Сами понимаете – Моссовет!
– Да, – мямлил Хунтов, – но Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов согласовало с Павлом Федоровичем…
– Не могу и не могу! Следующий!
– Позвольте, Яков Менелаевич, мне в Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов…
– Ну что я с вами сделаю? Нет, не дам! Вам что, товарищ?
Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал:
– Поймите же, Яков Менелаевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных компози…
Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Менелаевич нашел для Хунтова место у самой люстры.
– Скорее, – крикнул он Остапу, – вашу бумажку!
– Два места, – сказал Остап тихо, – в партере.
– Кому?
– Мне!
– А кто вы такой, чтобы я давал вам места?
– А я все-таки думаю, что вы меня знаете.
– Не узнаю.
Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.
– Ходят всякие, – сказал администратор, пожимая плечами, – кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Где я его видел?
И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.
Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
Театр Колумба помещался в особняке. Поэтому зрительный зал его был невелик, фойе непропорционально огромны, курительная ютилась под лестницей. На потолке была изображена мифологическая охота. Театр был молод и занимался дерзаниями в такой мере, что был лишен субсидии. Существовал он второй год и жил, главным образом, летними гастролями.
Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.
К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:
– Степа-ан!
Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.
– Степа-а-н!! – повторил Подколесин, делая новый прыжок.
Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил:
– Что же ты молчишь, как Лига Наций?
– Очевидно, я Чемберлена испужался, – ответил Степан, почесывая шкуру.
Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы.
– Ну что, шьет портной сюртук?
Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил:
– Шьет!
Оркестр сыграл попурри из «Чио-Чио-Сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.
– А что, – спросил Подколесин, – не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?
Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:
– Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?
– А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?
– Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты.
После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:
– Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.
Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно – на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:
– Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!
– Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо!
В антракте концессионеры прочли афишу:
ЖЕНИТЬБА
Текст – Н. В. Гоголя
Стихи – М. Шершеляфамова
Литмонтаж – И. Антиохийского
Музыкальное сопровождение – Х. Иванова
Автор спектакля – Ник. Сестрин
Вещественное оформление – Симбиевич-Синдиевич. Свет – Платон Плащук. Звуковое оформление – Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим – мастерской КРУЛТ. Парики – Фома Кочура. Мебель – древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара. Инструктор акробатики – Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс – под управлением монтера Мечникова.
– Вам нравится? – робко спросил Ипполит Матвеевич.
– А вам?
– Очень интересно, только Степан какой-то странный.
– А мне не понравилось, – сказал Остап, – в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вогопаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?
Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.
Сцена сватовства вызвала наибольший интереc зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр X. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.
Женихи были очень смешны, в особенности – Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.
Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.
– Я доволен спектаклем, – сказал Остап, – стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.
Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.
На лестнице раздавался снисходительный голоc Хунтова:
– Да, я пишу оперу. В Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов мне говорили…
И долго еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека, созвучного эпохе:
– Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов…
– Ну, – сказал Остап, – вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сидения до Нижнего, Курской дороги. Не беда – посидим. Всего одна ночь.
На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:
– Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?
– Беда с этим прессом, – отвечал Мечников, – работает он у наc пять минут, а возить его целое лето придется.
– А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»?
– Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.
За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление – Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.
– Вы вчера мне не в ногу подавали, – жаловалась Агафья Тихоновна, – я так и свалиться могу.
Звуковое оформление загалдело:
– Что ж делать! Две кружки лопнули!
– Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? – кричал Галкин.
– Зайдите в Госмедторг. Не то что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя! – поддержал Палкин.
– А вы разве и на термометрах играете? – ужаснулась девушка.
– На термометрах мы не играем, – заметил Залкинд, – но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь – приходится мерить температуру.
Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женой по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.
Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейc вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.
Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые, потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло.
– Ну, пойдем и мы, – сказал Остап.
Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.
– Безенчук! – сказал он в крайнем удивлении. – Ты как сюда попал?
Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.
– Господин Воробьянинов! – закричал он. – Почет дорогому гостю!
– Ну, как дела?
– Плохи дела, – ответил гробовых дел мастер.
– Что же так?
– Клиента ищу. Не идет клиент.
– «Нимфа» перебивает?
– Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только «Пьер и Константин» перекинулся.
– Да что ты говоришь? Неужели умер?
– Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили – разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал.
– Ай-яй-яй, – бормотал Ипполит Матвеевич, – ай-яй-яй! Ну что ж, значит, ты его и похоронил?
– Я и похоронил. Кому же другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает?
– Одолел, значит?
– Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.
– Растирался?
– Нам растираться не к чему.
– А сюда тебя зачем принесло?
– Товар привез.
– Какой же товар?
– Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.
Ипполит Матвеевич только сейчаc заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные – так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.
– Восемь штук, – сказал Безенчук самодовольно, – один к одному. Как огурчики.
– А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.
– А гриб?
– Какой гриб?
– Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.
Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:
– Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.
– В Париже?
– Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно: устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.
Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.
Поезд давно уже унеc и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
Сокровище мадам Петуховой
Волшебная ночь на Волге
Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства, под надписью: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым.
Страдальческие крики пароходов пугали предводителя. В последнее время он стал пуглив, как кролик. Ночь, проведенная без сна в жестком вагоне почтового поезда Москва – Нижний Новгород, оставила на лице Ипполита Матвеевича тени, пятна и пыльные морщины.
Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера № 2. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка, на пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокросоленые кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки. У дебаркадера № 4 стоял теплоход «Парижская коммуна». Вниз по реке он должен был уйти по расписанию только в шесть часов вечера, но уже и теперь, в одиннадцатом часу, по его белым опрятным палубам прогуливались пассажиры, приехавшие утром из Москвы. «Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича.
– Что вы переживаете? – спросил Остап. – Вообразите, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у наc даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет.
Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейc от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение: тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался, на свой страх и риск, совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с «Женитьбой».
«Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани.
Нежные создания с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды, и с опасением поглядывали на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть:
ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой.
Корреспондент ТАСC уже удалился на край пристани и, свесив ноги за борт, удил рыбу. Рыба не шла, и корреспондент досадливо крякал, меняя наживку. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки, потом потоптался, выяснил, что до прихода «Скрябина» остается еще часов пять, и на кремлевском «элеваторе» поднялся в город. За оставшееся свободным время можно было набрать уйму материалов – дать очерк о городе, о радиолаборатории Бонч-Бруевича и о последствиях наводнения.
Под сенью гидравлического пресса на воробьяниновском стуле сидела Агафья Тихоновна и флиртовала с виртуозом-балалаечником, корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно. Он грациозно уселся на один из воробьяниновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд вынуждены были все впятером довольствоваться только двумя стульями.
Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаечник.
– Что это за чижик? – шептал он Ипполиту Матвеевичу. – Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования.
– Что вы ко мне пристали? – захныкал Воробьянинов. – Я даже такого слова не знаю – «кобелировать».
– Напрасно. Кобелировать – это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями. Отпирательства ваши безнадежны. Лиза мне все рассказала. Вся Москва покатывается со смеху. Все знают о вашем кобеляже.
Компаньоны, тихо переругиваясь, кружили вокруг стульев.
Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд делали прогнозы будущего. Малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов.
– В контракте, – говорил он, – надо было указать число блюд и количество калорий. По правилу, мы должны приравниваться к металлистам – не меньше четырех тысяч калорий в обед.
Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов.
– Зато здесь икра дешева, – сообщили они, – и рыба.
– А воздух какой! – закричал Чалкин. – Морской воздух!
– Тем более, – сказал тонкий, как кнут, Залкинд. – При таком воздухе беспрерывно хочется есть. Мне уже сейчаc хочется.
– До Царицына мы не пропадем. Кормить будут.
– А на Кавказе что будет? Если Сестрин сейчаc уже заграбастал себе двадцать марок.
– А нам – по полторы марки на каждого. Если еще пьеса провалится…
– Да. Копеек по пятнадцать в день будем зарабатывать.
Виртуоз-балалаечник пригласил Агафью Тихоновну обедать на теплоход «Парижская коммуна», стоявший у дебаркадера № 4.
– А наc пустят?
– Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие и дешевые обеды.
Звуковое оформление завздыхало и поплелось в трактир «Плот». Концессионеры оживились.
– Может быть, рискнем? – сказал вдруг Остап, невольно приближаясь к стульям. – Вы – два, и я – два, и – ходу! А? Хорошо бы было, черт возьми!
Он осмотрелся. Бежать надо было бы по насыпи до Рождественской улицы, забитой обозами. Да и сквозь толпу крючников продраться было бы нелегко. Кроме того, Кочкарев с Подколесиным маячили поблизости. Они, конечно, подняли бы страшный рев, заметив покушение на мебель, якобы изготовленную в древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе имени Валтасара.
Остап скис.
– Придется ехать! Но как? В крайнем случае можно было бы сесть на «Парижскую коммуну», доехать до Царицына и там ждать труппу, но деньги, деньги! Ах, Киса, Киса, чтоб ваc черт забрал! Осознали ли вы уже свою пошлость?
Компаньоны решили хотя бы посидеть на стульях. Они подпрыгивали на пружинах и пересаживались со стула на стул. Ипполит Матвеевич ерзал.
– Ирония судьбы! – говорил Остап. – Нищие миллионеры! Вы еще ничего не нащупали?
Подколесин с Кочкаревым подошли к учрежденческому курьеру и, мотая головами в сторону концессионеров, справились, кто такие осмелились сесть на их вещественное оформление.
– Ну, сейчаc погонят, – заключил Остап.
Сторож подошел к компаньонам:
– Вы, товарищи, из какого отдела будете?
– Из отдела взаимных расчетов, – сказал наблюдательный Остап.
Но и это не помогло. Курьер ушел и сейчаc же вернулся с товарищем Людвигом. Товарищ Людвиг отогнал концессионеров от стульев. Друзья побежали на дебаркадер, к которому уже приближался, разворачиваясь против течения, пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть, и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену.
Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронеc свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории.
В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку.
– Бросьте стул! – завопил Бендер. – Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход.
По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексотоны, пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление.
– Клистирная шайка! – сказал кларнет, поравнявшись с могучей пятеркой.
Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ничего не ответили, но затаили в груди месть.
Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени.
Топот и перебранка продолжались до позднего вечера.
Колумбовцы, обиженные тем, что их поместили во втором классе, экспансивно набросились на автора спектакля и режиссера Ник. Сестрина.
– Ну, стоит ли волноваться, – мычал Ник. Сестрин, – прекрасные каюты, товарищи. Я считаю, что все хорошо.
– Это вы потому считаете, – запальчиво выкрикнул Галкин, – что сами устроились в первом классе!
– Галкин! – зловеще сказал режиссер.
– Что Галкин?
– Вы уже начинаете разлагать!
– Я? А Палкин? А Малкин? А Чалкин и Залкинд разве вам не скажут то же самое? Наконец, где мы будем репетировать?
И вся пятерка в один голоc потребовала отдельную каюту для репетиций, а кстати, хотя бы немного денег вперед.
– Идите к черту! – завопил Ник. Сестрин. – В такой момент они пристают со своими претензиями!
Не объяснив, какой «такой момент», автор спектакля перегнулся через борт и воззвал:
– Симби-эвич! Синди-эвич! Симби-эвич! Мура! Вы не видели Симбиевича-Синдиевича?
В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток вперемежку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы:
ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
ЛИЧНЫЙ СТОЛ
ОБЩАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
К большим табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше:
БЕЗ ДЕЛА НЕ ВХОДИТЬ
ПРИЕМА НЕТ
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ВСЕ СПРАВКИ В РЕГИСТРАТУРЕ
Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда.
– Где же мы будем обедать? – волновались они. – А если дождь?
– Ой, – сказал Ник. Сестрин своему помощнику, – не могу!.. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?
– Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли.
Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту.
– Так, так, – говорила пятерка с иронией, – а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен!
С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор.
Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров.
– Почему же вы мне раньше не сказали?! – кричал член комиссии.
– Откуда я мог знать, что он заболеет.
– Это черт знает что! Тогда поезжайте в рабиc и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.
– Куда же я поеду? Сейчаc шесть часов. Рабиc давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит.
– Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите.
Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали:
– Пропуск!
– Товарищ! – заорал Бендер. – Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен!
Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.
– Значит, товарищ, – говорил толстячок, – нам от вас потребуется следующее: исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице. Ну, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю – работы много.
– Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу.
– И вы можете сейчас же ехать с нами?
– Это будет трудновато, но я постараюсь.
Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом.
– Ваши условия? – спросил Остап дерзко. – Имейте в виду, я не похоронная контора.
– Условия сдельные. По расценкам рабиса.
Остап поморщился, что стоило ему большого труда.
– Но, кроме того, еще бесплатный стол, – поспешно добавил толстунчик, – и отдельная каюта.
– В каком же классе?
– Во втором. Впрочем, можно и в первом. Я вам это устрою.
– А обратный проезд?
– На ваши средства. Не имеем кредитов.
– Ну, ладно, – сказал Остап со вздохом, – соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент.
– Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет – пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.
– Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. Кормить вы его будете?
– Пусть приходит на кухню. Там посмотрим.
Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова.
Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм.
Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия.
Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий, Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки.
Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его:
– Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчаc сходни снимают! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск.
Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход.
– Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно.
– Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!
Толстяк угрюмо отошел.
– Ну, Киса, – заметил Остап, – придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что: я – художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы – мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег.
Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны, басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый берег. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком.
Еще слышался ропот работающих ундервудов, а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех плывущих на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый вечер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода темные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывши рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:
Пароход по Волге плавал,
Волга-матушка река…
А остальные суровые участники заседания пророкотали припев:
Сире-энь цвятё-от…
Резолюция по докладу председателя месткома так и не была написана. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением X. Иванов извлекал из инструмента самые лирические ноты. Виртуоз-балалаечник плелся за Мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса:
– Не уходи! Твои лобзанья жгучи, я лаской страстною еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужною не гаснул небосклон…
Симбиевич-Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней вещественное оформление «Женитьбы» казалось ему возмутительным свинством. Он с гадливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии.
В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихоновна зевнула и, не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя, пошла спать. В душах месткомовцев снова зазвучал гендоговор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич-Синдиевич после зрелого размышления пришел к тому выводу, что оформление «Женитьбы» не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо.
В каюте первого класса Остап, лежа на кожаном диване и, задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича:
– Вы умеете рисовать? Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею.
Он подумал и продолжал:
– А буквы – вы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо! Ведь мы-то художники! Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это в конце концов не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока наc не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.
Нечистая пара
Наутро первым на палубе оказался репортер Персицкий. Он успел уже принять душ и посвятить десять минут гимнастическим экзерсисам.
Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты – огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя – «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». «Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения.
Персицкий приложился к биноклю и стал глядеть на пристань.
– «Бармино», – прочел он пристанскую вывеску.
На пароходе стали просыпаться. На пристань «Бармино» полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские притащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки облилось шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов.
Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали.
Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке:
«Все – на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма».
Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап с помощью мальчика Кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов.
Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту.
Проходивший мимо капитан, человек спокойный, с обвислыми запорожскими усами, остановился и покачал головой.
– А это уже не дело, – сказал он, – зачем гвоздями к перилам прибивать. На какие такие средства после ваc пароход ремонтировать?
Капитан был удручен. Еще никогда на его пароходе не висели таблички «Без дела не входить» и «Приема нет», никогда на палубе не стояли пишущие машинки, никогда не играли на кружках Эсмарха, один вид которых приводил застенчивого капитана в состояние холодного негодования.
Из каюты вышел заспанный кинооператор Полкан. Он долго пристраивал свой аппарат, оглядывал горизонты и, отвернувшись от толпы, уже собравшейся у пристани, накрутил метров десять с заведующего личным столом. Заведующий, для пущей натуральности, пытался непринужденно прогуливаться перед аппаратом, но Полкан этому воспротивился:
– Вы, товарищ, не выходите за рамку. Стойте на месте. И руками не шевелите, пожалуйста.
Заведующий сложил руки на груди и в таком монументальном виде был заснят. После этого Полкан удалился в свою лабораторию.
Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Толстяк подумал, что новый художник, при его самоуверенности, мог бы приложить больше стараний, но выхода не было – приходилось довольствоваться и этим.
На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении.
Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа.
– Одну минуту! – закричал с борта толстячок. – Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа. Поэтому просим всех на пароход. По окончании тиража состоится концерт. А потому просьба по окончании тиража не расходиться, а собраться на берегу и оттуда смотреть. Артисты будут играть на палубе!
Толкая друг друга, все побежали на пароход и спустились в прохладный тиражный зал. Тиражная комиссия и включенные в нее представители села Бармина разместились на эстраде. Члены комиссии сделали это с достоинством, выработанным привычкой к подобного рода церемониям. Представители же села (их было двое), в лаптях и полосатых синих рубашках, серьезно, с таким видом, как будто бы они шли молотить, направились к столу и сели с краю.
– Прошу РКИ, – сказал председатель комиссии, – осмотреть печати, наложенные на тиражную машину.
Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печати рукой и заявил:
– Печати в полном порядке!
После осмотра печатей на тиражных колесах из публики был затребован ребенок.
– И вот, товарищи, ребенок на глазах у всех будет вынимать из этих шести цилиндров по одному билету. На каждом из них есть цифра. Все шесть цифр вместе составят цифру той облигации, которая выиграла. Имеющие облигации пускай следят. Не имеющие – могут приобрести их тут же на пароходе.
Колеса завертелись, моргая стеклянными своими окошечками, и остановились. Босой мальчик, потрухивая, опускал руку поочередно в каждый цилиндр, вынимал похожие на папиросы билетные трубочки и отдавал их членам комиссии.
– Выиграла облигация номер 0703418 во всех пяти сериях.
Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барминцы смотрели и слушали.
Звуковое оформление, возбужденное процессом розыгрыша, обзавелось вскладчину одной облигацией и после каждого возглашения облегченно вздыхало:
– Слава богу, не наш номер!
– Чему же вы радуетесь? – удивился Ник. Сестрин. – Ведь вы же не выиграли!
– Охота получать двадцать рублей! – кричала могучая пятерка. – На эту же облигацию можно выиграть пятьдесят тысяч. Прямой расчет.
– Вы вот что, друзья мои, – сказал режиссер, – до крупных выигрышей еще далеко, и делать вам здесь нечего. Идите готовиться к выступлению.
Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу.
– Воробьянинов, – шепнул он, – для ваc срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить – пойте погромче.
Старик опешил.
– Что же мне петь?
– Уж во всяком случае, не «Боже, царя храни!». Что-нибудь страстное: «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.
Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери:
НИК. СЕСТРИН
Режиссер театра Колумба
Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понеc стул наверх, к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнеc стул на корму и наставительно сказал:
– Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь никто почти не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержимым.
Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден.
Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка.
– А почему бы не отнести его в нашу каюту? – спросил он нетерпеливо. – Мы б его вскрыли сейчаc же. И если бы нашли брильянты, то сейчаc же на берег…
– А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: «Извините, мол, мы у ваc стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде!» Так бы вы поступили?
Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях.
Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. Искусство, оно всегда доходит!» Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен.
Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. Берег покрылся улыбками.
Его визитка и пробор, рассекающий волосы, вызывали в зрителях недоумение и иронические возгласы.
Виртуоз сел на скамейку, расправил фалды и медленно начал венгерскую рапсодию Листа. Постепенно ускоряя ритм, виртуоз достиг вершин балалаечной техники. Скептики были сражены, но энтузиазма не чувствовалось. Тогда виртуоз заиграл «Барыню».
«Барыня, барыня, – вырабатывал виртуоз, – сударыня-барыня».
Балалайка пришла в движение. Она перелетала за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит – барин без часов!» Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций.
Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками.
Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в трубку с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и, к общему удовольствию, стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно неc за Полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами с такой силой, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчаc же отвернулся, иноходью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго и плавно вертел ручку аппарата. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката.
Закончив съемку, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся.
Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу.
По коридорам и лесенкам бегал Персицкий, разыскивая исчезнувшего корреспондента ТАСС. Его нигде не было. Только тогда, когда уже убирали сходни, корреспондент объявился. Он бежал вдоль берега, спотыкаясь, гремя баночками и размахивая удочкой.
– Человека забыли! – кричал он протяжно. – Человека забыли!
Пришлось подождать.
– Чтоб ваc черт побрал! – сказал Персицкий, когда истомленный корреспондент прибыл. – Рыбу ловили?
– Ловил.
– Где же ваши осетры, налимы и раки?
– Нет, это черт знает что! – заволновался корреспондент. – Распугали всю рыбу своими оркестрами! И даже, наконец, когда одна рыба уже клюнула, заревел этот ужасный гудок, и эта рыба тоже убежала. Нет, товарищи, в таких условиях работать совершенно невозможно! Совершенно!
Разгневанный корреспондент пошел к капитану справляться о ближайшей остановке.
– Сначала Юрино, – сказал капитан, – потом Козьмодемьянск, потом Чебоксары, Мариинский Посад, Козловка. Потом Казань. Идем по расписанию тиражной комиссии.
Узнав то, что узнают все: сколько приблизительно такой пароход может стоить и как он назывался до революции, корреспондент перешел на не менее тривиальные расспросы о волжских перекатах и мелях.
– Ну, это дело темное, – вздохнул капитан, – когда как. Каждый день дно может перемениться. На это обстановка есть.
– Какая обстановка? – удивился корреспондент.
– Маяки, буи, семафоры на берегах. Это и называется обстановкой. А главное – практика. Вот сынишка мой…
Капитан показал на двенадцатилетнего мальчугана, сидевшего у поручней и глядевшего на проплывающие берега.
– Настоящий волгарь будет. Лучше меня фарватер знает. С шести лет его с собой вожу.
К капитану подкатился заведующий хозяйством. За ним шел технический директор брильянтовой концессии.
– Это наш художник, – сказал завхоз, – мы тут делаем транспарант. Так вот, нельзя ли прикрепить его к капитанскому мостику? Оттуда его будет видно со всех сторон.
Капитан категорически отказался от украшения мостика:
– Рядом – пожалуйста!
Завхоз обратился к Остапу:
– А вам, товарищ художник, удобно будет сбоку от капитанского мостика?
– Удобно, – со вздохом сказал Бендер.
– Так смотрите же! С утра приступайте к работе.
Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искуc был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов.
– Так имейте в виду, – предостерегал толстяк, – с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя.
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер, – транспарант будет.
После ужина, на качество которого не могли пожаловаться даже такие гурманы, как Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, после таких разговоров на корме:
– А как будет со сверхурочными?
– Вам хорошо известно, что без разрешения инспекции труда мы не можем допустить сверхурочных.
– Простите, дорогой товарищ, наша работа протекает в условиях ударной кампании…
– А почему же вы не запаслись разрешением в Москве?
– Москва разрешит постфактум.
– Пусть тогда постфактум и работают.
– В таком случае я не отвечаю за работу комиссии.
После всех этих и иных разговоров наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро.
Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье.
Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами, глубоко внизу, плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло.
– Есть! – сказал Остап придушенным голосом.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное им в Баку,
из меблированных комнат «Стоимость»
жене своей в уездный город N
Дорогая и бесценная моя Катя!
C каждым часом приближаемся мы к нашему счастию. Пишу я тебе из меблированных комнат «Стоимость» после того, как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ношу пальто, на другой пиджак – и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка, Катерина Александровна, скоро денег у наc будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу.
По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Инородцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре, и видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел я тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), тогда и мусульманское покрывало купить можно будет.
Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) уронил пиджак брата твоего, булочника, в Каспийское море и 2) в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное – пощекотал хворостинкой в ноздре! А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу твоему брату, булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев?
Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунc действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчаc нету. Он уехал в отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом Мысу, – такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума – на пятнадцать рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже.
Постскриптум. Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах «Стоимость» пальто брата твоего, булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето! Ты брату ничего не говори.
Изгнание из рая
Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе N автомобиль Гос. № 1, повредившись на ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» – у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары, – забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!
За день до суда, назначенного на двадцать первое июня, кассир Асокин пришел к Агафону Шахову, сел на диван и заплакал. Писатель в купальном халате полулежал в кресле и курил самокрутку.
– Пропал я, Агафон Васильевич, – сказал кассир, – засудят меня теперь.
– Как же это тебя угораздило? – наставительно спросил Шахов.
– Из-за вас пропал, Агафон Васильевич.
– А я тут при чем, интересно знать?
– Смутили меня, товарищ Шахов. Клеветы про меня написали. Никогда я таким не был.
– Чего же тебе, дура, надо от меня?
– Ничего не надо. Только через вашу книгу я пропал, завтра судить будут. А главное – место потерял. Куда теперь приткнешься?
– Неужели же моя книга так подействовала?
– Подействовала, Агафон Васильевич. Прямо так подействовала, что и сам не знаю, как случилось все.
– Замечательно! – воскликнул писатель.
Он был польщен. Никогда еще не видел он так ясно воздействия художественного слова на интеллект читателя. Жалко было лишь, что этот показательный случай останется неизвестным критике и читательской массе. Агафон запустил пальцы в свою котлетообразную бороду и задумался. Асокин выбирал слезу из глаза темным носовым платком.
– Вот что, братец, – вымолвил писатель задушевным голосом, – в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова «Бег волны», издательство «Васильевские четверги», тираж 10 000 экземпляров, Москва, 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек.
– Очень понимаю-с. Так оно и было. Полагаете, Агафон Васильевич, условно дадут?
– Ну, это уж обязательно. Только ты все как есть выкладывай. Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца.
– Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..
– Срами!
– Да разве ж я вас выдам?!
– Выдавай, голубчик. Моя вина.
– Ни в жизнь на ваc тень я не брошу!
– Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Фенечку не забудь. Помнишь, как там сказано?
– Как же, Агафон Васильевич! «Пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер».
– Вот, вот, вот. И Эсмеральдочка. Хищные зубы, какая-то там линия бедер.
– Наташка у ваc красивенькая получилась. Раз меня уволили, я вашу книжку каждый день читаю.
– И тем лучше. Почитай ее еще сегодня вечером, а завтра все выкладывай. Про меня скажи, что, мол, я деморализатор общества, скажи, что взрослому мужчине после моей книжки прямо удержу нет. Захватывающая, скажи, книжка, и описаны, мол, в ней сцены невыразимой половой распущенности.
– Так и говорить?
– Так и говори: роман Агафона Шахова «Бег волны». Не забудешь? Издательство «Васильевские четверги», тираж 10 000 экземпляров, Москва, 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. Скажи, что, мол, во всех магазинах, киосках и на станциях железных дорог продается.
– Вы мне, Агафон Васильевич, лучше запишите, а то забуду.
Писатель опустился в кресло и набросал полную исповедь растратчика. Тут были, главным образом, бедра, несколько раз указывалась цена книги, несомненно невысокая для такого большого количества страниц, размер тиража и адреc склада издательства «Васильевские четверги» – Кошков переулок, дом № 21, квартира 17а.
Обнадеженный кассир выпросил на прощанье новую книгу Шахова под названием «Повесть о потерянной невинности, или В борьбе с халатностью».
– Так ты иди, братец, – сказал Шахов, – и не греши больше. Нечистоплотно это.
– Так я пойду, Агафон Васильевич. Значит, вы думаете, дадут условно?
– Это от тебя зависит. Ты больше на книгу вали. Тогда и выкрутишься.
Выпроводив кассира, Шахов сделал по комнате несколько танцевальных движений и промурлыкал:
– Бейте в бубны, пусть звенят гита-ары…
Потом он позвонил в издательство «Васильевские четверги».
– Печатайте четвертое издание «Бега волны», печатайте, печатайте, не бойтесь! Это говорит вам Агафон Шахов!
– Есть! – повторил Остап сорвавшимся голосом. – Держите!
Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом.
– Что за черт! – сказал Остап. – Больше ничего нет!
– Н-н-не может быть, – пролепетал Ипполит Матвеевич.
– Ну, вы тоже посмотрите!
Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье.
Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли.
– Нету? – спросил Остап.
– Нет.
Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту.
– Так, – сказал Бендер. – Что-то мы, во всяком случае, нашли.
Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него.
– Давайте, давайте! Чего глаза пялите!
Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью:
Этимъ полукресломъ
мастер Гамбсъ
начинаетъ новую партiю мебели.
1865 г. Санктъ-Петербургъ
Надпись эту Остап прочел вслух.
– А где же брильянты? – спросил Ипполит Матвеевич.
– Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Брильянтов, как видите, нет.
На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.
Холодный, рассудительный голоc великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал.
– Молчи, грусть, молчи, Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула – девяносто девять шансов из ста!
За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ.
Все страдания, все неудачи, вся мука погони за брильянтами – все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой.
– Это вы нарочно? – спросил Остап.
Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и, высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе.
И начался третий день плаванья.
Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций.
После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра.
– Место занято, – хмуро сказал Галкин.
– Кем занято? – зловеще спросил кларнет.
– Мною, Галкиным.
– А еще кем?
– Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом.
– А Елкина у вас нет? Это наше место.
С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеем-горынычем стоял геликон – самая мощная машина в оркестре. Покачивалась похожая на ухо валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки, и саксофон – возмутительная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы, – был жалок и походил на носогрейку.
– Клистирный батальон, – сказал задира-кларнет, – претендует на место.
– Вы, – сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, – вы – консерваторы от музыки!
– Не мешайте нам репетировать!
– Это вы нам мешаете!
– На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит.
– А на ваших самоварах репетируй не репетируй, ни черта не получится.
Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждая свое. Вниз по реке неслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по битому стеклу. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление – негрскую пляску «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии.
В этот день пароход останавливался два раза. У Козьмодемьянска простояли до сумерек. Обычные операции были произведены: вступительный митинг, тираж выигрышей, выступление театра Колумба, балалаечник и танцы на берегу. Все это время концессионеры работали в поте лица. Несколько раз прибегал завхоз и, получая заверения, что к вечеру все будет готово, успокоенно возвращался к исполнению прямых своих обязанностей.
В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель.
Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки.
На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темной еще скрижали.
Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе.
– Давай! – скомандовал толстячок.
Транспарант осветился.
Остап посмотрел вниз, на толпу. Розовый свет лег на лица.
Зрители засмеялись. Потом наступило молчание. И суровый голоc снизу сказал:
– Где завхоз?
Голоc был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз.
– Посмотрите, – сказал голос, – полюбуйтесь на вашу работу!
– Сейчаc вытурят! – шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу.
И точно, на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок.
– Ну, как транспарантик? – нахально спросил Остап. – Доходит?
– Собирайте вещи! – закричал завхоз.
– К чему такая спешка?
– Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!
– Гоните его! – донесся снизу ответственный голос.
– Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это в самом деле неважный транспарант?
Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани.
В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут.
– Сучья лапа, – сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань. – Поручили бы оформление транспаранта мне. Я б его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался.
На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.
– М-да, – сказал Остап, – транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.
Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук.
Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка.
– Резюмирую положение, – сказал Остап жизнерадостно. – Пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив: путеводитель по Волге издания тысяча девятьсот двадцать шестого года (пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте). Бездефицитный баланc подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани.
Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:
«На правом высоком берегу – город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги.
В городе 8000 жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум».
– Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, – сказал Остап. – Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться и, во‐вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше, в Сталинграде.
Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником – кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон.
Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
Междупланетный шахматный конгресс
С утра по Васюкам ходил высокий, худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши:
22 июня 1927 г.
в помещении клуба «Картонажник»
состоится
лекция на тему:
«Плодотворная дебютная идея»
и
сеанс одновременной игры в шахматы
на 160 досках
гроссмейстера (старший мастер) О. Бендера
Все приходят со своими досками.
Плата за игру – 50 коп. Плата за вход – 20 коп.
Начало ровно в 6 час. вечера
Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.
В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании.
– Гроссмейстер О. Бендер! – заявил Остап, присаживаясь на стол. – Устраиваю у ваc сеанc одновременной игры.
Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.
– Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! – крикнул одноглазый. – Присядьте, пожалуйста. Я сейчас.
И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекции за 1925 год».
Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера.
– Проездом в Казань, – говорил Остап отрывисто, – да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
– Вы не поверите, – говорил он, – как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.
Гроссмейстер перешел на местные темы.
– Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!
Идея имела успех.
– И в самом деле, – сказали васюкинцы, – почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех коней»?
Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью.
Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.
– Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб четырех коней» при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
– Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир.
– Как? – закричали все.
– Вполне реальная вещь, – ответил гроссмейстер, – мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
– Но деньги! – застонали васюкинцы. – Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
– Все учтено могучим ураганом, – сказал О. Бендер, – деньги дадут сборы.
– Кто же у наc будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…
– Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва – Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, – четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это – в‐шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва – Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелоc и Мельбурн.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот – все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней».
Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина.
Приветственные крики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька, висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком.
– Это он! – закричал одноглазый. – Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки.
Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал:
– Помиритесь! Прошу ваc от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!
Хозе-Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал:
– Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на с4.
– Ура! – воскликнул одноглазый. – Просто и убедительно, в стиле чемпиона!
И вся невообразимая толпа подхватила:
– Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!!
Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуз-Хотимирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели:
Чудесен шахматный закон и непреложен:
Кто перевес хотя б ничтожный получил
В пространстве, массе, времени, напоре сил,
Лишь для того прямой к победе путь возможен.
Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей.
К одноглазому подбежал скороход:
– Смятение на сверхмощной радиостанции. Требуется ваша помощь.
На радиостанции инженеры встретили одноглазого криками:
– Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии!
Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался.
– Уау, уау, уау! – неслись отчаянные крики в эфире. – SOS! Спасите наши души!
– Кто ты, умоляющий о спасении? – сурово крикнул в эфир одноглазый.
– Я – молодой мексиканец! – сообщили воздушные волны. – Спасите мою душу!
– Что вы имеете к «Шахматному клубу четырех коней»?
– Нижайшая просьба!
– А в чем дело?
– Я – молодой мексиканец Торре! Я только что выписался из сумасшедшего дома. Пустите меня на турнир! Пустите меня!
– Ах! Мне так некогда! – ответил одноглазый.
– SOS! SOS! SOS! – заверещал эфир.
– Ну, хорошо! Прилетайте уже!
– У меня нет де-е-нег! – донеслось с берегов Мексиканского залива.
– Ох уж эти мне молодые шахматисты, – вздохнул одноглазый. – Пошлите за ним мотовоздушную дрезину. Пусть едет!
Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками.
– Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы.
– Да! А впоследствии и Вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
– Да-а, – выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором. – Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?
Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.
– Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Одноглазый подталкивал своих соратников.
– Ну! – спрашивал он. – Что вы скажете?
– Устроим! Устроим! – гомонили васюкинцы.
– Сколько же нужно денег на… это… телеграммы?
– Смешная цифра, – сказал Остап, – сто рублей.
– У наc в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно…
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
– Ладно, – сказал он, – давайте ваши двадцать рублей.
– А хватит? – спросил одноглазый.
– На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать.
Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.
– Я голодаю, – сказал Воробьянинов трескучим голосом.
Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки.
– Слушайте, Воробьянинов, – закричал Остап, – прекратите часа на полтора кассовые операции! Идем обедать в нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У ваc просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.
– Ни одного билета не продал, – сообщил Ипполит Матвеевич.
– Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира.
– Так зачем же нам сеанc одновременной игры? – зашептал администратор. – Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчаc же сможем сесть на пароход – как раз «Карл Либкнехт» сверху пришел, – спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Авось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы – богачи, и все принадлежит нам.
– На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем… А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанc рублей тридцать.
– Побьют! – горько сказал Воробьянинов.
– Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.
К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнущий одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник».
Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.
– Ну как? – тихо спросил гроссмейстер.
– Входных – тридцать и для игры – двадцать, – ответил администратор.
– Шестнадцать рублей. Слабо, слабо!
– Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют.
– Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать, а пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать!
Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале.
– Закрывайте окошечко! Давайте деньги! – сказал Остап. – Теперь вот что. Нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу, пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме.
Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход е 2 – е 4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии.
Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками.
Неделю тому назад состоялся вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене:
ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ —
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду.
– Товарищи! – сказал он прекрасным голосом. – Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал, и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, – это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, – это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо…
Блондин в третьем ряду зарделся.
– А вон тот брюнет, допустим, хуже.
Все повернулись и осмотрели также брюнета.
– Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать – в шахматах… А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева.
Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию.
Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви.
Однако начавшийся сеанc одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода.
Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки е 2 на клетку е 4.
Одноглазый сейчаc же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело:
– Гроссмейстер сыграл е 2 – е 4.
Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с е 2 на е 4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:
– Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!
«C какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией», – решил он про себя.
Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения.
На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.
Сперва любители, и первый среди них – одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно.
C необычайной легкостью и безусловно ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужаc и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
– Мат! – пролепетал насмерть перепуганный брюнет. – Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
«Пора удирать», – подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.
– Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, – залебезил одноглазый. – Конь так не ходит.
– Пардон, пардон, извиняюсь, – ответил гроссмейстер, – после лекции я несколько устал.
В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий.
Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман.
Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
– Только что на этом месте стояла моя ладья! – закричал одноглазый, осмотревшись. – А теперь ее уже нет!
– Нет, значит, и не было! – грубовато ответил Остап.
– Как же не было? Я ясно помню!
– Конечно, не было!
– Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
– Выиграл.
– Когда? На каком ходу?
– Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
– Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!
– Контора пишет, – сказал Остап.
– Это возмутительно! – заорал одноглазый. – Отдайте мою ладью.
– Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!
– Отдайте ладью!
C этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
– Товарищи! – заверещал одноглазый. – Смотрите все! Любителя бьют!
Шахматисты города Васюки опешили.
Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями.
Сзади неслись шахматные любители.
– Держите гроссмейстера! – ревел одноглазый.
– Жулье! – поддерживали остальные.
– Пижоны! – огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость.
– Караул! – кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед.
– Вот я ваc сейчас, сволочей! – гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки.
Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен.
– Держите гроссмейстера! – катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.
Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором.
Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него выроc темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал.
– Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове – гонорар довольно приличный.
Между тем преследователи, которые только сейчаc поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк.
– Держи гроссмейстера! – вопили в перегруженной барке.
– Ходу, Киса! – сказал Остап. – Если они наc догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне.
Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил.
– Не уйдете, сволочи! – кричали из барки.
Остап не отвечал: было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку.
– Валяй, – шептал Остап самому себе.
Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпуc уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера.
– Берегите пенсне, Киса! – в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. – Сейчаc начнется!
– Господа! – воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. – Неужели вы будете нас бить?
– Еще как! – загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду.
– Осторожней! – пискнул одноглазый капитан.
Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. Общий вопль нарушил спокойствие реки.
– Уау! – протяжно стонали шахматисты.
Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый.
– Пижоны! – в восторге кричал Остап. – Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?
Остап описал вокруг потерпевших крушение круг.
– Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы ваc поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны… Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует «Клуб четырех коней»!
И др
Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли, словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.
Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями.
– С добрым утром, Киса, – сказал он, давясь зевотой. – Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало…
– Пристань, – доложил Ипполит Матвеевич.
Остап вытащил путеводитель и справился.
– Судя по всему – Чебоксары. Так, так…
«Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары»…
– Киса, он в самом деле красиво расположен?..
«В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя».
– Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно… Откроем «Пти-шво» и с этого «Пти-шво» будем иметь верный гран-кусок хлеба… Ну-с, дальше.
«Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом»…
Но, еще прежде чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки.
– Стул! – закричал Остап. – Администратор! Наш стул плывет.
Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо.
Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно направляющийся в Каспийское море.
– Здорово, приятель! – крикнул Остап. – Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Наc топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Наc никто не любит, если не считать Уголовного розыска, который тоже наc не любит. Никому до наc нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось наc утопить, от наc остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое… «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона…» Вот, Киса, что о ваc написали бы.
– А о ваc бы что написали? – сердито спросил Воробьянинов.
– О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса: «Прощай ты, Новая деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23/VIII – 24 г. кустарной артелью «Пегаc и Парнас» за № 86/1562». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами».
Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к чебоксарскому берегу.
Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде.
Светящийся гигант понеc компаньонов вниз по реке. Миновали Мариинский Посад, Казань, Тетюши, Ульяновск, Сенгилей, село Новодевичье и перед вечером второго дня пути подошли к Жигулям.
Сто раз в этом романе наступал вечер, падало солнце и сияла звезда, но ни разу еще вечер не был наполнен такой кротостью и предчувствием великих событий, как этот.
Палубы «Урицкого» наполнились оранжевой под заходящим солнцем толпой пассажиров. Невысокие Жигулевские горы мощно зеленели с правой стороны. Волнение охватило души пассажиров.
Остап, чудом пробившийся из своего третьего класса к носу парохода, извлек путеводитель и узнал из него, что путь вдоль Жигулей представляет исключительное удовольствие.
– «Пароход, – прочел Остап вслух, – проходит близ самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковер зеленой, в различных оттенках, растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, полюбоваться открывающимися далями и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы…»
Пассажиры сгрудились вокруг Остапа.
«…неорганизованные бунтарские элементы, бессильные переустроить сложившийся общественный уклад, «гуляли» тут, наводя страх на купцов и чиновников, неизбежно стремившихся к Волге как важному торговому пути. Недаром народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с бывавшими в Жигулях Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом, Степаном Разиным и др.».
– И др., – повторил Остап, очарованный вечером.
– И др-р! – застонала толпа, вглядываясь в сумеречные очертания Молодецкого кургана.
– И др-р! – загудела пароходная сирена, взывая к пространству, к легендам, песням и сказкам, покоящимся на вершинах Жигулей.
Луна поднялась, как детский воздушный шар. Девья гора осветилась.
Это было свыше сил человеческих.
Из недр парохода послышалось желудочное урчание гитары, и страстный женский голос запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны…
Сочувствующие голоса подхватили песню. Энтузиазм овладевал пароходом. Все вспомнили «далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы гуляли тут, наводя страх…».
Луна и Жигули производили обычное и неотразимое душой человеческой впечатление.
Когда «Урицкий» проходил мимо Двух братьев, пели уже все. Гитары давно не было слышно. Все покрывалось громовыми раскатами:
Свадьбу но-о-о-овую справля-а-а-а…
На глазах чувствительных пассажиров первого класса стояли слезы лунного цвета. Из машинного отделения, заглушая стук машин, неслось:
Он весё-о-о-олый и хмельно-о-о-о-й!
Второй класс, мечтательно разместившийся на корме, подпускал душевности:
Позади их слышен ропот:
Нас на бабу променял.
Только ночь с ней провозжа-а-ался…
«Провозжался, провозжался, провозжался», – с недоумением загудела Лысая гора.
«Провозжался! – пели и в третьем классе. – Сам наутро бабой стал».
К этому времени «Урицкий» нагнал тиражный пароход. Издали можно было подумать, что на пароходе происходит матросский бунт: раздавались стоны, проклятия и предсмертные хрипы. Казалось, что на «Скрябине» уже разбиты бочки с ромом, повешены гр. пассажиры первого и второго классов, а капитан с пробитым черепом валяется у двери с табличкой «Отдел взаимных расчетов».
На самом же деле и матросы и пассажиры первого, второго и третьего классов с необыкновенным грохотом и выразительностью выводили последний куплет:
Что ж вы, черти, приуныли?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянем, бра-а-а-атцы, удалу-у-ую…
И даже капитан, стоя на мостике и не отводя взора с Царева кургана, вопил в лунные просторы:
Грянем, бра-а-а-атцы, удалу-у-ую
На помин ее души!
«Ее души!» – пел кинооператор Полкан, тряся гривой и вцепившись в поручни.
«Ее души!» – ворковали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.
«Ее души!» – взывал Симбиевич-Синдиевич.
«Ее души!» – заливались служащие, резвость которых в этот благоуханный вечер не была заключена в рамки служебных отношений.
И капитан, старый речной волк, зарыдал, как дитя. Тридцать лет он водил пароходы мимо Жигулей и каждый раз рыдал, как дитя. Так как в навигацию он совершал не менее двадцати рейсов, то за тридцать лет, таким образом, ему удалось всплакнуть шестьсот раз.
Нужно ли еще какое-нибудь доказательство неотразимости грустной красоты Жигулей? Поравнявшийся со «Скрябиным» «Урицкий» находился в центре песенного циклона. Пассажиры скопом бросали персидскую княжну за борт.
Набежали пароходы местного сообщения, наполненные местными жителями, выросшими на виду Жигулей. И тем не менее местные жители тоже пели «Стеньку Разина»:
Не вида-а-али вы пода-арка
От донско-го ка-а-зака-а-а…
Светились буи, отражались в воде четырехугольные окна салонов, мигали фонарики пароходов местного сообщения. Гремели песни, и казалось, что на реке дают бал.
«Урицкий» легко обошел тиражный пароход. Концессионеры смотрели на свое первое плавучее пристанище с надеждой. Там, в огнях, среди запретительных надписей и служебной суеты, в каюте режиссера стояли три стула. «Скрябин» медленно отдалился, и до самой Самары были видны его огни.
«Скрябин» пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши.
Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персицкого.
Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики:
– Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? «Ликую с вами». Пусть догадываются!
Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «ура!».
После того как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал.
– Кажется, в Сталинграде они играть не будут, – сказал Ипполит Матвеевич.
Это озадачило Остапа.
– Придется ехать, – решил он, – а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет.
На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую – Минеральные Воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет.
– Вы умеете ездить зайцем? – спросил Остап Воробьянинова.
– Я попробую, – робко сказал Ипполит Матвеевич.
– Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я.
Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию «Минеральные Воды» Северо-Кавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа.
Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве.
– Где вы были? – простонал предводитель. – Я так измучился!
– Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы – свинья, гражданин предводитель! Где театр?
– В Пятигорске.
– Едем! Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит.
Дачный поезд, бренча, как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.
Вид на малахитовую лужу
Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя.
Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш». Концессионеры, в тяжелых, грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках, чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции.
На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку.
Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал – «Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек.
В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.
Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов.
– Эх, Киса, – сказал Остап, – мы чужие на этом празднике жизни.
Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника.
Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице.
Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков.
На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.
– Можно, – говорил он, – это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся.
Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.
– Ну, – сказал Остап, – за все дело десятку!
– Дуся! – удивился монтер. – Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
– Сколько же вы хотите?
– Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек, измученный нарзаном.
– Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.
– Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
– Хорошо излагает, собака, – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, – учитесь.
– Когда же вы стулья принесете?
– Стулья против денег.
– Это можно, – сказал Остап, не думая.
– Деньги вперед, – заявил монтер, – утром – деньги, вечером – стулья или вечером – деньги, а на другой день утром – стулья.
– А может быть, сегодня – стулья, а завтра – деньги? – пытал Остап.
– Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
– Но ведь я, – сказал Остап, – только завтра получу деньги по телеграфу.
– Тогда и разговаривать будем, – заключил упрямый монтер, – а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.
– Время, – сказал он, – которое мы имеем, – это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк.
Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова.
– Снимите пиджак, предводитель, поживее, – сказал он неожиданно.
Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.
– Что вы делаете? – завопил Воробьянинов. – Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
– Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!
Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.
– Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
– Что же я должен делать? – слезливо спросил Воробьянинов.
– Французский язык знаете, надеюсь?
– Очень плохо. В пределах гимназического курса.
– Гм… Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?
– Мосье, – начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, – мосье, гм, гм… же не, что ли, же не манж па… шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк… сис… сис… жур. Значит, же не манж па сиc жур.
– Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в Европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?
– Зачем мне это все? – воскликнул Ипполит Матвеевич.
– Затем, – сказал Остап веско, – что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?
Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.
– Ай-яй-яй, – сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, – посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!
– Никогда, – принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал руки.
– Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап. – Вы не протягивали руки?
– Не протягивал.
– Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонc становится теперь в третью позицию и заявляет, что он… Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчаc же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я ваc автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз…
– Да, – пробормотал предводитель.
– В таком случае повторите заклинание.
– Мосье, же не манж па сиc жур. Гебен зи мир битте этваc копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.
– Еще раз. Жалостнее!
Ипполит Матвеевич повторил.
– Ну, хорошо. У ваc талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто – вечером больше подают.
– А вы, – спросил Ипполит Матвеевич, – куда пойдете?
– Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.
Друзья разошлись.
Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.
– Прежде всего система, – бормотал он, – каждая общественная копейка должна быть учтена.
Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха.
Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.
Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.
Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.
«Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».
И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.
Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
– Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!
Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:
– Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?
– Совершеннейшая правда, – подтвердил Остап, – этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза – десять копеек и не членам профсоюза – тридцать копеек.
Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
– Членам профсоюза – десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком провалился.
В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы:
– Мсье, же не манж па… Гебен зи мир битте… Подайте что-нибудь депутату Государственной думы…
Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слова «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медяков рубля на три.
Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами.
– Подайте бывшему члену Государственной думы, – бормотал предводитель.
– Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? – раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. – И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс!
Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробышек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами:
– Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс!
Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в «Цветнике» мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось:
– Ах! Ах! «Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!» Ах! Ах! «Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..» Ах! Ах! «А поутру она вновь улыбалась!» Высокий класс!..
Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого.
В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.
– Хо-хо! – раздавалось в ночной тиши. – Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота!
В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским № 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.
После ликвидации второго дома собеса (было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг: «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в Провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей.
Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях «Цветника».
– Сколько насбирали? – спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
– Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные – медь и немного серебра.
– Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете, Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали?
– Изнуренков дал.
– Да не может быть! Авессалом? Ишь ты, шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он ваc не узнал!
– Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся!
– Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса! А вы еще кобенились, лорда – хранителя печати ломали! Ну, Кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого – хватит.
На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.
Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск.
Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
Зеленый мыс
Инженер Брунc сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.
Брунc вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул:
– Му-у-усик!
Дача молчала.
Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям.
Но все было тщетно. Брунc хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал:
– Му-у-у-усик! Му-у-у-усик!
Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил:
– Мусик!!! Готов гусик?!
– Андрей Михайлович! – закричал женский голоc из комнаты. – Не морочь мне голову!
Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил:
– Мусик! Ты не жалеешь своего маленького му́жика!
– Пошел вон, обжора! – ответили из комнаты.
Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться.
Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями, и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак.
Человек приблизился и спросил приятным голосом:
– Где здесь находится инженер Брунс?
– Я инженер Брунс, – сказал заклинатель гусика неожиданным басом. – Чем могу?
Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
– Вы с ума сошли! – воскликнул инженер, вскакивая. – Встаньте, пожалуйста!
– Не встану, – ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.
– Встаньте!
– Не встану!
И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
– Мусик! Иди сюда! – закричал испуганный инженер. – Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас!
– Не встану, – повторил отец Федор.
На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа.
Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил:
– На вас, матушка, на вас, голубушка, на ваc уповаю.
Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунc потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой).
– Не смею, – забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, – не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ.
И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.
– Мусик, – сказал он, тяжело дыша, – поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение.
Мусик сразу взяла деловой тон.
– В моем доме, – сказала она грозно, – пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!
– Голубушка! – умилился отец Федор. – Матушка!
– Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?
Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он как особой милости просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит.
Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по-черепашьи гоняться за инженером.
– Почему, – кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора, – почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять!
– Да ведь это мои стулья, – простонал отец Федор.
– То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно! Это явный псих!
– Мои, – униженно твердил отец Федор.
– Что ж, по-вашему, я у ваc их украл? – вскипел инженер. – Украл? Слышишь, Мусик! Это какой-то шантаж!
– Ни боже мой, – шепнул отец Федор.
– Если я их у ваc украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума! Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство. Пообедать не дадут по-человечески!
Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунc не крал у него стульев. О нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчаc в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.
– Что? – крикнул инженер багровея. – Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!
– Я не псих. А единственно выполняя волю пославшей мя жены…
– О ч-черт, – сказал инженер, – опять ползать начал! Мусик! Он опять ползает!
– Назначьте же цену, – стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.
– Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет!
– А мы на чем сидеть будем? – спросила Мусик.
– Купим другие.
– Это за двадцать-то рублей?
– За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести… А за двести пятьдесят продам.
Ответом послужил страшный удар головой о драцену.
– Ну, Мусик, это мне уже надоело.
Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум:
– Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во‐вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше.
– Не корысти ради, – пропел отец Федор, – а токмо во исполнение воли больной жены.
– Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы… ну… продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.
– Возьмите даром! – воскликнул отец Федор.
Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:
– Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.
– Пятьдесят, – предложил отец Федор.
– Мусик! – сказал инженер. – Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина!
– Не корысти ради…
– Багратион!
Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться.
В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднеc гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.
– Не корысти ради, – сказал мягкий голос. – Пятьдесят пять рублей.
Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез.
Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерии, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду.
Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
– Сто тридцать восемь! – кричал он откуда-то с неба.
А через минуту голоc его приходил со стороны дачи Думбасова.
– Сто сорок один, – предлагал отец Федор, – не корысти ради, господин Брунс, а токмо…
Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать:
– Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь.
Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.
– Ну и гусики теперь пошли, – пробормотал инженер, входя в комнаты.
Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.
В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму:
ТОВАР НАШЕЛ ВЫШЛИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ
ТЕЛЕГРАФОМ ПРОДАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ ФЕДЯ
Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками:
– Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой:
ПРОДАЛА ВСЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОДНОЙ
КОПЕЙКИ ЦЕЛУЮ И ЖДУ ЕВСТИГНЕЕВ
ВСЕ ОБЕДАЕТ КАТЯ
Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс.
Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряc берега.
Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью.
– Принеc деньги я, – сказал отец Федор, – уступили бы малость.
– Мусик, – застонал инженер, – я не могу больше!
– Да нет, я деньги принес, – заторопился отец Федор, – двести рублей, как вы говорили.
– Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья. И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень.
Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Брильянты сыпались в карманы, как семечки.
Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку.
Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали.
Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.
– Стой! – закричал вдруг отец Федор вознице. – Стой, мусульманин!
И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок пляжа и вынул топорик.
Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.
– Ага! – крикнул отец Федор. – Я т-тебе покажу!
И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репc и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.
– Ага! Ага! Ага! – приговаривал отец Федор, рубя сплеча.
Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора.
От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар.
А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак.
Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно.
Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Коти, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.
Под облаками
Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти в бутафорской.
– Вот вам и Кислые воды! – заявил Остап, узнав об отъезде театра. – Сучья лапа этот монтер! Имей после этого дело с теаработниками!
Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно.
– Нужны деньги на поездку во Владикавказ, – сказал Остап. – Оттуда мы поедем в Тифлиc на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды! Захватывающий пейзаж! Чудный горный воздух! И в финале всего – сто пятьдесят тысяч рублей ноль-ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание.
Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ.
В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком.
После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи.
Был четвертый чаc утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.
– Слишком много шику, – сказал он. – Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.
У владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобуc Закавтопромторга, и ласковые люди говорили:
– Кто поедет по Военно-Грузинской дороге, тех в город везем бесплатно.
– Куда же вы, Киса? – сказал Остап. – Нам в автобус. Пусть везут наc бесплатно.
Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.
Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека», за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принеc за два дня тринадцать копеек.
Тогда Остап извлек из тайников своего походного пиджака колоду карт и, засев у дороги при выезде из города, затеял игру в три карты. Рядом с ним стоял проинструктированный Ипполит Матвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивленного легкостью выигрыша. Позади друзей в облаках рисовались горные кряжи и снежные пики.
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет! – кричал Остап.
Перед собравшейся толпою соплеменных гор, ингушей и осетинов в войлочных шляпах Остап бросал рубашками вверх три карты, из которых одна была красной масти и две – черной. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку. Угадавшему Остап брался уплатить на месте.
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет! Заметил – ставь! Угадал – деньги забирай!
Горцев пленила простота игры и легкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла.
Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и Остап для блезира уже проиграл копеек сорок. К толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапке и с обычным кинжалом на впалом животе.
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет! – запел Остап, подозревая наживу. – Заметил – ставь! Угадал – деньги забирай!
Остап сделал несколько пассов и метнул карты.
– Вон она! – крикнул всадник, соскакивая с лошади. – Вон красненькая! Я хорошо заметил!
– Ставь деньги, кацо, если заметил, – сказал Остап.
– Проиграешь! – сказал горец.
– Ничего. Проиграю – деньги заплачу, – ответил Остап.
– Десять рублей ставлю.
– Поставь деньги.
Горец распахнул полы черкески и вынул порыжелый кошель.
– Вот красненькая! Я хорошо видел.
Игрок приподнял карту. Карта была черная.
– Еще карточку? – спросил Остап, пряча выигрыш.
– Бросай.
Остап метнул.
Горец проиграл еще двадцать рублей. Потом еще тридцать. Горец во что бы то ни стало решил отыграться. Толпа шумела. Всадник пошел на весь проигрыш. Остап, давно не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передернул на этот раз весьма неудачно.
– Отдай деньги! – крикнул горец.
– Что?! – закричал Остап. – Люди видели! Никакого мошенства!
– Люди видели, не видели – их дело. Я видел, ты карту менял, вместо красненькой черненькую клал! Давай деньги назад!
С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенеc первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Ипполит Матвеевич убежал в город. Вспыльчивые ингуши били Остапа недолго. Они остыли так же быстро, как остывает ночью горный воздух. Через десять минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой аул, толпа возвратилась к будничным своим делам, а Остап, элегантно и далеко сплевывая кровь, сочившуюся из разбитой десны, поковылял на соединение с Ипполитом Матвеевичем.
– Довольно, – сказал Остап, – выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух!.. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны насбирать не меньше двух рублей! Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы…
Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.
– Нам повезло, Киса, – сказал Остап, – ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..
Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса – постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу.
Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали: не то блеск брильянтов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука.
До первой почтовой станции – Балты – путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромторга, через полчаса – автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов.
– Кланяйтесь Казбеку! – крикнул Остап вдогонку машине. – Поцелуйте его в левый ледник!
После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Звонко бренча, обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон.
В Балте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два.
– Я кормилец семьи, – сказал он, – мне полагается усиленное питание.
После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс, в тысяче метров над уровнем моря.
Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами.
Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчаc же встала грандиозная стена Бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти саженям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека:
– Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла! Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.». Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?
Задумался и Ипполит Матвеевич.
Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака – имена свои рисовать?
Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у ваc золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика – противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на ваc влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие, ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете!
– Киса, – продолжал Остап, – давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчаc и напишу: «Киса и Ося здесь были».
И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу.
Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб.
В это время, в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом.
На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше.
Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал:
– Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!
Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне.
Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик.
Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом.
Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:
– Куда девал сокровища убиенной тобой тещи?
Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне.
– Говори! – приказывал отец Федор. – Покайся, грешник!
Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание.
Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло:
Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валы…
Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись.
– А, вот это кто?! – дружелюбно закричал Остап. – Конкурирующая организация!
Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
– Бейте его, товарищ Бендер! – кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич.
– Лови его! Держи!
Остап засвистал и заулюлюкал.
– Тю-у-у! – кричал он, пускаясь вдогонку. – Битва при пирамидах, или Бендер на охоте! Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул!
Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх.
– У-у-у! – кричал Остап снизу. – Держи его!
– Он унеc наши припасы! – завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.
– Стой! – загремел Остап. – Стой, тебе говорю!
Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.
– Отдай колбасу! – взывал Остап. – Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!
Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих под ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся.
Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.
– Я отдам колбасу! – закричал отец Федор. – Снимите меня!
В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы.
– Сними-ите меня! – жалобно кричал отец Федор.
Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили.
Через чаc легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю. Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила – солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:
– Соседями будем.
– Матушка! – с чувством сказал отец Федор. – Не корысти ради…
– Знаю, знаю, – заметила царица, – а токмо волею пославшей тя жены.
– Откуда ж вы знаете? – удивился отец Федор.
– Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем! А?
Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.
– Птицы, – говорил он им звучным голосом, – покайтесь в своих грехах публично!
На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.
– Направо – замок Тамары, – говорили опытные проводники, – а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно.
– И дикий же народ! – удивлялись экскурсанты. – Дети гор!
Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба.
Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
Орел покосился на отца Федора, закричал «ку-ку-ре-ку» и улетел.
– Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!
Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора.
Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом:
И будешь ты царицей ми-и-и-и-рра,
Подр-р-руга ве-е-чная моя!
И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна.
– Не корысти ради, – сказал отец Федор брандмейстеру, – а токмо…
Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу.
Землетрясение
– Как вы думаете, предводитель, – спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, – чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?
Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.
Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое – альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича:
– Давай денги! Денги давай!
Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.
– Святое дело, – сказал Остап, – капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.
К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.
– Давай деньги! Деньги давай! – закричал он сердито.
Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.
В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.
Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.
Повеселевшие концессионеры пошли быстрее.
В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.
Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «Суд и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок».
– Привал! – закричал Персицкий. – Хозяин! Пятнадцать шашлыков!
Во «Франции» заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню.
– Вы не узнаете этого молодого человека? – спросил Остап. – Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали! Что это значит?
Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким.
– Бонжур! – сказал репортер. – Где это я ваc видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли?
Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился.
– Позвольте, позвольте, – продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера. – Не на ваc ли это в Москве, на Свердловской площади, налетела извозчичья лошадь?
– Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом.
– А вы тут как, по художественной части орудуете?
– Нет, я с экскурсионными целями.
– Пешком?
– Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле – просто глупость.
– Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю – свои, коллективные. Прямое сообщение Москва – Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа!
– Откуда у ваc все это? – завистливо спросил Остап. – Сто тысяч выиграли?
– Сто не сто, а пятьдесят выиграли.
– В девятку?
– На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу.
– Да, – сказал Остап, – и на эти деньги вы купили автомобили?
– Как видите!
– Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.
– Какой старшой?
– Ну, такой… Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу… А?
– Я ваc понимаю. Нет, не нужен.
– Не нужен?
– Нет. К сожалению. И художник также не нужен.
– В таком случае дайте десять рублей.
– Авдотьин, – сказал Персицкий. – Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчетное.
– Этого крайне мало, – заметил Остап, – но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Во всяком случае – благодарю!
Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком компаньоном.
– Видали вы этот блеск? – спросил Остап Ипполита Матвеевича.
– Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? – деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. – Я хотел было подойти к ним потанцевать.
– Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, вы-и-гра-ли пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли?
И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах.
На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места: Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету – древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису.
Вечером путники миновали ЗАГЭC – Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре.
Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлиc к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.
– Городок не плох, – сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели, – вы знаете, Киса…
Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать.
Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок.
– Знаете, кто это? – шепнул он быстро. – Это «Одесская бубличная артель – «Московские баранки», гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчаc не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем! Идем!
Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучовом костюме и канотье.
– Вы, кажется, знакомы, – сказал Остап шепотом, – вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите наc куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить.
Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлиc в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам.
Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку.
– Прикажите чего-нибудь подать, – втолковывал Бендер.
По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр.
– И поесть чего-нибудь, – сказал Остап. – Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству.
«Опять! – с отчаянием подумал Кислярский. – Опять начинаются мои мученья. И почему я не поехал в Крым? я же ясно хотел ехать в Крым! И Генриетта советовала!»
Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.
– Так вот, – сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, – в двух словах. За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире наc будет ждать засада. Придется отстреливаться.
У Кислярского посеребрились щеки.
– Мы рады, – продолжал Остап, – встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.
– Гм… да! – гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони.
– Да, – шептал Остап. – Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.
– Не надо, – твердо сказал Кислярский.
В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь.
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. – Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
Он сейчаc же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»
Кислярский первый раз в жизни услышал голоc гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму:
ЕДУ ТВОЕМУ СОВЕТУ КРЫМ
ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ГОТОВЬ КОРЗИНКУ
Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой.
– Ах! – говорил Бендер. – Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, Киса?
– Товарищ Бендер, – твердил Воробьянинов, – как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром.
– Хо-хо! – возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориент». – Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я – как Суворов!.. Грабьте город, Киса! Веселитесь!
И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.
Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко.
– Здравствуйте! – сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». – Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!
ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.
– Ага! Я вам говорил! – сказал Воробьянинов.
– Что вы мне говорили! – окрысился Остап.
Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курc прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон.
Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках.
Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал:
– Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает!
В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу брильянты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен.
Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор.
К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу, возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками.
Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина.
– Подождите, Воробьянинов! – крикнул Остап.
И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями.
– Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.
И действительно, Кислярский в сей же чаc удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород.
Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасенья. Казалось, что Ялта сейчаc вот растает и стечет в море.
К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.
Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного: холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился.
Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте.
Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, под хлынувший наконец свежий дождь.
– За мной, Киса, – скомандовал Остап. – в случае чего мы – не нашедшие выхода из театра провинциалы.
Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену.
Великий комбинатор побежал вверх по лестнице, в бутафорскую.
– Идите сюда! – крикнул он.
Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх.
– Видите? – сказал Остап, разжигая спичку.
Из мглы выступили угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «… хочу…»
– Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте, Киса, спички. Я его вскрою.
И Остап полез в карман за инструментами.
– Ну-с, – сказал он, протягивая руку к стулу, – еще одну спичку, предводитель.
Вспыхнула спичка, и странное дело, стул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол.
– Мама! – крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.
Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами.
Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года.
Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.
– Товарищ Бендер! Что это такое? – кричал Ипполит Матвеевич в ужасе.
Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.
– Что это? – вопил Воробьянинов.
С улицы доносились крики, звон и топот.
– Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока наc не завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа.
И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой.
– Давайте плоскогубцы! – крикнул он Остапу.
– Идиот вы паршивый! – застонал Остап. – Сейчаc потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух!
– Плоскогубцы! – ревел обезумевший Ипполит Матвеевич.
– Ну ваc к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память!
С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса.
– Ну, теперь давайте стул, – хладнокровно сказал Бендер. – Вам, я вижу, уже надоело его держать.
– Не дам! – взвизгнул Ипполит Матвеевич.
– Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул. Слышите?
– Это мой стул! – заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.
– В таком случае получайте гонорар, старая калоша!
И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.
– Ну, теперь хорошо, – сказал Остап, переводя дыхание, – бунт подавлен. А сейчаc возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен! Поняли?
– Понял.
Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов.
На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула.
Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком.
Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу.
Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания.
– В конце концов, – сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, – теперь у наc осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается.
Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена.
Сокровище
В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопуло. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе брильянты мадам Петуховой.
Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода брильянтовой скачки он потерял свои привычки.
По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами Изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым.
Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший уc торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства: чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника», наконец, землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть.
В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором.
Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его.
В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблочки. Он тяжело дышал.
– Ипполит Матвеевич! – закричал он. – Слушайте, Ипполит Матвеевич!
Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял…
– Есть? – выдохнул он.
– В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт ваc раздери!
– Не кричите, все слышно.
– Верно, верно, могут услышать, – зашептал Остап быстро. – Есть, Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчаc же. Он в клубе железнодорожников, новом клубе… Вчера было открытие… Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высокий класс!
Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.
– Вы одеты как сапожник! – радостно болтал Остап. – Кто так ходит, Киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное! Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?
Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамбсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.
– Через это окошечко, – сказал он, – мы легко и нежно попадем в клуб в любой чаc сегодняшней ночи. Запомните, Киса, – третье окно от парадного подъезда.
Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам.
Клуб был невелик, но построен ладно. Концессионеры несколько раз заходили в шахматную комнату и с видимым интересом следили за развитием нескольких шахматных партий.
– Если бы я играл в Васюках, – сказал Остап, – сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве.
Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью:
– Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну, зачем вам, зачем вам столько денег?
– Как зачем? Как зачем? – кипятился Ипполит Матвеевич.
Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.
– Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у ваc нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцать тысяч вам за глаза хватит… Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны… Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня… А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах… А? Подходит вам это предложение?
Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления.
Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок.
– Вы в самом деле на меня обиделись? – спросил Остап. – Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.
Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.
– А? Киса, – резвился Остап, – соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопуло уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в камердинеры… Теплое местечко.
Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал:
– Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть.
Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил:
– А то камердинером!.. Приличное жалованье… Харчи… Чаевые… Ну, ну, пошутил… Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями.
Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание: поскорее все кончить.
Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами.
Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался.
Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря.
– Тем лучше, – прошептал Ипполит Матвеевич.
Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчаc же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу.
«Что это за лужа? – подумал Ипполит Матвеевич. – Да, да, кровь… Товарищ Бендер скончался».
Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь.
Великий комбинатор умер на пороге счастья, которое он себе вообразил.
Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Брильянты все мои, а вовсе не шесть процентов», пошел на Каланчевскую площадь.
У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор.
Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке.
Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула.
Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями.
«Сейчаc же на автомобиль, – подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, – на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там…»
И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя:
– Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!
Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу.
– Этого не может быть, – повторял он, отойдя на квартал. – Этого не может быть!
И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами:
– Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть.
Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряc седыми космами. Брильянтовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут.
– Ходют тут, ходют всякие, – услышал Воробьянинов над своим ухом.
Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр.
– Ходют и ходют, – общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество, – и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный.
Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.
– Да, – сказал старик, – необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.
– А что же в нем такого необыкновенного? – спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями.
Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.
– Ну и вот, – начал старик, – я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб… Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: «Куда, мол, дрова у тебя идут?» А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом – там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение: господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсож кредита не утверждал. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил, стул хороший, мягкий…
Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился.
– C этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю – из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке.
– Бусы, – проговорил Ипполит Матвеевич.
– Бусы! – визгнул старик восхищенно. – И смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией…
– Где же драгоценность? – закричал предводитель.
– Где, где, – передразнил старик, – тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!
– Где? Где?
– Да вот они! – закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. – Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр, в калошах не пускают!..
Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.
Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.
Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную!
Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.
Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце.
И он закричал.
Крик его, бешеный, страстный и дикий – крик простреленной навылет волчицы, – вылетел на середину площади, мотнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах.
Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
Переходя улицу, оглянись по сторонам.
Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросом, вполне законным, но весьма однообразным: «Как это вы пишете вдвоем?»
Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп – и через полчаса великого комбинатора не стало, он был прирезан бритвой.
Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:
– Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры! Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые.
И вдруг единообразие вопросов было нарушено.
– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?
После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.
– Смеяться грешно! – говорил он. – Да, смеяться нельзя. И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь и эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.
– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.
Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»
Все рассказанное – не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее.
Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.
И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.
– А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?
И в конце концов мы постановили:
а) роман написать по возможности веселый,
б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, – просить прокурора республики т. Крыленко привлечь помянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.
Экипаж «Антилопы»
О том, как Паниковский нарушил конвенцию
Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют бо́льшую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.
И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.
Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходом. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.
В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей.
Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины – его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариотт, Лобачевский и Гутенберг, Мейерхольд и Анатоль Франс, – принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого, в сущности, нет! До чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.
Или другой, европейский, могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки; но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».
Так деградировал пешеход.
И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.
Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.
Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое кавказское золото церковных куполов. Флаг клубничного цвета трещал над официальным зданием.
У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.
– Храм Спаса на картошке, – негромко сказал пешеход.
Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.
– Нет, – сказал он с огорчением, – это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.
Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома – цели своей прогулки.
В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок – пожилой мужчина с висячим, как банан, носом – сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась набок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад».
Вскоре стали слышны и прочие слова.
– Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! – крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.
– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! – ответил Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.
– Вы опять про оклад жалованья! Придется поставить вопрос о рвачестве.
– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:
– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад… Извозчик! Пошел на вокзал!
– Тпрру-у! – завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под уздцы. – Я как секретарь секции инженеров и техников… Кондрат Иванович! Ведь завод останется без специалистов!.. Побойтесь бога!.. Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский… У меня в портфеле протокол.
И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».
Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закричал:
– Пошел на вокзал!
– Куда? Куда? – залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. – Вы – дезертир трудового фронта!
Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили».
Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:
– Нет, это не Рио-де-Жанейро.
Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома.
– Вам кого? – спросил его секретарь, сидевший за столом, рядом с дверью. – Зачем вам к председателю? По какому делу?
Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал заявлять, что прибыл по срочному, казенному делу.
– По личному, – сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. – К вам можно?
И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.
– Здравствуйте, вы меня узнаете?
Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.
– Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.
– Я тоже похож на своего отца, – нетерпеливо сказал председатель. – Вам чего, товарищ?
– Тут все дело в том, какой отец, – грустно заметил посетитель. – Я сын лейтенанта Шмидта.
Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.
Когда-то, в царские времена, меблировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на толстых бильярдных ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах появились предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, специальные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фудзиямой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.
«А шкафчик-то типа «Гей, славяне!», – подумал посетитель. – Тут много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро».
– Очень хорошо, что вы зашли, – сказал наконец председатель. – Вы, вероятно, из Москвы?
– Да, проездом, – ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста.
Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:
– Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?
– Смутно, смутно, – ответил посетитель. – В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.
– Простите, а как ваше имя?
– Николай… Николай Шмидт.
– А по батюшке?
«Ах, как нехорошо», – подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.
– Да-а, – протянул он, уклоняясь от прямого ответа, – теперь многие не знают имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки.
Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя.
«Действительно, – думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо гостя, – глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь».
– Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.
– Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, – сказал посетитель, – мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения… Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у нэпмана…
Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный, – подумал он, – хлопот с ним не оберешься».
– И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, – сказал вконец запутавшийся председатель.
Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».
Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного, серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря.
Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.
– Кто здесь главный? – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами.
– Ну, я, – сказал председатель.
– Здоров, председатель! – гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. – Будем знакомы! Сын лейтенанта Шмидта.
– Кто? – спросил глава города, тараща глаза.
– Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта! – повторил пришелец.
– А вот же товарищ сидит – сын товарища Шмидта. Николай Шмидт.
И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.
В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный, неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.
Его фигура в летней рубашке «Парагвай», штанах с матросским клапаном и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка.
И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.
– Вася! – закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. – Родной братик! Узнаешь брата Колю?
И первый сын заключил второго сына в объятия.
– Узнаю! – воскликнул прозревший Вася. – Узнаю брата Колю!
Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.
Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило уксусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта, подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на козетку и, не спуская льстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.
– До чего удивительная встреча! – фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.
– Да, – сказал председатель замороженным голосом. – Бывает, бывает.
Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:
– Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?
– Да, я жил, – пробормотал второй сын лейтенанта, – у нее.
– Что ж ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.
– Занят был, – угрюмо ответил рыжеволосый.
И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей), – второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос:
– А ты почему не писал?
– Я писал, – неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости, – заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.
И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.
Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на «Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши.
Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.
За углом исполкомовского дома они остановились.
– Кстати, о детстве, – сказал первый сын, – в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.
– Почему? – радостно спросил второй сын знаменитого отца.
– Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, – жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?
– Я думал…
– Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы – мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?
Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.
– Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак – мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.
– Балаганов, – представился рыжеволосый, – Шура Балаганов.
– О профессии не спрашиваю, – учтиво сказал Бендер, – но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?
– Две, – свободно ответил Балаганов.
– Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, – мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, – это к тому же бесцельная трата сил и энергии.
Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.
– Смотрите, – сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарований. – Видите, вон идет человек в соломенной шляпе.
– Вижу, – высокомерно сказал Остап. – Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?
– Это Паниковский, – сказал Шура. – Сын лейтенанта Шмидта.
По аллее, в тени августейших лип, склонясь немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.
– Как, еще один сын? – сказал Остап. – Это становится забавным.
Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы обеими руками и правильно установил ее на голове, обдернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.
– У лейтенанта было три сына, – заметил Бендер, – два умных, а третий – дурак. Его нужно предостеречь.
– Не надо, – сказал Балаганов, – пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.
– Что это за конвенция такая?
– Подождите, потом скажу. Вошел, вошел!..
– Я человек завистливый, – сознался Бендер, – но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем, посмотрим.
Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.
За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился около стола и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.
Со словами «все назад» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.
– Снимите шляпы, – сказал Остап, – обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.
Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.
– Прах покойного, – комментировал Остап, – был вынесен на руках близкими и друзьями.
Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.
– После непродолжительной гражданской панихиды… – начал Остап.
В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
– … тело было предано земле, – закончил Бендер.
Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.
– Ну, теперь расскажите, – промолвил Остап, – каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.
Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта
Хлопотливо проведенное утро окончилось. Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня», «Закрыто на обеденный перерыв», просто «Закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной сухой табличкой: «Дежурная няня».
Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили бы к нему детей и говорили: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чудными глазами.
В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные, величиной с избу, балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец; но сейчас ему было не до того. Он хотел есть.
– Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? – спросил он Балаганова.
– Это вы насчет денег? – сказал Шура. – Денег у меня нет уже целую неделю.
– В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, – наставительно сказал Остап. – Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Ну, ладно, не горюйте, я все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда.
Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой «Бывший друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей.
– Конечно, – с горечью сказал Остап, – по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда! Придется отдать свое тело на растерзание частникам.
– Частники любят наличные деньги, – возразил Балаганов глухо.
– Ну-ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг.
Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду «Искра», где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:
ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
– Удовлетворимся квасом, – сказал Балаганов.
– Тем более, – добавил Остап, – что местные квасы изготовляются артелью частников, сочувствующих советской власти. А теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.
Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал свой рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.
Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с десятилетним стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.
Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.
Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными, или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.
По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина.
От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.
Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
– И вы убоялись все возрастающих трудностей? – насмешливо спросил Остап.
Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.
Выход из этого напряженного положения был один – конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передавал через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик – у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые.
В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.
По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков. Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от Республики немцев Поволжья.
– А что, разве это такая плохая республика? – невинно спрашивал Балаганов. – Это, кажется, хорошее место. Немцы как культурные люди не могут не протянуть руку помощи.
– Знаем, знаем! – кричали разволновавшиеся дети. – У немцев возьмешь!
Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену.
Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
– Нашли дураков! – визгливо кричал Паниковский. – Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
– Как?! Всю возвышенность? – заявил Балаганов. – А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?
При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
– Ну, не всю возвышенность, – настаивал жадный Паниковский, – хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи.
Но ему не дали и половины.
После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита – все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.
Веселые возгласы, глухие стоны и грязные ругательства сопровождали жеребьевку.
Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталась бесплодная и мстительная Республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.
– Я поеду! – кричал он. – Но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.
Балаганов, которому достался золотой арбатовский участок, примыкавший к Республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.
Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы, на работу.
– И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию, – закончил свое повествование Шура Балаганов. – Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.
Против ожидания рассказчика, дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторанного сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.
К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час – три рубля. За конец – по соглашению. Пассажиров в машине не было.
Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:
– Такси свободен! Прошу садиться!
Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сиденье и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.
Остап проводил ее взглядом и сказал:
– Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.
– Идите к черту! – грубо сказал Балаганов.
– Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына – это не пижонство?
– Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! – вскричал Балаганов.
– Вы пижон, – повторил Остап. – И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, – это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
– Так что же делать? – забеспокоился Балаганов. – Как снискать хлеб насущный?
– Надо мыслить, – сурово сказал Остап. – Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
– Пять тысяч, – быстро ответил Балаганов.
– В месяц?
– В год.
– Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
– Может, все-таки возьмете частями? – спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:
– Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
Балаганов хотел было пошутить и по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем.
Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлявшись, он смущенно спросил:
– Зачем же вам так много денег… и сразу?
– Вообще-то мне нужно больше, – сказал Остап, – пятьсот тысяч – это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.
– У вас там родственники? – спросил Балаганов.
– А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?
– Нет, но мне…
– У меня нет родственников, товарищ Шура, – я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
– Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей…» так… «значительное число мулатов… у обширной бухты Атлантического океана…» Вот, вот!.. «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и… о чем говорить! Вы сами видите, что происходит! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах! Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
– Где же вы возьмете пятьсот тысяч? – тихо спросил Балаганов.
– Где угодно, – ответил Остап. – Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.
– Как? Убийство? – еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
– Знаете, – сказал Остап, – вам не надо было подписывать так называемой сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
– Как же вы думаете отнять деньги?
– Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к Уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.
– Да что вы! – воскликнул Балаганов. – Есть очень богатые люди.
– А вы их знаете? – немедленно сказал Остап. – Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Но как найти такого ловчилу?
Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его.
– Как приятно, – сказал он раздумчиво, – работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер – популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке, где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней после первых же приветствий отнимаешь деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо: «Алло, сэр, не волнуйтесь! Придется вас маленько побеспокоить. Ол-райт. Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее! А у нас… боже, боже! в какой холодной стране мы живем. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!
– Значит, вы думаете, – спросил Балаганов погодя, – что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то?..
– Не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове. И вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
– Это очень хорошо! – Балаганов доверчиво усмехнулся. – Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемкой!
Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.
– Сам принесет? – спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. – На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер. На пятьсот тысяч можно и у нас хорошо прожить.
– Бесспорно, бесспорно, – весело сказал Остап, – прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.
На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:
– Я знаю такого миллионера. Может выйти дело.
С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.
– Идите, идите, – сказал он, – я подаю только по субботам, нечего тут заливать.
– Честное слово, мосье Бендер!..
– Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не месье, а ситуайен, что значит – гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?
– Он живет в Черноморске.
– Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь… могу себе представить! Нет, это чепуха!
– Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне сидеть в тамошнем допре…
Через десять минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, блестят медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус!»
– У меня всегда так, – сказал Бендер, блестя глазами, – миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется пятью рублями… Как, вы сказали, фамилия подпольного миллионера?
– Корейко, – ответил Балаганов.
– Да, да, Корейко. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?
– Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам уже говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.
– То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: «Бедность не порок».
Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил:
– Есть у меня седые волосы?
Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:
– Никак нет.
– Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседеете, Балаганов.
Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
– Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
– Мне на блюдечке, – сказал Остап, – а вам на тарелочке.
– А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.
– Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, – строго ответил великий комбинатор, – не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!
Бензин ваш – идеи наши
За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич.
К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал Уголовный кодекс РСФСР, а именно статью 162-ю, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража).
Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему тоже не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).
Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он обходился без них; его ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.
Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься честным накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович, сорока шести лет, происходящий из крестьян б. Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.
После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать сиденье, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «лорен-дитрих». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с лорен-дитрихской фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал. В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывезти свое детище в свет, на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «рено». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию.
Арбатов, лишенный автомобильного транспорта, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.
Адаму Казимировичу представилось, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. Представлялось ему, как ранним арктическим утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это – повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на вокзальную площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатовское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в Дом крестьянина.
Работа есть на весь день, все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный «лорен-дитрих» – непременные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в Северо-Американских Соединенных Штатах (верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль).
Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, флагами и штандартами.
Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию Арбатов без остановки, с ходу принимая жезлы и сбрасывая почту. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий: ходоков и башмачников с котомками, колодками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженым отцам.
Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих шарфов, ни веселого лепета.
В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Кооперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:
– Всем можно кататься?
– Всем, – ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. – Пять рублей в час.
Мужчины зашептались. До шофера донеслись странные вздохи и слова: «Прокатимся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека не дорого. Чего ж неудобного?..»
И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Козлевич взял третью скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт.
«Что день, то короче к могиле наш путь», – томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами: «По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом».
– Стой! – закричал вдруг горбун. – Давай назад! Душа горит!
В городе седоки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.
Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака.
Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно.
В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки – все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги, сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь», никелированный дамский бюст которой был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя; шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».
Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.
Новые пассажиры, подобно первым, являлись под покровом темноты. Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали автотелегу Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.
Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.
Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.
Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».
После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок.
Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:
– Воздух-то какой! Прокатимся, что ли?
Должностные лица высовывались на улицу и под грохот ундервудов отвечали:
– Сам катайся. Душегуб!
– Почему же душегуб? – чуть не плача, спрашивал Козлевич.
– Душегуб и есть, – отвечали служащие, – под выездную сессию подведешь!
– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.
Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:
– Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!
Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнить врага монотонным чтением карманного уголовного требника:
– «Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается…»
Совслуж трусливо убегал, высоко подкидывая зад, сплющенный от долгого сидения на конторском табурете.
– «Лишением свободы, – кричал Козлевич вдогонку, – на срок до трех лет».
Но все это если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.
В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.
– Оригинальная конструкция, – сказал наконец один из них, – заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
– Отойди! – угрюмо сказал Козлевич.
– То есть как это «отойди»! Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно эх-прокатиться?
В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.
– Пожалуйте, – сказал он, – куда везти?
– На этот раз – никуда, – заметил Балаганов, – денег нету! Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.
– Все равно, садись! – закричал Козлевич отчаянно. – Повезу даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!
– Ну, что ж, воспользуемся гостеприимством, – сказал Остап, усевшись рядом с шофером. – У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?
– Тут все такие, – ответил шофер, выводя машину на главную улицу, – государственные преступники!
Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтается сейчас его зеленый автомобиль.
– Куда теперь ехать? – с тоской закончил Козлевич. – Куда податься?
Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:
– Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль – и вы не знаете, куда ехать! У нас дела похуже – у нас автомобиля нет. И все-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?
– Куда? – спросил шофер.
– В Черноморск, – сказал Остап. – У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?
Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел красок. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.
– А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, – убеждал он. – По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш – идеи наши!
Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал:
– Бензину мало.
– На пятьдесят километров хватит?
– Хватит на восемьдесят.
– В таком случае все в порядке. Я вам уже сообщил, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?
– Нравится, – застенчиво ответил Козлевич.
Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.
– И эту бочку, – закончил Остап, – вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.
– Какой бензин? – шепнул Балаганов. – Что вы плетете?
Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:
– Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.
Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге.
– Объявляю большой скоростной пробег Арбатов – Черноморск открытым! – торжественно сказал Остап. – Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется… как ваша фамилия? Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы.
Через два часа машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова.
Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.
– Адам! – закричал он, покрывая скрежет мотора. – Как зовут вашу тележку?
– «Лорен-дитрих», – ответил Козлевич.
– Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «лорен-дитрих» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название – «Антилопа-Гну». Кто против? Единогласно.
Зеленая «Антилопа», скрипя всеми своими частями, промчалась по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь.
Там взору экипажа «Антилопы» представилась бытовая картина. С площади по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криками бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
– Паниковский бежит! – закричал Балаганов.
– Вторая стадия кражи гуся, – холодно заметил Остап. – Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.
О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в преследователях сильное раздражение.
– Сто шестнадцатая статья, – наизусть сказал Козлевич. – Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.
Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие.
Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу.
– Спасите! – закричал Паниковский, когда «Антилопа» с ним поравнялась.
– Бог подаст! – ответил Балаганов, свешиваясь за борт.
Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли.
– Возьмите меня! – вопил Паниковский из последних сил, держась рядом с машиной. – Я хороший!
Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул.
– Может, возьмем гада? – спросил Остап.
– Не надо, – жестоко ответил Балаганов, – пусть в другой раз знает, как нарушать конвенции!
Но Остап уже принял решение.
– Брось птицу! – закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: – Малый ход.
Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и, как ни в чем не бывало, пошел обратно в город.
– Влезайте, – предложил Остап, – черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем.
Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно.
– Полный ход! – скомандовал Остап. – Заседание продолжается!
Балаганов надавил грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки:
Матчиш прелестный танец. Та-ра-та…
Матчиш прелестный танец. Та-ра-та…
И «Антилопа-Гну» вырвалась в дикое поле, навстречу бочке с авиационным бензином.
Обыкновенный чемоданишко
Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома № 16. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал:
– Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал.
Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Малая Касательная улица была совершенно пуста.
Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую дребедень. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое, тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался.
Был тот промежуток между пятью и шестью часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам, в городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке; в такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша в самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина; но уже доносится далекий гром, это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах. Из фабричных труб грянет дым. А потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются троечным звоном мириады будильников (фирмы «Павел Буре» – потише, треста «Точный механик» – позвончее); и замычат спросонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда.
Но было еще рано, служащие еще спали под своими фикусами. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции: на одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом (конверт и молния), к другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак.
На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель в свою очередь расстегнул кожаный кошелечек, со вздохом вынул оттуда десятикопеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из шести старых, отполированных локтями рельсов.
Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел его со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй.
В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки «Скэтч», две перемены толстовок, один волосодержатель, трусики, брошюру «Задачи комсомола в деревне» и три крутых сдавленных яйца. Кроме того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известной под названием «Столетье Одессы», подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон тройного одеколона и белое марсельское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что, завернутое в «Экономическую жизнь». Но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица.
Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города – к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя.
Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Никто не носил шляп и картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово.
Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось «Геркулес» и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втолкнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком-швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:
– Ну, что, старик, в крематорий пора?
– Пора, батюшка, – ответил швейцар, радостно улыбаясь, – в наш советский колумбарий.
Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению.
В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова – крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено; но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» или «Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора». И, удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень нравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.
Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат: «Чистка «Геркулеса» начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе.
До начала занятий оставалось еще пятнадцать минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезоименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в дубовых резных кессонах и расписанные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались менады, наяды и дриады.
– Вы слышали новость, Корейко? – спросил вошедшего Лапидус-младший. – Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены!
– Какая новость? Здравствуйте, товарищи! – произнес Корейко. – Здравствуйте, Анна Васильевна.
– Вы даже себе представить не можете! – с удовольствием сказал Лапидус-младший. – Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом.
– Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
– До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, – вступил в разговор Борисохлебский. – Это факт. Мне звонила его жена. У Берлаги серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
– Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва, – зловеще заметил старик Кукушкинд, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки.
– Не каркайте! – сказала Чеважевская. – Вечно он тоску наводит.
– Все-таки жалко Берлагу, – отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу.
Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных; заговорили о маньяках, рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших.
– Вот у меня, – воскликнул Сахарков, – был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он поднимал!
– Надо только удивляться, – жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полой пиджака, – надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, – старик засопел, – Исааком…
– И Иаковом? – насмешливо спросил Сахарков.
– Да! И Яковом! – внезапно завизжал Кукушкинд. – И Яковом! Именно Яковом! Живешь в такое нервное время… Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич», тогда не было никакой чистки…
При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейко об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря.
– Самого интересного про Берлагу вы еще не знаете, – зашептал он, – Берлага здоров как бык.
– Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?
– Нет, в сумасшедшем.
Лапидус тонко улыбнулся.
– В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач! Даже завидно.
– У него, что же, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?
– Да. И родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Кто мог знать?
– Надо было знать, – холодно сказал Корейко.
– Вот я и говорю, – быстро подхватил Лапидус, – таким не место в советском учреждении.
И, посмотрев на Корейко расширенными глазами, он удалился к своему столу.
Зал уже наполнился служащими, из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селедочным серебром, счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезоименицкий сорвал с календаря вчерашний листок, – начался новый день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом.
Уселся за свой стол и Корейко. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокоррентную книгу.
Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих «Геркулеса», был человек в последнем приступе молодости – ему было тридцать восемь лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом тоже походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат: не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат.
– Робкий он какой-то, – говорил о нем начальник финсчета, – какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявят подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А весь оклад-то сорок шесть рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги.
Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило Александра Ивановича от репутации туповатого парня.
– Слушай, Александр Иванович, – спрашивал сосед, – сколько будет восемьсот тридцать шесть на четыреста двадцать три?
– Триста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать восемь, – отвечал Корейко, помедлив самую малость.
И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается.
– Другой бы на его месте карьеру сделал, – говорили и Сахарков, и Дрейфус, и Тезоименицкий, и Музыкант, и Чеважевская, и Борисохлебский, и Лапидус-младший, и старый дурак Кукушкинд, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага, – а этот – шляпа. Всю жизнь будет сидеть на своих сорока шести рублях.
И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета товарищ Арников, и не только он, но даже начальник «Геркулеса» товарищ Огонь-Полыхаев, и личная его секретарша Серна Михайловна, – ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брюки «Столетье Одессы», не бледная курица и не какие-нибудь «Задачи комсомола в деревне», а десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.
В 1915 году мещанин Саша Корейко был двадцатитрехлетним бездельником из числа тех, которых по справедливости называли гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и потому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика:
– Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых и раненых! Слава богу!
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо.
Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома, у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплющенным окурком. На улицу Полтавской Победы Саша ходил каждый день, но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеком и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку: «Податной инспектор Ю. М. Соловейский». И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые.
Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство.
Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали.
Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело его требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием.
В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену:
Залетаю я в буфет,
Ни копейки денег нет,
Разменяйте десять милли-онов…
Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто.
Тиф валил людей тысячами, Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.
В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал и Александр Иванович.
Подземное царство
Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха.
А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и шубках, подбитых черным мехом «Лира»; в моду входили остроносые готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками; слово «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ»; какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах уанстеп «Дикси» и даже фокстрот «Цветок солнца». Над городом стоял крик лихачей, и в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов.
Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на самого его обладателя.
Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Артель располагала двумя комнатами. В первой – висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье, – жидкость совершала свой обычный путь – из верхнего резервуара в нижний.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке.
Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:
– А кой тебе годик?
– Двенадцатый миновал, – ответил мальчик.
И залился такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на «Счет прибылей и убытков» и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о Прибылях, а целиком посвящен Убыткам.
В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе «Реванша», Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградной республике, отстоявшей от Москвы на три тысячи километров.
Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума.
На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и постройка, от которой зависит будущность республики, может остановиться.
И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством.
Его встретили не особенно ласково; но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.
– Вашему строительству, – говорил он, – не хватает денег. Я их достану.
И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.
– Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.
Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.
– Ничего, – утешал он строителей, – запомните: с этой минуты вы будете только получать.
Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье фотографы. Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль и рассудительно сказал:
– Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.
Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.
Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие – на новой постройке больше платили.
Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышни-овечки вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная – каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья.
Слова Корейко сбылись – доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору, столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступила отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината.
– Нужно быть хорошим хозяином, – тихо говорил он, – сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы.
К этому времени экскаватор «Марион», снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело. Возились там одни лишь фотографы и мелькали черные шали.
Дело расцвело, и Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов.
Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
– Гм, – сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. – Где же электростанция?
И он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали «гм». Электростанции не было.
Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой, многокрасочной, словно карты из рукава шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса в черной полумаске на толстой самоварной морде, очаровательной Лиа де Путти и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса.
И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. А Александр Иванович прибавил к своему капиталу полмиллиона рублей.
Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинала жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в советской стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на жалкие остатки нэпманов, догнивающих под вывесками:
«Торговля товарами камвольного треста Б. А. Лейбедев», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х. Робинзон и М. Пьятница».
Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».
Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу; все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем – всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги.
Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку – еда очень невкусная, и хороший веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.
Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем; Александр Иванович выпивал стакан белого кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.
Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо подготовляющего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать; все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.
И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого жалованья, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.
«Антилопа-гну»
Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге.
Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью.
– Послушайте, студент, – обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором, – как же вы посмели нарушить Сухаревскую конвенцию, этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги Наций?
Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону.
– И вообще, – продолжал Остап, – у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены; за вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.
– Жалкие, ничтожные люди, – сердито забормотал Паниковский.
– Вот как? – сказал Остап. – А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником? Джентльменом? Тогда вот что: если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом.
– Почему? – раздраженно спросил новый пассажир.
– Потому что они у вас совершенно черные. Не от грязи ли?
– Вы жалкий, ничтожный человек! – быстро заявил Паниковский.
– И это вы говорите мне, своему спасителю? – кротко спросил Остап. – Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.
Балаганов не понял, что означает «статус-кво». Но ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены: гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу.
– Студент, идите назад в Арбатов, – сухо сказал Остап, – там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.
– Я больше не буду! – взмолился Паниковский. – Я нервный!
– Станьте на колени, – сказал Остап.
Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.
– Хорошо, – сказал Остап, – ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за все.
«Антилопа-Гну» приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница.
Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.
– Товарищи! – сердито крикнул он. – Считаю торжественное заседание открытым. Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты…
Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.
– Все в Автодор! – поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. – Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!
И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг:
– Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!
За исключением Остапа, все антилоповцы были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево.
– Улучшайте дороги! – закричал он на прощание. – Мерси за прием!
И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.
– Они за нами не погонятся? – озабоченно спросил Паниковский. – Почему толпа? Что случилось?
– Просто люди никогда не видели автомобиля, – сказал Балаганов.
– Обмен впечатлениями продолжается, – отметил Бендер. – Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?
Шофер подумал, пугнул звуками матчиша собаку, сдуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника.
– Праздники такого рода, – разъяснил водитель «Антилопы», – часто бывают у селян.
– Да, – сказал Остап. – Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное.
Остап вынул из кармана «Известия» и громким голосом прочел экипажу «Антилопы» заметку об автомобильном пробеге Москва – Харьков – Москва.
– Сейчас, – самодовольно сказал он, – мы находимся на линии автопробега, приблизительно в полутораста километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю?
Нижние чины «Антилопы» молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.
– Значит, вы не поняли? Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо, выскажусь более подробно, хотя это и не в моих правилах. Первое – крестьяне приняли «Антилопу» за головную машину автопробега. Второе – мы не отказываемся от этого звания. Более того – мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы головная машина. Третье… Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания.
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура».
– Ну, хватит эмоций, – сказал Остап. – Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым. Стоп!
Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры давно уже уселись в кружок у самой дороги, а старая «Антилопа» все еще кипятилась: иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье.
Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что казалось – горит целая деревня. Огонь, сопя, кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря:
– Не делайте из еды культа.
После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, заснули под звездами.
– Ну-с, – сказал на рассвете Остап Козлевичу, – приготовьтесь как следует, такого дня, какой предстоит сегодня, ваше механическое корыто еще не видело и никогда не увидит.
Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку.
Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор и стал копаться в его медных кишочках.
Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей: мешочков, пульсирующих жилок, клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровое кофе «Желудин» и пописывает в учрежденческой стенгазете под псевдонимом Антихрист.
– Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете? – неожиданно сказал Остап.
Старик вздрогнул и обернулся.
– Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчане, и никто к вам не придет, Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы, вероятно, не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ – заведующий гостиницей – уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба… Как ваше имя и отчество?
– Михаил Самуэлевич, – ответил пораженный Паниковский.
– … о выдаче бесплатного гроба для гр. М. С. Паниковского. Впрочем, не надо слез, годика два вы еще протянете. Теперь – к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода.
Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву.
– Моя правая рука, – сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. – Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха.
Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «Распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, четыре колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями.
Весь экипаж «Антилопы-Гну» с уважением смотрел на саквояж. А оттуда появлялись все новые предметы.
– Вы – голуби, – говорил Остап, – вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата.
Кроме халата, в саквояже оказался и стетоскоп.
– Я не хирург, – заметил Остап, – я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души.
Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было написано:
ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ
знаменитый бомбейский брамин (йог) —
сын Крепыша – Любимец Рабиндраната Тагора
ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ
(Заслуженный артист союзных республик)
Номера по опыту Шерлока Холмса.
Индийский факир. – Курочка-невидимка. —
Свечи с Атлантиды. – Адская палатка. —
Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. —
Материализация духов и раздача слонов.
Входные билеты от 50 к. до 2 р.
Грязная, захватанная руками чалма появилась вслед за афишей.
– Этой забавой я пользуюсь очень редко, – сказал Остап. – Представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те же вопросы: «Почему в продаже нет животного масла?» или: «Еврей ли вы?»
В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и две кисточки.
– Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом, – сказал Остап.
И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись:
АВТОПРОБЕГОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!
Плакат укрепили над автомобилем на двух хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры «Антилопы» приосанились. Балаганов натянул на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на два сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках «Антилопы» заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников.
– Влево по борту – деревня! – крикнул Балаганов, полочкой приставляя ладонь ко лбу. – Останавливаться будем?
– Позади нас, – сказал Остап, – идут пять первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорей снимать сливки. Посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим. Ходу, Казимирович.
– На приветствия отвечать? – озабоченно спросил Балаганов.
– Отвечать поклонами и улыбками. Ртов попрошу не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите.
Деревня встретила головную машину приветливо. Но обычное гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью – не знала.
Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: «Привет Лиге Времени и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву», «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона», «Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли».
Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковно-славянским шрифтом, с одним и тем же приветствием: «Добро пожаловать!»
Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.
– Гип, гип, ура! – закричал Остап.
Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.
– Как с бензином? – спросил Остап. – До Удоева хватит? Нам только тридцать километров сделать. А там – все отнимем.
– Должно хватить, – с сомнением ответил Козлевич.
– Имейте в виду, – сказал Остап, строго оглядывая свое войско, – мародерства я не допущу. Никаких нарушений закона! Командовать парадом буду я.
Паниковский и Балаганов сконфузились.
– Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли.
Тридцать километров «Антилопа» пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все эти усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов.
Собравшиеся с громкими криками кинулись навстречу прибывшему из мглы веков «лорен-дитриху». Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками и их во что бы то ни стало надо было вернуть к жизни.
Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского вида и спросил:
– Как остальные машины?
– Отстали, – равнодушно ответил Остап. – Проколы, поломки, энтузиазм населения. Все это задерживает.
– Вы в командорской машине? – не отставал шофер-любитель. – Клептунов с вами?
– Клептунова я снял с пробега, – сказал Остап недовольно.
– А профессор Песочников? На «паккарде»?
– На «паккарде».
– А писательница Вера Круц? – любопытствовал полушофер. – Вот бы на нее посмотреть. На нее и на товарища Нежинского. Он тоже с вами?
– Знаете, – сказал Остап, – я утомлен пробегом…
– А вы на «студебеккере»?
– Можете считать нашу машину «студебеккером», – сказал Остап злобно, – но до сих пор она называлась «лорен-дитрих». Вы удовлетворены?
Но шофер-любитель удовлетворен не был.
– Позвольте, – воскликнул он с юношеской назойливостью, – но ведь в пробеге нет никаких «лорен-дитрихов». Я читал в газете, что идут два «паккарда», два «фиата» и один «студебеккер».
– Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! – заорал Остап. – Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «студебеккер» в последний момент заменен «лорен-дитрихом», а он морочит голову. «Студебеккер»!
Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
– Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккер» ему подавай!
Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
– Я рад, товарищи, – заявил Остап в ответной речи, – нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь.
Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционный склад удоевского отделения Автодора.
Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали, и деньги, в сущности, еще не были нужны.
– О карманных деньгах не надо думать, – сказал Остап, – они валяются на дороге, и мы будем их подбирать по мере надобности.
Между древним Удоевом, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги.
За эту тысячу лет на магистрали Удоев – Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники.
Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы – пароход и паровоз. Затрубили автомашины.
А дорога осталась такой же, какой она была при Соловье-разбойнике.
Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, – протянулась отечественная дорога мимо деревень, городов, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.
Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки, и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.
Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.
Сладкое бремя славы
Командор пробега, водитель машины, бортмеханик и прислуга за все чувствовали себя прекрасно.
Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же бы на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».
Но Остап и его спутники были далеки от поэтических восприятий. Вот уже сутки они мчались впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее заготовленными авточастями, а в одном посаде поднесли даже хлеб-соль на дубовом резном блюде с полотенцем, вышитым крестиками. Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру. После этого брезгливый Остап выкинул хлеб-соль на дорогу. Ночь антилоповцы провели в деревушке, окруженные заботами деревенского актива. Они увезли оттуда большой кувшин топленого молока и сладкое воспоминание об одеколонном запахе сена, на котором спали.
– Молоко и сено, – сказал Остап, когда «Антилопа» на рассвете покидала деревню, – что может быть лучше? Всегда думаешь: «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в вашей жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили.
Спутники Бендера смотрели на него с уважением. Их приводила в восторг открывшаяся перед ними легкая жизнь.
– Хорошо жить на свете! – сказал Балаганов. – Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье…
– Вы в этом твердо уверены? – спросил Остап. – Счастье ожидает вас на дороге? Может быть, еще машет крылышками от нетерпения? «Где, – говорит оно, – адмирал Балаганов? Почему его так долго нет? Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка – это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. А у вас, Балаганов, с этой деткой романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи? Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Да и вообще весь экипаж «Антилопы» экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас еще принимают за участников автопробега!
Остап с сожалением оглядел своих спутников и продолжал:
– Шляпа Паниковского меня решительно смущает. Вообще он одет с вызывающей роскошью. Этот драгоценный зуб, эти кальсонные тесемочки, эта волосатая грудь под галстуком… Проще надо одеваться, Паниковский! Вы – почтенный старик. Вам нужны глухой черный сюртук и касторовая шляпа. Балаганову подойдут клетчатая ковбойская рубашка и кожаные краги. И он сразу же приобретет вид студента, занимающегося физкультурой. А сейчас он похож на уволенного за пьянство матроса торгового флота. О нашем уважаемом водителе я не говорю. Тяжелые испытания, ниспосланные судьбой, помешали ему одеться сообразно званию. Неужели вы не видите, как подошел бы к его одухотворенному, слегка испачканному маслом лицу кожаный комбинезон и хромовый черный картуз? Да, детушки, вам надо экипироваться.
– Денег нет, – сказал Козлевич, оборачиваясь.
– Шофер прав, – любезно ответил Остап, – денег действительно нет. Нет этих маленьких металлических кружочков, кои я так люблю.
«Антилопа-Гну» скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. Большая рыжая сова сидела у самой дороги, склонив голову набок и глупо вытаращив желтые незрячие глаза. Встревоженная скрипом «Антилопы» птица выпустила крылья, вспорхнула над машиной и вскоре улетела по своим скучным совиным делам. Больше ничего заслуживающего внимания на дороге не произошло.
– Смотрите! – закричал вдруг Балаганов. – Автомобиль!
Остап на всякий случай распорядился убрать плакат, увещевавший граждан ударить автопробегом по разгильдяйству. Покуда Паниковский выполнял приказ, «Антилопа» приблизилась к встречной машине.
Закрытый серый «кадиллак», слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.
– Терпите бедствие? – спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.
Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу.
Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник.
– Терпите бедствие? – повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев.
Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в ста тридцати километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине Европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.
– Скажите, – перебил он, – эти двое не из Рио-де-Жанейро?
– Нет, – ответил соотечественник, – они из Чикаго. А я переводчик из «Интуриста».
– Что же они здесь делают, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный мак», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына»? Не понимаю! Зачем вы их сюда завезли?
– А ну их к черту! – со скорбью сказал переводчик. – Третий день уже носимся по деревням как угорелые! Замучили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел.
И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников.
– Все туристы как туристы. Носятся по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, а эти двое отбились. Стали по деревням ездить.
– Это похвально, – сказал Остап. – Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни.
Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.
Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:
– Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!
При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
– Вот видите! – сказал переводчик. – Слова этого спокойно слышать не могут.
– Да. Тут какая-то тайна, – сказал Остап, – или извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков.
– Все это гораздо проще, чем вам кажется, – сказал переводчик. – Они ищут рецепт приготовления хорошего самогона.
– Ну конечно! – закричал Остап. – Ведь у них «сухой закон». Все понятно… Достали рецепт?.. Ах, не достали? Ну, да. Вы бы еще на трех автомобилях приехали! Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить.
Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
– Поверите ли, на меня стали бросаться: расскажи да расскажи, в чем секрет самогона. А я не самогонщик. Я член союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама.
– А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?
Переводчик жалобно вздохнул.
– В таком случае заседание продолжается! – промолвил Бендер. – Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полтораста дадут?
– Дадут двести, – зашептал переводчик. – А у вас в самом деле есть рецепт?
– Сейчас же вам продиктую, то есть сейчас же по получении денег. Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишовку или сливянку. Одним словом – любой из полутораста самогонов, рецепты которых мне известны.
Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу.
Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технологии изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап, со своей стороны, заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача.
– О! – закричали американцы.
Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о pervatsch’e были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там pervatsch и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал.
В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво.
Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.
Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны.
– Видите, – сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью, – все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились.
И он затрещал пачкой кредиток.
– Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая. Но опрятность, честность – вот что дорого. Двести рублей. В пять минут. И я не только не нарушил законов, но даже сделал приятное. Экипаж «Антилопы» снабдил денежным довольствием. Старухе-маме возвратил сына-переводчика. И, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы как-никак имеем торговые связи.
Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска.
– Город очень маленький, – сказал Бендер, – это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Потому попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский! Вы начинаете забывать свои обязанности! Восстановите плакат на прежнем месте.
Понаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на два часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню.
Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги.
Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина:
ШТАНОВ НЕТ
– Фу, как грубо! – сказал Остап, входя. – Сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам.
В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось удовольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые, по замыслу Бендера, должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного: куртку с золотыми насосами в петлицах, волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго прыгал перед волнистым зеркалом.
– Не понимаю, – сказал Остап, – чем вам не нравится костюм пожарного? Он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы теперь носите. А ну, поворотитесь-ка, сынку! Отлично! Скажу вам прямо. Это подходит вам больше, чем запроектированные мною сюртук и шляпа.
На улицу вышли в новых нарядах. Себе Остап ничего не купил.
– Мне нужен смокинг, – сказал он, – но здесь его нет. Подождем до лучших времен. Не так ли, друг брандмейстер?
Остап открыл митинг в приподнятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров «Антилопы». Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения и еврейские анекдоты, чем чрезвычайно расположил к себе публику. Конец речи он посвятил разбору давно назревшей автопроблемы.
– Автомобиль, – воскликнул он трубным голосом, – не роскошь, а…
В эту минуту он увидел, что председатель комиссии по встрече принял из рук подбежавшего мальчика телеграмму. Произнося слова: «не роскошь, а средство передвижения», Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. То, что он прочел, поразило его. Он думал, что впереди еще целый день. Его сознание мгновенно зарегистрировало ряд деревень и городов, где «Антилопа» воспользовалась чужими материалами и средствами.
Председатель еще шевелил усами, силясь вникнуть в содержание депеши, а Остап, на полуслове спрыгнувший с трибуны, уже продирался сквозь толпу. «Антилопа» зеленела на перекрестке. К счастью, пассажиры сидели на местах и, скучая, дожидались того момента, когда Остап велит перетаскивать в машину дары города. Это обычно бывало после митинга.
Наконец до председателя дошел смысл телеграммы. Он поднял глаза и увидел убегающего командора.
– Это жулики! – закричал он страдальчески.
Он всю ночь трудился над составлением приветственной речи, и теперь его авторское самолюбие было уязвлено.
– Хватай их, ребята!
Крик председателя достиг ушей антилоповцев. Они нервно засуетились. Козлевич пустил мотор и одним махом взлетел на свое сиденье. Машина прыгнула вперед, не дожидаясь Остапа. Впопыхах антилоповцы даже не сообразили, что оставляют своего командора в опасности.
– Стой! – кричал Остап, делая гигантские прыжки. – Догоню – всех уволю!
– Стой! – кричал председатель.
– Стой, дурак! – кричал Балаганов Козлевичу. – Не видишь, шефа потеряли!
Адам Казимирович нажал педали. «Антилопа» заскрежетала и остановилась. Командор кувыркнулся в машину с отчаянным криком: «Полный ход!» Несмотря на разносторонность и хладнокровие своей натуры, он терпеть не мог физической расправы. Обезумевший Козлевич перескочил на третью скорость, машина рванулась, и в открывшуюся дверцу выпал Балаганов. Все это произошло в одно мгновенье. Пока Козлевич снова тормозил, на Балаганова уже пала тень набегающей толпы. Уже протягивались к нему здоровеннейшие ручищи, когда задним ходом подобралась к нему «Антилопа», и железная рука командора ухватила его за ковбойскую рубаху.
– Самый полный! – завопил Остап.
И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым. Машина забренчала всеми своими частями и быстро унеслась, увозя от справедливого наказания четырех правонарушителей.
Первый километр жулики тяжело дышали. Дороживший своей красотой Балаганов рассматривал в карманном зеркальце малиновые царапины на лице, полученные при падении. Паниковский дрожал в своем костюме пожарного. Он боялся мести командора. И она пришла немедленно.
– Это вы погнали машину прежде, чем я успел сесть? – спросил командор грозно.
– Ей-богу… – начал Паниковский.
– Нет, нет, не отпирайтесь. Это ваши штуки. Значит, вы еще и трус к тому же? Я попал в одну компанию с вором и трусом? Хорошо! Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне вы – простой топорник.
И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы.
После этой процедуры Остап познакомил своих спутников с содержанием телеграммы.
– Дело плохо. В телеграмме предлагается задержать зеленую машину, идущую впереди автопробега. Надо сейчас же свернуть куда-нибудь в сторону. Хватит с нас триумфов, пальмовых ветвей и бесплатных обедов на постном масле. Идея себя изжила. Свернуть мы можем только на Гряжское шоссе. Но до него еще часа три пути. Я уверен, что горячая встреча готовится во всех ближайших населенных пунктах. Проклятый телеграф всюду понатыкал свои столбы с проволоками.
Командор не ошибся.
Дальше на пути лежал городок, названия которого антилоповцы так никогда и не узнали, но хотели бы узнать, чтобы помянуть его при случае недобрым словом. У самого же входа в город дорога была преграждена тяжелым бревном. Антилопа повернула и, как слепой щенок, стала тыкаться в стороны в поисках обходной дороги. Но ее не было.
– Пошли назад! – сказал Остап, ставший очень серьезным.
И тут же жулики услышали очень далекое комариное пение моторов. Как видно, шли машины настоящего автопробега. Назад двигаться было нельзя, и антилоповцы снова кинулись вперед.
Козлевич нахмурился и быстрым ходом подвел машину к самому бревну. Граждане, стоявшие вокруг, испуганно отхлынули в разные стороны, ожидая катастрофы. Но Козлевич неожиданно уменьшил ход и медленно перевалился через препятствие. Когда «Антилопа» пересекала город, прохожие сварливо ругали седоков, но Остап даже не отвечал.
К Гряжскому шоссе «Антилопа» подошла под все усиливающийся рокот невидимых покуда автомобилей. Едва успели свернуть с проклятой магистрали и в наступившей темноте убрать машину за пригорок, как раздались взрывы и пальба моторов, и в столбах света показалась головная машина. Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну.
Полотнища ослепляющего света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины.
Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями.
Искателям приключений остался только бензиновый хвост. И долго еще сидели они в траве, чихая и отряхиваясь.
– Да, – сказал Остап, – теперь я и сам вижу, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно.
Кризис жанра
В четвертом часу ночи затравленная «Антилопа» остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудились спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.
– Райская долина, – сказал Остап. – Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь.
– Сейчас как раз раннее утро, – заметил Паниковский, льстиво заглядывая в глаза командора.
– Молчать, золотая рота! – закричал Остап. – Вот неугомонный старик! Шуток не понимает!
– Что делать с «Антилопой»? – спросил Козлевич.
– Да, – сказал Остап, – в город на этой зеленой лоханке не въедешь. Арестуют. Придется стать на путь наиболее передовых стран. В Рио-де-Жанейро, например, краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений – дабы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. «Антилопа» снискала себе кислую славу, ее нужно перекрасить.
Решено было войти в город пешим порядком и достать красок, а для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.
Остап быстро пошел по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косой бревенчатый домик, маленькие окошечки которого поблескивали речною синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся Остапу подходящим для сокрытия «Антилопы».
Пока великий комбинатор размышлял о том, под каким предлогом удобнее всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь отворилась и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с черными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была бы заурядной. В то время большинство мужчин выращивало на лице такие вот казенные, верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни штатского ордена с муаровой ленточкой, ни петлиц с золотыми звездами тайного советника, – это лицо казалось ненатуральным.
– О, господи, – зашамкал обитатель бревенчатого домика, протягивая руки к восходящему солнцу. – Боже, боже! Все те же сны! Те же самые сны!
Произнеся эту жалобу, старик заплакал и, шаркая ногами, побежал по тропинке вокруг дома. Обыкновенный петух, собиравшийся в эту минуту пропеть в третий раз, вышедший для этой цели на середину двора, кинулся прочь; сгоряча он сделал несколько поспешных шагов и даже уронил перо, но вскоре опомнился, вылез на плетень и уже с этой безопасной позиции сообщил миру о наступлении утра. Однако в голосе его чувствовалось волнение, вызванное недостойным поведением хозяина домика.
– Снятся, проклятые, – донесся до Остапа голос старика. Бендер удивленно разглядывал странного человека с бакенбардами, которые можно найти теперь разве только на министерском лице швейцара консерватории.
Между тем необыкновенный господин завершил свой круг и снова появился у крыльца. Здесь он помедлил и со словами: «Пойду попробую еще раз» – скрылся за дверью.
– Люблю стариков, – прошептал Остап, – с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы.
Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.
– Чур меня, чур! – воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. – Все тот же сон! А-а-а!
Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.
– Что? Кто? Что такое? – закричал беспокойный старик. – Что?
Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.
– Я вам сочувствую! – воскликнул он.
– Правда? – спросил хозяин домика, приникая к плечу Бендера.
– Конечно, правда, – ответил Остап. – Мне самому часто снятся сны.
– А что вам снится?
– Разное.
– А какое все-таки? – настаивал старик.
– Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны микадо, а вчера – юбилей Сущевской пожарной части.
– Боже! – произнес старик. – Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или… даже министр?
Бендер не стал упрямиться.
– Снился, – весело сказал он. – Как же? Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял, в узорных шальварах.
– Ах, как хорошо, – сказал старик. – А не снился ли вам приезд государя императора в город Кострому?
– В Кострому? Было такое сновиденье. Позвольте, когда же это?.. Ну да, третьего февраля сего года. Государь император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора?
– Ах ты, господи! – заволновался старик. – Что ж это мы здесь стоим. Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?
– Ну, что вы! – добродушно сказал Остап. – Какой же я партиец? Я беспартийный монархист. Слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать…
– Чайку, чайку не угодно ли? – бормотал старик, подталкивая Бендера к двери.
В домике оказалась одна комната с сенями. На бревенчатых стенах висели портреты господ в форменных сюртуках. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокойные часы своей жизни.
– И давно вы живете таким анахоретом? – спросил Остап.
– С весны, – ответил старик. – Моя фамилия – Хворобьев. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло? Вы только поймите…
Федор Никитич Хворобьев был монархистом и ненавидел советскую власть. Эта власть была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение.
До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово «Пролеткульт» и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. Он возненавидел слово «сектор». О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное математическое понятие, обозначающее часть площади криволинейной фигуры, будет так опошлено.
На службе Хворобьева бесило многое: заседания, стенгазеты, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были стенгазеты, займы, заседания. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о жалованье, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».
Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:
– … Тогда мы постановили вывести его из состава правления…
– … А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера!
И, тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить пятилетку в четыре года, Хворобьев с раздражением повторял:
– Вывести! Из состава! Примкамера! В четыре года! Хамская власть!
Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю и, вместо чистого воскресенья, днями отдыха Хворобьева стали какие-то фиолетовые пятые числа, он с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила покоя.
По целым дням просиживал монархист-одиночка над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.
«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» – думал он.
После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.
«Все отняла у меня советская власть, – думал бывший попечитель учебного округа, – чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли. Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть!»
В первую же после этого ночь бог прислал Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в учрежденческом коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить!» Он хочет бежать, но не может.
Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного товарища, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть для начала царский выход из Успенского собора.
Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел лицо председателя месткома товарища Суржикова.
И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты, совхоз «Гигант», торжественное открытие первой фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации и большие советские перелеты.
Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть крайнего правого депутата Государственной Думы Пуришкевича, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
– Все те же сны! – заключил Хворобьев плачущим голосом. – Проклятые сны!
– Ваше дело плохо, – сочувственно сказал Остап, – как говорится, бытие определяет сознание. Раз вы живете в советской стране, то и сны у вас должны быть советские.
– Ни минуты отдыха, – жаловался Хворобьев. – Хоть что-нибудь. Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич. Пусть хоть Милюков. Все-таки человек с высшим образованием и монархист в душе. Так нет же! Все эти советские антихристы.
– Я вам помогу, – сказал Остап. – Мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Сон – это пустяки. Главное – это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Я, видите ли, турист-спортсмен, сейчас мне надо произвести небольшую починку своего автомобиля, так что разрешите закатить его к вам в сарай. А насчет причины вы не беспокойтесь. Я ее устраню на обратном пути. Дайте только пробег окончить.
Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил милому и отзывчивому молодому человеку воспользоваться сараем. Он набросил поверх сорочки пальто, надел на босу ногу калоши и вышел вслед за Бендером во двор.
– Так, значит, можно надеяться? – спрашивал он, семеня за своим ранним гостем.
– Не сомневайтесь, – небрежно отвечал командор, – как только советской власти не станет, вам сразу станет как-то легче. Вот увидите!
Через полчаса «Антилопа» была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Козлевича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.
Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны.
Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и надписью «Ответ Керзону», полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.
Бендер и Балаганов подпали под влияние утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свидание с невестами в маркизетовых платьях.
Внезапно дорогу братьям преградил человек со складным мольбертом и полированным ящиком для красок в руках. Он имел настолько взбудораженный вид, словно бы только что выскочил из горящего здания, успев спасти из огня лишь мольберт и ящик.
– Простите, – звонко сказал он, – тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Вы его не встретили? Он здесь не проходил?
– Мы таких никогда не встречаем, – грубо сказал Балаганов.
Художник толкнул Бендера в грудь, сказал «пардон» и устремился дальше.
– Плотский-Поцелуев? – ворчал великий комбинатор, который еще не завтракал. – У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер? Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!
Не успел Бендер закончить своей тирады, как прямо на него выскочили два человека с черными мольбертами и полированными этюдниками. Это были совершенно различные люди. Один из них, как видно, держался того взгляда, что художник обязательно должен быть волосатым, и по количеству растительности на лице был прямым заместителем Генриха Наваррского в СССР. Усы, кудри и бородка очень оживляли его плоское лицо. Другой был просто лыс, и голова у него была скользкая и гладкая, как стеклянный абажур.
– Товарища Плотского… – сказал заместитель Генриха Наваррского, задыхаясь.
– Поцелуева, – добавил абажур.
– Не видели? – прокричал Наваррский.
– Он здесь должен прогуливаться, – объяснил абажур.
Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было зев для произнесения ругательства, и с оскорбительной вежливостью сказал:
– Товарища Плотского, урожденного Поцелуева, мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его уже ищет какой-то трудящийся, по виду художник-пушкарь.
Сцепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники побежали дальше. А в это время из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо. Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление». Разобраться в профессии толстяка было нетрудно. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал полированный ящик, в котором, несомненно, помещались краски.
– Алло! – крикнул Остап. – Вы ищете Плотского-Поцелуева?
– Так точно, – подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.
– Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! – закричал Остап. – Вас обошли уже три художника. В чем тут дело? Что случилось?
Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.
– Какой культурный город! – сказал Остап. – Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками. Любопытно.
Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул Остапу:
– Вам не стыдно?
– Чего? – спросил Остап.
– Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?
– Ах, вы об этом? – сказал Остап. – Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать. Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение «Дня жаворонка». Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день.
Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке праздничный вид.
Командор и бортмеханик придирчиво стали выбирать краски.
– Черный цвет – слишком траурно, – говорил Остап. – Зеленый – тоже не подходит: это цвет рухнувшей надежды. Лиловый – нет. Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый – пошло, голубой – банально, красный – слишком верноподданно. Придется выкрасить «Антилопу» в желтый цвет. Будет немножко ярковато, но красиво.
– А вы кто будете? Художники? – спросил продавец, подбородок которого был слегка запорошен киноварью.
– Художники, – ответил Бендер, – баталисты и маринисты.
– Тогда вам не сюда нужно, – сказал продавец, снимая с прилавка пакеты и банки.
– Как не сюда! – воскликнул Остап. – А куда же?
– Напротив.
Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску через дорогу. Там была изображена коричневая лошадиная голова и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».
– Все правильно, – сказал Остап, – твердые и мягкие корма для скота. Но при чем же тут наш брат – художник? Не вижу никакой связи.
Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.
Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, когда в город приехал новый художник Феофан Мармеламедов.
Первая его работа вызвала в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мармеламедов оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мармеламедов перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.
С течением времени Мармеламедов стал употреблять также и другие злаки.
Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена.
Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание окрплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он остался верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.
– Овсом оно, конечно, способнее! – воскликнул Остап. – А Рубенс-то с Рафаэлем дураки – маслом старались. Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.
Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:
– Да, кстати, кто такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дел.
– Товарищ Плотский-Поцелуев – известный работник центра, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.
– Все понятно, – сказал Остап, – спасибо за информацию. До свидания!
На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо, с лицами грустными и томными, как у цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними торчали мольберты, составленные в ружейную пирамиду.
– Что, служивые, плохо? – спросил Остап. – Упустили Плотского-Поцелуева?
– Упустили, – застонали художники. – Из рук ушел.
– Феофан перехватил? – спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.
– Уже пишет, халтурщик, – ответил заместитель Генриха Наваррского. – Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.
– А где ателье этого деляги? – полюбопытствовал Остап. – Хочется бросить взгляд.
Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мармеламедову. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мармеламедов хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
– Сколько вы получите за эту картину? – застенчиво спросил Поцелуев.
Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:
– Что ж. Рублей двести пятьдесят музей за нее даст.
– Однако дорого.
– А овес-то нынче, – сказал Мармеламедов певуче, – не укупишь. Он дорог, овес-то!
– Ну, как яровой клин? – спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. – Посевкампания, я вижу, проходит удачно. На сто процентов? Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами и, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, – был такой грех. Но идеологически, повторяю, картина была замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мармеламедов! Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай.
Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.
– Это звучит парадоксом, – заметил он, возобновляя посевные манипуляции.
– Ладно, – сообщил Остап, прощаясь, – сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые! Бросьте свои масляные краски. Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек! Замечательная идея.
Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.
На рассвете следующего дня преображенная «Антилопа» покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.
– Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его не хотелось будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день трехсотлетия дома Романовых.
И в ту же минуту сзади, из бревенчатого домика, послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.
– Все тот же сон! – вопил старый Хворобьев. – Боже, боже!
– Я ошибся, – заметил Остап, – ему, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а широкий пленум литературной группы «Кузница и усадьба». Однако черт с ним! Дела призывают нас в Черноморск.
Снова кризис жанра
Чем только не занимаются люди!
Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база коммунистической идеологии. На пузыре «уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».
В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов «В часы досуга» или «Шевели мозговой извилиной» решительно перестали брать товар без идеологии. И пока великая страна шумела, пока строились тракторные заводы и создавались грандиозные зерновые фабрики, старик Синицкий, ребусник по профессии, сидел в своей комнате и, устремив остекленевшие глаза в потолок, сочинял шараду на модное слово «индустриализация».
У Синицкого была наружность гнома. Таких гномов обычно изображали маляры на вывесках зонтичных магазинов. Вывесочные гномы стоят в красных колпаках и дружелюбно подмигивают прохожим, как бы приглашая их поскорее купить шелковый зонтик или трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Длинная желтоватая борода Синицкого опускалась прямо под стол, в корзину для бумаг.
– Индустриализация! – горестно шептал он, шевеля бледными, как сырые котлеты, старческими губами. И он привычно разделял это слово на шарадные части.
– Индус. Три. Али. За.
Все было прекрасно. Синицкий уже представлял себе пышную шараду, значительную по содержанию, легкую в чтении и трудную для отгадки. Сомнения вызывала только последняя часть «ция».
– Что же это за «ция» такая? – напрягался старик. – Вот если бы «акция»! Тогда отлично вышло бы: индустриализакция.
Промучившись полчаса и не надумав, как поступить с капризным окончанием, Синицкий решил, что конец придет сам собой, и приступил к работе. Он начал писать свою поэму на листе, вырванном из бухгалтерской книги с надписью «Дебет».
Сквозь большую стеклянную дверь балкона видны были цветущие акации, латаные крыши домов и резкая синяя черта морского горизонта. Черноморский полдень заливал город кисельным зноем.
Старик подумал и нанес на бумагу начальные строчки:
Мой первый слог сидит в чалме,
Он на Востоке быть обязан.
– Он на Востоке быть обязан! – с удовольствием произнес старик.
Ему понравилось то, что он сочинил, трудно было только найти рифмы к словам «обязан» и «чалме». Ребусник походил по комнате и потрогал руками бороду. Вдруг его осенило.
Второй же слог известен мне,
Он с цифрою как будто связан.
С «Али» и «За» тоже удалось легко справиться.
В чалме сидит и третий слог,
Живет он тоже на Востоке.
Четвертый слог поможет бог
Узнать, что это есть предлог.
Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. Но никогда еще почтенному ребуснику не было так трудно работать, как сейчас. Он отстал от жизни, был политически неграмотен, и молодые конкуренты легко его побивали. Они приносили в редакции задачи с такой прекрасной идеологической установкой, что старик, читая их, плакал от зависти. Куда ему было угнаться за такой, например, задачей:
ЗАДАЧА-АРИФМОМОИД
На трех станциях: Воробьево, Грачево и Дроздово было по равному количеству служащих. На станции Дроздово было комсомольцев в шесть раз меньше, чем на двух других, вместе взятых, а на станции Воробьево партийцев было на 12 человек больше, чем на станции Грачево. Но на этой последней беспартийных было на 6 человек больше, чем на первых двух. Сколько служащих было на каждой станции и какова была там партийная и комсомольская прослойка?
Очнувшись от своих горестных мыслей, старик снова взялся за листок с надписью «Дебет», но в это время в комнату вошла девушка с мокрыми стрижеными волосами и черным купальным костюмом на плече.
Она молча прошла на балкон, развесила на облупленных перилах сырой костюм и глянула вниз. Девушка увидела бедный двор, который видела уже много лет, – нищенский двор, где валялись разбитые ящики из-под макарон, бродили перепачканные углем коты и жестянщик с громом чинил ведро. В нижнем этаже домашние хозяйки разговаривали о своей тяжелой жизни.
И разговоры эти девушка слышала не первый раз, и котов она знала по именам, и жестянщик, как ей показалось, чинил это самое ведро уже много лет подряд. Зося Синицкая вернулась в комнату.
– Идеология заела, – услышала она бормотание деда, – а какая в ребусном деле может быть идеология? Ребусное дело…
Зося заглянула в старческие каракули и сейчас же крикнула:
– Что ты тут написал? Что это такое? «Четвертый слог поможет бог узнать, что это есть предлог». Почему – бог? Ведь ты сам говорил, что в редакции не принимают теперь шарад с церковными выражениями.
Синицкий ахнул. Крича: «Где бог, где? Там нет бога!», он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок.
– Есть бог, – промолвил он печально. – Оказался… Опять маху дал! Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая.
– А ты вместо «бог» поставь «рок», – сказала Зося. Но испуганный Синицкий отказался от «рока».
– Это тоже мистика! Я знаю! Ах, маху дал! Что же это будет, Зосенька?
Зося равнодушно посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду.
– Все равно, – сказала она, – слова с окончанием «ция» у тебя не выходят. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?
– Как же! – оживился старик. – Я еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяли эту шараду. Сказали: «Слабо, не подходит». Маху дал!
И старик, усевшись за свой стол, начал разрабатывать большой, идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась.
Зося принялась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными иллюминаторами к столу и выгружала посуду. Появилась фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось.
Вообще дела Синицких были плохи. Ребусы и шарады приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал знакомым гражданам и которые являлись главной статьей домашнего дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и Бомзе уехали в отпуск, Стульян женился на гречанке и стал обедать дома, а Побирухина вычистили из учреждения по второй категории, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливал знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу: «Слышали новость? Меня вычистили по второй категории!» И некоторые знакомые сочувственно отвечали: «Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!» А некоторые ничего не отвечали, косили на Побирухина огненным глазом и проносились мимо, тряся портфелями. В конце концов из всех нахлебников остался один, да и тот не платил неделю, ссылаясь на задержку жалованья.
Недовольно задвигав плечами, Зося отправилась в кухню, а когда вернулась, за обеденным столом сидел последний столовник – Александр Иванович Корейко.
В обстановке внеслужебной Александр Иванович не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован куль, из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался провернутой вверх запятой.
– Этот ребус трудненько будет разгадать, – говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. – Придется вам посидеть над ним, Александр Иванович.
– Придется, придется, – ответил Корейко с усмешкой, – только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а. Есть. Готово. «В борьбе обретешь ты право свое»?
– Да, – разочарованно протянул старик, – как это вы так быстро угадали? Способности большие! Сразу видно счетовода первого разряда.
– Второго разряда, – поправил Корейко. – А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?
– Для печати.
– И совершенно напрасно, – сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. – «В борьбе обретешь ты право свое» – это эсеровский лозунг. Для печати не годится.
– Ах ты, боже мой! – застонал старик. – Царица небесная! Опять маху дал! Слышишь, Зосенька? Маху дал! Что же теперь делать?
Старика успокаивали, но он был безутешен. Кое-как пообедав, он немедленно поднялся, собрал изготовленные за неделю загадки, надел лошадиную соломенную шляпу и сказал:
– Ну, Зосенька, пойду в «Молодежные ведомости». Немножко беспокоюсь за алгеброид, но, в общем, деньги я там достану. До свидания, Александр Иванович.
В комсомольском журнале «Молодежные ведомости» старика часто браковали, корили за отсталость, но все-таки не обижали, и журнал этот был единственным местом, откуда к старику бежал тоненький денежный ручеек. Синицкий захватил с собой шараду, начинающуюся словами: «Мой первый слог на дне морском», два колхозных логогрифа и один алгеброид, в котором, путем очень сложного умножения и деления, доказывалось преимущество советской власти перед всеми другими властями.
Когда ребусник ушел, Александр Иванович мрачно принялся рассматривать Зосю. Александр Иванович столовался у Синицких сначала потому, что обеды там были дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он тыкал всем в глаза своей мнимой бедностью и любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерное жалованье. Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не шестьдесят пять копеек, как он это делал теперь, а три или даже пять тысяч рублей.
Александр Иванович, подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить ста рублей, – влюбился со всей решительностью, на которую способен человек сильный, суровый и озлобленный бесконечным ожиданием.
Сегодня наконец он решился объявить Зосе о своих чувствах и предложить свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек, и свое сердце, стянутое сказочными обручами.
– Да, – сказал он, – такие-то дела, Зося Викторовна.
Сделав это сообщение, гражданин Корейко схватил со стола пепельницу, на которой был написан дореволюционный лозунг: «Муж, не серди свою жену», и стал внимательно в нее вглядываться.
Тут необходимо разъяснить, что нет на свете такой девушки, которая не знала бы по крайней мере за неделю о готовящемся изъявлении чувств. Поэтому Зося Викторовна озабоченно вздохнула и остановилась перед зеркалом. У нее был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки. Проверив это обстоятельство, она уселась против Александра Ивановича и приготовилась слушать. Но Александр Иванович ничего не сказал. Он знал только две роли: бедного служащего и подпольного миллионера. Третьей он не знал.
– Вы слышали новость? – спросила Зося. – Побирухина вычистили.
– У нас тоже чистка началась, – ответил Корейко, – многие полетят. Например, Лапидус-младший. Да и Лапидус-старший тоже хорош…
Здесь Корейко заметил, что идет по тропинке бедного служащего. Свинцовая задумчивость снова овладела им.
– Да, да, – сказал он, – живешь так в одиночестве, не зная наслаждений.
– Чего, чего не зная? – оживилась Зося.
– Не зная женской привязанности, – заметил Корейко спертым голосом.
Не видя никакой поддержки со стороны Зоси, он развил свою мысль.
Он уже стар. То есть не то чтоб стар, но не молод. И даже не то чтоб не молод, а просто время идет, годы проходят. Идут года. И вот это движение времени навевает на него разные мысли. О браке, например. Пусть не думают, что он какой-то такой. Он хороший, в общем. Совершенно безобидный человек. Его надо жалеть. И ему даже кажется, что его можно любить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Честно и откровенно. Почему бы одной девушке не пойти за него замуж.
Выразив свои чувства в такой несмелой форме, Александр Иванович сердито посмотрел на Зосю.
– А Лапидуса-младшего действительно могут вычистить? – спросила внучка ребусника.
И, не дождавшись ответа, заговорила по существу дела.
Она все отлично понимает. Время действительно идет ужасно быстро. Еще так недавно ей было девятнадцать лет, а сейчас уже двадцать. А еще через год будет двадцать один. Она никогда не думала, что Александр Иванович какой-то такой. Напротив, она всегда была уверена, что он хороший. Лучше многих. И, конечно, достоин всего. Но у нее именно сейчас какие-то искания, какие – она еще и сама не знает. В общем, она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц. И потом, она его еще не любит, что, вообще говоря, очень важно.
– Какие там сорок шесть рублей, – страшным голосом сказал вдруг Александр Иванович, поднимаясь во весь рост. – У меня… мне…
Больше он ничего не сказал. Он испугался. Начиналась роль миллионера, и это могло бы кончиться только гибелью.
Страх его был так велик, что он начал даже бормотать что-то о том, что не в деньгах счастье. Но в это время за дверью послышалось чье-то сопение. Зося выбежала в коридор.
Там стоял дед в своей большой шляпе, сверкающей соломенными кристаллами. Он не решался войти. От горя борода его разошлась, как веник.
– Почему так скоро? – крикнула Зося. – Что случилось?
Старик возвел на нее глаза, полные слез.
Испуганная Зося схватила старика за колючие плечи и быстро потащила в комнату. Полчаса лежал Синицкий на диване и дрожал.
После долгих уговоров дед приступил к рассказу.
Все было прекрасно. До самой редакции «Молодежных ведомостей» он добрался без всяких приключений. Заведующий отделом «Умственных упражнений» встретил ребусника чрезвычайно вежливо.
– Руку подал, Зосенька, – вздыхал старик. – Садитесь, говорит, товарищ Синицкий. И тут-то он меня и огорошил. А ведь наш-то отдел, говорит, закрывают. Новый редактор прибыл, заявил, что наши читатели не нуждаются в умственных упражнениях, а нуждаются они, Зосенька, в специальном отделе шашечной игры. Что ж будет, спрашиваю. Да ничего, говорит заведующий, не пойдет ваш материал, и только. А шараду мою очень хвалил. Прямо, говорит, пушкинские строки, в особенности это место: «Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог».
Старый ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на засилье советской идеологии.
– Опять драма! – воскликнула Зося.
Она нацепила шляпку и направилась к выходу. Александр Иванович двинулся за ней, хотя понимал, что идти не следовало бы.
На улице Зося взяла Корейко под руку и сказала:
– Мы все-таки будем дружить. Правда?
– Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж, – откровенно буркнул Корейко.
В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод толпились молодые люди без шляп, в белых рубашках с закатанными выше локтей рукавами. Синие сифоны с металлическими кранами стояли на полках. Длинные стеклянные цилиндры с сиропами на вертящейся подставке мерцали аптекарским светом. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гуляющих.
– В кино хочется, – капризно сказала Зося, – орехов хочется, сельтерской с сиропом.
Для Зоси Корейко был готов на все. Он решился бы даже слегка нарушить свою конспирацию, потратив рублей пять на кутеж. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей бумажками, достоинством по двадцать пять червонцев каждая. Но если бы даже он сошел с ума и решился бы обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кинематографе нельзя было разменять.
– Зарплату задерживают, – сказал он в полном отчаянии, – выплачивают крайне неаккуратно.
В эту минуту от толпы отделился молодой человек в прекрасных сандалиях на босу ногу. Он салютировал Зосе поднятием руки.
– Привет, привет, – сказал он, – у меня две контрамарки в кино. Хотите, Зося? Только моментально.
И молодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вывеску кино «Камо грядеши», быв. «Кво вадис».
Эту ночь конторщик-миллионер не спал дома. До самого утра он шатался по городу, тупо рассматривал карточки голеньких младенцев в стеклянных витринах фотографов, взрывал ногами гравий на бульваре и глядел в темную пропасть порта. Там переговаривались невидимые пароходы, слышались милицейские свистки и поворачивался красный маячный огонек.
– Проклятая страна! – бормотал Корейко. – Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино.
Сейчас Зося уже казалась ему невестой.
К утру побелевший от бессонницы Александр Иванович забрел на окраину города. Когда он проходил по Бессарабской улице, ему послышались звуки матчиша. Удивленный, он остановился.
Навстречу ему спускался с горы большой желтый автомобиль. За рулем, согнувшись, сидел усталый шофер в хромовой тужурке. Рядом с ним дремал широкоплечий малый, свесив набок голову в стетсоновской шляпе с дырочками. На заднем сиденье развалились еще двое пассажиров: пожарный в полной выходной форме и атлетически сложенный мужчина в морской фуражке с белым верхом.
– Привет первому черноморцу! – крикнул Остап, когда машина с тракторным грохотом проносилась мимо Корейки. – Теплые морские ванны еще работают? Городской театр функционирует? Уже объявили Черноморск вольным городом?
Но Остап не получил ответа. Козлевич открыл глушитель, и «Антилопа» утопила первого черноморца в облаке голубого дыма.
– Ну, – сказал Остап очнувшемуся Балаганову, – заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох уж мне эти принцы и нищие!
Два комбинатора
Телеграмма от братьев Карамазовых
С некоторого времени подпольный миллионер почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было. Исчезло только привычное и покойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства.
Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого «Геркулеса» его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:
– Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий-полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенной душой.
С этой вот встречи началась чертовщина.
В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел:
«ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ
БЕЖИТ ПРУДУ».
– Какая графиня? – ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре.
Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Александр Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес был правильный. Фамилия тоже.
«МАЛАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ 16
АЛЕКСАНДРУ КОРЕЙКО
ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ
БЕЖИТ ПРУДУ».
Александр Иванович ничего не понял, но так взволновался, что сжег телеграмму на свечке.
В семнадцать часов тридцать пять минут того же дня прибыла вторая депеша:
«ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗПТ
МИЛЛИОН ПОЦЕЛУЕВ».
Александр Иванович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в ту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии:
«ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАХ
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
И вторая:
«ЛЕД ТРОНУЛСЯ ТЧК
КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ БУДУ Я».
После этого с Александром Ивановичем произошел на службе обидный казус. Умножая в уме по просьбе Чеважевской девятьсот восемьдесят пять на тринадцать, он ошибся и дал неверное произведение, чего с ним никогда в жизни не случалось. Но сейчас ему было не до арифметических упражнений. Сумасшедшие телеграммы не выходили из головы.
– Бочках, – шептал он, устремив глаза на старика Кукушкинда. – Братья Карамазовы. Просто свинство какое-то.
Он пытался успокоить себя мыслью, что это милые шутки каких-то друзей, но эту версию живо пришлось отбросить. Друзей у него не было. Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в году – первого апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: печатали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало. Кроме того, не такие это были богачи, чтобы тратиться на депеши.
После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком: «Биографии американских миллионеров».
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила:
«Все крупные современные состояния в Америке нажиты самым бесчестным путем».
Александр Иванович на всякий случай решил пока что не наведываться на вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа.
– Самое главное, – говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», – это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов, люди больше всего пугаются непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножиком. Да, да. Побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «мысленно вместе» произвела на нашего контрагента потрясающее впечатление. Все это – суперфосфат, удобрение. Пусть поволнуется. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты.
Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни командора, смущали золоченые ламбрекены, ковры, сиявшие яркими химическими колерами, и гравюра «Явление Христа народу». Сами они вместе с «Антилопой» остановились на постоялом дворе и приходили в гостиницу только за получением инструкций.
– Паниковский, – сказал Остап, – вам было поручено встретиться сегодня с нашим подзащитным и вторично спросить у него миллион, сопровождая эту просьбу идиотским смехом. Ну?
– Как только он меня увидел, он перешел на противоположный тротуар, – самодовольно ответил Паниковский.
– Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам с постели и жалобно лепечет: «Мама, мама». Еще немного, самая чепуха, последний удар кисти – и он окончательно дозреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой каемкой…
Остап подмигнул Балаганову, Балаганов подмигнул Паниковскому, Паниковский подмигнул Козлевичу, и хотя честный Козлевич ровно ничего не понял, но тоже стал мигать обоими глазами. И долго еще в номере гостиницы «Карлсбад» шло дружелюбное перемигивание, сопровождавшееся смешками, цоканьем языком и даже вскакиванием с красных плюшевых кресел.
– Отставить веселье, – сказал Остап. – Пока что тарелочка с деньгами в руках Корейко, если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка.
Затем Бендер услал Паниковского и Козлевича на постоялый двор, предписав держать «Антилопу» наготове.
– Ну, Шура, – сказал он, оставшись вдвоем с Балагановым, – телеграмм больше не надо. Подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного теленочка при исполнении им служебных обязанностей.
Держась в прозрачной тени акаций, молочные братья прошли городской сад, где толстая струя фонтана оплывала, как свеча, миновали несколько зеркальных пивных баров и остановились на углу улицы Меринга. Цветочницы с красными матросскими лицами купали свой нежный товар в эмалированных мисках. Нагретый солнцем асфальт шипел под ногами. Из голубой кафельной молочной выходили граждане, вытирая на ходу измазанные кефиром губы.
Толстые макаронные буквы деревянного золота, составлявшие слово ГЕРКУЛЕС, заманчиво светились. Солнце прыгало по саженным стеклам вертящейся двери. Остап и Балаганов вошли в вестибюль и смешались с толпой деловых людей.
Геркулесовцы
Как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из «Геркулеса» гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось. Как завхозы ни замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «Кабинеты», то вдруг на матовой стеклянной двери машинного бюро замечались водяные знаки «Дежурная горничная», то обнаруживались нарисованные на стенках указательные персты с французским текстом «Pour les dames». Гостиница перла наружу.
Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время экономные деревенские батюшки, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коммивояжеры с черными усиками. Там еще пахло свечами и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали бильярдные короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями, их помощники и завхоз. Здесь уже было получше: стояли платяные шкафы с зеркалами и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездилось начальство. В белых ваннах валялись дела, а в полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно рисовавшие структуру «Геркулеса», а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда были под рукой.
В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался в 1911 году знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали, и номер пятый почему-то пользовался в учреждении дурной славой.
Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на иную работу. Хорошо еще, если без выговора. А то бывало и с выговором, бывало с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно.
– Демонский номер, – в один голос утверждали потерпевшие. – Ну кто мог подозревать?
И на голову писателя, автора страшного «Рассказа о семи повешенных», падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он повинен в том, что тов. Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что тов. Справченко в заготовке древесной коры понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что тов. Индокитайский проиграл в польский банчок 7384 рубля 03 коп. казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на пользу государства и что он может представить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером Индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер пятый.
Начальник всего «Геркулеса» тов. Полыхаев помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикомор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. А с недавнего времени в комнате № 262, где некогда помещалась малая буфетная, засела комиссия по чистке в числе восьми ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженции.
Когда Остап и Балаганов поднимались по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал.
Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих поспешали в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу.
Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая округлая борода висела на его бледном ласковом лице. В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз оглядев ее внимательно.
В этом занятии служащему с благороднейшей наружностью чуть не помешал Балаганов, желавший узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел.
– Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю? – сказал служащий, с негодованием отвернувшись от Балаганова.
И, не обращая больше внимания на молочных братьев, погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на прощанье, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому служащему у дверей своего отдела.
– Ну, что, – спросил он, оглянувшись, – как самочувствие?
– Лучше б не спрашивали, товарищ Бомзе, – ответил тот. И, тоже оглянувшись, добавил: – Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности! Все одно и то же, пятилетка в четыре года, пятилетка в три года.
– Да, да, – зашептал Бомзе, – просто ужас какой-то. Я с вами совершенно согласен. Именно, никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, – и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив.
Вздохнув, Бомзе двинулся навстречу другому служащему.
– Ну, что, – спросил он, заранее печально улыбаясь, – как самочувствие?
– Да вот, – сказал собеседник, – сегодня утром из командировки. Удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива!
– Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что! – с горячностью воскликнул Бомзе. – Именно воля коллектива! Пятилетка в четыре года, даже в три – вот тот стимул, который… Да возьмите, наконец, даже мою жену. Домашняя хозяйка – и та отдает должное индустриализации. Черт возьми! На глазах вырастает новая жизнь!
Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого Борисохлебского и говорил:
– Вы правы, я тоже так думаю. Зачем строить Магнитогорски, совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность?
А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы:
– Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому. Что плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, Магнитогорски, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив…
В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лицо его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе.
Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась.
Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности «Геркулеса», заключавшейся по уставу в различных торговых операциях в области лесо- и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались увлекательному занятию: они боролись за свое помещение, за любимую свою гостиницу.
Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из коммунотдела.
«С получением сего, – значилось в бумажке, – предлагается Вам в недельный срок освободить помещение быв. гостиницы «Каир» и передать со всем быв. гостиничным инвентарем в ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение быв. акц. об-ва «Жесть и бекон».
Основание: постановление Горсовета от 14/II—1929 г.».
Эту бумажку вечером положили на стол перед лицом товарища Полыхаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикомор.
– Как! – нервно вскричал начальник «Геркулеса». – Они пишут мне «предлагается»! Мне, подчиненному непосредственно центру! Да что они, с ума там посходили! А?
– Они бы еще написали «предписывается», – поддала жару Серна Михайловна. – Мужланы.
Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник «Геркулеса» наотрез отказывался очистить помещение.
– Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож и никаких «предлагается» мне писать нельзя! – бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами.
И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой.
Целую неделю после этого геркулесовцы обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том, что Полыхаев не потерпит такого подрыва своего авторитета.
– Вы еще не знаете нашего Полыхаева, – говорили молодцы из финсчета. – Он мытый-перемытый. Его на голое постановление не возьмешь.
Вскоре после этого товарищ Бомзе вышел из кабинета начальника, держа в руках списочек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над особой, указанной в списке, и таинственно шептал:
– Маленькая вечеринка. По три рубля с души. Проводы Полыхаева.
– Как? – пугались избранные сотрудники. – Разве Полыхаев уходит? Снимают?
– Да нет. Едет на неделю в центр, хлопотать насчет помещения. Так смотрите не опаздывайте. Ровно в восемь, у меня.
Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели:
– Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пейдодна, пей до дна, пейдодна.
Пели до тех пор, покуда любимый начальник не осушил изрядного количества лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего в свою очередь колеблющимся голосом начал песню: «По старой калужской дороге, на сорок девятой версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Полыхаев, неожиданно для всех, перешел на другую песню:
Шел трамвай десятый номер,
На площадке ктой-то помер.
Тянут, тянут мертвеца,
Ламца-дрица. Ца-ца.
После отъезда Полыхаева производительность труда в «Геркулесе» слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли в этом помещении или придется со всеми канцпринадлежностями тащиться в «Жесть и бекон». Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Полыхаева. Он вернулся, как говорил Бомзе, на щите, помещение осталось за «Геркулесом», и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммунотделом.
Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати, но возбужденный успехом Полыхаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Полыхаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пейдодна», и все более широкие слои сотрудников втягивались в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались лесо- и пиломатериалы. Когда Полыхаев находил вдруг у себя на столе бумажку, касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи – переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммунотдельцев.
– Вам повезло, – говорил Остап своему спутнику, – вы присутствуете при смешном событии – Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь! Мелкая уголовная сошка, вроде Паниковского, написала бы Корейко письмо: «Положите во дворе под мусорный ящик шестьсот рублей, иначе будет плохо». И внизу пририсовала бы крест, череп и свечу. Соня Золотая Ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умалить, в конце концов прибегла бы к обыкновенному хипесу, что принесло бы ей тысячи полторы. Дело женское. Возьмем, наконец, корнета Савина. Аферист выдающийся. Как говорится, негде пробы ставить. А что сделал бы он? Приехал бы к Корейко на квартиру под видом болгарского царя, наскандалил бы в домоуправлении и испортил бы все дело. А я, как видите, не тороплюсь. Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание… Ага, вот и финсчетный зал! Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по Корейко.
Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал, и Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чеважевская, Корейко, Кукушкинд и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею миллионера, когда Остап сердито шепнул:
– Вы бы еще закричали во всю глотку: «Вот он, богатей. Держите его». Спокойствие. Я угадаю сам. Который же из четырех?
Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать:
– Девушка не в счет. Остаются трое: красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отметаю. Кроме ваты, которой он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое: барбос и белоглазый подхалим. Кто же из них Корейко? Надо подумать.
Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая взглядом каждый мяч.
– Знаете, бортмеханик, – сказал он наконец, – толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, нежели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он – собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона? А тот другой, белоглазый, просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние – двенадцать рублей в сберкассе. Предел его ночных грез – покупка волосатого пальто с телячьим воротником. Это не Корейко. Это – мышь, которая…
Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубин финсчетного зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать:
– Товарищ Корейко! Где же цифровые данные о задолженности нам коммунотдела? Товарищ Полыхаев срочно требует.
Остап толкнул Балаганова ногой. Но барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не дрогнуло. Зато красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов.
Великий комбинатор крякнул и испытующе посмотрел на Балаганова. Шура засмеялся.
– Да, – сказал Остап после некоторого молчания. – Этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект, достойный уважения. Теперь – скорее на воздух. В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы с божьей помощью впервые потрогаем господина Корейко за вымя! Трогать будете вы, Шура.
Гомер, Мильтон и Паниковский
Инструкция была самая простая:
1. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.
2. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.
3. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.
4. Об исполнении донести.
Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором, Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду, значительно поглядывая на подъезд «Геркулеса». Препираясь, они не замечали даже, что ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеяную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить.
Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку пожарника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
– Только кража, – говорил он.
– Только ограбление, – возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора.
– Вы жалкая, ничтожная личность, – заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.
– А вы калека, – заметил Балаганов. – Сейчас начальник я.
– Кто начальник?
– Я начальник. Мне поручено.
– Вам?
– Мне.
– Тебе?
– А кому же еще? Уж не тебе ли?
И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой!» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.
Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством.
Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился.
– Почему бы не ограбить? – сказал он менее настойчиво. – Разве так трудно? Корейко вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки. Вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: «Хулиган!» Мне. «Кто хулиган?» – спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд… Нет, бить нельзя!
– В том-то и дело, что бить нельзя! – лицемерно вздохнул Паниковский. – Бендер не позволяет.
– Да я сам знаю… В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит «Милиция!», и тут я его… Ах ты, черт возьми, нельзя бить. В общем, мы уходим домой. Ну, как план?
Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:
– Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых…
И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.
– Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то…
Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:
– Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?
Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался. Заметив это, Паниковский не стал мешкать.
– Поезжайте в Киев! – сказал он неожиданно. – И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев!
– Какой там Киев! – пробормотал Шура. – Почему?
– Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!
– Что вы пристаете? – хмуро спросил Балаганов.
– Нет, вы спросите! – требовал Паниковский. – Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.
Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки.
– Вот этими очками, – сказал он со вздохом, – я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.
– Почему же вы бросили это дело? – спросил Балаганов, оживившись.
– Революция! – ответил бывший слепой. – Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек, фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видел хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры. И вот, Балаганов, на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Это гораздо вернее ограбления.
Через пять минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, стучал палочкой по водопроводному желобу, натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого.
Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из геркулесовского подъезда не вышел Корейко. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко. И лишь после всего этого занял удобную для наблюдений позицию у фруктового киоска. Он почувствовал то самое наслаждение битвой, то героическое упоение, о котором с небрежной простотой рассказывают на вечеринках люди, якобы ходившие в штыковую атаку. Однако во рту у него почему-то появился препротивный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился.
Он увидел, что слепой повернулся фронтом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Затем Корейко улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задирал голову, будто он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже легкую зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию. Его рука скользнула по левому боку Корейко и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика.
– Ну-ну, – шептал Балаганов. – Давай, старик, давай!
Но в то же мгновение блеснули стекла, тревожно промычала груша, затряслась земля, и большой белый автобус, еле удержавшись на колесах, резко осадил на средине мостовой. Одновременно с этим раздались два крика.
– Идиот! Автобуса не видит! – визжал Паниковский, выскочив из-под колеса и грозя провожатому сорванными с носа очками.
– Он не слепой! – удивленно вскричал Корейко. – Ворюга!
Все заволокло синим дымом, автобус покатил дальше, и, когда бензиновая завеса разодралась, Балаганов увидел, что Паниковский окружен небольшой толпой граждан. Вокруг мнимого слепого началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя одно ухо его было таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте и при его свете можно было бы даже проявлять фотографические пластинки.
Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад».
Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал.
– Паниковского бьют! – закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.
– Уже? – деловито спросил Бендер. – Что-то очень быстро.
– Паниковского бьют! – с отчаянием повторил рыжий Шура. – Возле «Геркулеса».
– Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? – строго сказал Остап. – Давно бьют?
– Минут пять.
– Так бы сразу сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдем, полюбуемся. По дороге расскажете.
Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейко уже не было, но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо крякали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу.
– Пардон, – говорил он, – еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло, скорей бегите, он еще там лежит! Пропустите экспертов, вы, мужчины. Пусти, тебе говорят, лишенец!
Применяя таким образом политику кнута и пряника, Остап пробрался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете правого уха нарушителя конвенции тоже можно было бы производить различного рода фотографические работы. Увидев командора, Паниковский жалобно понурился.
– Вот этот? – сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину.
– Этот самый, – радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. – Своими глазами видели.
Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес:
– Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели! Записывайтесь!
Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове «свидетели» все правдолюбцы как-то поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она разваливалась на глазах.
– Где же свидетели? – повторил Остап.
Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. Заскучавшие автомобили дали газу. Окна амбулатории захлопнулись. Собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана.
Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал:
– Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший! Еще один великий слепой выискался – Паниковский! Гомер, Мильтон и Паниковский! Теплая компания! А Балаганов! Тоже – матрос с разбитого корабля. Паниковского бьют, Паниковского бьют! А сам… Идемте в городской сад. Я вам устрою сцену у фонтана.
У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. Оскандалившийся слепой указывал на свои расшатавшиеся в годы лихолетья нервы и кстати заявил, что во всем виноват Балаганов, личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные возгласы: «А ты кто такой?», уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав «брек», развел противников, как судья на ринге.
– Боксировать будете по выходным дням, – промолвил он. – Прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста – сито. Это кончится плохо. Я вас уволю, тем более что ничего социально ценного вы собою не представляете.
Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейко. Бендер только усмехался.
– Вот увидите, – хорохорился Балаганов. – Нападение на улице. Под покровом ночной темноты. Верно, Михаил Самуэлевич?
– Честное слово, – поддержал Паниковский, – мы с Шурой… Не беспокойтесь. Вы имеете дело с Паниковским!
– Это меня и печалит, – сказал Бендер, – хотя, пожалуйста… Как вы говорите? Под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.
– Идемте, Михаил Самуэлевич!
После нескольких часов уличного дежурства объявились наконец все необходимые данные: покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома, где жил старый ребусник. Девушка не укладывалась в план. Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю.
Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила с звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива. Когда он исчез, на его месте долго еще держался черный столб.
– Я устал, – хныкал Паниковский, тащась по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой. – Я старый. Мне трудно.
Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоялый двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине.
И в этот момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову довершить начатое дело одному, впереди послышалось:
– Как тепло! Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Ну, тогда подождите здесь. Я только окунусь – и назад!
Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейко остался один.
– Скорей, – шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. – Значит, я захожу с левой стороны, а вы – справа. Только живее!
– Я – слева, – трусливо сказал нарушитель конвенции.
– Хорошо, хорошо, вы – слева. Я толкаю его в левый бок, нет, в правый, а вы жмете слева.
– Почему слева?
– Вот еще… Ну, справа! Он говорит: «Хулиган», а вы отвечаете: «Кто хулиган?»
– Нет, вы первый отвечаете.
– Хорошо. Все Бендеру скажу. Пошли, пошли. Значит, вы слева…
И доблестные сыны лейтенанта Шмидта, отчаянно труся, приблизились к Александру Ивановичу.
План был нарушен в самом же начале. Вместо того чтобы, согласно диспозиции, зайти с правой стороны и толкнуть миллионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал:
– Позвольте прикурить.
– Я не курю, – холодно ответил Корейко.
– Так, – глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского. – А который час, вы не знаете?
– Часов двенадцать.
– Двенадцать, – повторил Балаганов. – Гм… Понятия не имел.
– Теплый вечер, – заискивающе сказал Паниковский. Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейко и визгливо крикнул:
– Руки вверх!
– Что? – удивленно спросил Корейко.
– Руки вверх, – повторил Паниковский упавшим голосом.
Тотчас же он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейко уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочий смех и плеск.
– Что ж вы меня бьете? – надрывался Балаганов. – Я же только спросил, который час!..
– Я тебе покажу, который час! – шипел Корейко, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача к грабителю.
Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы скромного геркулесовца. Корейко лягнул его ногой, но было уже поздно. Железная коробочка от папирос «Кавказ» перекочевала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана посыпались на землю бумажонки и членские книжечки.
– Бежим! – крикнул Паниковский откуда-то из темноты.
Последний удар Балаганов получил уже в спину. Через несколько минут слегка помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные, голубые фигуры. Они бежали по гребню горы, направляясь в город.
Свежая, пахнущая йодом Зося застала Александра Ивановича за странным занятием. Он стоял на коленях и, зажигая спички срывающимися пальцами, подбирал с травы бумажонки. Но, прежде чем Зося успела спросить, в чем дело, он уже нашел квитанцию на чемоданишко, покоящийся в камере хранения ручного багажа, между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом.
– Случайно выронил! – сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию.
О папиросной коробке «Кавказ» с десятью тысячами, которые он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город.
Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице на виду у всего города выпирает из рамок затеянного дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской вечерке объявление: «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.» и мигом сообразив, что объявление это означает – «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал: «Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно старгородский загс прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната, безусловно, останется за мной».
И, натянув на себя прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.
Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции
Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.
Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Лежал он в подтяжках и зеленых носках, которые в Черноморске называют также карпетками.
Поголодав минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой бок и посмотрел на жену. При этом зеленые карпетки описали в воздухе небольшую дугу. Жена бросала в крашеный дорожный мешок свое добро: фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и одно старое без хвоста, фетровый кивер со стеклянным полумесяцем, медные патроны с губной помадой и трикотажные рейтузы.
– Варвара! – сказал Лоханкин в нос.
Жена молчала, громко дыша.
– Варвара! – повторил он. – Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?
– Да, – ответила жена. – Я ухожу. Так надо.
– Но почему же, почему? – сказал Лоханкин с коровьей страстностью.
Его и без того крупные ноздри горестно зашевелились. Задрожала фараонская бородка.
– Потому что я его люблю.
– А я как же?
– Васисуалий! Я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю.
– Но я! Я же тебя люблю, Варвара.
– Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо.
– Нет! – воскликнул Лоханкин. – Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!
– Может, – раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. – И вообще перестань дурить, Васисуалий.
– В таком случае я продолжаю голодовку! – закричал несчастный муж. – Я буду голодать до тех пор, покуда ты не вернешься. День. Неделю. Год буду голодать.
Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
– Так вот и буду лежать в подтяжках, – донеслось с дивана, – пока не умру. И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым.
Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила:
– Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!
Этого Лоханкин не снес. Он дернулся, словно электрический разряд пробил его во всю длину, от подтяжек до зеленых карпеток.
– Ты самка, Варвара, – тягуче заныл он. – Ты публичная девка!
– Васисуалий, ты дурак! – спокойно ответила жена.
– Волчица ты, – продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. – Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!
Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.
– Васисуалий! Перестань паясничать, – сказала волчица, застегивая мешок. – Посмотри, на кого ты похож. Хоть бы умылся. Я ухожу. Так надо. Прощай, Васисуалий! Твою хлебную карточку я оставляю на столе.
И Варвара, подхватив мешок, пошла к двери. Увидев, что заклинания не помогли, Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком: «Спасите!» – порвал карточку. Варвара испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями.
– Что ты сделал? – сказала она. – Ты не смеешь голодать!
– Буду, – упрямо заявил Лоханкин.
– Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности.
– И этим я горжусь, – ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. – Ты недооцениваешь значение индивидуальности и вообще интеллигенции.
– Общественность тебя осудит.
– Пусть осудит, – решительно сказал Васисуалий и снова повалился на диван.
Варвара молча швырнула мешок на пол, поспешно стащила с головы соломенный капор и, бормоча: «взбесившийся самец», «тиран», «собственник», торопливо сделала бутерброд с баклажанной икрой.
– Ешь! – сказала она, поднося пищу к пунцовым губам мужа. – Слышишь, Лоханкин? Ешь сейчас же. Ну!
– Оставь меня, – сказал он, отводя руку жены. Пользуясь тем, что рот голодающего на мгновение открылся, Варвара ловко втиснула бутерброд в отверстие, образовавшееся между фараонской бородкой и подбритыми московскими усиками. Но голодающий сильным ударом языка вытолкнул пищу наружу.
– Ешь, негодяй! – в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. – Интеллигент!
Но Лоханкин отводил лицо от бутерброда и отрицательно мычал. Через несколько минут разгорячившаяся и вымаранная зеленой икрой Варвара отступила. Она села на свой мешок и заплакала ледяными слезами.
Лоханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный, косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения: большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, к каковой социальной прослойке он причислял и себя. Так что продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузского энциклопедического словаря. Подолгу стаивал Васисуалий перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись там дивные образцы переплетного искусства: Большая медицинская энциклопедия, «Жизнь животных», пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю.
«Рядом с этой сокровищницей мысли, – неторопливо думал Васисуалий, – делаешься чище, как-то духовно растешь».
Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа «Родину» за 1899 год в переплете цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы под названием: «Вот как я увеличила свой бюст на шесть дюймов» и прочие интересные штуки.
С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества.
Вечером пришел Птибурдуков. Он долго не решался войти в комнаты Лоханкиных и мыкался по кухне среди длиннопламенных примусов и протянутых накрест веревок, на которых висело сухое гипсовое белье с подтеками синьки. Квартира оживилась. Хлопали двери, проносились тени, светились глаза жильцов, и где-то страстно вздохнули: «Мужчина пришел».
Птибурдуков снял фуражку, дернул себя за инженерский ус и наконец решился.
– Варя, – умоляюще сказал он, входя в комнату, – мы же условились…
– Полюбуйся, Сашук! – закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. – Вот он! Лежит! Самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти.
Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб.
– Птибурдуков, тебя я презираю, – заныл он. – Жены моей касаться ты не смей. Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?..
– Товарищ Лоханкин! – ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.
– Уйди, уйди, тебя я ненавижу, – продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, – ты гнида жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты – хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!
– Как вам не стыдно, Васисуалий Андреич, – сказал заскучавший Птибурдуков, – даже просто глупо. Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки…
– Он мне посмел сказать, что это глупо! Он, он, жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе по вые, по шее то есть, вам я надаю.
– Больной человек, – сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.
Но Варваре эти рамки были тесны. Она схватила со стола уже засохший зеленый бутерброд и подступила к голодающему. Лоханкин защищался с таким отчаянием, словно бы его собирались кастрировать. Птибурдуков отвернулся и смотрел в окно на конский каштан, цветущий белыми свечками. Позади себя он слышал отвратительное мычание Лоханкина и крики Варвары: «Ешь, подлый человек! Ешь, крепостник!»
На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.
– Вот уже и рези в желудке начались, – сообщал он печально, – а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов.
Птибурдуков привел брата – военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя. Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Есть можно все. Например, суп, котлеты, компот. Можно также хлеб, овощи, фрукты. Не исключена рыба. Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина. Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется даже купаться в море и ездить на велосипеде.
Но больной не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов. Он не пошел к морю купаться, а продолжал лежать на диване, осыпая окружающих бранчливыми ямбами. Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает, – размышляла она с удовлетворением, – какая все-таки страсть! Способен ли Сашук на такое высокое чувство?» И она бросала беспокойные взгляды на Сашука, вид которого показывал, что любовные переживания не мешают ему регулярно вводить в организм обеды и ужины. И даже один раз, когда Птибурдуков вышел из комнаты, она назвала Васисуалия бедненьким. При этом у рта Васисуалия снова появился бутерброд. «Еще немного выдержки, – подумал Лоханкин, – и не видать Птибурдукову моей Варвары».
Он с удовольствием прислушивался к голосам из соседней комнаты.
– Он умрет без меня, – говорила Варвара, – придется нам подождать. Ты же видишь, что я сейчас не могу уйти.
Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась.
Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробочка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати, и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притопывал ногой в зеленом носке и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена.
– Лоханкин! – сказала она ужасным голосом.
От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
– Варвара! – сказал он в нос. – Неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?
Ответа не было.
– Волчица ты, – неуверенно объявил Лоханкин, – тебя я презираю, к Птибурдукову ты уходишь от меня…
Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных дум и моральных страданий. Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит. А если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Лоханкин же страдал открыто, величаво, он хлестал свое горе чайными стаканами, он упивался им. Великая скорбь давала ему возможность лишний раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма.
«А может быть, так надо, – думал он, – может быть, это искупление и я выйду из него очищенным. Не такова ли судьба всех стоящих выше толпы людей с тонкой конституцией? Галилей, Милюков, А. Ф. Кони. Да, да, Варвара права, так надо!»
Душевная депрессия не помешала ему, однако, дать в газету объявление о сдаче внаем второй комнаты.
«Это все-таки материально поддержит меня на первых порах», – решил Васисуалий. И снова погрузился в туманные соображения о страданиях плоти и значении души как источника прекрасного.
От этого занятия его не могли отвлечь даже настоятельные указания соседей на необходимость тушить за собой свет в уборной. Находясь в расстройстве чувств, Лоханкин постоянно забывал это делать, что очень возмущало экономных жильцов.
Между тем жильцы большой коммунальной квартиры номер три, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частыми скандалами. Квартиру номер три прозвали даже «Вороньей слободкой». Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели «Вороньей слободки» объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось такому квартиранту. Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный квартирант в поисках правды, добираясь до самого всесоюзного старосты товарища Калинина. И до самой своей смерти квартирант будет сыпать юридическими словечками, которых понаберется в разных присутственных местах, будет говорить не «наказывается», а «наказуется», не «поступок», а «деяние». Себя будет называть не «товарищ Жуков», как положено ему со дня рождения, а «потерпевшая сторона». Но чаще всего и с особенным наслаждением он будет произносить выражение «вчинить иск». И жизнь его, которая и прежде не текла молоком и медом, станет совсем уже дрянной.
Задолго до семейной драмы Лоханкиных летчик Севрюгов, к несчастию своему проживавший в квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоавиахима за Полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики наполняли эфир свистом, и польская газета «Курьер Поранный», близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года. Целый месяц Севрюгов летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.
Наконец Севрюгов совершил то, что совершенно сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам. При этом известии земной шар переполнился криками. Имя Севрюгова произносилось на трехстах двадцати языках и наречиях, включая сюда язык черноногих индейцев, портреты Севрюгова в звериных шкурах появились на каждом свободном листке бумаги. В беседе с представителями печати Габриэль д’Аннунцио заявил, что только что закончил новый роман и сейчас же вылетает на поиски отважного русского. Появился чарльстон: «Мне тепло с моей крошкой на полюсе». И старые московские халтурщики Усышкин-Вертер, Леонид Трепетовский и Борис Аммиаков, издавна практиковавшие литературный демпинг и выбрасывавшие на рынок свою продукцию по бросовым ценам, уже писали обозрение под названием «А вам не холодно?». Одним словом, наша планета переживала великую сенсацию.
Но еще большую сенсацию вызвало это сообщение в квартире номер три, находящейся в доме номер восемь по Лимонному переулку и известной больше под именем «Вороньей слободки».
– Пропал наш квартирант, – радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валеный сапог. – Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
– Долетался, желтоглазый, – бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. – Вот и комната освободилась, площадь!
Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей «Вороньей слободки». О комнате пропавшего летчика заговорили все: и бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиенишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша – торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховейко, в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.
– Что ж, – сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня наполнилась жильцами, – раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.
– Почему ж мужчине площадь? – возразила коечница Дуня. – Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал.
И долго она еще толкалась между собравшимися, приводя различные доводы в свою пользу и часто произнося слово «мущина».
Во всяком случае, жильцы сходились на том, что комнату нужно забрать немедленно.
В тот же день мир задрожал от новой сенсации. Смелый Севрюгов нашелся. Нижний Новгород, Квебек и Рейкьявик услышали позывные Севрюгова. Он сидел с подмятым шасси на восемьдесят четвертой параллели. Эфир сотрясался от сообщений: «Смелый русский чувствует себя отлично», «Севрюгов шлет рапорт президиуму Осоавиахима», «Чарльз Линдберг считает Севрюгова лучшим летчиком в мире», «Семь ледоколов вышли на помощь Севрюгову и обнаруженной им экспедиции». В промежутках между этими сообщениями газеты печатали только фотографии каких-то ледяных кромок и берегов. Без конца слышались слова: «Севрюгов, Нордкап, параллель, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Кингсбей, пимы, горючее, Севрюгов».
Уныние, охватившее при этом известии «Воронью слободку», вскоре сменилось спокойной уверенностью. Ледоколы продвигались медленно, с трудом разбивая ледяные поля.
– Отобрать комнату – и все! – говорил Никита Пряхин. – Ему хорошо там на льду сидеть, а тут, например, Дуня все права имеет. Тем более по закону жилец не имеет права больше двух месяцев отсутствовать.
– Как вам не стыдно, гражданин Пряхин! – возражала Варвара, в то время еще Лоханкина, размахивая «Известиями». – Ведь это герой! Ведь он сейчас на восемьдесят четвертой параллели…
– Что еще за параллель такая, – смутно отзывался Митрич, – может, никакой такой параллели и вовсе нету. Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались.
Митрич говорил сущую правду. В гимназиях он не обучался. Он окончил Пажеский корпус.
– Да вы поймите! – кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. – Вот статья. Видите? «Среди торосов и айсбергов».
– Айсберги! – говорил Митрич насмешливо. – Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Верно Пряхин говорит. Отобрать – и все. Тем более что вот и Люция Францевна подтверждает насчет закона.
– А вещи на лестницу выкинуть, к чертям собачьим! – грудным голосом воскликнул бывший князь, а ныне трудящийся Востока, гражданин Гигиенишвили.
Варвару быстро заклевали, и она побежала жаловаться мужу.
– А может, так надо, – ответил муж, поднимая фараонскую бородку, – может, устами простого мужика Митрича говорит великая сермяжная правда. Вдумайся только в роль русской интеллигенции, в ее значение.
В тот великий день, когда ледоколы достигли наконец палатки Севрюгова, гражданин Гигиенишвили взломал замок на севрюговской двери и выбросил в коридор все имущество героя, в том числе висевший на стене красный пропеллер. В комнату вселилась Дуня, немедленно впустившая к себе за плату шестерых коечников. На завоеванной площади всю ночь длился пир. Никита Пряхин играл на гармонии, и камергер Митрич плясал русскую с пьяной тетей Пашей.
Будь у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не «отважным Севрюговым», не «ледовым героем», а «потерпевшей стороной». Но на этот раз «Воронью слободку» основательно прищемили. Комнату вернули (Севрюгов вскоре переехал в новый дом), а бравый Гигиенишвили за самоуправство просидел в тюрьме четыре месяца и вернулся оттуда злой как черт.
Именно он сделал осиротевшему Лоханкину первое представление о необходимости регулярно тушить за собой свет, покидая уборную. При этом глаза у него были решительно дьявольские. Рассеянный Лоханкин не оценил важности демарша, предпринятого гражданином Гигиенишвили, и таким образом проморгал начало конфликта, который привел вскоре к ужасающему, небывалому даже в жилищной практике событию.
Вот как обернулось это дело. Васисуалий Андреевич по-прежнему забывал тушить свет в помещении общего пользования. Да и мог ли он помнить о таких мелочах быта, когда ушла жена, когда остался он без копейки, когда не было еще точно уяснено все многообразное значение русской интеллигенции? Мог ли он думать, что жалкий бронзовый светишко восьмисвечовой лампы вызовет в соседях такое большое чувство? Сперва его предупреждали по нескольку раз в день. Потом прислали письмо, составленное Митричем и подписанное всеми жильцами. И, наконец, перестали предупреждать и уже не слали писем. Лоханкин еще не постигал значительности происходящего, но уже смутно почудилось ему, что некое кольцо готово сомкнуться.
Во вторник вечером прибежала тети-Пашина девчонка и одним духом отрапортовала:
– Они последний раз говорят, чтоб тушили.
Но как-то так случилось, что Васисуалий Андреевич снова забылся, и лампочка продолжала преступно светить сквозь паутину и грязь. Квартира вздохнула. Через минуту в дверях лоханкинской комнаты показался гражданин Гигиенишвили. Он был в голубых полотняных сапогах и в плоской шапке из коричневого барашка.
– Идем, – сказал он, маня Васисуалия пальцем.
Он крепко взял его за руку и повел по темному коридору, где Васисуалий Андреевич почему-то затосковал и стал даже легонько брыкаться, и ударом в спину вытолкнул его на середину кухни. Уцепившись за бельевые веревки, Лоханкин удержал равновесие и испуганно оглянулся. Здесь собралась вся квартира. В молчании стояла здесь Люция Францевна Пферд. Фиолетовые химические морщины лежали на властном лице ответственной съемщицы. Рядом с нею, пригорюнившись, сидела на плите пьяненькая тетя Паша. Усмехаясь, смотрел на оробевшего Лоханкина босой Никита Пряхин. С антресолей свешивалась голова ничьей бабушки. Дуня делала знаки Митричу. Бывший камергер двора улыбался, пряча что-то за спиной.
– Что? Общее собрание будет? – спросил Васисуалий Андреевич тоненьким голосом.
– Будет, будет, – сказал Никита Пряхин, приближаясь к Лоханкину. – Все тебе будет. Кофе тебе будет, какава! Ложись! – закричал он вдруг, дохнув на Васисуалия не то водкой, не то скипидаром.
– В каком смысле ложись? – спросил Васисуалий Андреевич, начиная дрожать.
– А что с ним говорить, с нехорошим человеком, – сказал гражданин Гигиенишвили. И, присев на корточки, принялся шарить по талии Лоханкина, отстегивая подтяжки.
– На помощь! – шепотом сказал Васисуалий, устремляя безумный взгляд на Люцию Францевну.
– Свет надо было тушить, – сурово ответила гражданка Пферд.
– Мы не буржуи – электрическую энергию зря жечь, – добавил камергер Митрич, окуная что-то в ведро с водой.
– Я не виноват, – запищал Лоханкин, вырываясь из рук бывшего князя, а ныне трудящегося Востока.
– Все не виноваты, – бормотал Никита Пряхин, придерживая трепещущего жильца.
– Я же ничего такого не сделал.
– Все ничего такого не сделали.
– У меня душевная депрессия.
– У всех душевная.
– Вы не смеете меня трогать. Я малокровный.
– Все, все малокровные.
– От меня жена ушла! – надрывался Васисуалий.
– У всех жена ушла, – отвечал Никита Пряхин.
– Давай, давай, Никитушко, – хлопотливо молвил камергер Митрич, вынося к свету мокрые, блестящие розги, – за разговорами до свету не справимся.
Васисуалия Андреевича положили животом на пол. Ноги его молочно засветились. Гигиенишвили размахнулся изо всей силы, и розга тонко пискнула в воздухе.
– Мамочка! – завизжал Васисуалий.
– У всех мамочка! – наставительно сказал Никита, прижимая Лоханкина коленом.
И тут Васисуалий вдруг замолчал.
«А может, так надо, – подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. – Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва».
И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького!» – Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.
Последним взял розги Митрич.
– Дай-кось, я попробую, – сказал он, занося руку. – Надаю ему лозанов по филейным частям.
Но Лоханкину не пришлось отведать камергерской лозы. В дверь черного хода постучали. Дуня бросилась открывать. (Парадный ход «Вороньей слободки» был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната.)
– Васисуалий Андреевич, вас незнакомый мужчина спрашивает, – сказала Дуня как ни в чем не бывало.
И все действительно увидели стоявшего в дверях незнакомого мужчину в белых джентльменских брюках. Васисуалий Андреевич живо вскочил, поправил свой туалет и с ненужной улыбкой обратил лицо к вошедшему Бендеру.
– Я вам не помешал? – учтиво спросил великий комбинатор, щурясь.
– Да, да, – пролепетал Лоханкин, шаркая ножками, – видите ли, тут я был, как бы вам сказать, немножко занят… Но… кажется… я уже освободился?..
И он искательно посмотрел по сторонам. Но в кухне уже не было никого, кроме тети Паши, заснувшей на плите во время экзекуции. На дощатом полу валялись отдельные прутики и белая полотняная пуговица с двумя дырочками.
– Пожалуйте ко мне.
– А может быть, я вас все-таки отвлек? – спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. – Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в. уд.»?
– Совершенно верно, – оживился Васисуалий, – прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. Пятьдесят рублей в месяц.
– Торговаться я не стану, – вежливо сказал Остап, – но вот соседи… Как они?
– Прекрасные люди, – ответил Васисуалий, – и вообще все удобства. И цена дешевая.
– Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?
– Ах, – сказал Лоханкин проникновенно, – ведь, в конце концов, кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.
– Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?
– Из пятого, – ответил Лоханкин.
– Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне все равно. Живите, как хотите. Завтра я к вам переезжаю.
– А задаток? – спросил бывший гимназист.
– Вы не в церкви, вас не обманут, – веско сказал великий комбинатор. – Будет и задаток. С течением времени.
Первое свидание
Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобного рода учреждения, вошел к себе, его смутил господствовавший в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцыми ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола. Даже картина «Явление Христа народу» и та покосилась набок, потерявши в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов.
Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу, на бульваре, лепетали гуляющие, перемалывался под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватером ревел и чего-то требовал невидимый пароход, вероятно, просился в гавань.
Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»
– Не поделились? – спросил Бендер, задергивая портьеру.
Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.
– Ну, довольно, – молвил Остап, – не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так вы говорите, с ним была девушка? Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане… вы, кажется, уже посчитали? Сколько там? Ого! Десять тысяч! Жалованье господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю.
– Я хотел честно, – сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, – по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.
И, разложив деньги на четыре кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:
– Вам, мне, ему и Козлевичу.
– Очень хорошо, – заметил Остап. – А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал большой королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна – большая, из чистых новеньких бумажек, вторая – такая же, но из бумажек погрязнее, и третья – маленькая и совсем грязная.
– Нам с вами по четыре тысячи, – сказал он Бендеру, – а Балаганову две. Он и на две не наработал.
– А Козлевичу? – спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.
– За что же Козлевичу? – завизжал Паниковский. – Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича.
– Все? – спросил великий комбинатор.
– Все, – ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. – Какой может быть в этот момент Козлевич?
– А теперь буду делить я, – по-хозяйски сказал Остап.
Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку, а коробочку засунул в карман белых брюк.
– Все эти деньги, – заключил он, – будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Вам нравится такой способ дележки?
– Нет, не нравится! – вырвалось у Паниковского.
– Бросьте шутить, Бендер! – недовольно сказал Балаганов. – Надо разделить по справедливости.
– Этого не будет, – холодно сказал Остап. – И вообще, в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь.
Паниковский всплеснул старческими лиловатыми ладонями. Он с ужасом посмотрел на великого комбинатора, отошел в угол и затих. Изредка только сверкал оттуда золотой зуб нарушителя конвенции.
У Балаганова сразу сделалось мокрое, как бы сварившееся на солнце лицо.
– Зачем же мы работали? – сказал он, отдуваясь. – Так нельзя. Это… объясните…
– Вам, – вежливо сказал Остап, – любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. В мои четыреста честных способов отъема денег ограбление не входит, как-то не укладывается. И потом, мы прибыли сюда не за десятью тысячами. Этих тысяч мне лично нужно по крайней мере пятьсот.
– Зачем же вы послали нас? – спросил Балаганов, остывая. – Мы старались…
– Иными словами, вы хотите спросить, известно ли достопочтенному командору, с какой целью он предпринял последнюю операцию? На это отвечу – да, известно. Дело в том…
В эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с криком «А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком собранного каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место и продолжал:
– Дело в том, Шура, что это была проверка. У служащего с сорокарублевым жалованьем оказалось в кармане десять тысяч рублей, что несколько странно и дает нам большие шансы, позволяет, как говорят марафоны и беговые жуки, надеяться на куш. Пятьсот тысяч – это, безусловно, куш. И получим мы его так. Я возвращу Корейко десять тысяч, и он их возьмет. Хотел бы я видеть человека, который не взял бы назад своих денег. И вот тут ему придет конец. Его погубит жадность. И едва только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все. И тут, Шура, на сцену появится некая тарелочка с каемкой…
– Правильно! – воскликнул Балаганов. – Замечательно!
В углу плакал Паниковский.
– Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, – я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
– Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там вам помогут.
– Меня никто не любит, – продолжал Паниковский, содрогаясь.
– А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет о вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»
– Не говорите так! – закричал перепугавшийся Паниковский. – Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.
– Вы лучше скажите, будете служить или нет? Последний раз спрашиваю.
– Буду, – ответил Паниковский, утирая медленные стариковские слезы.
Ночь, ночь, ночь лежала над всей страной.
В Черноморском порту легко поворачивались краны, спуская стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев, и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием для Тракторостроя. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере взошла Краснопутиловская звезда, за нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо.
И молодой человек, засидевшись с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал:
– Посмотри, вон красный огонек. Там будет Сибкомбайн. Мы поедем туда. Хочешь?
И любимая тихо смеялась, высвобождая руки.
Ночь, ночь, ночь, как уже было сказано, лежала над всей страной. Стонал во сне монархист Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде, на верхней полке, храпел инженер Талмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад жалованья. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване Васисуалий Лоханкин, потирая рукой пострадавшие места. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала «Водопроводное дело» загадочную картинку: «Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции?» При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и Паниковский, уже известно. И только о Козлевиче, водителе и собственнике «Антилопы-Гну», ничего сейчас не будет сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политичного свойства.
Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. По дороге он задирал молочниц, ибо час этих оборотистых женщин уже наступил, в то время как час служащих еще не начинался, и мурлыкал слова романса: «И радость первого свиданья мне не волнует больше кровь». Великий комбинатор немного кривил душой. Первое свиданье с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом № 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь.
Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Он был в сетке-безрукавке и успел уже надеть брюки мелкого служащего. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в дореволюционное время в сиротских приютах и тому подобных организациях, состоявших под покровительством императрицы Марии Федоровны. Здесь находились три предмета: железная лазаретная кроватка, кухонный стол с дверцами, снабженными деревянной щеколдой, какой обычно запираются дачные сортиры, и облезший венский стул. В углу лежали гантели и среди них две большие гири, утеха тяжелоатлета.
При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед.
– Гражданин Корейко? – спросил Остап, лучезарно улыбаясь.
– Я, – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти.
– Александр Иванович? – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее.
– Точно так, – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно.
После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти.
Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано «играть быстро», на второй – «очень быстро», на третьей – «гораздо быстрее», на четвертой – «быстро как только возможно», а все-таки на пятой – «еще быстрее».
Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу.
– А ведь я к вам с поручением, – сказал он, становясь серьезным.
– Пожалуйста, пожалуйста, – заметил Александр Иванович, также затуманившись.
– Хотим вас обрадовать.
– Любопытно будет узнать.
И, безмерно грустя, Бендер полез в карман. Корейко следил за его действиями с совсем уже похоронным лицом. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал:
– Ровно десять тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении.
– Вы ошиблись, товарищ, – сказал Корейко очень тихо, – какие десять тысяч? Какая расписка?
– Как какая? Ведь вас вчера ограбили.
– Меня никто не грабил.
– Да как же не ограбили? – взволновался Остап. – Вчера у моря. И забрали десять тысяч. Грабители арестованы. Пишите расписку.
– Да ей-богу же, меня никто не грабил, – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. – Тут явная ошибка.
Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал.
– Значит, вас не ограбили?
– Никто меня не грабил.
– И десять тысяч у вас не брали?
– Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?
– Верно, верно, – сказал Остап, поостыв. – Откуда у мелкого служащего такая уйма денег?.. Значит, у вас все в порядке?
– Все, – ответил миллионер с чарующей улыбкой.
– И желудок в порядке? – спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
– В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек.
– И тяжелые сны вас не мучат?
– Нет, не мучат.
Дальше по части улыбок все пошло совсем как у Листа: быстро, очень быстро, гораздо быстрее, быстро как только возможно и даже еще быстрее. Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
– Фуражечку милицейскую не забудьте, – говорил Александр Иванович. – Она на столе осталась.
– Не ешьте на ночь сырых помидоров, – советовал Остап, – чтоб не причинить вреда желудку.
– Всего хорошего, – говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
– До свидания, до свидания, – ответствовал Остап, – интересный вы человек. Все у вас в порядке. С таким счастьем – и на свободе.
И, все еще неся на лице ненужную улыбку, великий комбинатор выскочил на улицу. Несколько кварталов он прошел скорым шагом, позабыв о том, что на голове его сидит официальная фуражка с гербом города Киева, совершенно неуместным в городе Черноморске. И, только очутившись в толпе почтенных стариков, гомонивших напротив крытой веранды нарпитовской столовой № 68, он опомнился и принялся спокойно взвешивать шансы.
Пока он предавался своим размышлениям, рассеянно прогуливаясь взад и вперед, старики продолжали заниматься ежедневным своим делом.
Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы. И, уж конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой № 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду», местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о «порто-франко» до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе «Флорида».
– Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа?
– О-о, Бернсторф – это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. – А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?
– Ну, о чем говорить. Сноуден – это голова. Слушайте, Валиадис, – обращался он к третьему старику в панаме. – Что вы скажете насчет Сноудена?
– Я скажу вам откровенно, – отвечала панама, – Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
– Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно – Чемберлен все-таки тоже голова.
Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен все-таки тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
– Бриан! – говорили они с жаром. – Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы…
– Скажу вам откровенно, мосье Фунт, – шептал Валиадис, – все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?
Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
– При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш – это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы их и будем покупать.
При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.
– Бриан – это голова, – сказали все, вздыхая. – Бенеш тоже голова.
Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. Привязной галстук его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.
– А я вам говорю, – кричал старик в ухо великому комбинатору, – что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку. Слышите?
Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.
– Гувер – это голова! – неслось ему вдогонку. – Гинденбург – это голова!..
К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, – ни один из них не подходил к данной ситуация. И Остап придумал четыреста первый способ.
«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, – думал он, – придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у подзащитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, деньги огромные. Итак, ввиду недоговоренности сторон, заседание продолжается».
Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками.
– Ну? – спросили в один голос истомленные желанием Балаганов и Паниковский.
Остап молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись:
«Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено ……… го дня 193… г.».
– Что там внутри? – спросил любопытный Паниковский.
– О! – сказал Остап. – Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, жена-графиня, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги.
И он раскрыл пустую папку перед изумленными антилоповцами.
Рога и копыта
Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами, галстуками, подвязками и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сжевал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила:
– Что случилось, Боря?
– Несчастье, – ответил он, запихивая в рот твердое резиновое яйцо. – Меня ужасно обложили. Ты даже себе не можешь представить!
– Почему же ты так много ешь?
– Мне надо развлечься, – отвечал частник. – Мне страшно.
И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было восемь штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно.
На другой день он сдал полмагазина под торговлю писчебумажными принадлежностями. Теперь в одной витрине помещались галстуки и подтяжки, а в другой висел на двух веревочках огромный желтый карандаш.
Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился третий совладелец. Это был часовых дел мастер, потеснивший карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел, кроме постылого карандашника, еще и часовщик с воткнутой в глаз черной лупой.
Еще дважды посетило галантерейщика rope-злосчастье. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от Рождества Христова население Черноморска набросится на его товар – крахмальные воротнички.
И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид:

Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл Павиайнен стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б. Культуртригер спросить покупательницу: «Что вы хотели?» – как водопроводчик Фанатюк с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар.
В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл Павиайнен уехал на извозчике во мглу, увозя свой несозвучный эпохе товар. За ним канули в небытие Галантпром и Канцбум, за которыми гнались конные фининспектора. Фанатюк спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое время». Гофрированные железные шторы со стуком упали. Исчезла и занятная вывеска.
Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом частников появилась небольшая опрятная таблица:
ЧЕРНОМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АРБАТОВСКОЙ КОНТОРЫ
ПО ЗАГОТОВКЕ РОГОВ И КОПЫТ
Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденские плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное учреждение уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тоненько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал:
Что за времена теперь настали,
Что за времена теперь настали.
В бога верить перестали,
В бога верить перестали.
За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, ударял толстым негнущимся пальцем по клавише и заливался смехом. В самой глубине конторы, под табличкой «начальник отделения», сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы.
Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в «Вороньей слободке» у Васисуалия Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному – одинокому интеллигентному холостяку. «Мон дье, Васисуалий Андреевич, – отвечал Остап беззаботно, – не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено!» На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн готт, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда». И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в «Вороньей слободке», и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отливает керосин из чужих примусов. Митрич не преминул сделать Остапу какое-то въедливое замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь.
Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам.
– Следствие по делу Корейко, – говорил Остап, – может поглотить много времени. Сколько – знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Ужасное положение. Может быть – год, а может быть – и месяц. Во всяком случае, нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности! Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая мастичная печать.
Деньги, от которых Корейко отрекся и которые щепетильный Остап счел возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал дележки, в наказание за что был назначен на низкооплачиваемую и унизительную для его свободолюбивой натуры должность курьера. Балаганову достался ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в девяносто два рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «е», и ее пришлось заменить буквой «э». Поэтому первое же отношение, отправленное Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так:
«Отпуститэ податэлю сэго курьэру т. Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлэжностэй в крэдит за счэт Правлэния в городе Арбатов.
ПРИЛОЖЭНИЭ: бэз приложэний».
– Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! – сердился Остап. – Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом! Значит, я начальник отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!
Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покупками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьер и уполномоченный только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило полтораста рублей (разумеется, в кредит, за счет мифического правления). Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вытребованный Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленьи рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя Адама Казимировича.
На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес восемь пакетов и, покалякав с курьером Паниковским о том о сем, ушел. В пакетах же оказалось: три повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещания и заседания, причем все три повестки подчеркивали, что явка обязательна; в остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о представлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке.
– Что это такое?! – кричал Остап. – Еще три дня тому назад я был свободный горный орел-стервятник, трещал крыльями где хотел, а теперь пожалуйте – явка обязательна! Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами.
Через два часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком.
– Рога кто будет принимать? – спросил он, сваливая кладь на пол.
Великий комбинатор со страхом посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением.
– А товар хороший? – осторожно спросил начальник отделения.
– Да ты посмотри, рожки какие! – загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. – Рожки первый сорт. Согласно кондиций.
Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе естественное раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.
– Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, – сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, – не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом.
Повесив на стеклянную дверь табличку «Перерыв на обед», начальник отделения вынул из шкафа папку, в которой якобы заключалось синее море и белый пароход, и, ударив по ней ладонью, сказал:
– Вот над чем будет работать наша контора. Сейчас в этом «деле» нет ни одного листка, но мы найдем концы, если для этого придется даже командировать Паниковского и Балаганова в каракумские пески или куда-нибудь в Кременчуг за следственным материалом.
В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучовом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо.
– Закрыто, закрыто! – поспешно крикнул Остап. – Заготовка копыт временно прекращена!
Однако старик продолжал делать руками знаки. Если бы Остап не впустил старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, и беспечному уполномоченному по копытам, и еще многим людям, в том числе некоему восточному мудрецу, внучке старого ребусника, знаменитому общественнику, начальнику «Геркулеса», а также большому числу советских и иностранных граждан.
Но Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Слышны были только короткие свистки, которые время от времени подавал его бледный нос. Когда сотрудники конторы решили, что посетитель уже никогда не заговорит, и стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и низким голосом сказал:
– Моя фамилия – Фунт. Фунт.
– И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждения, закрытые на обед? – весело сказал Бендер.
– Вот вы смеетесь, – ответил старик, – а моя фамилия – Фунт. Мне девяносто лет.
– Что же вам угодно? – спросил Остап, начиная терять терпение.
Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время.
– У вас контора, – сказал он наконец.
– Да, да, контора, – подбадривал Остап. – Дальше, дальше!
Но старик только поглаживал себя рукой по колену.
– Вы видите на мне эти брюки? – промолвил он после долгого молчания. – Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на пасху, а теперь я ношу их каждый день.
И, несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих. Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до трех минут. Для людей, не привыкших к этой особенности Фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу.
– Вам не нужен председатель? – спросил старик.
– Какой председатель? – воскликнул Бендер.
– Официальный. Одним словом, глава учреждения.
– Я сам глава.
– Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.
– Я – Фунт, – повторил он с чувством. – Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия – страдать за других.
– Ах, вы подставное лицо?
– Да, – сказал старик, с достоинством тряся головой. – Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. При Александре Втором – «Освободителе», при Александре Третьем – «Миротворце», при Николае Втором – «Кровавом».
И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
– При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!
Эта короткая речь длилась сравнительно недолго – полчаса. Слушая Фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал:
– Сразу видно человека с раньшего времени! Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!
И он любезно подал старику кружку сладкого чаю. Остап перетащил зицпредседателя за свой начальнический стол, велел закрыть контору и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника, отдавшего жизнь за други своя. Зицпредседатель говорил с удовольствием. Если бы он не отдыхал так долго между фразами, можно было бы даже сказать, что он трещит без умолку.
– Вы не знаете такого Корейко, Александра Ивановича? – спросил Остап, взглянув на папку с ботиночными тесемками.
– Не знаю, – ответил старик. – Такого я не знаю.
– А с «Геркулесом» у вас были дела?
При слове «Геркулес» зицпредседатель чуть пошевелился. Этого легкого движения Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший Фунта издавна, например Валиадис, то он подумал бы: «Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя».
Как Фунт может не знать «Геркулеса», если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением! Вокруг «Геркулеса» кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получал от «Геркулеса» большой аванс на заготовку чего-то лесного – зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр», разумеется, под председательством благообразного Фунта. Разумеется, аванс в «Геркулесе» на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах, кто-то разбогател, а Фунт отрабатывает председательскую ставку – сидит. Потом «Пилопомощь» – «Геркулес» – аванс – крах – кто-то загреб – отсидка. И снова аванс – «Геркулес» – «Южный лесорубник» – для Фунта отсидка – кому-то куш.
– Кому же? – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. – Кто фактически руководил?
Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
– Кто его знает? – сказал он горестно. – От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть, в этом моя профессия. Я сидел при Александре Втором, и при Третьем, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском. И при нэпе, и до угара нэпа, и во время угара, и после угара. А сейчас я без работы и должен носить пасхальные брюки.
Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал Фунта плечом, будил его и даже щекотал под мышками. После всех этих ухищрений ему удалось узнать, что, по мнению Фунта, за всеми лопнувшими обществами и товариществами, несомненно, скрывалось какое-то одно лицо. Что же касается «Геркулеса», то у него выдоили не одну сотню тысяч.
– Во всяком случае, – добавил ветхий зицпредседатель, – во всяком случае, этот неизвестный человек – голова. Вы знаете Валиадиса? Валиадис этому человеку пальца в рот не положил бы.
– А Бриану? – спросил Остап, с улыбкой вспомнив собрание пикейных жилетов у бывшего кафе «Флорида». – Положил бы Валиадис палец в рот Бриану? Как вы думаете?
– Ни за что! – ответил Фунт. – Бриан – это голова.
Три минуты он беззвучно двигал губами, а потом добавил:
– Гувер – это голова. И Гинденбург – голова. Гувер и Гинденбург – это две головы.
Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо-де-Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зицпредседателя от международных дел. Остап быстро этим воспользовался.
– Но с кем-нибудь из «Геркулеса» вы все-таки виделись? – спросил он. – По авансовым делам?
– Со мною имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. Он у них был на жалованье. А я ничего не знаю. От меня все скрывали. Я нужен людям для сидения. Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. Бриан – это голова.
Из старика больше ничего нельзя было выжать. Но и то, что было сказано, давало возможность начать поиск.
«Тут чувствуется лапа Корейко, – думал Остап, – а если даже это и не он, то фигура достаточно емкая».
Начальник Черноморского отделения Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт присел за стол и перенес речь зицпредседателя Фунта на бумагу. Рассуждения о взаимоотношениях Валиадиса и Бриана он опустил.
Первый лист подпольного следствия о подпольном миллионере был занумерован, проколот в надлежащих местах и подшит к делу.
– Ну что, будете брать председателя? – спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. – Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.
– Пожалуй, возьмем, – сказал Остап. – Подайте заявление уполномоченному по копытам.
Ярбух Фюр психоаналитик
Рабочий день в финансово-счетном отделе «Геркулеса» начался, как обычно, ровно в девять часов.
Уже Кукушкинд поднял полу пиджака, чтобы протереть ею стекла своих очков, а заодно сообщить сослуживцам, что работать в банкирской конторе «Сикоморский и Цесаревич» было не в пример спокойнее, чем в геркулесовском содоме; уже Тезоименицкий повернулся на своем винтовом табурете к стене и протянул руку, чтобы сорвать листок календаря, уже Лапидус-младший разинул рот на кусок хлеба, смазанный форшмаком из селедки, – когда дверь растворилась и на пороге ее показался не кто иной, как бухгалтер Берлага.
Это неожиданное антре вызвало в финсчетном зале замешательство. Тезоименицкий поскользнулся на своей винтовой тарелочке, и календарный листок, впервые, может быть, за три года, остался несорванным. Лапидус-младший, позабыв укусить бутерброд, вхолостую задвигал челюстями. Дрейфус, Чеважевская и Сахарков безмерно удивились. Корейко поднял и опустил голову. А старик Кукушкинд быстро надел очки, позабыв протереть их, чего с ним за тридцать лет служебной деятельности никогда не случалось.
Берлага как ни в чем не бывало уселся за свой стол и, не отвечая на тонкую усмешку Лапидуса-младшего, раскрыл свои книги.
– Как здоровье? – спросил все-таки Лапидус. – Пяточный нерв?
– Все прошло, – отвечал Берлага, не поднимая головы, – я даже не верю, что такой нерв есть у человека.
До обеденного перерыва весь финсчет ерзал на своих табуретах и подушечках, томимый любопытством. И когда прозвучал авральный звонок, цвет счетоводного мира окружил Берлагу. Но беглец почти не отвечал на вопросы. Он отвел в сторону четырех самых верных и, убедившись, что поблизости нет никого лишнего, рассказал им о своих необыкновенных похождениях в сумасшедшем доме. Свой рассказ беглый бухгалтер сопровождал множеством заковыристых выражений и междометий, которые здесь опущены в целях связности повествования.
РАССКАЗ БУХГАЛТЕРА БЕРЛАГИ,
сообщенный им под строжайшим секретом
Борисохлебскому, Дрейфусу, Сахаркову
и Лапидусу-младшему, о том, что случилось с ним
в сумасшедшем доме.
Как уже сообщалось, бухгалтер Берлага бежал в сумасшедший дом, опасаясь чистки. В этом лечебном заведении он рассчитывал пересидеть тревожное время и вернуться в «Геркулес», когда гром утихнет и восемь товарищей с серенькими глазами перекочуют в соседнее учреждение.
Все дело сварганил шурин. Он достал книжку о нравах и привычках душевнобольных, и после долгих споров из всех навязчивых идей был выбран бред величия.
– Тебе ничего не придется делать, – втолковывал шурин, – ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!», или «Я Эмиль Золя!», или: «Магомет!», если хочешь.
– А вице-королем Индии можно? – доверчиво спросил Берлага.
– Можно, можно! Сумасшедшему все можно! Значит – вице-король Индии?
Шурин говорил так веско, словно бы по меньшей мере состоял младшим ординатором психбольницы. На самом же деле это был скромный агент по распространению роскошных подписных изданий Госиздата, и от прошлого коммерческого величия в его сундучке сохранился только венский котелок на белой шелковой подкладке.
Шурин побежал к телефону вызывать карету, а новый вице-король Индии снял толстовку, разодрал на себе мадеполамовую сорочку и на всякий случай вылил на голову бутылочку лучших копировальных железисто-галлусовых чернил первого класса. Потом он лег животом на пол и, дождавшись санитаров, принялся выкрикивать:
– Я не более как вице-король Индии! Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?
Слушая этот бред величия, шурин с сомнением качал головой. На его взгляд, абреки и кунаки не входили в сферу действий индийского короля. Но санитары только вытерли мокрым платком лицо бухгалтера, измазанное чернилами первого класса, и, дружно взявшись, всадили его в карету. Хлопнули лаковые дверцы, раздался тревожный медицинский гудок, и автомобиль умчал вице-короля Берлагу в его новые владения.
По дороге больной размахивал руками и что-то болтал, не переставая со страхом думать о первой встрече с настоящими сумасшедшими. Он очень боялся, что они будут его обижать, а может быть, даже побьют.
Больница оказалась совсем иной, чем представлял ее Берлага. В длинном светлом покое сидели на диванах, лежали на кроватях и прогуливались люди в голубоватых халатах. Бухгалтер заметил, что сумасшедшие друг с другом почти не разговаривают. Им некогда разговаривать. Они думают. Они думают все время. У них множество мыслей, надо что-то вспомнить, вспомнить самое главное, от чего зависит счастье. А мысли разваливаются и, самое главное, вильнув хвостиком, исчезают. И снова надо все обдумать, понять, наконец, что же случилось, почему стало все плохо, когда раньше все было хорошо.
Мимо Берлаги уже несколько раз прошел безумец, нечесаный и несчастный. Охватив пальцами подбородок, он шагал по одной линии от окна к двери, от двери к окну, опять к двери, опять к окну. И столько мыслей грохотало в его бедной голове, что он прикладывал другую руку ко лбу и ускорял шаги.
– Я вице-король Индии! – крикнул Берлага, оглянувшись на санитара.
Безумец даже не посмотрел в сторону бухгалтера. Болезненно морщась, он снова принялся собирать мысли, разбежавшиеся от дикого крика Берлаги. Но зато к вице-королю подошел низкорослый идиот и, доверчиво обняв его за талию, сказал несколько слов на птичьем языке.
– Что? – искательно спросил перепугавшийся Берлага.
– Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба, – явственно произнес новый знакомый.
Сказавши «ой», Берлага отошел от идиота. Произведя эту эволюцию, он приблизился к человеку с лимонной лысиной.
Тот сейчас же отвернулся к стене и опасливо посмотрел на бухгалтера.
– Где мои магараджи? – спросил его Берлага, чувствуя необходимость поддержать репутацию сумасшедшего.
Но тут больной, сидевший на кровати в глубине покоя, поднялся на тоненькие и желтые, как церковные свечи, ноги и страдальчески закричал:
– На волю! На волю! В пампасы!
Как бухгалтер узнал впоследствии, в пампасы просился старый учитель географии, по учебнику которого в свое время юный Берлага знакомился с вулканами, мысами и перешейками. Географ сошел с ума совершенно неожиданно: однажды он взглянул на карту обоих полушарий и не нашел на ней Берингова пролива. Весь день старый учитель шарил по карте. Все было на месте: и Ньюфаундленд, и Суэцкий канал, и Мадагаскар, и Сандвичевы острова с главным городом Гонолулу, и даже вулканы Попокатепетль, а Берингов пролив отсутствовал. И тут же, у карты, старик тронулся3. Это был добрый сумасшедший, не причинявший никому зла, но Берлага отчаянно струсил. Крик надрывал его душу.
– На волю! – продолжал кричать географ. – В пампасы! На волю!
Он лучше всех на свете знал, что такое воля. Он был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди даже и не подозревают. Ему хотелось на волю, хотелось скакать на потном мустанге сквозь заросли.
В палату вошла молодая докторша с жалобными голубыми глазами и направилась прямо к Берлаге.
– Ну, как вы себя чувствуете, голубчик? – спросила она, притрагиваясь теплой рукой к пульсу бухгалтера. – Ведь вам лучше, не правда ли?
– Я вице-король Индии! – отрапортовал он, краснея. – Отдайте мне любимого слона.
– Это у вас бред, – ласково сказала докторша, – вы в лечебнице, мы вас вылечим.
– О-о-о! Мой слон! – вызывающе крикнул Берлага.
– Но ведь вы поймите, – еще ласковей сказала докторша, – вы не вице-король, все это бред, понимаете, бред?
– Нет, не бред, – возразил Берлага, знавший, что первым делом нужно упрямиться.
– Нет, бред.
– Нет, не бред!
– Бред!
– Не бред!
Бухгалтер, видя, что железо горячо, стал его ковать. Он толкнул добрую докторшу и издал протяжный вопль, взбудораживший всех больных, в особенности маленького идиота, который сел на пол и, пуская слюни, сказал:
– Эн, ден, труакатр, мадмазель Журоватр.
И Берлага с удовлетворением услышал за своей спиной голос докторши, обращенный к санитару:
– Нужно будет перевести его к тем трем, не то он нам всю палату перепугает.
Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. Толстый мужчина скатился с кровати, быстро стал на четвереньки и, высоко подняв обтянутый, как мандолина, зад, принялся отрывисто лаять и разгребать паркет задними лапами в больничных туфлях. Другой завернулся в одеяло и начал выкрикивать: «И ты, Брут, продался большевикам!» Этот человек, несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем. Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: «Я Генрих-Юлий Циммерман!»
– Уйдите! Я голая! – зарычал третий. – Не смотрите на меня! Мне стыдно! Я голая женщина!
Между тем он был одет и был мужчиной с усами.
Санитары ушли. Вице-королем Индии овладел такой ужас, что он и не думал уже выставлять требования о срочном возврате любимого слона, магараджей, верных наибов, а также загадочных абреков и кунаков.
«Эти в два счета придушат!» – думал он, леденея. И он горько пожалел о том, что наскандалил в тихой палате. Так хорошо было бы сейчас сидеть у ног доброго учителя географии и слушать нежный лепет маленького идиота «Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба». Однако ничего особенно страшного не произошло. Человек-собака тявкнул еще несколько раз и, ворча, взобрался на свою кровать. Кай Юлий сбросил с себя одеяло, отчаянно зевнул и потянулся всем телом. Женщина с усами закурил трубку, и сладкий запах табака «Наш кепстен» внес в мятежную душу Берлаги успокоение.
– Я вице-король Индии! – заявил он, осмелев.
– Молчи, сволочь! – лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямотой римлянина добавил: – Убью! Душу выну!
Это замечание храбрейшего из императоров и воинов отрезвило беглого бухгалтера. Он спрятался под одеяло и, грустно размышляя о своей полной тревог жизни, задремал.
Утром сквозь сон бухгалтер Берлага услышал странные слова:
– Посадили психа на нашу голову. Так было хорошо втроем и вдруг… Возись теперь с ним! Чего доброго, этот вице-король всех нас перекусает.
По голосу Берлага определил, что слова эти произнес Кай Юлий Цезарь. Через некоторое время, открыв глаза, он увидел, что на него с выражением живейшего интереса смотрит человек-собака.
«Конец, – подумал вице-король, – сейчас укусит!»
Но человек-собака неожиданно всплеснул руками и спросил человечьим голосом:
– Скажите, вы не сын Фомы Берлаги?
– Сын, – ответил бухгалтер и, спохватившись, сейчас же завопил: – Отдайте несчастному вице-королю его верного слона!
– Посмотрите на меня, – пригласил человек-дворняга. – Неужели вы меня не узнаете?
– Михаил Александрович! – воскликнул прозревший бухгалтер. – Вот встреча!
И вице-король сердечно расцеловался с человеком-собакой. При этом они с размаху ударились лбами, произведя бильярдный стук. Слезы стояли на глазах Михаила Александровича.
– Значит, вы не сумасшедший? – спросил Берлага. – Чего ж вы дурака валяли?
– А вы чего дурака валяли? Тоже! Слонов ему подавай! И потом, должен вам сказать, друг Берлага, что вице-король для хорошего сумасшедшего – это слабо, слабо, слабо.
– А мне шурин сказал, что можно, – опечалился Берлага.
– Возьмите, например, меня, – сказал Михаил Александрович, – тонкая игра. Человек-собака! Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и притом, заметьте, Берлага, сумеречное состояние души. Вы думаете, мне это легко далось? Я работал над источниками. Вы читали книгу профессора Блейлера «Аутистическое мышление»?
– Н-нет, – ответил Берлага голосом вице-короля, с которого сорвали орден Подвязки и разжаловали в денщики.
– Господа! – закричал Михаил Александрович. – Он не читал книги Блейлера! Да не бойтесь, идите сюда! Он такой же король, как вы – Цезарь.
Двое остальных питомцев небольшой палаты для лиц с неправильным поведением приблизились.
– Вы не читали Блейлера? – спросил Кай Юлий. – Позвольте! По каким же материалам вы готовились?
– Он, наверно, выписывал немецкий журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик», – высказал предположение неполноценный усач.
Берлага стоял как оплеванный. А знатоки так и сыпали мудреными выражениями из области теории и практики психоанализа. Все сошлись на том, что Берлаге придется плохо и что главный врач Титанушкин, возвращения которого из командировки ожидали со дня на день, разоблачит его в пять минут. О том, что возвращение Титанушкина наводило тоску на них самих, они не распространялись.
– Может быть, можно переменить бред? – трусливо спрашивал Берлага. – Что, если я буду Эмиль Золя или Магомет?
– Поздно, – сказал Кай Юлий, – уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля. Мы сидим здесь уже неделю и знаем порядки.
Через час Берлага узнал во всех подробностях подлинные истории болезней своих соседей по палате.
Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай недоплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске. Дуванов, так звали мужчину, выдававшего себя за женщину, был, как видно, мелкий вредитель, который не без основания опасался ареста. Но совсем не таков был Кай Юлий Цезарь, значившийся в паспорте бывшим присяжным поверенным И. Н. Старохамским.
Кай Юлий Старохамский пошел в сумасшедший дом по высоким идейным соображениям.
– В Советской России, – говорил он, драпируясь в одеяло, – сумасшедший дом – это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное – это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти, по крайней мере, не строят социализма. Потом, здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова…
Увидев проходящего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:
– Да здравствует учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! – И, обернувшись к Берлаге, добавил: – Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице.
Весь день и большую часть ночи четверо больных с неправильным поведением резались в «шестьдесят шесть» без двадцати и сорока, игру хитрую, требующую самообладания, смекалки, чистоты духа и ясности мышления.
Утром вернулся из командировки профессор Титанушкин. Он быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогли ни книга Блейлера, ни сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом, ни «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.
И они побежали по улице, расталкивая прохожих локтями. Впереди шествовал Кай Юлий. За ним поспешали женщина-мужчина и человек-собака. Позади всех плелся развенчанный вице-король, проклиная шурина и с ужасом думая о том, что теперь будет.
Закончив эту поучительную историю, бухгалтер Берлага тоскливо посмотрел сначала на Борисохлебского, потом на Дрейфуса, потом на Сахаркова и, наконец, на Лапидуса-младшего, головы которых, как ему показалось, соболезнующе качаются в полутьме коридора.
– Вот видите, чего вы добились своими фантазиями, – промолвил жестокосердый Лапидус-младший, – вы хотели избавиться от одной чистки, а попали в другую. Теперь вам плохо придется. Раз вас вычистили из сумасшедшего дома, то из «Геркулеса» вас наверно вычистят.
Борисохлебский, Дрейфус и Сахарков ничего не сказали. И, ничего не сказавши, стали медленно уплывать в темноту.
– Друзья! – слабо вскрикнул бухгалтер. – Куда же вы!
Но друзья уже мчались во весь дух, и их сиротские брюки, мелькнув последний раз на лестнице, скрылись из виду.
– Нехорошо, Берлага, – холодно сказал Лапидус, – напрасно вы меня впутываете в свои грязные антисоветские плутни. Адье!
И вице-король Индии остался один.
Что же ты наделал, бухгалтер Берлага? Где были твои глаза, бухгалтер? И что сказал бы твой папа, Фома, если бы узнал, что сын его на склоне лет подался в вице-короли? Вот куда завели тебя, бухгалтер, твои странные связи с господином Фунтом, председателем многих акционерных обществ со смешанным и нечистым капиталом. Страшно даже подумать о том, что сказал бы старый Фома о проделках своего любимого сына. Но давно уже лежит Фома на втором христианском кладбище, под каменным серафимом с отбитым крылом, и только мальчики, забегающие сюда воровать сирень, бросают иногда нелюбопытный взгляд на гробовую надпись: «Твой путь окончен. Спи, бедняга, любимый всеми Ф. Берлага». А может быть, и ничего не сказал бы старик! Ну, конечно ж, ничего бы не сказал, ибо и сам вел жизнь не очень-то праведную. Просто посоветовал бы вести себя поосторожнее и в серьезных делах не полагаться на шурина. Да, черт знает что ты наделал, бухгалтер Берлага!
Тяжелое раздумье, охватившее экс-наместника Георга Пятого в Индии, было прервано криками, несшимися с лестницы:
– Берлага! Где он? Его кто-то спрашивает! А вот он стоит, пройдите, гражданин.
В коридоре показался уполномоченный по копытам. Гвардейски размахивая ручищами, Балаганов подступил к Берлаге и вручил ему повестку:
«Тов. Бэрлагэ. С получэниэм сэго просьба нэмэдлэнно явиться для выяснэния нэкоторых обстоятэльств».
Бумажка была снабжена штампом Черноморского отделения Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт и круглой печатью, содержание которой разобрать было бы трудновато, даже если бы Берлаге это пришло в голову. Но беглый бухгалтер был так подавлен свалившимися на него бедами, что только спросил:
– Домой позвонить можно?
– Чего там звонить, – хмуро сказал заведующий копытами.
Через два часа толпа, стоявшая у кино «Капиталий» в ожидании первого сеанса и от нечего делать глазевшая по сторонам, заметила, что из дверей конторы по заготовке рогов вышел человек и, хватаясь за сердце, медленно пошел прочь. Это был бухгалтер Берлага. Сперва он вяло передвигал ноги, потом постепенно начал ускорять ход. Завернув за угол, бухгалтер незаметно перекрестился и побежал очертя голову. Вскоре он сидел уже за своим столом в финсчетном зале и ошалело глядел в «главную книгу». Цифры взвивались и переворачивались в его глазах.
Великий комбинатор захлопнул папку с «делом Корейко», посмотрел на Фунта, который сидел под новой надписью «председатель правления», и сказал:
– Когда я был очень молод, очень беден и кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой – необъяснимый феномен природы, – то и тогда я не опускался до таких моральных низин, как этот пошлый Берлага.
– Жалкий, ничтожный человек, – подтвердил Паниковский, разнося чай по столам. Ему было приятно сознание того, что на свете есть люди еще более мелкие, чем он сам.
– Берлага – это не голова, – сообщил зицпредседатель со свойственной ему неторопливостью. – Макдональд – это голова. Его идея классового мира в промышленности…
– Хватит, хватит, – сказал Бендер. – Мы назначим специальное заседание, чтобы выяснить ваши взгляды на Макдональда и других буржуазных деятелей. Сейчас мне некогда. Берлага – это действительно не голова, но кое-что он нам сообщил из жизни и деятельности самовзрывающихся акционерных обществ.
Внезапно великому комбинатору стало весело. Все шло отлично. Вонючих рогов никто больше не приносил. Работу черноморского отделения можно было считать удовлетворительной, хотя очередная почта доставила в контору кучу новых отношений, циркуляров и требований, и Паниковский уже два раза бегал на биржу труда за конторщицей.
– Да! – закричал вдруг Остап. – Где Козлевич? Где «Антилопа»? Что за учреждение без автомобиля? Мне на заседание нужно ехать. Все приглашают, без меня жить не могут. Где Козлевич?
Паниковский отвел глаза и со вздохом сказал:
– С Козлевичем нехорошо.
– Как это – нехорошо? Пьян, что ли?
– Хуже, – ответил Паниковский, – мы даже боялись вам говорить. Его охмурили ксендзы.
При этом курьер посмотрел на уполномоченного по копытам, и оба они грустно покачали головами.
Блудный сын возвращается домой
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.
– Я сам склонен к обману и шантажу, – говорил он, – сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковно-славянском языке. Я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
И покуда Балаганов и Паниковский, перебивая друг друга, рассказывали о злой участи, постигшей водителя «Антилопы», мужественное сердце Остапа переполнялось гневом и досадой.
Ксендзы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где, среди пароконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок, в навозной каше стояла «Антилопа». Ксендз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив «Антилопу», служитель культа обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он поговорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедовался уже лет двадцать. Сказав: «Нехорошо, нехорошо, пан Козлевич», ксендз Кушаковский ушел, приподнимая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи.
На другой день, ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко Кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по пятнадцать человек в одну фуру, ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз – Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский поднимал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. Несколько раз ксендзы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на машину.
Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине «Антилопы» перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о царствии небесном. Это подтверждал и Балаганов. Потом он стал надолго пропадать и, наконец, вовсе съехал со двора.
– Почему же вы мне не доложили? – возмутился великий комбинатор.
Они хотели доложить, но они боялись гнева командора. Они надеялись, что Козлевич опомнится и вернется сам. Но теперь надежды потеряны. Ксендзы его окончательно охмурили. Еще не далее как вчера курьер и уполномоченный по копытам случайно встретили Козлевича. Он сидел в машине у подъезда костела. Они не успели к нему подойти. Из костела вышел ксендз Алоизий Морошек с мальчиком в кружевах.
– Понимаете, Бендер, – сказал Шура, – все кодло село в нашу «Антилопу», бедняга Козлевич снял шапку, мальчик позвонил в колокольчик, и они уехали. Прямо жалко было смотреть на нашего Адама. Не видать нам больше «Антилопы».
Великий комбинатор надел свою капитанскую фуражку с лакированным козырьком и направился к выходу.
– Фунт, – сказал он, – вы остаетесь в конторе. Рогов и копыт не принимать ни под каким видом. Если будет почта, сваливайте в корзину. Конторщица потом разберется. Понятно?
Когда зицпредседатель открыл рот для ответа, что произошло ровно через пять минут, осиротевшие антилоповцы были уже далеко. В голове процессии, делая гигантские шаги, несся командор. Он изредка оборачивал голову назад и бормотал: «Не уберегли нежного Козлевича, меланхолики! Всех дезавуирую! Ох уж мне это черное и белое духовенство!» Бортмеханик шел молча, делая вид, что нарекания относятся не к нему. Паниковский прыгал, как обезьяна, подогревая чувство мести к похитителям Козлевича, хотя на душе у него лежала большая холодная лягушка. Он боялся черных ксендзов, за которыми он признавал многие волшебные свойства.
В таком порядке все отделение по заготовке рогов и копыт прибыло к подножию костела. Перед железной решеткой, сплетенной из спиралей и крестов, стояла пустая «Антилопа». Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость. Он застревал в горле. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах, вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Остап залез в автомобиль, потянул носом воздух и с отвращением сказал:
– Фу! Мерзость! Наша «Антилопа» уже пропахла свечками, кружками на построение храма и ксендзовскими сапожищами. Конечно, разъезжать с требами на автомобиле приятнее, чем на извозчике. К тому же даром! Ну, нет, дорогие батюшки, наши требы поважней.
С этими словами Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы на расчерченном мелом асфальте, поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассаженные по квадратикам барельефные святые обменивались воздушными поцелуями, или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстеньких книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буковки. Великий комбинатор дернул дверь, но она не поддалась. Изнутри неслись кроткие звуки фисгармонии.
– Охмуряют! – крикнул Остап, спускаясь с лестницы. – Самый охмуреж идет! Под сладкий лепет мандолины.
– Может быть, уйдем? – спросил Паниковский, вертя в руках шляпу. – Все-таки храм божий. Неудобно.
Но Остап, не обращая на него внимания, подошел к «Антилопе» и принялся нетерпеливо надавливать грушу. Он играл матчиш до тех пор, пока за толстыми дверьми не послышалось бренчание ключей. Антилоповцы задрали головы. Дверь растворилась на две половины, и веселые святые в своих дубовых квадратиках медленно отъехали вглубь. Из темноты портала выступил на высокую светлую паперть Адам Казимирович. Он был бледен. Его кондукторские усы отсырели и плачевно свисали из ноздрей. В руках он держал молитвенник. С обеих сторон его поддерживали ксендзы. С левого бока – ксендз Кушаковский, с правого – ксендз Алоизий Морошек. Глаза патеров были затоплены елеем.
– Алло, Козлевич! – крикнул Остап снизу. – Вам еще не надоело?
– Здравствуйте, Адам Казимирович! – развязно сказал Паниковский, прячась, однако, за спину командора.
Балаганов приветственно поднял руку и скорчил рожу, что, как видно, значило: «Адам, бросьте ваши шутки!»
Тело водителя «Антилопы» сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с обеих сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошека, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился.
И началась великая борьба за бессмертную душу шофера.
– Эй, вы, херувимы и серафимы, – сказал Остап, вызывая врагов на диспут, – бога нет!
– Нет, есть, – возразил ксендз Алоизий Морошек, заслоняя своим телом Козлевича.
– Это просто хулиганство, – забормотал ксендз Кушаковский.
– Нету, нету, – продолжал великий комбинатор, – и никогда не было. Это медицинский факт.
– Я считаю этот разговор неуместным, – сердито заявил Кушаковский.
– А машину забирать – это уместно? – закричал нетактичный Балаганов. – Адам! Они просто хотят забрать «Антилопу».
Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел на ксендзов. Ксендзы заметались и, свистя шелковыми сутанами, попробовали увести Козлевича назад. Но он уперся.
– Как же все-таки будет с богом? – настаивал великий комбинатор.
Ксендзам пришлось начать дискуссию. Дети перестали прыгать на одной ножке и подошли поближе.
– Как же вы утверждаете, что бога нет, – начал Алоизий Морошек задушевным голосом, – когда все живое создано им!..
– Знаю, знаю, – сказал Остап, – я сам старый католик и латинист. Пуэр, соцер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер!
Эти латинские исключения, зазубренные Остапом в третьем классе частной гимназии Илиади и до сих пор бессмысленно сидевшие в его голове, произвели на Козлевича магнетическое действие. Душа его присоединилась к телу, и в результате этого объединения шофер робко двинулся вперед.
– Сын мой, – сказал Кушаковский, с ненавистью глядя на Остапа, – вы заблуждаетесь, сын мой. Чудеса господни свидетельствуют…
– Ксендз! Перестаньте трепаться! – строго сказал великий комбинатор. – Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка!
Диспут продолжался в таком же странном роде. Неубедительные, но веселые доводы Остапа влияли на Козлевича самым живительным образом. На щеках шофера забрезжил румянец, и усы его постепенно стали подниматься кверху.
– Давай, давай! – неслись поощрительные возгласы из-за спиралей и крестов решетки, где уже собралась немалая толпа любопытных. – Ты им про римского папу скажи, про крестовый поход!
Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошека. Это была последняя капля. Услышав о страшной судьбе Галилея, Адам Казимирович быстро положил молитвенник на ступеньку и упал в широкие, как ворота, объятия Балаганова. Паниковский терся тут же, поглаживая блудного сына по шероховатым щекам. В воздухе висели счастливые поцелуи.
– Пан Козлевич! – застонали ксендзы. – Доконд пан иде? Опамянтайся, пан!
Но герои автопробега уже усаживались в машину.
– Вот видите, – крикнул Остап опечаленным ксендзам, занимая командорское место, – я же говорил вам, что бога нету. Научный факт. Прощайте, ксендзы! До свидания, патеры!
Сопровождаемая одобрительными криками толпы, «Антилопа» отъехала, и вскоре жестяные флаги и черепичные скаты костела скрылись из глаз. На радостях антилоповцы остановились у пивной лавки.
– Вот спасибо, братцы, – говорил Козлевич, держа в руке тяжелую кружку. – Совсем было погиб. Охмурили меня ксендзы. В особенности Кушаковский. Ох и хитрый же, черт. Верите ли, поститься заставлял. Иначе, говорит, на небо не попаду.
– Небо! – сказал Остап. – Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарии, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции.
После восьмой кружки Козлевич потребовал девятую, высоко поднял ее над головой и, пососав свой кондукторский ус, восторженно спросил:
– Нет бога?
– Нет, – ответил Остап.
– Значит, нету? Ну, будем здоровы.
Так и пил после этого, произнося перед каждой новой кружкой:
– Есть бог? Нету? Ну, будем здоровы!
Паниковский пил наравне со всеми, но о боге не высказывался. Он не хотел впутываться в это спорное дело.
С возвращением блудного сына и «Антилопы» Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт приобрело недостававший ей блеск. У дверей бывшего комбината пяти частников теперь постоянно дежурила машина. Конечно, ей было далеко до голубых «бьюиков» и длиннотелых «линкольнов», было ей далеко даже до фордовских кареток, но все же это была машина, автомобиль, экипаж, как говорил Остап, который при всех своих недостатках способен, однако, иногда двигаться по улицам без помощи лошадей.
Остап работал с увлечением. Если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то надо полагать, что мундштучное и гребеночное дело было бы обеспечено сырьем по крайней мере до конца текущего бюджетного столетия. Но начальник конторы занимался совсем другим. Оторвавшись от Фунта и Берлаги, сообщения которых были очень интересны, но непосредственно к Корейко пока не вели, Остап вознамерился в интересах дела сдружиться с Зосей Синицкой и между двумя вежливыми поцелуями под ночной акацией провентилировать вопрос об Александре Ивановиче, и не столько о нем, сколько о его денежных делах. Но длительное наблюдение, проведенное уполномоченным по копытам, показало, что между Зосей и Корейко любви нет и что последний, по выражению Шуры, даром топчется.
– Где нет любви, – со вздохом комментировал Остап, – там о деньгах говорить не принято. Отложим девушку в сторону.
И в то время как Корейко с улыбкой вспоминал о жулике в милицейской фуражке, который сделал жалкую попытку третьесортного шантажа, начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле и находил людей и людишек, о которых миллионер-конторщик давно забыл, но которые хорошо помнили его самого. Несколько раз Остап беседовал с Москвой, вызывая к телефону знакомого частника, известного доку по части коммерческих тайн. Теперь в контору приходили письма и телеграммы, которые Остап живо выбирал из общей почты, по-прежнему изобиловавшей пригласительными повестками, требованиями на рога и выговорами по поводу недостаточно энергичной заготовки копыт. Кое-что из этих писем и телеграмм пошло в папку с ботиночными тесемками.
В конце июля Остап собрался в командировку, на Кавказ. Дело требовало личного присутствия великого комбинатора в небольшой виноградной республике. В день отъезда начальника в отделении произошло скандальное происшествие. Паниковский, посланный с тридцатью рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, без билета и без денег. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, только выворачивал карманы, которые повисли у него, как бильярдные лузы, и беспрерывно хохотал. Все его смешило: и гнев командора, и укоризненный взгляд Балаганова, и самовар, доверенный его попечениям, и Фунт, с нахлобученной на нос панамой, дремавший за своим столом. Когда же Паниковский взглянул на оленьи рога, гордость и украшение конторы, его прошиб такой смех, что он свалился на пол и вскоре заснул с радостной улыбкой на фиолетовых устах.
– Теперь у нас самое настоящее учреждение, – сказал Остап, – есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания.
В отсутствие Остапа под окнами конторы несколько раз появлялись Алоизий Морошек и Кушаковский. При виде ксендзов Козлевич прятался в самый дальний угол учреждения. Ксендзы открывали дверь, заглядывали внутрь и тихо звали:
– Пан Козлевич! Пан Козлевич! Чы слышишь глос ойца небеснэго? Опамянтайся, пан!
При этом ксендз Кушаковский поднимал к небу палец, а ксендз Алоизий Морошек перебирал четки. Тогда навстречу служителям культа выходил Балаганов и молча показывал им огненный кулак. И ксендзы уходили, печально поглядывая на «Антилопу».
Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовывающегося парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.
В Черноморском отделении, кроме конторщицы, нанятой еще при Остапе, сидели два молодых человека в сапогах. Это были студенты, присланные из животноводческого техникума для прохождения практического стажа.
– Вот и хорошо! – сказал Остап кисло. – Смена идет. Только у меня, дорогие товарищи, придется поработать. Вы, конечно, знаете, что рога, то есть выросты, покрытые шерстью или твердым роговым слоем, являются придатками черепа и встречаются главным образом у млекопитающих?
– Это мы знаем, – решительно сказали студенты, – нам бы практику пройти.
От студентов пришлось избавиться сложным и довольно дорогим способом.
Великий комбинатор послал их в командировку в калмыцкие степи для организации заготовительных пунктов. Это обошлось конторе в шестьсот рублей, но другого выхода не было: студенты помешали бы закончить удачно продвигавшееся дело. Когда Паниковский узнал, в какую сумму обошлись студенты, он отвел Балаганова в сторону и раздражительно прошептал:
– А меня не посылают в командировку. И отпуска не дают. Мне нужно ехать в Ессентуки, лечиться. И выходных у меня нету, и спецодежды не дают. Нет, Шура, мне эти условия не подходят. И вообще, я узнал, в «Геркулесе» ставки выше. Пойду туда курьером. Честное, благородное слово, пойду.
Вечером Остап снова вызвал к себе Берлагу.
– На колени! – крикнул Остап голосом Николая Первого, как только увидел бухгалтера.
Тем не менее разговор носил дружеский характер и длился два часа.
После этого Остап приказал подать «Антилопу» на следующий день в десять часов утра к подъезду «Геркулеса».
На суше и на море
Товарищ Скумбриевич явился на пляж, держа в руках именной портфель. К портфелю была прикована серебряная визитная карточка с загнутым углом и длиннейшим курсивом, из которого явствовало, что Егор Скумбриевич уже успел отпраздновать пятилетний юбилей службы в «Геркулесе».
Лицо у него было чистое, прямое, мужественное, как у бреющегося англичанина на рекламном плакате. Скумбриевич постоял у щита, где отмечалась мелом температура воды, и, с трудом высвобождая ноги из горячего песка, пошел выбирать местечко поудобнее.
Лагерь купающихся был многолюден. Его легкие постройки возникали по утрам, чтобы с заходом солнца исчезнуть, оставив на песке городские отходы: увядшие дынные корки, яичную скорлупу и газетные лоскутья, которые потом всю ночь ведут на пустом берегу тайную жизнь, о чем-то шуршат и летают под скалами.
Скумбриевич пробрался между шалашиками из вафельных полотенец, зонтиками и простынями, натянутыми на палки, поглядывая на девушек в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них ограничивались только фиговыми листиками, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов. Делалось это для того, чтобы с носов не слезала кожа. Устроившись так, мужчины лежали в самых свободных позах. Изредка, прикрывши рукой библейское место, они входили в воду, окунались и быстро бежали на свои продавленные в песке ложа, чтобы не потерять ни одного кубического сантиметра целительной солнечной ванны.
Недостаток одежды у этих граждан с лихвой возмещал джентльмен совершенно иного вида. Он разлегся на солнцепеке в стороне от общей массы купающихся. Он был в хромовых ботинках с пуговицами, визиточных брюках, черном, наглухо застегнутом пиджаке, при воротничке, галстуке и часовой цепочке, а также в фетровой шляпе. Толстые усы и оконная вата в ушах дополняли облик джентльмена. Рядом с ним торчала палка со стеклянным набалдашником, перпендикулярно воткнутая в песок.
Зной томил его. Воротничок разбух от пота. Под мышками у джентльмена было горячо, как в домне; там можно было плавить руду. Но он продолжал неподвижно лежать.
На любом пляже мира можно встретить одного такого человека. Кто он такой, почему пришел сюда, почему лежит в полном обмундировании – ничего не известно. Но такие люди есть – по одному на каждый пляж. Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков, или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или недорезанные коммивояжеры, или же ополоумевшие холостяки, – кто знает…
Егор Скумбриевич расположился рядом с членом лиги дураков и живо разделся. Голый Скумбриевич был разительно не похож на Скумбриевича одетого. Суховатая голова англичанина сидела на белом дамском теле с отлогими плечами и очень широким тазом. Егор подошел к воде, попробовал ее ногой и взвизгнул. Потом опустил в воду вторую ногу и снова взвизгнул. Затем он сделал несколько шагов вперед, заткнул большими пальцами уши, указательными закрыл глаза, средними прищемил ноздри, испустил душераздирающий крик и окунулся четыре раза подряд. Только после этого он поплыл вперед наразмашку, отворачивая голову при каждом взмахе руки. И мелкая волна приняла на себя Егора Скумбриевича – примерного геркулесовца и выдающегося общественного работника. Через пять минут, когда уставший общественник перевернулся на спину и его круглое глобусное брюхо закачалось на поверхности моря, с обрыва над пляжем послышался антилоповский матчиш.
Из машины вышли Остап Бендер, Балаганов и бухгалтер Берлага, на лице которого выражалась полная покорность судьбе. Все трое спустились вниз и, бесцеремонно разглядывая физиономии купающихся, принялись кого-то разыскивать.
– Это его брюки, – сказал наконец Берлага, останавливаясь перед одеждами ничего не подозревавшего Скумбриевича. – Он, наверно, далеко заплыл.
– Хватит! – воскликнул великий комбинатор. – Больше ждать я не намерен. Приходится действовать не только на суше, но и на море.
Он скинул костюм и рубашку, под которыми оказались купальные трусы, и, размахивая руками, полез в воду. На груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, изображавшая Наполеона в треугольной шляпе с пивной кружкой в короткой руке.
– Балаганов! – крикнул Остап уже из воды. – Разденьте и приготовьте Берлагу! Он, может быть, понадобится!
И великий комбинатор поплыл на боку, раздвигая воды медным плечом и держа курс на северо-северо-восток, где маячил перламутровый живот Егора Скумбриевича.
Прежде чем погрузиться в морскую пучину, Остапу пришлось основательно поработать на континенте. В папку с надписью «Дело Корейко» лезли все новые лица. Магистральный след завел великого комбинатора под золотые буквы «Геркулеса», и он большую часть времени проводил в этом учреждении. Его уже не удивляли комнаты с альковами и умывальниками, статуи, бездельничавшие на лестничных площадках, и швейцар в фуражке с золотым зигзагом, любивший потолковать об огненном погребении.
Из сумбурных объяснений отчаянного Берлаги выплыла полуответственная фигура товарища Скумбриевича. Он занимал большой двухоконный номер, в котором когда-то останавливались заграничные капитаны, укротители львов или богатые студенты из Киева. В комнате часто и раздражительно звонили телефоны, иногда отдельно, а иногда оба сразу. Но никто не снимал трубок. Еще чаще раскрывалась дверь, стриженая служебная голова, просунувшись в комнату, растерянно поводила очами и исчезала, чтобы тотчас же дать место другой голове, но уже не стриженой, а поросшей жесткими патлами или попросту голой и сиреневой, как луковица. Но и луковичный череп ненадолго застревал в дверной щели. Комната была пуста.
Когда дверь открылась, быть может, в пятидесятый раз за этот день, в комнату заглянул Бендер. Он, как и все, повертел головой слева направо и справа налево и, как все, убедился в том, что товарища Скумбриевича в комнате нету. Дерзко выражая свое недовольство, великий комбинатор побрел по отделам, секциям, секторам и кабинетам, спрашивая, не видел ли кто товарища Скумбриевича. И во всех этих местах получал одинаковый ответ: «Скумбриевич только что здесь был» или «Скумбриевич минуту назад вышел».
Полуответственный Егор принадлежал к многолюдному виду служащих, которые или «только что здесь были», или «минуту назад вышли». Некоторые из них в течение целого служебного дня не могут даже добраться до своего кабинета. Ровно в девять часов такой человек входит в учрежденческий вестибюль и, полный благих намерений, заносит ножку на первую ступень лестницы. Его ждут великие дела. Он назначил у себя в кабинете восемь важных рандеву, два широких заседания и одно узкое. На письменном столе лежит стопка бумаг, требующих немедленного ответа. Вообще, дел многое множество, суток не хватает. И полуответственный или ответственный гражданин бодро заносит ножку на мраморную ступень. Но опустить ее не так-то легко. «Товарищ Парусинов, на одну минуту, – слышится воркующий голос, – как раз я хотел проработать с вами один вопросик». Парусинова мягко берут под ручку и отводят в уголок вестибюля. И с этого момента ответственный или полуответственный работник погиб для страны – он пошел по рукам. Не успеет он проработать вопросик и пробежать три ступеньки, как его снова подхватывают, уводят к окну, или в темный коридор, или в какой-нибудь пустынный закоулок, где неряха завхоз набросал пустые ящики, и что-то ему втолковывают, чего-то добиваются, на чем-то настаивают и просят что-то провернуть в срочном порядке. К трем часам дня он все-таки добирается до первой лестничной площадки. К пяти часам ему удается прорваться даже на площадку второго этажа. Но так как он обитает на третьем этаже, а служебный день уже окончился, он быстро бежит вниз и покидает учреждение, чтобы успеть на срочное междуведомственное совещание. А в это время в кабинете надрываются телефоны, рушатся назначенные рандеву, переписка лежит без ответа, а члены двух широких заседаний и одного узкого безучастно пьют чай и калякают о трамвайных неполадках.
У Егора Скумбриевича все эти особенности были чрезвычайно обострены общественной работой, которой он отдавался с излишней горячностью. Он умело и выгодно использовал взаимный и всесторонний обман, который как-то незаметно прижился в «Геркулесе» и почему-то носил название общественной нагрузки.
Геркулесовцы сидели на собрании по три часа кряду, слушая унизительную болтовню Скумбриевича.
Им всем очень хотелось схватить Егора за толстенькие ляжки и выбросить из окна с порядочной высоты. Временами им казалось даже, что никакой общественной деятельности вообще не существует и никогда не существовало, хотя они и знали, что за стенами «Геркулеса» есть какая-то другая, правильная общественная жизнь. «Вот скотина, – думали они, тоскливо вертя в руках карандаши и чайные ложечки, – симулянт проклятый!» Но придраться к Скумбриевичу, разоблачить его было не в их силах. Егор произносил правильные слова о советской общественности, о культработе, о профучебе и о кружках самодеятельности. За всеми этими горячими словами ничего не было. Пятнадцать кружков, политических и музыкально-драматических, вырабатывали уже два года свои перспективные планы; ячейки добровольных обществ, имевшие своей целью споспешествовать развитию авиации, химических знаний, автомобилизма, конного спорта, дорожного дела, связи с деревней и узниками капитала, а также скорейшему уничтожению неграмотности, беспризорности, религии, пьянства и великодержавного шовинизма, существовали только в воспаленном воображении членов месткома. А школа профучебы, собрание которой Скумбриевич ставил себе в особенную заслугу, все время перестраивалась, что, как известно, обозначает полную бездеятельность. Если бы Скумбриевич был честным человеком, он, вероятно, сам сказал бы, что вся эта работа ведется «в порядке миража». Но в месткоме этот мираж облекался в отчеты, а в следующей профсоюзной инстанции существование музыкально-политических кружков тоже не вызывало никаких сомнений. Школа же профучебы рисовалась там в виде большого каменного здания, в котором стоят парты, бойкий учитель выводит мелом на доске кривую роста безработицы в Соединенных Штатах, а усатые ученики политически растут прямо на глазах. Из всего вулканического кольца общественной деятельности, которым Скумбриевич охватил «Геркулес», действовали только две огнедышащие точки: стенная газета «Голос председателя», выходившая раз в месяц и делавшаяся в часы занятий силами Скумбриевича и Бомзе, и фанерная доска с надписью: «Бросившие пить и вызывающие других», под которой, однако, не значилась ни одна фамилия.
Погоня за Скумбриевичем по этажам «Геркулеса» осточертела Бендеру. Великий комбинатор никак не мог настигнуть славного общественника. Он ускользал из рук. Вот здесь, в месткоме, он только что говорил по телефону, еще горяча была мембрана и с черного лака телефонной трубки еще не сошел туман его дыхания. Вот тут, на подоконнике, еще сидел человек, с которым он только что разговаривал. Один раз Остап увидел даже отражение Скумбриевича в лестничном зеркале. Он бросился вперед, но зеркало тотчас же очистилось, отражая лишь окно с далеким облаком.
– Матушка-заступница, милиция-троеручица! – воскликнул Остап, переводя дыхание. – Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм. В нашем Черноморском отделении тоже есть свои слабые стороны, всякие там неполадки в пробирной палатке, но такого, как в «Геркулесе»!.. Верно, Шура?
Уполномоченный по копытам испустил тяжелый насосный вздох. И они снова очутились в прохладном коридоре второго этажа, где успели побывать за этот день раз пятнадцать. И снова, в пятнадцатый раз, они прошли мимо деревянного дивана, стоявшего у полыхаевского кабинета.
На диване с утра сидел выписанный из Германии за большие деньги немецкий специалист, инженер Генрих-Мария Заузе. Он был в обыкновенном европейском костюме, и только украинская рубашечка, расшитая запорожским узором, указывала на то, что инженер пробыл в России недели три и уже успел посетить магазин кустарных изделий. Он сидел неподвижно, откинув голову на деревянную спинку дивана и прикрыв глаза, как человек, которого собираются брить. Могло бы показаться, что он дремлет. Но молочные братья, не раз пробегавшие мимо него в поисках Скумбриевича, успели заметить, что краски на неподвижном лице заморского гостя беспрестанно меняются. К началу служебного дня, когда инженер занял позицию у дверей Полыхаева, лицо его было румяным в меру. С каждым часом оно все разгоралось и к перерыву для завтрака приобрело цвет почтового сургуча. По всей вероятности, товарищ Полыхаев добрался к этому времени лишь до второго лестничного марша. После перерыва смена красок пошла в обратном порядке. Сургучный цвет перешел в какие-то скарлатинные пятна, Генрих-Мария стал бледнеть и к середине дня, когда начальнику «Геркулеса», по-видимому, удалось прорваться ко второй площадке, лицо иностранного специалиста стало крахмально-белым.
– Что с этим человеком делается! – шепнул Балаганову Остап. – Какая гамма переживаний!
Едва он успел произнести эти слова, как Генрих-Мария Заузе подскочил на диване и злобно посмотрел на полыхаевскую дверь, за которой слышались холостые телефонные звонки. «Wolokita!» – взвизгнул он дискантом и, бросившись к великому комбинатору, стал изо всей силы трясти его за плечи.
– Геноссе Полыхаев! – кричал он, прыгая перед Остапом. – Геноссе Полыхаев!
Он вынимал часы, совал их под нос Балаганову, поднимал плечи и опять набрасывался на Бендера.
– Вас махен зи? – ошеломленно спросил Остап, показывая некоторое знакомство с немецким языком. – Вас воллен зи от бедного посетителя?
Но Генрих-Мария Заузе не отставал. Продолжая держать левую руку на плече Бендера, правой рукой он подтащил к себе поближе Балаганова и произнес перед ними большую страстную речь, во время которой Остап нетерпеливо смотрел по сторонам в надежде поймать Скумбриевича, а уполномоченный по копытам негромко икал, почтительно прикрывая рот рукой и бессмысленно глядя на ботинки иностранца.
Инженер Генрих-Мария Заузе подписал контракт на год работы в СССР, или, как определял сам Генрих, любивший точность, в концерне «Геркулес». «Смотрите, господин Заузе, – предостерегал его знакомый доктор математики Бернгард Гернгросс, – за свои деньги большевики заставят вас поработать». Но Заузе объяснил, что работы не боится и давно уже ищет широкого поля для применения своих знаний в области механизации лесного хозяйства.
Когда Скумбриевич доложил Полыхаеву о приезде иностранного специалиста, начальник «Геркулеса» заметался под своими пальмами.
– Он нам нужен до зарезу! Вы куда его девали?
– Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.
– Какой там может быть отдых! – вскричал Полыхаев. – Столько денег за него плачено, валюты. Завтра же, ровно в десять, он должен быть здесь.
Без пяти минут десять Генрих-Мария Заузе, сверкая кофейными брюками и улыбаясь при мысли о широком поле деятельности, вошел в полыхаевский кабинет. Начальника еще не было. Не было его также через час и через два. Генрих начал томиться. Развлекал его только Скумбриевич, который время от времени появлялся и с невинной улыбкой спрашивал:
– Что, разве геноссе Полыхаев еще не приходил? Странно.
Еще через два часа Скумбриевич остановил в коридоре завтракавшего Бомзе и начал с ним шептаться:
– Прямо не знаю, что делать. Полыхаев назначил немцу на десять часов утра, а сам уехал в Москву хлопотать насчет помещения. Раньше недели не вернется. Выручите, Адольф Николаевич. У меня общественная нагрузка, профучебу вот никак перестроить не можем. Посидите с немцем, займите его как-нибудь. Ведь за него деньги плачены, валюта.
Бомзе в последний раз понюхал свою ежедневную котлетку, проглотил ее и, отряхнув крошки, пошел знакомиться с гостем.
В течение недели инженер Заузе, руководимый любезным Адольфом Николаевичем, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь. После заседания состоялась неофициальная часть, во время которой избранные геркулесовцы очень веселились, потрясали лафитничками, севастопольскими стопками и, обращаясь к Заузе, кричали «пейдодна».
«Дорогая Тили! – писал инженер своей невесте в Аахен, – вот уже десять дней я живу в Черноморске, но к работе в концерне «Геркулес» еще не приступил. Боюсь, что эти дни у меня вычтут из договорных сумм».
Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полумесячное жалованье.
– Не кажется ли вам, – сказал Генрих своему новому другу Бомзе, – что мне заплатили деньги зря? Ведь я не выполняю никакой работы!
– Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! – вскричал Адольф Николаевич. – Впрочем, если хотите, можно поставить вам специальный стол в моем кабинете.
После этого Заузе писал письма своей невесте, сидя за специальным собственным столом:
«Милая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Все это меня удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это покажется ему интересным».
Приехавший из Москвы Полыхаев, узнав, что у Заузе уже есть стол, обрадовался.
– Ну, вот и прекрасно, – сказал он, – пусть Скумбриевич введет немца в курс дела.
Но Скумбриевич, со всем своим пылом отдавшийся организации мощного кружка гармонистов-баянистов, сбросил немца Адольфу Николаевичу. Бомзе это не понравилось. Немец мешал ему закусывать и вообще лез не в свои дела, и Бомзе сдал его в эксплуатационный отдел. Но так как этот отдел в то время перестраивал свою работу, что заключалось в бесконечном перетаскивании столов с места на место, то Генриха-Марию сплавили в финсчетный зал. Здесь Арников, Дрейфус, Сахарков, Корейко и Борисохлебский, не владевшие немецким языком, решили, что Заузе иностранный турист из Аргентины, и по целым дням объясняли ему геркулесовскую систему бухгалтерии. При этом они употребляли азбуку для глухонемых.
Через месяц очень взволнованный Заузе поймал Скумбриевича в буфете и принялся кричать:
– Я не желаю получать деньги даром! Дайте мне работу! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону!
Конец речи иностранного специалиста не понравился Скумбриевичу. Он вызвал к себе Бомзе.
– Что с немцем? – спросил он. – Чего он бесится?
– Знаете что, – сказал Бомзе, – по-моему, он просто склочник. Ей-богу! Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется.
– Вот действительно склочная натура, – заметил Скумбриевич, – даром что немец. К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Полыхаеву. Тот его живо в бутылку загонит!
Однако Генрих-Мария решил сам пробиться к Полыхаеву. Но, ввиду того что начальник «Геркулеса» был видным представителем работников, которые «минуту тому назад вышли» или «только что здесь были», попытка эта привела только к сидению на деревянном диване и взрыву, жертвами которого стали невинные дети лейтенанта Шмидта.
– Бюрократизмус! – кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык.
Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:
– Сюда. Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать. Я не вынимаю, ты не вынимаешь…
Но тут великий комбинатор увидел в конце коридора широкие бедра Скумбриевича и, не докончив урока грамматики, побежал за неуловимым общественником.
– Держись, Германия! – поощрительно крикнул немцу Балаганов, устремляясь за командором.
Но, к величайшей досаде Остапа, Скумбриевич снова исчез, словно бы вдруг дематериализовался.
– Это уже мистика, – сказал Бендер, вертя головой, – только что был человек, и нет его!
Молочные братья в отчаянии принялись открывать все двери подряд. Но уже из третьей комнаты Балаганов выскочил, как из проруби. Лицо его невралгически скосилось на сторону.
– Ва-ва, – сказал уполномоченный по копытам, прислоняясь к стене, – ва-ва-ва.
– Что с вами, дитя мое? – спросил Бендер. – Вас кто-нибудь обидел?
– Там… – пробормотал Балаганов, протягивая дрожащую руку.
Остап открыл дверь и увидел черный гроб. Гроб покоился посреди комнаты на канцелярском столе с тумбами. Остап снял свою капитанскую фуражку и на носках подошел к гробу. Балаганов с боязнью следил за его действиями. Через минуту Остап поманил Балаганова и показал ему большую белую надпись, выведенную на гробовых откосах.
– Видите, Шура, что здесь написано? – сказал он. – «Смерть бюрократизму!» Теперь вы успокоились?
Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу. Обычно гроб поддерживали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Полыхаев, который был человеком демократической складки и не стыдился показываться рядом с подчиненными на различных шествиях и политкарнавалах. Скумбриевич очень уважал этот гроб и придавал ему большое значение. Иногда, навесив на себя фартук, Егор собственноручно перекрашивал гроб заново и освежал антибюрократические лозунги, в то время как в кабинете его хрипели и закатывались телефоны и разнообразнейшие головы, просунувшись в дверную щель, грустно поводили очами.
Егор так и не нашелся. Швейцар в фуражке с зигзагом сообщил Бендеру, что товарищ Скумбриевич минуту тому назад здесь был и только что ушел, уехал купаться на Комендантский пляж, что давало ему, как он говаривал, зарядку бодрости.
Прихватив на всякий случай Берлагу и растолкав дремавшего за рулем Козлевича, антилоповцы отправились за город.
Надо ли удивляться тому, что распаленный всем происшедшим Остап не стал медлить и полез за Скумбриевичем в воду, нисколько не смущаясь тем, что важный разговор о нечистых акционерных делах придется вести в Черном море.
Балаганов в точности исполнил приказание командора. Он раздел покорного Берлагу, подвел к воде и, придерживая его обеими руками за талию, принялся терпеливо ждать. В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова: «Интенсивник», «А кто брал? Папа римский брал?», «При чем тут я?» Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик:
– Можно пускать!
Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по-собачьи, колотя воду руками и ногами. При виде Берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой.
Между тем уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал:
– Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
– Выдал, гадюка? – добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:
– Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.
Вторым прибыл великий комбинатор. Он с размаху лег на живот и, прижавшись щекой к нагретому песку, долго и многозначительно смотрел на вылезавшего из воды синего Скумбриевича. Потом он принял из рук Балаганова папку и, смачивая карандаш языком, принялся заносить в дело добытые тяжелым трудом сведения.
Удивительное превращение произошло с Егором Скумбриевичем! Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника, такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: «Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает». А ведь подкачал Скумбриевич. И как подкачал! Мелкая летняя волна доставила на берег уже не дивное женское тело с головой бреющегося англичанина, а какой-то бесформенный бурдюк, наполненный горчицей и хреном.
В то время, покуда великий комбинатор пиратствовал на море, Генрих-Мария Заузе, подстерегший все-таки Полыхаева и имевший с ним весьма крупный разговор, вышел из «Геркулеса» в полном недоумении. Странно улыбаясь, он отправился на почтамт и там, стоя за конторкой, покрытой стеклянной доской, написал письмо невесте в город Аахен:
«Дорогая девочка. Спешу сообщить тебе радостную весть. Наконец-то мой патрон Полыхаев отправляет меня на производство. Но вот что меня поражает, дорогая Тили, – в концерне «Геркулес» это называется загнать в бутылку (sagnat w butilku). Мой новый друг Бомзе сообщил, что на производство меня посылают в виде наказания. Можешь ли ты себе это представить? И сможет ли это когда-нибудь понять наш добрый доктор математики Бернгард Гернгросс?»
Универсальный штемпель
К двенадцати часам следующего дня по «Геркулесу» пополз слух о том, что начальник заперся с каким-то посетителем в своем пальмовом зале и вот уже три часа не отзывается ни на стук Серны Михайловны, ни на вызовы по внутреннему телефону. Геркулесовцы терялись в догадках. Они привыкли к тому, что Полыхаева весь день водят под ручку в коридорах, усаживают на подоконник или затаскивают под лестницу, где и решаются все дела. Возникло даже предположение, что начальник отбился от категории работников, которые «только что вышли», и примкнул к влиятельной группе «затворников», которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, запираются там, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады.
А между тем работа шла, бумаги требовали подписей, ответов и резолюций. Серна Михайловна недовольно подходила к полыхаевской двери и прислушивалась. При этом в ее больших ушах раскачивались легкие жемчужные шарики. Но из пальмового зала шел ровный гул голосов.
– Факт, не имеющий прецедента, – глубокомысленно сказала секретарша.
– Но кто же, кто у него сидит? – спрашивал Бомзе, от которого несло смешанным запахом одеколона и котлет. – Может, кто-нибудь из инспекции?
– Да нет, говорю вам, обыкновенный посетитель.
– И Полыхаев сидит с обыкновенным посетителем уже три часа?
– Факт, не имеющий прецедента! – повторила Серна Михайловна.
– Где же выход из этого исхода? – взволновался Бомзе. – Мне срочно нужна резолюция Полыхаева! У меня подробный доклад о неприспособленности бывшего помещения «Жесть и бекон» к условиям работы «Геркулеса». Я не могу без резолюции.
Серну Михайловну со всех сторон осадили сотрудники. Все они держали в руках большие и малые бумаги. Прождав еще час, в продолжение которого гул за дверью не затихал, Серна Михайловна уселась за свой стол и кротко сказала:
– Хорошо, товарищи. Подходите с вашими бумагами.
Она извлекла из шкафа длинную деревянную стоечку, на которой покачивалось тридцать шесть штемпелей с толстенькими лаковыми головками, и, проворно вынимая из гнезд нужные печати, принялась оттискивать их на бумагах, не терпящих отлагательства.
Начальник «Геркулеса» давно уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, оттискивал против своего титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые наиболее употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на резину.
Так появились на свет первые каучуковые изречения:
«Не возражаю. Полыхаев».
«Согласен. Полыхаев».
«Прекрасная мысль. Полыхаев».
«Провести в жизнь. Полыхаев».
Проверив новое приспособление на практике, начальник «Геркулеса» пришел к выводу, что оно значительно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот раз резолюции были многословнее:
«Объявить выговор в приказе. Полыхаев».
«Поставить на вид. Полыхаев».
«Бросить на периферию. Полыхаев».
«Уволить без выходного пособия. Полыхаев».
Борьба, которую начальник «Геркулеса» вел с коммунотделом из-за помещения, вдохновила его на новые стандартные тексты:
«Я коммунотделу не подчинен. Полыхаев».
«Что они там, с ума посходили? Полыхаев».
«Не мешайте работать. Полыхаев».
«Я вам не ночной сторож. Полыхаев».
«Гостиница принадлежит нам – и точка. Полыхаев».
«Знаю я ваши штуки. Полыхаев».
«И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев».
Эта серия была заказана в трех комплектах. Борьба предвиделась длительная, и проницательный начальник не без оснований опасался, что с одним комплектом он не обернется.
Затем был заказан набор резолюций для внутригеркулесовских нужд.
«Спросите у Серны Михайловны. Полыхаев».
«Не морочьте мне голову. Полыхаев».
«Тише едешь – дальше будешь. Полыхаев».
«А ну вас всех! Полыхаев».
Творческая мысль Полыхаева не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция.
В ответ на ............................... мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением делопроизводительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит,
а также всем, что понадобится впредь.
Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента.
Постепенно Полыхаев разохотился и стал все чаще и чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки и бесчинства собственных сотрудников.
Например: «В ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, ответим…» Или: «В ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего внеочередной отпуск, ответим…» – и так далее.
И на все это надо было ответить повышением, увеличением, усилением, уничтожением, уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом, поголовным переводом, а также всем, что понадобится впредь.
И только отчитав таким образом Кукушкинда и Борисохлебского, начальник пускал в дело коротенькую резинку: «Поставить на вид. Полыхаев» или «Бросить на периферию. Полыхаев».
При первом знакомстве с резиновой резолюцией отдельные геркулесовцы опечалились. Их пугало обилие пунктов. В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество «Долой рутину с оперных подмостков».
Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда, размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «Долой Хованщину!», но этим все дело и ограничилось.
И покуда за полыхаевской дверью слышался вентиляторный рокот голосов, Серна Михайловна бойко работала. Стоечка со штемпелями, расположившимися по росту – от самого маленького «Не возражаю. Полыхаев» до самого большого – универсального, напоминала мудреный цирковой инструмент, на котором белый клоун с солнцем на заднице играет палочками серенаду Брага. Секретарша выбирала приблизительно подходящий по содержанию штемпель и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную резинку «Тише едешь – дальше будешь», памятуя, что это была любимейшая резолюция начальника.
Работа шла без задержки. Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев нисколько не уступал Полыхаеву живому.
Уже опустел «Геркулес» и босоногие уборщицы ходили по коридорам с грязными ведрами, уже ушла последняя машинистка, задержавшаяся на час, чтобы напечатать лично для себя стихи Есенина «Влача стихов злаченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать», уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась и, перед тем как выйти на улицу, стала массировать себе веки холодными пальцами, – когда дверь полыхаевского кабинета задрожала, отворилась и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемками. Вслед за ним из-под живительной тени пальм и сикомор вынырнул Полыхаев. Серна взглянула на своего высокого друга и без звука опустилась на квадратный матрасик, смягчавший жесткость ее стула. Как хорошо, что сотрудники уже разошлись и в эту минуту не могли видеть своего начальника. В усах у него, как птичка в ветвях, сидела алмазная слеза. Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. Он побежал за Остапом, позорно улыбаясь и выгибая стан.
– Что же будет? – бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. – Ведь я не погибну? Ну, скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну? Я могу быть спокоен?
Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону, но в горле его что-то само по себе пикнуло, и он промолчал.
Плачевно подвывая, он сопровождал Остапа до самого вестибюля. В опустевшем здании они встретили только двух человек. В конце коридора стоял Егор Скумбриевич. При виде великого комбинатора он схватился за челюсть и отступил в нишу. Внизу, на лестнице, из-за мраморной девушки с электрическим факелом выглядывал бухгалтер Берлага. Он раболепно поклонился Остапу и даже молвил «здравствуйте», но Остап не ответил на приветствие вице-короля.
У самого выхода Полыхаев схватил Остапа за рукав и пролепетал:
– Я ничего не утаил. Честное слово. Я могу быть спокоен? Правда?
– Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, – ответил Остап, не замедляя хода. – Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется.
Командор танцует танго
В маленьком буфете искусственных минеральных вод, на вывеске которого были намалеваны синие сифоны, сидели за белым столиком Балаганов и Паниковский. Уполномоченный по копытам жевал трубочку, следя за тем, чтобы крем не выдавливался с противоположного конца. Этот харч богов он запивал сельтерской водой с зеленым сиропом «Свежее сено». Курьер пил целебный кефир. Перед ним стояли уже шесть пустых бутылочек. Из седьмой Паниковский озабоченно вытряхивал в стакан густую жидкость. Сегодня в конторе новая письмоводительница платила жалованье по ведомости, подписанной Бендером, и друзья наслаждались прохладой, шедшей от итальянских каменных плит буфета, от несгораемого шкафа-ледника, где хранилась мокрая брынза, от потемневших цилиндрических баллонов с шипучей водой и от мраморного прилавка. Кусок льда выскользнул из шкафа и лежал на полу, истекая водой. На него приятно было взглянуть после утомительного вида улицы с короткими тенями, с прибитыми жарою прохожими и очумевшими от жажды псами.
– Хороший город Черноморск, – сказал Паниковский, облизываясь. – Кефир хорошо помогает от сердца.
Это сообщение почему-то рассмешило Балаганова. Он неосторожно прижал трубочку, и из нее выдавилась толстая колбаска крема, которую уполномоченный еле успел подхватить на лету.
– Знаете, Шура, – продолжал Паниковский, – я как-то перестал доверять Бендеру. Он что-то не то делает.
– Ну-ну! – угрожающе сказал Балаганов. – Тебя не спрашивали.
– Нет, серьезно, я очень уважаю Остапа Ибрагимовича, это такой человек!.. Даже Фунт, – вы знаете, как я уважаю Фунта, – сказал про Бендера, что это – голова. Но я вам скажу, Шура, Фунт – осел. Ей-богу, это такой дурак. Просто жалкая, ничтожная личность! А против Бендера я ничего не возражаю. Но мне кое-что не нравится. Вам, Шура, я все скажу как родному.
Со времени последней беседы с субинспектором уголовного розыска к Балаганову никто не обращался как к родному. Поэтому он с удовлетворением выслушал слова курьера и легкомысленно разрешил ему продолжать.
– Вы знаете, Шура, – зашептал Паниковский, – я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер – осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!..
– Но-но! – предостерегающе сказал Балаганов.
– При чем тут но-но! Вы только подумайте, на что он тратит наши деньги! Вы только вспомните. Зачем нам эта дурацкая контора? Сколько расходов! Одному Фунту мы платим сто двадцать. А конторщица! Теперь еще каких-то двух прислали, я видел – они сегодня жалованье по ведомости получали. Бронеподростки! Зачем это все? Он говорит – для легальности. Плевал я на легальность, если она стоит таких денег! А оленьи рога за шестьдесят пять рублей! А чернильница! А все эти дыросшиватели!..
Паниковский расстегнул пиджак, и полтинничная манишка, пристегнутая к шее нарушителя конвенции, взвилась вверх, свернувшись, как пергаментный свиток. Но Паниковский так разгорячился, что не обратил на это внимания.
– Да, Шура. Мы с вами получаем мизерный оклад, а он купается в роскоши. И зачем, спрашиваю я, он ездил на Кавказ? Он говорит – в командировку. Не верю. Паниковский не обязан всему верить! И я бегал для него на пристань за билетом. Заметьте себе, за билетом первого класса. Этот невский франт не может ездить во втором. Вот куда уходят наши десять тысяч! Он разговаривает по междугородному телефону, рассылает по всему свету телеграммы-молнии! Вы знаете, сколько стоит молния? Сорок копеек слово. Любое слово стоит сорок копеек! А я вынужден отказывать себе в кефире, который нужен мне для здоровья. Я старый, больной человек. Скажу вам прямо: Бендер – это не голова.
– Вы все-таки не очень-то, – заметил Балаганов, колеблясь, – ведь Бендер сделал из вас человека. Вспомните, как в Арбатове вы бежали с гусем. А теперь вы служите, получаете ставку, вы член общества!
– Я не хочу быть членом общества! – завизжал вдруг Паниковский и, понизив голос, добавил: – Ваш Бендер – идиот. Затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно сегодня же взять голыми руками.
Тут уполномоченный по копытам, не помышляя больше о любимом начальнике, пододвинулся к Паниковскому. И тот, беспрерывно отгибая вниз непослушную манишку, поведал Балаганову о серьезнейшем опыте, который он проделал на свой страх и риск.
Оказывается, Паниковский не дремал. В тот день, когда великий комбинатор и Балаганов гонялись за Скумбриевичем, Паниковский самовольно бросил контору на старого Фунта, тайно проник в комнату Корейко и, пользуясь отсутствием хозяина, произвел в ней тщательнейший осмотр. Конечно, никаких денег он в комнате не нашел, но он нашел нечто получше – гири, очень большие черные гири, пуда по полтора каждая.
– Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь.
Паниковский поймал наконец живой хвостик своей манишки, пристегнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова.
– Какой же может быть секрет? – разочарованно молвил уполномоченный по копытам. – Обыкновенные гири для гимнастики.
– Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, – загорячился Паниковский, – но вы осел. Это золотые гири. Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило! Я стоял перед этими гирями и безумно хохотал. Какой подлец этот Корейко! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному, – разве я вам рассказал бы этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый, больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный.
– А вдруг они не золотые? – спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.
– А какие ж они, по-вашему? – иронически спросил нарушитель конвенции.
– Да, – сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами, – теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик – и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает, пишет бумажки, ездит… Мы ему все-таки дадим часть, по справедливости, а?
– С какой стати? – возразил Паниковский. – Все нам! Теперь мы замечательно будем жить, Шура! Я вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу, женюсь, честное, благородное слово!..
Ценные гири решено было изъять без промедления.
– Заплатите за кефир, Шура, – сказал Паниковский, – потом сочтемся.
Заговорщики вышли из буфета и, ослепленные солнцем, принялись кружить по городу. Их томило нетерпение. Они подолгу стояли на городских мостах и, налегши животами на парапет, безучастно глядели вниз, на крыши домов и спускавшиеся в гавань улицы, по которым с осторожностью лошади съезжали грузовики. Жирные портовые воробьи долбили клювами мостовую, в то время как из всех подворотен за ними следили грязные кошки. За ржавыми крышами, чердачными фонарями и антеннами виднелись синенькая вода, катерок, бежавший во весь дух, и желтая пароходная труба с большой красной буквой.
Время от времени Паниковский поднимал голову и принимался считать. Он переводил пуды на килограммы, килограммы на старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал.
В одиннадцатом часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирю на тротуар и бормотал: «Женюсь! Честное, благородное слово, женюсь!» Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление.
У дверей конторы они остановились.
– Сейчас мы отпилим по кусочку, – озабоченно сказал Паниковский, – а завтра утром продадим. У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут.
Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет.
– Кто же там может быть в такой час? – удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
За письменным столом, освещенным боковым светом сильной штепсельной лампы, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
– Писатель! – сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
– Конечно, – заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись, – опять пишет. Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит. Но где же мы будем пилить?..
И, жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть часовщику Биберхаму два кусочка золота, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту.
Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Со всех пяти избушек, составлявших чернильный прибор «Лицом к деревне», были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбора, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами.
У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал наконец талию. Всю ночь не вязались банки и не шла карта. Игрок менял столы, старался обмануть судьбу и найти везучее место. Но карта упрямо не шла. Уже он начал «выжимать», то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую, уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу, уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их, как книгу, – словом, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руки шли по большей части картинки: валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные цветки, и короли с дворницкими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки. В общем, шла та мерзость, которую официально называют «баккара», а неофициально «бак» или «жир». И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами «спать воспрещается» храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, совершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться, отвратительные фигуры и десятки исчезают, валят восьмерки и девятки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает карту, не заглядывает в нее снизу. Он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади счастливца, дергают его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядя Юра, дайте три рубля!» А он, бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики: «Освобождаются места за девятым столом! и «Аматорские, пришлите по полтиннику!» – потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка.
Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом.
Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось сшибиться Остапу и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесемками, внезапно посыпались в сторону, и на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках.
Остап поставил точку, промокнул жизнеописание пресс-папье с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже фотографии и выписки из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором он мечтал всю жизнь.
– И некому даже оценить моего титанического труда, – грустно сказал Остап, поднимаясь и зашнуровывая толстую папку. – Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский – просто вздорный старик. А Козлевич – ангел без крыльев. Он до сих пор не сомневается в том, что мы заготовляем рога для нужд мундштучной промышленности. Где же мои друзья, мои жены, мои дети? Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность тысяч пятьсот. Хотя нет! Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать.
Остап вышел из-за стола, взял свою замечательную папку и задумчиво принялся расхаживать по пустой конторе, огибая машинку с турецким акцентом, железнодорожный компостер и почти касаясь головой оленьих рогов. Белый шрам на горле Остапа порозовел. Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках, купленных по случаю у греческого матроса, начали бесшумно скользить по полу. Незаметно он стал двигаться боком. Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперед. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса фортуны. Это был тонкий музыкальный звук, который перешел вдруг в легкий скрипичный унисон. И хватающая за сердце, давно позабытая мелодия заставила звучать все предметы, находившиеся в Черноморском отделении Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт.
Первым начал самовар. Из него внезапно вывалился на поднос охваченный пламенем уголек. И самовар запел:
Под небом знойной Аргентины,
Где небо нежное так сине…
Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро поднимался, поворачивался и, легонько переступая ногами, снова скользил вперед. Невидимые фрачные фалды разлетались при неожиданных поворотах.
А мелодию уже перехватила пишущая машинка с турецким акцентом:
…Гдэ нэбо южноэ так синэ,
Гдэ жэнщины, как на картинэ…
И неуклюжий, видавший виды чугунный компостер глухо вздыхал о невозвратном времени:
…Где женщины, как на картине,
Танцуют все танго.
Остап танцевал классическое провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр двадцать лет тому назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый котелок, Скумбриевич служил в канцелярии градоначальника, Полыхаев держал экзамен на первый гражданский чин, а зицпредседатель Фунт был еще бодрым семидесятилетним человеком и вместе с другими пикейными жилетами сидел в кафе «Флорида», обсуждая ужасный факт закрытия Дарданелл в связи с итало-турецкой войной. И пикейные жилеты, в те времена еще румяные и гладкие, перебирали политических деятелей той эпохи. «Энвер-бей – это голова! Юан-Ши-Кай – это голова! Пуришкевич – все-таки тоже голова!» И уже тогда они утверждали, что Бриан – это голова, потому что и тогда он был министром.
Остап танцевал. Над его головой трещали пальмы и проносились цветные птички. Океанские пароходы терлись бортами о пристани Рио-де-Жанейро. Сметливые бразильские купчины на глазах у всех занимались кофейным демпингом, и в открытых ресторанах местные молодые люди развлекались спиртными напитками.
– Командовать парадом буду я! – воскликнул великий комбинатор.
Потушив свет, он вышел из конторы и кратчайшим путем направился на Малую Касательную улицу. Бледные циркульные ноги прожекторов раздвигались по небу, спускались вниз, внезапно срезали кусок дома, открывая балкон с фикусами или стеклянную арнаутскую галерею с остолбеневшей от неожиданности парочкой. Из-за угла навстречу Остапу, раскачиваясь и стуча гусеничными лентами, выехали два маленьких танка с круглыми грибными шляпками. Кавалерист, нагнувшись с седла, расспрашивал прохожего, как ближе проехать к Старому рынку. В одном месте Остапу преградила путь артиллерия. Он проскочил улицу в интервале между двумя батареями. В другом – милиционеры торопливо прибивали к воротам дома доску с черной надписью: «Газоубежище».
Остап торопился. Его подгоняло аргентинское танго. Не обращая внимания на окружающее, он вошел в дом Корейко и постучал в знакомую дверь.
– Кто там? – послышался голос подпольного миллионера.
– Телеграмма! – ответил великий комбинатор, подмигнув в темноту.
Дверь открылась, и он вошел, зацепившись папкой за дверной косяк.
На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Рядом с Паниковским лежала на траве манишка. Он ее снял: она мешала работать. Под гирями предусмотрительный нарушитель конвенции разостлал газетный лист, дабы ни одна пылинка драгоценного металла не пропала зря.
Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой. В утренней тишине слышалось только посвистывание сусликов и скрежетание нагревшихся ножовок.
– Что такое! – сказал вдруг Балаганов, переставая работать. – Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое?
Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
– Ну-с, попилим еще! – бодро сказал рыжеволосый Шура.
– Конечно, надо пилить! – заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова.
– Ничего не понимаю! – сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. – Это не золото.
– Пилите, пилите, – пролепетал Паниковский.
Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
– Не подходите ко мне с этим железом! – завизжал Паниковский, отбегая в сторону. – Я вас презираю!
Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю.
Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Разозлившийся Балаганов сперва с наслаждением топтал манишку, а потом приступил к ее собственнику. Нанося удары, Шура приговаривал:
– Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?
Кроме того, первенец лейтенанта вспомнил о нарушении сухаревской конвенции, что обошлось Паниковскому в несколько лишних тумаков.
– Вы мне ответите за манишку! – злобно кричал Паниковский, закрываясь локтями. – Имейте в виду, манишки я вам никогда не прощу! Теперь таких манишек нет в продаже!..
В заключение Балаганов отобрал у противника ветхий кошелечек с тридцатью восемью рублями.
– Это за твой кефир, гадюка! – сказал он при этом.
В город возвращались без радости.
Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
– Я бедный и несчастный старик! – всхлипывал он. – Вы мне ответите за манишку! Отдайте мне мои деньги!
– Ты у меня получишь! – говорил Шура, не оглядываясь. – Все Бендеру скажу! Авантюрист!
Конец «Вороньей слободки»
Варвара Птибурдукова была счастлива. Сидя за круглым столом, она обводила взором свое хозяйство. В комнате Птибурдуковых стояло много мебели, так что свободного места почти не было. Но и той площади, которая оставалась, было достаточно для счастья. Лампа бросала свет за окно, где, как дамская брошь, дрожала маленькая зеленая веточка. На столе лежали печенье, конфеты и маринованный судак в круглой железной коробочке. Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют птибурдуковского гнезда. В нем отражались и кровать, и белые занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал лобзиком из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышу, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к двери микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью, он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом.
Окончив работу, инженер радостно засмеялся, похлопал жену по толстой, теплой спине и придвинул к себе коробочку с судаком. Но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, мигнула лампа, и чайник сдвинулся с проволочной подставки.
– Кто бы это так поздно? – молвил Птибурдуков, открывая дверь.
На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. Он по самую бороду был завернут в белое марсельское одеяло, из-под которого виднелись волосатые ноги. К груди он прижимал книгу «Мужчина и женщина», толстую и раззолоченную, как икона. Глаза Васисуалия блуждали.
– Милости просим, – ошеломленно сказал инженер, делая шаг назад. – Варвара, что это?
– Я к вам пришел навеки поселиться, – ответил Лоханкин гробовым ямбом, – надеюсь я найти у вас приют!
– Как – приют? – сказал Птибурдуков, багровея. – Что вам угодно, Васисуалий Андреевич?
На площадку выбежала Варвара.
– Сашук! Посмотри, он голый! – закричала она. – Что случилось, Васисуалий? Да войди же, войдите!
Лоханкин переступил порог босыми ногами и, бормоча «несчастье, несчастье», начал метаться по комнате. Концом одеяла он сразу смахнул на пол тонкую столярную работу Птибурдукова. Инженер отошел в угол, чувствуя, что ничего хорошего уже не предвидится.
– Какое несчастье? – допытывалась Варвара. – Почему ты в одном одеяле?
– Я к вам пришел навеки поселиться, – повторил Лоханкин коровьим голосом.
Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому восковому полу тревожную дробь.
– Что ты ерунду мелешь? – набросилась Варвара на бывшего мужа. – Ступай домой и проспись. Иди! Уйди отсюда! Иди, иди домой.
– Уж дома нет, – сказал Васисуалий, продолжая дрожать, – сгорел до основанья! Пожар, пожар прогнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.
Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.
Пока Лоханкин одевался, супруги совещались в коридоре.
– Куда его устроить? – шептала Варвара. – Он не может у нас ночевать, у нас одна комната!
– Я тебе удивляюсь, – сказал добрый инженер, – у человека несчастье, а ты думаешь только о своем благополучии.
Когда супруги вернулись в комнату, погорелец сидел за столом и прямо из железной коробочки ел маринованную рыбу. Кроме того, с полочки были сброшены два тома «Сопротивления материалов», и их место заняла раззолоченная «Мужчина и женщина».
– Неужели весь дом сгорел? – сочувственно спросил Птибурдуков. – Вот ужас!
– А я думаю, что, может быть, так надо, – сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, – может быть, я выйду из пламени преобразившимся?
Но он не преобразился. Когда обо всем было переговорено, Птибурдуковы стали устраиваться на ночь. Васисуалию постлали матрасик на том самом остатке площади, которого еще час назад было достаточно для счастья. Окно закрыли, потушили свет, и в комнату вошла ночь. Минут двадцать все лежали молча, время от времени ворочаясь и тяжело вздыхая. Потом с пола донесся тягучий шепот Лоханкина:
– Варвара! Варвара! Слушай, Варвара!
– Чего тебе? – негодующе спросила бывшая жена.
– Почему ты от меня ушла, Варвара?
Не дождавшись ответа на этот принципиальный вопрос, Васисуалий заныл:
– Ты самка, Варвара! Ты волчица! Волчица ты, тебя я презираю…
Инженер недвижимо лежал в постели, задыхаясь от злости и сжимая кулаки.
«Воронья слободка» загорелась в двенадцать часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь.
В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, первым звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился.
– Сожжет, старая, всю квартиру, – бормотал он, – ей что, а у меня одна рояль, может быть, две тысячи стоит.
Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую мутную бутыль с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:
– Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает.
И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.
– Они нас сожгут, эти негодяи. Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться. Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.
На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.
– Это выходит, значит, государство навстречу идет? – сказал он мрачно. – Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо! Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем.
И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Последним из дома, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал: «Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем». Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла.
– Сорок лет стоял дом, – степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, – при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане!
Женская часть «Вороньей слободки» сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось из окон, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар.
Один лишь Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил, босой и страшный.
– Православные! – закричал он, раздирая на себе рубаху. – Граждане!
Он боком побежал прочь от огня, врезался в толпу и, выкликая непонятные слова, стал показывать рукою на горящий дом. В толпе возник переполох.
– Ребенка забыли, – уверенно сказала женщина в соломенной шляпе.
Никиту окружили. Он отпихивался руками и рвался к дому.
– На кровати лежит! – исступленно кричал Пряхин. – Пусти, говорю!
По его лицу катились огненные слезы. Он ударил по голове Гигиенишвили, который преграждал ему дорогу, и бросился во двор. Через минуту он выбежал оттуда, неся лестницу.
– Остановите его! – закричала женщина в соломенной шляпе. – Он сгорит!
– Уйди, говорю! – вопил Никита Пряхин, приставляя лестницу к стене и отталкивая молодых людей из толпы, которые хватали его за ноги. – Не дам ей пропасть. Душа горит.
Он лягался ногами и лез вверх, к дымящемуся окну второго этажа.
– Назад! – кричали из толпы. – Зачем полез? Сгоришь!
– На кровати лежит! – продолжал выкликать Никита. – Цельный гусь, четверть хлебного вина. Что ж, пропадать ей, православные граждане?
С неожиданным проворством Пряхин ухватился за оконный слив и мигом исчез, втянутый внутрь воздушным насосом. Последние слова его были: «Как пожелаем, так и сделаем». В переулке наступила тишина, прерванная колоколом и трубными сигналами пожарного обоза. Во двор вбежали топорники в негнущихся брезентовых костюмах с широкими синими поясами.
Через минуту после того, как Никита Пряхин совершил единственный за всю жизнь героический поступок, от дома отделилось и грянуло оземь горящее бревно. Крыша, треща, разошлась и упала внутрь дома. К небу поднялся сияющий столб, словно бы из дома выпустили ядро на луну.
Так погибла квартира номер три, известная больше под названием «Вороньей слободки».
Внезапно в переулке послышался гром копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Талмудовский. На коленях у него лежал заклеенный ярлыками чемодан. Подскакивая на сиденье, инженер наклонялся к извозчику и кричал:
– Ноги моей здесь не будет при таком окладе жалованья! Пошел скорей!
И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина скрылась за поворотом.
Командовать парадом буду я
– Я умираю от скуки, – сказал Остап, – мы с вами беседуем только два часа, а вы уже надоели мне так, будто я знал вас всю жизнь. С таким строптивым характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым.
– Вы сумасшедший! – ответил Александр Иванович.
– Не оскорбляйте меня, – кротко сказал Бендер, – я сын турецко-подданного и, следовательно, потомок янычаров. Я вас не пощажу, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам.
– Уходите, гражданин! – сказал Корейко голосом геркулесовского бюрократа. – Уже третий час ночи, я хочу спать, мне рано на службу идти.
– Верно, верно, я и забыл! – воскликнул Остап. – Вам нельзя опаздывать на службу. Могут уволить без выходного пособия. Все-таки двухнедельный оклад – двадцать три рубля! При вашей экономии можно прожить полгода.
– Не ваше дело. Оставьте меня в покое. Слышите? Убирайтесь!
– Но эта экономия вас погубит. Вам, конечно, небезопасно показывать свои миллионы. Однако вы чересчур стараетесь. Вы подумали над тем, что с вами произойдет, если вы наконец сможете тратить деньги? Воздержание – вещь опасная! Знакомая мне учительница французского языка Эрнестина Иосифовна Пуанкаре никогда в жизни не пила вина. И что же! На одной вечеринке ее угостили рюмкой коньяку. Это ей так понравилось, что она выпила целую бутылку и тут же, за ужином, сошла с ума. И на свете стало меньше одной учительницей французского языка. То же может произойти и с вами.
– Чего вы, черт возьми, хотите от меня добиться?
– Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.
– Вон! – негромко сказал Корейко.
– Ну вот, опять вы забыли, что я потомок янычаров.
С этими словами Остап поднялся с места. Теперь собеседники стояли друг против друга. У Корейки было штормовое лицо, в глазах мелькали белые барашки. Великий комбинатор сердечно улыбался, показывая белые кукурузные зубы. Враги подошли близко к настольной лампочке, и на стену легли их исполинские тени.
– Тысячу раз я вам повторял, – произнес Корейко, сдерживаясь, – что никаких миллионов у меня нет и не было. Поняли? Поняли? Ну, и убирайтесь. Я на вас буду жаловаться.
– Жаловаться на меня вы никогда не будете, – значительно сказал Остап, – а уйти я могу, но не успею я выйти на вашу Малую Касательную улицу, как вы с плачем побежите за мной и будете лизать мои янычарские пятки, умоляя меня вернуться.
– Почему же это я буду вас умолять?
– Будете. Так надо, как любил выражаться мой друг Васисуалий Лоханкин, именно в этом сермяжная правда. Вот она!
Великий комбинатор положил на стол папку и, медленно развязывая ее ботиночные тесемки, продолжал:
– Только давайте условимся. Никаких эксцессов! Вы не должны меня душить, не должны выбрасываться из окна и, самое главное, не умирайте от удара. Если вы вздумаете тут же скоропостижно скончаться, то поставите меня этим в глупое положение. Погибнет плод длительного добросовестного труда. В общем, давайте потолкуем. Уже не секрет, что вы меня не любите. Никогда я не добьюсь того, чего Коля Остен-Бакен добился от Инги Зайонц, подруги моего детства. Поэтому я не стану вздыхать напрасно, не стану хватать вас за талию. Считайте серенаду законченной. Утихли балалайки, гусли и позолоченные арфы. Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу. Вот папка в три-четыре кило. Она продается и стоит миллион рублей, тот самый миллион, который вы из жадности не хотите мне подарить. Купите!
Корейко склонился над столом и прочел на папке: «Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 г. Окончено 10 августа 1930 г.».
– Какая чепуха! – сказал он, разводя руками. – Что за несчастье такое! То вы приходили ко мне с какими-то деньгами, теперь дело выдумали. Просто смешно.
– Ну что, состоится покупка? – настаивал великий комбинатор. – Цена невысокая. За кило замечательнейших сведений из области подземной коммерции беру всего по триста тысяч.
– Какие там еще сведения? – грубо спросил Корейко, протягивая руку к папке.
– Самые интересные, – ответил Остап, вежливо отводя его руку. – Сведения о вашей второй и главной жизни, которая разительно отличается от вашей первой, сорокашестирублевой, геркулесовской. Первая ваша жизнь всем известна. От десяти до четырех вы за советскую власть. Но вот о вашей второй жизни, от четырех до десяти, знаю я один. Вы учли ситуацию?
Корейко не ответил. Тень лежала в ефрейторских складках его лица.
– Нет, – решительно сказал великий комбинатор, – вы произошли не от обезьяны, как все граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю вам как специалист по коровам и копытам. Итак, еще раз: у вас, по моим сведениям, миллионов семь-восемь. Папка продается за миллион. Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете. Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу. Я останусь таким же бедным поэтом и многоженцем, каким был, но до самой смерти меня будет тешить мысль, что я избавил общественность от великого сквалыжника.
– Покажите дело, – сказал Корейко задумчиво.
– Не суетитесь, – заметил Остап, раскрывая папку, – командовать парадом буду я. В свое время вы были извещены об этом по телеграфу. Так вот, парад наступил, и я, как вы можете заметить, им командую.
Александр Иванович взглянул на первую страницу дела и, увидев наклеенную на ней собственную фотографию, неприятно улыбнулся и сказал:
– Что-то не пойму, чего вы от меня хотите? Посмотреть разве из любопытства.
– Я тоже из любопытства, – заявил великий комбинатор. – Ну что ж, давайте приступим, исходя из этого, в конце концов, невинного чувства. Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился в… Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время маленький Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество. Пропустим еще страницу. А вот и юность, начало жизни. Здесь уже можно остановиться. Из любопытства. Первый арест. Страница шестая дела…
Остап перевернул страницу шестую и огласил содержание седьмой, восьмой и далее, по двенадцатую включительно.
– И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то: торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства.
Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит его за собой в течение всех десяти дней большого процесса.
– Не лишено также любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году…
Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого.
– Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Однако пойдем дальше. Страницы сорок вторая – пятьдесят третья. Место действия – маленькая доверчивая республика. Синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю – помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели!..
Увлекшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и указал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делывали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время г. подзащитный другой ручкой вознамерился вцепиться в горло г. присяжного поверенного. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться.
– Не давите на мою психику! – сказал Остап, оторвав от себя Корейко и переводя дыхание. – Невозможно заниматься.
– Негодяй! Негодяй! – шептал Александр Иванович. – Вот негодяй!
Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров.
– Заседание продолжается! – молвил Остап как ни в чем не бывало. – И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри. Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри – благородное и очень здоровое сердце, отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь – продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.
Игры чрезвычайно не понравились Александру Ивановичу. Командировка, из которой Остап вернулся, дыша молодым вином и юным барашком, оставила в деле обширные следы. Тут была копия заочного приговора, снятые на кальку планы благотворительного комбината, выписки из «Счета прибылей и убытков», а также фотографии электрического ущелья и кинокоролей.
– И наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего драчливого подзащитного – скромная конторская работа в «Геркулесе» для общества и усиленная торгово-подземная деятельность – для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный.
При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейко и описал ею давно задуманную эффектную дугу. Затем Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:
– Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно! А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно! А с геркулесовцем Полыхаевым?
Миллионер-конторщик молчал.
– Вопросов больше не имею. Ф-фу!.. Я устал и есть хочу. Скажите, Александр Иванович, нет ли у вас холодной котлеты за пазухой? Нету? Удивительная бедность, в особенности если принять во внимание величину суммы, которую вы при помощи Полыхаева выкачали из доброго «Геркулеса». Вот собственноручные объяснения Полыхаева, единственного геркулесовца, который знал, кто скрывается под видом сорокашестирублевого конторщика. Но и он по-настоящему не понимал, кто вы такой. Зато это знаю я. Да, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Но я все-таки позволю себе просить о снисхождении, при том, однако, условии, что подзащитный купит у меня папку. Я кончил.
К концу речи великого комбинатора Александр Иванович успокоился. Заложив руки в карманы легких брюк, он подошел к окну. Молодой день в трамвайных бубенцах уже шумел по городу.
За палисадом шли осоавиахимовцы, держа винтовки вкривь и вкось, будто несли мотыги. По оцинкованному карнизу, стуча красными вербными лапками и поминутно срываясь, прогуливались голуби. Александр Иванович, приучивший себя к экономии, потушил настольную лампу и сказал:
– Так это вы посылали мне дурацкие телеграммы?
– Я, – ответил Остап, – «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы». Разве плохо?
– Глуповато.
– А нищий-полуидиот? – спросил Остап, чувствуя, что парад удался. – Хорош?
– Мальчишеская выходка! И книга о миллионерах – тоже. А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся. Иначе черта с два вы меня бы нашли.
– Да, вы ошиблись! И на старуху бывает разруха, как сказала Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном.
– Ну, ограбление – это еще понятно, но гири! Почему вы украли у меня гири?
– Какие гири? Никаких гирь я не крал.
– Вам просто стыдно признаться. И вообще вы наделали массу глупостей.
– Возможно, – заметил Остап, – я не ангел. У меня есть недочеты. Однако я с вами заболтался. Меня ждут мулаты. Прикажете получить деньги?
– Да, деньги! – сказал Корейко. – С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно, но, подсчитывая мои доходы, вы совершенно упустили из виду расходы и прямые убытки. Миллион – это несуразная цифра.
– До свиданья, – холодно сказал Остап, – и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете.
– Так дела не делают, – сказал Корейко с купеческой улыбкой.
– Может быть, – вздохнул Остап, – но я, знаете, не финансист. Я – свободный художник и холодный философ.
– За что ж вы хотите получить деньги? Я их заработал, а вы…
– Я не только трудился. Я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей, вера в человечество?
– Стоит, стоит, – успокоил Александр Иванович.
– Значит, пойдем в закрома? – спросил Остап. – Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
– Пойдем, – ответил Корейко. – Там увидите.
– Может быть, далеко? – засуетился Остап. – Я могу машину.
Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины…»
Сердце шофера
На улице Остап взял Александра Ивановича под руку, и оба комбинатора быстро пошли по направлению к вокзалу.
– А вы лучше, чем я думал, – дружелюбно сказал Бендер. – И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов.
– Для хорошего человека и миллиона не жалко, – ответил конторщик, к чему-то прислушиваясь.
Когда они повернули на улицу Меринга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится не по себе, хочется почему-то просить прибавки к жалованью по причине опасной службы. Сирена продолжала надрываться. К ней присоединились сухопутные гудки и другие сирены, более далекие и еще более грустные. Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень. При этом все ухмылялись и поглядывали на небо. Торговки семечками, жирные старухи, вбежали, выпятив животы, и в их камышовых корзинках среди сыпучего товара подскакивали стеклянные стаканчики. Через улицу вкось промчался Адольф Николаевич Бомзе. Он благополучно успел проскочить в вертящуюся дверь «Геркулеса». Прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Остап заметил, что далеко впереди от бывшего кафе «Флорида» отделился табунчик пикейных жилетов. Размахивая газетами, канотье и панамскими шляпами, старики затрусили по мостовой. Но не успели они добраться до угла, как раздался оглушающий пушечный выстрел, пикейные жилеты пригнули головы, остановились и сейчас же побежали обратно. Полы их чесучовых пиджаков раздувались.
Поведение пикейных жилетов рассмешило Остапа. Пока он любовался их удивительными жестами и прыжками, Александр Иванович успел развернуть захваченный из дому пакет.
– Скабрезные старики! Опереточные комики! – сказал Остап, оборачиваясь к Корейко.
Но Корейки не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очами и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Остап так удивился, что даже подпрыгнул.
– Что это за штуки? – грозно сказал он, протягивая руку к противогазу. – Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку.
Но в эту минуту набежала группа людей в таких же противогазах, и среди десятка одинаковых резиновых харь уже нельзя было найти Корейко. Придерживая свою папку, Остап сразу же стал смотреть на ноги чудовищ, но едва ему показалось, что он различил вдовьи брюки Александра Ивановича, как его взяли под руки и молодецкий голос сказал:
– Товарищ! Вы отравлены!
– Кто отравлен? – закричал Остап, вырываясь. – Пустите!
– Товарищ, вы отравлены газом, – радостно повторил санитар. – Вы попали в отравленную зону. Видите, газовая бомба.
На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. Подозрительные брюки были уже далеко. В последний раз они сверкнули между двух потоков дыма и пропали. Остап молча и яростно выдирался. Его держали уже шесть масок.
– Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны. Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище.
Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно, в десять минут спустил все забежавшему мимоходом из любопытства молодому человеку. И уже не сидит он, бледный и торжествующий, и уже не толкутся вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком.
К Остапу подбежала комсомолка с красным крестом на переднике. Она вытащила из брезентовой сумки бинты и вату и, хмуря брови, чтобы не рассмеяться, обмотала руку великого комбинатора поверх рукава. Закончив акт милосердия, девушка все-таки засмеялась и убежала к следующему раненому, который покорно отдал ей свою ногу. Остапа потащили к носилкам. Там произошла новая схватка, во время которой раскачивались хоботы, а первый санитар-распорядитель громким лекторским голосом продолжал пробуждать в Остапе сознательность и другие гражданские доблести.
– Братцы! – бормотал великий комбинатор, в то время как его пристегивали к носилкам ремнями. – Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани.
Последние слова потерпевшего на поле брани были:
– Спите, орлы боевые! Соловей, соловей, пташечка.
После этого Остапа понесли, и он замолчал, устремив глаза в небо, где начиналась кутерьма. Катились плотные, как сердца, светлые клубки дыма. На большой высоте неровным углом шли прозрачные целлулоидные самолеты. От них расходилось звонкое дрожание, словно бы все они были связаны между собой жестяными нитями. В коротких промежутках между орудийными ударами продолжали выть сирены.
Остапу пришлось вытерпеть еще одно унижение. Его несли мимо «Геркулеса». Из окон всех четырех этажей лесоучреждения выглядывали служащие. Весь финсчет стоял на подоконниках. Лапидус-младший пугал Кукушкинда, делая вид, что хочет столкнуть его вниз. Берлага сделал большие глаза и поклонился носилкам. В окне второго этажа на фоне пальм стояли, обнявшись, Полыхаев и Скумбриевич. Заметив связанного Остапа, они зашептались и быстро захлопнули окно.
Перед вывеской «Газоубежище № 34» носилки остановились, Остапу помогли подняться, и, так как он снова попытался вырваться, санитару-распорядителю пришлось снова воззвать к его сознательности.
Газоубежище расположилось в домовом клубе. Это был длинный и светлый полуподвал с ребристым потолком, к которому на проволоках были подвешены модели военных и почтовых самолетов. В глубине клуба помещалась маленькая сцена, на заднике которой были нарисованы два синих окна с луною и звездами и коричневая дверь. Под стеной с надписью: «Войны не хотим, но к отпору готовы» – мыкались пикейные жилеты, захваченные всем табунчиком. По сцене расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с шумом пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил:
– По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и т. д. В числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить хлорпикрин, бромистый бензил, бромацетон, хлорацетофенон…
Остап перевел мрачный взор с лектора на слушателей. Молодые люди смотрели оратору в рот, или записывали лекцию в книжечки, или возились у щита с винтовочными частями. Во втором ряду одиноко сидела девушка спортивного вида, задумчиво глядя на театральную луну.
«Хорошая девушка, – решил Остап, – жалко, времени нет. О чем она думает? Уж наверно не о бромистом бензиле. Ай-яй-яй! Еще сегодня утром я мог прорваться с такой девушкой куда-нибудь в Океанию, на Фиджи, или на какие-нибудь острова Жилтоварищества, или в Рио-де-Жанейро». При мысли об утраченном Рио Остап заметался по убежищу.
Пикейные жилеты в числе сорока человек уже оправились от потрясения, подвинтили свои крахмальные воротнички и с жаром толковали о пан-Европе, о морской конференции трех держав и о гандизме.
– Слышали? – говорил один жилет другому. – Ганди приехал в Данди.
– Ганди – это голова! – вздохнул тот. – И Данди – это голова.
Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди – это город и головою быть не может. Другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни.
Лектор снова сморщился, потому что дверь открылась и в помещение со стуком прибыли новые жильцы – Балаганов и Паниковский. Газовая атака застала их при возвращении из ночной экспедиции. После работы над гирями они были перепачканы, как шкодливые коты. При виде командора молочные братья потупились.
– Вы что, на именинах у архиерея были? – хмуро спросил Остап.
Он боялся расспросов о ходе дела Корейко, поэтому сердито соединил брови и перешел в нападение.
– Ну, гуси-лебеди, где были, что поделывали?
– Ей-богу, – сказал Балаганов, прикладывая руку к груди. – Это все Паниковский затеял.
– Паниковский? – строго сказал командор.
– Честное, благородное слово! – воскликнул нарушитель конвенции. – Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю! Это балагановские штуки.
– Шура! – еще более строго молвил Остап.
– И вы ему поверили? – с упреком сказал уполномоченный по копытам. – Ну, как вы думаете, разве я без вашего разрешения взял бы эти гири?
– Так это вы взяли гири? – закричал Остап. – Зачем же?
– Паниковский сказал, что они золотые.
Остап посмотрел на Паниковского. Только сейчас он заметил, что под его пиджаком нет уже полтинничной манишки и оттуда на свет божий глядит голая грудь. Не говоря ни слова, великий комбинатор свалился на стул. Он затрясся, ловя руками воздух. Потом из его горла вырвались вулканические раскаты, из глаз выбежали слезы, и смех, в котором сказалось все утомление ночи, все разочарование в борьбе с Корейко, так жалко спародированной молочными братьями, – ужасный смех раздался в газоубежище. Пикейные жилеты вздрогнули, а лектор еще громче и отчетливей заговорил о боевых отравляющих веществах.
Смех еще покалывал Остапа тысячью нарзанных иголочек, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим, как человек, прошедший все парикмахерские инстанции: и дружбу с бритвой, и знакомство с ножницами, и одеколонный дождик, и даже причесывание бровей специальной щеточкой. Лаковая океанская волна уже плеснула в его сердце, и на вопрос Балаганова о делах он ответил, что все идет превосходно, если не считать неожиданного бегства миллионера в неизвестном направлении.
Молочные братья не обратили на слова Остапа должного внимания. Их радовало, что дело с гирями сошло так легко.
– Смотрите, Бендер, – сказал уполномоченный по копытам, – вон барышня сидят. Это с нею Корейко всегда гулял.
– Значит, это и есть Зося Синицкая? – с ударением произнес Остап. – Вот уж действительно – средь шумного бала, случайно…
Остап протолкался к сцене, вежливо остановил оратора и, узнав у него, что газовый плен продлится еще часа полтора-два, поблагодарил и присел тут же, у сцены, рядом с Зосей. Через некоторое время девушка уже не смотрела на размалеванное окно. Неприлично громко смеясь, она вырывала свой гребень из рук Остапа. Что касается великого комбинатора, то он, судя по движению его губ, говорил не останавливаясь.
В газоубежище притащили инженера Талмудовского. Он отбивался двумя чемоданами. Его румяный лоб был влажен от пота и блестел, как блин.
– Ничего не могу сделать, товарищ! – говорил распорядитель. – Маневры! Вы попали в отравленную зону.
– Но ведь я ехал на извозчике! – кипятился инженер. – На из-воз-чи-ке! Я спешу на вокзал в интересах службы!
– Товарищ, будьте сознательны!
– Почему ж я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике! – негодовал Талмудовский.
Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бромацетон и бромистый бензил их губительных отравляющих свойств. Неизвестно, сколько бы еще времени Талмудовский переругивался с осоавиахимовцами, если бы в газоубежище не вошел новый отравленный и, судя по замотанной в марлю голове, также и раненый гражданин. При виде нового гостя Талмудовский замолчал и проворно нырнул в толпу пикейных жилетов. Но человек в марле сразу же заметил корпусную фигуру инженера и направился прямо к нему.
– Наконец-то я вас поймал, инженер Талмудовский! – сказал он зловеще. – На каком основании вы бросили завод?
Талмудовский повел во все стороны маленькими кабаньими глазками. Убедившись, что убежать некуда, он сел на свои чемоданы и закурил папиросу.
– Приезжаю к нему в гостиницу, – продолжал человек в марле громогласно, – говорят: выбыл. Как это, спрашиваю, выбыл, ежели он только вчера прибыл и по контракту обязан работать год. Выбыл, говорят, с чемоданами в Казань. Уже думал, все кончено, опять нам искать специалиста, но вот поймал, сидит, видите, покуривает. Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете производство!
Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком: «Это вы разрушаете производство!» – схватил обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки фраз: «При таком окладе», «Идите, поищите», «А командировочные?» Человек в марле с тоской смотрел на инженера.
Уже лектор закончил свои наставления, показав под конец, как нужно пользоваться противогазом, уже раскрылись двери газоубежища и пикейные жилеты, держась друг за друга, побежали к «Флориде», уже Талмудовский, отбросив своего преследователя, вырвался на волю, крича во все горло извозчика, а великий комбинатор все еще болтал с Зосей.
– Какая фемина! – ревниво сказал Паниковский, выходя с Балагановым на улицу. – Ах, если б гири были золотые! Честное, благородное слово, я б на ней женился!
При упоминании о злополучных гирях Балаганов больно толкнул Паниковского локтем. Это было вполне своевременно. В дверях газоубежища показался Остап с феминой под руку. Он долго прощался с Зосей, томно глядя на нее в упор. Зося последний раз улыбнулась и ушла.
– О чем вы с ней говорили? – подозрительно спросил Паниковский.
– Так, ни о чем, печки-лавочки, – ответил Остап. – Ну, золотая рота, за дело! Надо найти подзащитного.
Паниковский был послан в «Геркулес», Балаганов на квартиру Александра Ивановича. Сам Остап бросился на вокзалы. Но миллионер-конторщик исчез. В «Геркулесе» его марка не была снята с табельной доски, в квартиру он не возвращался, а за время газовой атаки с вокзалов отбыло восемь поездов дальнего следования. Но Остап и не ждал другого результата.
– В конце концов, – сказал он невесело, – ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека трудновато: там живет четыреста миллионов населения. А у нас очень легко: всего лишь сто шестьдесят миллионов, в три раза легче, чем в Китае. Лишь бы были деньги. А они у нас есть.
Однако из банка Остап вышел, держа в руках тридцать четыре рубля.
– Это все, что осталось от десяти тысяч, – сказал он с неизъяснимой печалью, – а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь… Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг… Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.
И он посмотрел на молочных братьев с укоризной. Паниковский пожал плечами, как бы говоря: «Вы знаете, Бендер, как я вас уважаю! Я всегда говорил, что вы осел!» Балаганов ошеломленно погладил свои кудри и спросил:
– Что ж мы будем делать?
– Как что? – вскричал Остап. – А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор «Лицом к деревне» любое учреждение с радостью отдаст сто рублей. А пишущая машинка! А дыропробиватель, оленьи рога, столы, барьер, самовар! Все это можно продать. Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл.
У конторы друзья остановились. Из открытой двери неслись молодые львиные голоса вернувшихся из командировки студентов животноводческого техникума, сонное бормотание Фунта и еще какие-то незнакомые басы и баритоны явно агрономического тембра.
– Это состав преступления! – кричали практиканты. – Мы и тогда еще удивлялись. За всю кампанию заготовлено только двенадцать кило несортовых рогов.
– Вы пойдете под суд! – загремели басы и баритоны. – Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?
Балаганов задрожал.
– Контора умерла, – шепнул Остап, – и мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а Фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки.
Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов в гости к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.
– Фунт всегда сидел, – услышали антилоповцы низкий глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо, – Фунт сидел при Александре Втором – «Освободителе», при Александре Третьем – «Миротворце», при Николае Втором – «Кровавом», при Александре Федоровиче Керенском…
И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы.
– А теперь что мы будем делать? – спросил Балаганов.
– Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени с Остапом Бендером, – грустно сказал великий комбинатор. – Прошу помнить, что у него есть замечательный саквояж, в котором находится все для добывания карманных денег. Идемте домой, к Лоханкину.
В Лимонном переулке их ждал новый удар.
– Где же дом? – воскликнул Остап. – Ведь тут же еще вчера вечером был дом!
Но дома не было, не было «Вороньей слободки». По обгорелым балкам ступал только страховой инспектор. Найдя на заднем дворе бидон из-под керосина, он понюхал его и с сомнением покачал головой.
– Ну а теперь же что? – спросил Балаганов, испуганно улыбаясь.
Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой саквояжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская чалма, была афиша «Приехал жрец», был докторский халат, стетоскоп. Чего там только не было!
– Вот, – вымолвил наконец Остап, – судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал. Бендер шел позади всех, опустив голову и машинально мурлыча: «Кончен, кончен день забав, стреляй, мой маленький зуав».
В таком состоянии они притащились на постоялый двор. В глубине, под навесом, желтела «Антилопа». На трактирном крыльце сидел Козлевич. Сладостно отдуваясь, он втягивал из блюдечка горячий чай. У него было красное горшечное лицо. Он блаженствовал.
– Адам! – сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером. – У нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам! Примите нас! Мы погибаем!
Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез. Он сошел со ступенек и поочередно обнял всех антилоповцев.
– Такси свободен! – сказал он, глотая слезы жалости. – Прошу садиться.
– Но, может быть, нам придется ехать далеко, очень далеко, – молвил Остап, – может быть, на край земли, а может быть, еще дальше. Подумайте.
– Куда хотите! – ответил верный Козлевич. – Такси свободен!
Паниковский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча:
– Какое сердце! Честное, благородное слово! Какое сердце!
Погода благоприятствовала любви
Обо всем, что великий комбинатор сделал в дни, последовавшие за переселением на постоялый двор, Паниковский отзывался с большим неодобрением.
– Бендер безумствует! – говорил он Балаганову. – Он нас совсем погубит!
И на самом деле, вместо того чтобы постараться как можно дольше растянуть последние тридцать четыре рубля, обратив их исключительно на закупку продовольствия, Остап отправился в цветочный магазин и купил за тридцать пять рублей большой, как клумба, шевелящийся букет роз. Недостающий рубль он взял у Балаганова. Между цветов он поместил записку: «Слышите ли вы, как бьется мое большое сердце?» Балаганову было приказано отнести цветы Зосе Синицкой.
– Что вы делаете? – сказал Балаганов, взмахнув букетом. – Зачем этот шик?
– Нужно, Шура, нужно, – ответил Остап. – Ничего не поделаешь. У меня большое сердце. Как у теленка. И потом, это все равно не деньги. Нужна идея.
Вслед за тем Остап уселся в «Антилопу» и попросил Козлевича вывезти его куда-нибудь за город.
– Мне необходимо, – сказал он, – пофилософствовать в одиночестве обо всем происшедшем и сделать необходимые прогнозы в будущее.
Весь день верный Адам катал великого комбинатора по белым приморским дорогам, мимо домов отдыха и санаториев, где отдыхающие шлепали туфлями, поколачивали молотками крокетные шары или прыгали у волейбольных сеток. Телеграфная проволока издавала виолончельные звуки. Дачницы тащили в ковровых кошелках синие баклажаны и дыни. Молодые люди с носовыми платками на мокрых после купанья волосах дерзко заглядывали в глаза женщинам и отпускали любезности, полный набор которых имелся у каждого черноморца в возрасте до двадцати пяти лет. Если шли две дачницы, молодые черноморцы говорили им вслед: «Ах, какая хорошенькая та, которая с краю». При этом они от души хохотали. Их смешило, что дачницы никак не смогут определить, к которой из них относится комплимент. Если же навстречу попадалась одна дачница, то остряки останавливались, якобы пораженные громом, и долго чмокали губами, изображая любовное томление. Молодая дачница краснела и перебегала через дорогу, роняя синие баклажаны, что вызывало у ловеласов гомерический смех.
Остап полулежал на жестких антилоповских подушках и мыслил. Сорвать деньги с Полыхаева или Скумбриевича не удалось – геркулесовцы уехали в отпуск. Безумный бухгалтер Берлага был не в счет: от него нельзя было ждать хорошего удоя. А между тем планы Остапа и его большое сердце требовали пребывания в Черноморске. Срок этого пребывания он сейчас и сам затруднился бы определить.
Услышав знакомый замогильный голос, Остап взглянул на тротуар. За шпалерой тополей шествовала под руку немолодая уже чета. Супруги, видимо, шли на берег. Позади тащился Лоханкин. Он нес в руках дамский зонтик и корзинку, из которой торчал термос и свешивалась купальная простыня.
– Варвара, – тянул он, – слушай, Варвара!
– Чего тебе, горе мое? – спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
– Я обладать хочу тобой, Варвара!..
– Нет, каков мерзавец! – заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
И странная семья исчезла в антилоповской пыли.
Когда пыль упала на землю, Бендер увидел на фоне моря и цветочного партера большое стеклянное ателье. Гипсовые львы с измаранными мордами сидели у подножия широкой лестницы. Из ателье бил беспокойный запах грушевой эссенции. Остап понюхал воздух и попросил Козлевича остановиться. Он вышел из машины и снова принялся втягивать ноздрями живительный запах эссенции.
– Как же это я сразу не догадался! – пробормотал он, вертясь у подъезда.
Он устремил взор на вывеску «1-я Черноморская кинофабрика», погладил лестничного льва по теплой гриве и, промолвив «Голконда», быстро отправился назад, на постоялый двор.
Всю ночь он сидел у подоконника и писал при свете керосиновой лампочки. Ветер, забегавший в окно, перебирал исписанные листки. Перед сочинителем открывался не слишком привлекательный пейзаж. Деликатный месяц освещал не бог весть какие хоромы. Постоялый двор дышал, шевелился и храпел во сне. Невидимые, в темных углах перестукивались лошади. Мелкие спекулянты спали на подводах, подложив под себя свой жалкий товар. Распутавшаяся лошадь бродила по двору, осторожно переступая через оглобли, волоча за собою недоуздок и суя морду в подводы в поисках ячменя. Подошла она и к окну сочинителя и, положив голову на подоконник, с печалью посмотрела на Остапа.
– Иди, иди, лошадь, – заметил великий комбинатор, – не твоего это ума дело!
Перед рассветом, когда постоялый двор стал оживать и между подводами уже бродил мальчик с ведром воды, тоненько выкликая: «Кому кони напувать?», Остап окончил свой труд, вынул из «дела Корейко» чистый лист бумаги и вывел на нем заголовок:
«ШЕЯ»
Многометражный фильм
Сценарий О. Бендера
На 1-й Черноморской кинофабрике был тот ералаш, какой бывает только на конских ярмарках и именно в ту минуту, когда всем обществом ловят карманника.
В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так. Люди в синих беретах сталкивались с людьми в рабочих комбинезонах, разбегались по многочисленным лестницам и немедленно по этим же лестницам бежали вниз. В вестибюле они описывали круг, на секунду останавливались, остолбенело глядя перед собой, и снова пускались бежать наверх с такой прытью, будто бы их стегали сзади мокрым линьком. Стремглав проносились ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы, режиссеры со своими адъютантами, осветители, редакторы-монтажеры, пожилые сценаристки, заведующие запятыми и хранители большой чугунной печати.
Остап, принявшийся было расхаживать по кинофабрике обычным своим шагом, вскоре заметил, что никак не может включиться в этот кружащийся мир. Никто не отвечал на его расспросы, никто не останавливался.
– Надо будет примениться к особенностям противника, – сказал Остап.
Он тихонько побежал и сразу же почувствовал облегчение. Ему удалось даже перекинуться двумя словечками с какой-то адъютантшей. Тогда великий комбинатор побежал с возможной быстротой и вскоре заметил, что включился в темп. Теперь он бежал ноздря в ноздрю с заведующим литературной частью.
– Сценарий! – крикнул Остап.
– Какой? – спросил завлит, отбивая твердую рысь.
– Хороший! – ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед.
– Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?
– Немой.
Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул:
– Не надо.
– То есть как не надо? – спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать.
– А так. Немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам.
Оба они на миг остановились, остолбенело посмотрели друг на друга и разбежались в разные стороны. Через пять минут Бендер, размахивая рукописью, опять бежал в подходящей компании, между двумя рысистыми консультантами.
– Сценарий! – сообщил Остап, тяжело дыша.
Консультанты, дружно перебирая рычагами, оборотились к Остапу.
– Какой сценарий?
– Звуковой.
– Не надо, – ответили консультанты, наддав ходу.
И великий комбинатор опять сбился с ноги и позорно заскакал.
– Как же это – не надо?
– Так вот и не надо. Звукового кино еще нет.
В течение получаса добросовестной рыси Бендер уяснил себе щекотливое положение дел на 1-й Черноморской кинофабрике. Вся щекотливость заключалась в том, что немое кино уже не работало ввиду наступления эры звукового кино, а звуковое еще не работало по причине организационных неполадок, связанных с ликвидацией эры немого кино.
В разгаре рабочего дня, когда бег ассистентов, консультантов, экспертов, администраторов, режиссеров, адъютантш, осветителей, сценаристов и хранителей большой чугунной печати достиг резвости знаменитого в свое время «Крепыша», распространился слух, что где-то, в какой-то комнате, сидит человек, который в срочном порядке конструирует звуковое кино. Остап со всего ходу вскочил в большой кабинет и остановился, пораженный тишиной. За столом боком сидел маленький человек с бедуинской бородкой и в золотом пенсне со шнурком. Нагнувшись, он с усилием стаскивал с ноги ботинок.
– Здравствуйте, товарищ! – громко сказал великий комбинатор.
Но человек не ответил. Он снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок.
– Здравствуйте, – повторил Остап. – Я принес сценарий.
Человек с бедуинской бородкой не спеша надел ботинок и молча стал его шнуровать. Закончив это дело, он повернулся к своим бумагам и, закрыв один глаз, начал выводить бисерные каракули.
– Что же вы молчите? – заорал Бендер с такой силой, что на столе кинодеятеля звякнула телефонная трубка.
Только тогда кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал:
– Пожалуйста, говорите громче. Я не слышу.
– Пишите ему записки, – посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете, – он глухой.
Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги: «Вы звуковик?»
– Да, – ответил глухой.
«Принес звуковой сценарий. Называется «Шея», народная трагедия в шести частях», – быстро написал Остап.
Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал:
– Прекрасно. Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы.
«Рад содействовать. Как в смысле аванса?» – написал Остап.
– «Шея» – это как раз то, что нам нужно! – сказал глухой. – Посидите здесь, я сейчас приду. Только никуда не уходите. Я ровно через минуту.
Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты.
– Мы вас втянем в звуковую группу! – крикнул он, скрываясь за дверью. – Через минуту я вернусь.
После этого Остап просидел в кабинете полтора часа, но глухой не возвращался. Только выйдя на лестницу и включившись в темп, Остап узнал, что глухой уже давно уехал в автомобиле и сегодня не вернется. И вообще никогда сюда не вернется, потому что его внезапно перебросили в Умань для ведения культработы среди ломовых извозчиков. Но ужаснее всего было то, что глухой увез сценарий многометражного фильма «Шея». Великий комбинатор выбрался из круга бегущих, движения которых все ускорялись, и ошалело опустился на скамью, припав к плечу сидевшего тут же швейцара.
– Вот, например, я! – сказал вдруг швейцар, развивая, видимо, давно мучившую его мысль. – Сказал мне помреж Терентьев бороду отпустить. Будешь, говорит, Навуходоносора играть или Валтасара в фильме, вот названия не помню. Я и отрастил, смотри, какая бородища – патриаршая! А теперь что с ней делать, с бородой! Помреж говорит: не будет больше немого фильма, а в звуковом, говорит, тебе играть невозможно, голос у тебя неприятный. Вот и сижу с бородой, тьфу, как козел! Брить жалко, а носить стыдно. Так и живу.
– А съемки у вас производятся? – спросил Бендер, постепенно приходя в сознание.
– Какие могут быть съемки? – важно ответил бородатый швейцар. – Летошний год сняли немой фильм из римской жизни. До сих пор отсудиться не могут по случаю уголовщины.
– Почему же они все бегают? – осведомился великий комбинатор, показывая на лестницу.
– У нас не все бегают, – заметил швейцар, – вот товарищ Супругов не бегает. Деловой человек. Все думаю к нему насчет бороды сходить, узнать, как за бороду платить будут: по ведомости или ордер отдельный…
Услышав слово «ордер», Остап пошел к Супругову. Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор.
Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо.
– Я занят, – сказал он павлиньим голосом, – вам я могу уделить две минуты.
– Этого вполне достаточно, – начал Остап. – Мой сценарий «Шея»…
– Короче, – сказал Супругов.
– Сценарий «Шея»…
– Вы говорите толком, что вам нужно?
– «Шея»…
– Короче. Сколько вам следует?
– У меня какой-то глухой…
– Товарищ! Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда.
– Девятьсот рублей, – пробормотал великий комбинатор.
– Триста, – категорически заявил Супругов. – Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних полторы минуты.
Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку.
Выйдя из бухгалтерии, Остап сунул деньги в карман и сказал:
– Навуходоносор прав. Один здесь деловой человек – и тот Супругов.
Между тем беготня по лестницам, кружение, визг и гоготанье на 1-й Черноморской кинофабрике достигли предела. Адъютантши скалили зубы. Помрежи вели черного козла, восхищаясь его фотогеничностью. Консультанты, эксперты и хранители чугунной печати сшибались друг с другом и хрипло хохотали. Пронеслась курьерша с помелом. Великому комбинатору почудилось даже, что один из ассистентов-аспирантов в голубых панталонах взлетел над толпой и, обогнув люстру, уселся на карнизе.
В ту же минуту раздался бой вестибюльных часов.
«Бамм!» – ударили часы.
Вопли и клекот потрясли стеклянное ателье. Ассистенты, консультанты, эксперты и редакторы-монтажеры катились вниз по лестницам. У выходных дверей началась свалка.
«Бамм! Бамм!» – били часы.
Тишина выходила из углов. Исчезли хранители большой печати, заведующие запятыми, администраторы и адъютантши. Последний раз мелькнуло помело курьерши.
«Бамм!» – ударили часы в четвертый раз.
В ателье уже никого не было. И только в дверях, зацепившись за медную ручку карманом пиджака, бился, жалобно визжал и рыл копытцами мраморный пол ассистент-аспирант в голубых панталонах.
Служебный день завершился.
С берега, из рыбачьего поселка, донеслось пенье петуха.
Когда антилоповская касса пополнилась киноденьгами, авторитет командора, несколько поблекший после бегства Корейко, упрочился. Паниковскому была выдана небольшая сумма на кефир и обещаны золотые челюсти. Балаганову Остап купил пиджак и в придачу к нему скрипящий, как седло, кожаный бумажник. Хотя бумажник был пуст, Шура часто вынимал его и заглядывал внутрь. Козлевич получил пятьдесят рублей на закупку бензина.
Антилоповцы вели чистую, нравственную, почти что деревенскую жизнь. Они помогали заведующему постоялым двором наводить порядки и вошли в курс цен на ячмень и сметану. Паниковский иногда выходил во двор, озабоченно раскрывал рот ближайшей лошади, глядел на зубы и бормотал: «Добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла.
Один лишь командор пропадал по целым дням, а когда появлялся на постоялом дворе, бывал весел и рассеян. Он подсаживался к друзьям, которые пили чай в грязной стеклянной галерее, закладывал за колено сильную ногу в красном башмаке и дружелюбно говорил:
– В самом ли деле прекрасна жизнь, Паниковский, или мне это только кажется?
– Где это вы безумствуете? – ревниво спрашивал нарушитель конвенции.
– Старик! Эта девушка не про вас, – отвечал Остап.
При этом Балаганов сочувственно хохотал и разглядывал новый бумажник, а Козлевич усмехался в свои кондукторские усы. Он не раз уже катал командора и Зосю по Приморскому шоссе.
Погода благоприятствовала любви. Пикейные жилеты утверждали, что такого августа не было еще со времен порто-франко. Ночь показывала чистое телескопическое небо, а день подкатывал к городу освежающую морскую волну. Дворники у своих ворот торговали полосатыми монастырскими арбузами, и граждане надсаживались, сжимая арбузы с полюсов и склоняя ухо, чтобы услышать желанный треск. По вечерам со спортивных полей возвращались потные счастливые футболисты. За ними, поднимая пыль, бежали мальчики. Они показывали пальцами на знаменитого голкипера, а иногда даже поднимали его на плечи и с уважением несли.
Однажды вечером командор предупредил экипаж «Антилопы», что назавтра предстоит большая увеселительная прогулка за город с раздачей гостинцев.
– Ввиду того что наш детский утренник посетит одна девушка, – сказал Остап значительно, – попросил бы господ вольноопределяющихся умыть лица, почиститься, а главное, не употреблять в поездке грубых выражений.
Паниковский очень взволновался, выпросил у командора три рубля, сбегал в баню и всю ночь потом чистился и скребся, как солдат перед парадом. Он встал раньше всех и очень торопил Козлевича. Антилоповцы смотрели на Паниковского с удивлением. Он был гладко выбрит и припудрен так, что походил на отставного конферансье. Он поминутно обдергивал на себе пиджак и с трудом ворочал шеей в оскар-уайльдовском воротничке.
Во время прогулки Паниковский держался весьма чинно. Когда его знакомили с Зосей, он изящно согнул стан, но при этом так сконфузился, что даже пудра на его щеках покраснела. Сидя в автомобиле, он поджимал левую ногу, скрывая прорванный ботинок, из которого смотрел большой палец. Зося была в белом платье, обшитом красной ниткой. «Антилоповцы» ей очень понравились. Ее смешил грубый Шура Балаганов, который всю дорогу причесывался гребешком «Собинов». Иногда же он очищал нос пальцем, после чего обязательно вынимал носовой платок и томно им обмахивался. Адам Казимирович учил Зосю управлять «Антилопой», чем также завоевал ее расположение. Немного смущал ее Паниковский. Она думала, что он не разговаривает с ней из гордости. Но чаще всего она останавливала взгляд на медальном лице командора.
На заходе солнца Остап роздал обещанные гостинцы. Козлевич получил брелок в виде компаса, который очень подошел к его толстым серебряным часам. Балаганову был преподнесен «Чтец-декламатор» в дерматиновом переплете, а Паниковскому – розовый галстук с синими цветами.
– А теперь, друзья мои, – сказал Бендер, когда «Антилопа» возвратилась в город, – мы с Зосей Викторовной немного погуляем, а вам пора на постоялый двор, бай-бай.
Уже постоялый двор заснул и Балаганов с Козлевичем пускали носами арпеджио, а Паниковский с новым галстуком на шее бродил среди подвод, ломая руки в немой тоске.
– Какая фемина! – шептал он. – Я люблю ее, как дочь!
Остап сидел с Зосей на ступеньках музея древностей. По площади, выложенной лавой, прогуливались молодые люди, любезничая и смеясь. За строем платанов светились окна международного клуба моряков. Иностранные матросы в мягких шляпах шагали по два и по три, обмениваясь непонятными короткими замечаниями.
– Почему вы меня полюбили? – спросила Зося, трогая Остапа за руку.
– Вы нежная и удивительная, – ответил командор, – вы лучше всех на свете.
Долго и молча сидели они в черной тени музейных колонн, думая о маленьком своем счастье. Было тепло и темно, как между ладонями.
– Помните, я рассказывала вам о Корейко? – сказала вдруг Зося. – О том, который делал мне предложение?
– Да, – сказал Остап рассеянно.
– Он очень забавный человек, – продолжала Зося. – Помните, я вам рассказывала, как неожиданно он уехал?
– Да, – сказал Остап более внимательно, – он очень забавный.
– Представьте себе, сегодня я получила от него письмо. Очень забавное…
– Что? – воскликнул влюбленный, поднимаясь с места.
– Вы ревнуете? – лукаво спросила Зося.
– М-м, немножко. Что же вам пишет этот пошляк?
– Он вовсе не пошляк. Он просто очень несчастный и бедный человек. Садитесь, Остап. Почему вы встали? Серьезно, я его совсем не люблю. Он просит меня приехать к нему.
– Куда, куда приехать? – закричал Остап. – Где он?
– Нет, я вам не скажу. Вы ревнивец. Вы его еще убьете.
– Ну что вы, Зося! – осторожно сказал командор. – Просто любопытно узнать, где это люди устраиваются.
– О, он очень далеко. Пишет, что нашел очень выгодную службу, здесь ему мало платили. Он теперь на постройке Восточной Магистрали.
– В каком месте?
– Честное слово, вы слишком любопытны! Нельзя быть таким Отелло!
– Ей-богу, Зося, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось бы узнать, в какой части Восточной Магистрали устраиваются люди.
– Я скажу, если вы хотите. Он работает табельщиком в северном укладочном городке, – кротко сказала девушка, – но он только так называется – городок. На самом деле это поезд. Мне Александр Иванович очень интересно описал. Этот поезд укладывает рельсы. Понимаете? И по ним же движется. А навстречу ему, с юга, идет другой такой же городок. Скоро они встретятся. Тогда будет торжественная смычка. Все это в пустыне, он пишет, верблюды… Правда, интересно?
– Необыкновенно интересно, – сказал великий комбинатор, бегая под колоннами. – Знаете что, Зося, надо идти. Уже поздно. И холодно. И вообще, идемте!
Он поднял Зосю со ступенек, вывел на площадь и здесь замялся.
– Вы разве меня не проводите домой? – тревожно спросила девушка.
– Что? – сказал Остап. – Ах, домой? Видите, я…
– Хорошо, – сухо молвила Зося, – до свиданья. И не приходите больше ко мне. Слышите?
Но великий комбинатор уже ничего не слышал. Только пробежав квартал, он остановился.
– Нежная и удивительная! – пробормотал он.
Остап повернул назад, вслед за любимой. Минуты две он несся под черными деревьями. Потом снова остановился, снял капитанскую фуражку и затоптался на месте.
– Нет, это не Рио-де-Жанейро! – сказал он наконец.
Он сделал еще два колеблющихся шага, опять остановился, нахлобучил фуражку и, уже не рассуждая, помчался на постоялый двор.
В ту же ночь из ворот постоялого двора, бледно светя фарами, выехала «Антилопа». Заспанный Козлевич с усилием поворачивал рулевое колесо. Балаганов успел заснуть в машине во время коротких сборов, Паниковский грустно поводил глазами, вздрагивая от ночной свежести. На его лице еще виднелись следы праздничной пудры.
– Карнавал окончился! – крикнул командор, когда «Антилопа» со стуком проезжала под железнодорожным мостом. – Начинаются суровые будни!
А в комнате старого ребусника у букета засохших роз плакала нежная и удивительная.
Три дороги
«Антилопе» было нехорошо. Она останавливалась даже на легких подъемах и безвольно катилась назад, в моторе слышались посторонние шумы и хрипенье, будто бы под желтым капотом автомобиля кого-то душили. Машина была перегружена. Кроме экипажа, она несла на себе большие запасы горючего. В бидонах и бутылях, которые заполняли все свободные места, булькал бензин. Козлевич покачивал головой, поддавал газу и сокрушенно смотрел на Остапа.
– Адам, – говорил командор, – вы наш отец, мы ваши дети. Курс на восток! У вас есть прекрасный навигационный прибор, компас-брелок. Не сбейтесь с пути!
Антилоповцы катили уже третий день, но, кроме Остапа, никто толком не знал конечной цели нового путешествия. Паниковский тоскливо смотрел на лохматые кукурузные поля и несмело шепелявил:
– Зачем мы опять едем? К чему это все? Так хорошо было в Черноморске.
И при воспоминании о чудной фемине он судорожно вздыхал. Кроме того, ему хотелось есть, а есть было нечего – деньги кончились.
– Вперед! – ответил Остап. – Не нойте, старик! Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? «Студебеккер»? «Линкольн»? «Ройс»? «Испано-сюизу»?
– «Изотта-фраскини», – сказал Козлевич, зарумянившись.
– Хорошо. Вы ее получите. Она будет называться «Антилопа-Вторая» или «Дочь Антилопы», как вам будет угодно. А сейчас нечего унывать. Довольствием я вас обеспечу. Правда, сгорел мой саквояж, но остались несгораемые идеи. Если уж совсем плохо придется, мы остановимся в каком-нибудь счастливом городке и устроим там севильский бой быков. Паниковский будет пикадором. Одно это вызовет нездоровый интерес публики, а следовательно, огромный сбор.
Машина подвигалась по широкому шляху, отмеченному следами тракторных шпор. Шофер неожиданно затормозил.
– Куда ехать? – спросил он. – Три дороги.
Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные лохмы. Узкая тень Балаганова уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная краска, и передовая звезда своевременно сигнализировала наступление ночи.
Три дороги лежали перед антилоповцами – асфальтовая, шоссейная и проселочная. Асфальт еще желтился от солнца, голубой пар стоял над шоссе, проселок был совсем темным и терялся в поле сейчас же за столбом. Остап крикнул на ворону, которая очень испугалась, но не улетела, побродил в раздумье на перекрестке и сказал:
– Объявляю конференцию русских богатырей открытой! Налицо имеются: Илья Муромец – Остап Бендер, Добрыня Никитич – Балаганов, и Алеша Попович – всеми нами уважаемый Михаил Паниковский.
Козлевич, пользуясь остановкой, заполз под «Антилопу» с французским ключом, а потому в число богатырей включен не был.
– Дорогой Добрыня, – распорядился Остап, – станьте, пожалуйста, справа. Мосье Попович, займите ваше место с левой стороны. Приложите ладони ко лбам и вглядывайтесь вперед.
– Что это за шутки еще? – возмутился Алеша Попович. – Я голоден. Едем скорее куда-нибудь.
– Стыдно, Алешенька, – сказал Остап, – станьте, как полагается древнему витязю. И раздумывайте. Смотрите, как Добрыня себя ведет. С него хоть сейчас можно былину писать. Итак, богатыри, по какой дороге ехать? На какой из них валяются деньги, необходимые нам для текущих расходов? Я знаю, Козлевич двинулся бы по асфальту, шоферы любят хорошие дороги. Но Адам – честный человек, он плохо разбирается в жизни. Витязям асфальт ни к чему. Он ведет, вероятно, в зерновой гигант. Мы потеряемся там в шуме машин. Нас еще придавит каким-нибудь «катерпиллером» или комбайном. Умереть под комбайном – это скучно. Нет, богатыри, нам не ехать по асфальтовой дороге. Теперь – шоссе. Козлевич, конечно, от него тоже не отказался бы. Но поверьте Илье Муромцу – шоссе нам не годится. Пусть обвиняют нас в отсталости, но мы не поедем по этой дороге. Чутье подсказывает мне встречу с нетактичными колхозниками и прочими образцовыми гражданами. Кроме того, им не до нас. По их обобществленным угодьям бродят сейчас многочисленные литературные и музыкальные бригады, собирая материалы для агропоэм и огородных кантат. Остается проселок, граждане богатыри! Вот он – древний сказочный путь, по которому двинется «Антилопа»! Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет! Здесь еще летает догорающая жар-птица, и людям нашей профессии перепадают золотые перышки. Здесь сидит еще на своих сундуках Кощей, считавший себя бессмертным и теперь с ужасом убедившийся, что ему приходит конец. Но нам с вами, богатыри, от него кое-что перепадет, в особенности если мы представимся ему в качестве странствующих монахов. С точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет. Адам! Мы едем!
Козлевич грустно вывел машину на проселок, где она немедленно принялась выписывать кренделя, крениться набок и высоко подкидывать пассажиров. Антилоповцы хватались друг за друга, сдавленно ругались и стукались коленями о твердые бидоны.
– Я хочу есть! – стонал Паниковский. – Я хочу гуся! Зачем мы уехали из Черноморска?
Машина визжала, выдираясь из глубокой колеи и снова в нее проваливаясь.
– Держитесь, Адам! – кричал Бендер. – Во что бы то ни стало держитесь! Пусть только «Антилопа» довезет нас до Восточной Магистрали, и мы наградим ее золотыми шинами с мечами и бантами!
Козлевич не слушал. От сумасшедших бросков руль вырывался из его рук. Паниковский продолжал томиться.
– Бендер, – захрипел он вдруг, – вы знаете, как я вас уважаю, но вы ничего не понимаете! Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как я люблю эту птицу! Это дивная, жирная птица, честное, благородное слово. Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка! Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!..
– Знаем, – сказал командор, – видели в Арбатове. Второй раз не советую.
Паниковский замолчал, но уже через минуту, когда новый толчок машины бросил его на Бендера, снова раздался его горячечный шепот:
– Бендер! Он гуляет по дороге. Гусь! Эта дивная птица гуляет, а я стою и делаю вид, что это меня не касается. Он подходит. Сейчас он будет на меня шипеть. Эти птицы думают, что они сильнее всех, и в этом их слабая сторона. Бендер! В этом их слабая сторона!..
Теперь нарушитель конвенции почти пел.
– Он идет на меня и шипит, как граммофон. Но я не из робкого десятка, Бендер! Другой бы на моем месте убежал, а я стою и жду. Вот он подходит и протягивает шею, белую гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укусить. Заметьте, Бендер, моральное преимущество на моей стороне. Не я на него нападаю, он на меня нападает. И тут, в порядке самозащиты, я его хвата…
Но Паниковский не успел закончить своей речи. Раздался ужасный тошнотворный треск, и антилоповцы в секунду очутились прямо на дороге в самых разнообразных позах. Ноги Балаганова торчали из канавы. На животе великого комбинатора лежал бидон с бензином. Паниковский стонал, легко придавленный рессорой. Козлевич поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов.
«Антилопы» не было. На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползала в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича.
И только тогда шофер понял, что все кончилось. «Антилопа» погибла. Адам Казимирович сел на землю и охватил голову руками. Через несколько минут командор тронул его за плечо и сказал изменившимся голосом:
– Адам, нужно идти.
Козлевич встал и сейчас же опустился на прежнее место.
– Надо идти, – повторил Остап. – «Антилопа» была верная машина, но на свете есть еще много машин. Скоро вы сможете выбрать любую. Идем, нам нужно торопиться. Нужно где-нибудь переночевать, поесть, раздобыть денег на билеты. Ехать придется далеко. Идем, идем, Козлевич. Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты. Где Паниковский? Где этот гусекрад? Шура! Ведите Адама!
Козлевича потащили под руки. Он чувствовал себя кавалеристом, у которого, по его недосмотру, погибла лошадь. Ему казалось, что теперь над ним будут смеяться все пешеходы.
После гибели «Антилопы» жизнь сразу затруднилась. Ночевать пришлось в поле.
Остап сразу же сердито заснул, заснули Балаганов с Козлевичем, а Паниковский всю ночь сидел у костра и дрожал.
Антилоповцы поднялись с рассветом, но добраться до ближайшей деревни смогли только к четырем часам дня. Всю дорогу Паниковский плелся позади. Он прихрамывал. От голода глаза его приобрели кошачий блеск, и он, не переставая, жаловался на судьбу и командора.
В деревне Остап приказал экипажу ждать на Третьей улице и никуда не отлучаться, а сам пошел на Первую, в сельсовет. Оттуда он вернулся довольно быстро.
– Все устроено, – сказал он повеселевшим голосом, – сейчас нас поставят на квартиру и дадут пообедать. После обеда мы будем нежиться на сене. Помните – молоко и сено. А вечером мы даем спектакль. Я его уже запродал за пятнадцать рублей. Деньги получены. Шура! Вам придется что-нибудь продекламировать из «Чтеца-декламатора», я буду показывать антирелигиозные карточные фокусы, а Паниковский… Где Паниковский? Куда он девался?
– Он только что был здесь, – сказал Козлевич.
Но тут за плетнем, возле которого стояли антилоповцы, послышалось гусиное гоготанье и бабий визг, пролетели белые перья, и на улицу выбежал Паниковский. Видно, рука изменила тореадору, и он, в порядке самозащиты, нанес птице неправильный удар. За ним гналась хозяйка, размахивая поленом.
– Жалкая, ничтожная женщина! – кричал Паниковский, устремляясь вон из деревни.
– Что за трепло! – воскликнул Остап, не скрывая досады. – Этот негодяй сорвал нам спектакль. Бежим, покуда не отобрали пятнадцать рублей.
Между тем разгневанная хозяйка догнала Паниковского, изловчилась и огрела его поленом по хребту. Нарушитель конвенции свалился наземь, но сейчас же вскочил и помчался с неестественной быстротой. Свершив акт возмездия, хозяйка радостно повернула назад. Пробегая мимо антилоповцев, она погрозила им поленом.
– Теперь наша артистическая карьера окончилась, – сказал Остап, скорым шагом выбираясь из деревни. – Обед, отдых – все пропало.
Паниковского они настигли только километра через три. Он лежал в придорожной траве и громко жаловался. От усталости, страха и боли он побледнел, и многочисленные старческие румянцы сошли с его лица. Он был так жалок, что командор отменил расправу, которую собирался над ним учинить.
– Хлопнули Алешу Поповича да по могутной спинушке! – сказал Остап, проходя.
Все посмотрели на Паниковского с отвращением. И опять он потащился в конце колонны, стеная и лепеча:
– Подождите меня, не спешите. Я старый, я больной, мне плохо… Гусь! Ножка! Шейка! Фемина!.. Жалкие, ничтожные люди!..
Но антилоповцы так привыкли к жалобам старика, что не обращали на них внимания. Голод гнал их вперед. Никогда еще им не было так тесно и неудобно на свете. Дорога тянулась бесконечно, и Паниковский отставал все больше и больше. Друзья уже спустились в неширокую желтую долину, а нарушитель конвенции все еще черно рисовался на гребне холма в зеленоватом сумеречном небе.
– Старик стал невозможным! – сказал голодный Бендер. – Придется его рассчитать. Идите, Шура, притащите этого симулянта!
Недовольный Балаганов отправился выполнять поручение. Пока он взбегал на холм, фигура Паниковского исчезла.
– Что-то случилось, – сказал Козлевич через несколько времени, глядя на гребень, с которого семафорил руками Балаганов.
Шофер и командор поднялись вверх.
Нарушитель конвенции лежал посреди дороги неподвижно, как кукла. Розовая лента галстука косо пересекала его грудь. Одна рука была подвернута под спину. Глаза дерзко смотрели в небо. Паниковский был мертв.
– Паралич сердца, – сказал Остап, чтобы хоть что-нибудь сказать. – Могу определить и без стетоскопа. Бедный старик.
Он отвернулся. Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:
– А я его побил за гири. И еще раньше с ним дрался.
Козлевич вспомнил о погибшей «Антилопе», с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.
– Бросьте, Адам! – сказал великий комбинатор. – Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: «Бог дал, бог и взял», потом: «Все под богом ходим», а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: «Ему теперь все-таки лучше, чем нам». Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.
Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции нашлось последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Давно, видно, стояла эта плита у дороги. Может быть, красовалась на ней некогда надпись: «Владћнiе помћщика отставного майора Георгiя Афанасьевича Волкъ-Лисицкаго», а может быть, был это просто межевой знак потемкинских времен; да это было и неважно. Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию:
Здесь лежит
МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ
ПАНИКОВСКИЙ,
человек без паспорта
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:
– Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику.
Балаганов даже подступил к могиле, чтобы высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.
Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция.
– А вот и цивилизация, – сказал Остап, – может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях. Утром двинем на восток. Как вы полагаете?
Шофер и бортмеханик безмолвствовали.
– Что же вы молчите, как женихи?
– Знаете, Бендер, – сказал наконец Балаганов, – я не поеду. Вы не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы там все пропадем. Я остаюсь.
– Я то же хотел вам сказать, – поддержал Козлевич.
– Как хотите, – заметил Остап с внезапной сухостью.
На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа-молния. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в предрассветную темноту за семафор.
– Какой поезд? – спросил Остап.
– Литерный, – нервно ответил начальник станции, поправляя красную фуражку с серебряными позументами. – Особого назначения. Задержан на две минуты. Разъезд пропуска не дает.
Раздался гул, задрожала проволока, из гула вылупились волчьи глазки, и короткий блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов, под самым носом антилоповцев пронеслись букеты и винные бутылки вагона-ресторана, на ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью. Вдоль вагонов висели хвойные дуги и лозунги: «Привет героям – строителям Восточной Магистрали».
Литерный поезд с гостями шел на торжество открытия дороги.
Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова появился и зашептал:
– Я еду! Как еду – не знаю, но еду! Хотите со мной? Последний раз спрашиваю.
– Нет, – сказал Балаганов.
– Не поеду, – сказал Козлевич, – не могу больше.
– Что ж вы будете делать?
– А что мне делать? – ответил Шура. – Пойду в дети лейтенанта Шмидта, и все.
– «Антилопу» думаю собрать, – жалобно молвил Адам Казимирович, – пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам.
Остап хотел что-то сказать, но длинный свисток закрыл ему рот. Он притянул к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевичем, махнул рукой и побежал к поезду, вагоны которого уже сталкивались между собой от первого толчка паровоза. Но, не добежав, он повернул назад, сунул в руку Козлевича пятнадцать рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку движущегося поезда.
Оглянувшись, он увидел в сиреневой мгле две маленькие фигурки, поднимавшиеся по насыпи. Балаганов возвращался в беспокойный стан детей лейтенанта Шмидта. Козлевич брел к останкам «Антилопы».
Частное лицо
Пассажир литерного поезда
У асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего шесть вагонов: багажный, где, против обыкновения, помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи, вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, правительственный салон. Остальные три вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместиться делегации рабочих-ударников, а также иностранным и советским корреспондентам.
Поезд готовился выйти на смычку рельсов Восточной Магистрали.
Путешествие предстояло длительное. Ударники впихивали в вагонный тамбур дорожные корзины с болтающимися на железном пруте черными замочками. Советская пресса металась по перрону, размахивая лакированными фанерными саквояжами.
Иностранцы следили за носильщиками, переносившими их толстые кожаные чемоданы, кофры и картонки с цветными наклейками туристских бюро и пароходных компаний.
Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная Магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельсы. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком Магистрали и ехал туда уже в третий раз.
Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского поезда. Не было на перроне старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд на своего дедушку. Разумеется, не было и дедушки, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих-ударников доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделываться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты, в количестве тридцати человек, ехали на открытие Магистрали в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому.
Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой и годами, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина.
– Противно на вас смотреть! – кричал он провожающим. – Разве вы можете понять, что такое Восточная Магистраль!
Если бы руки горячего Лавуазьяна не были бы заняты большой пишущей машиной в клеенчатом кучерском чехле, то он, может быть, даже и побил бы кого-нибудь из друзей, так он был страстен и предан делу газетной информации. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем было.
Прибывший на вокзал раньше всех сотрудник профсоюзного органа Ухудшанский неторопливо расхаживал вдоль поезда. Он нес с собой «Туркестанский край, полное географическое описание нашего отечества, настольная и дорожная книга для русских людей», сочинение Семенова-Тян-Шанского, изданное в 1903 году. Он останавливался около групп отъезжающих и провожающих и с некоторой сатирической нотой в голосе говорил:
– Уезжаете? Ну-ну!
Или:
– Остаетесь? Ну-ну!
Таким манером он прошел к голове поезда, долго, откинув голову назад, смотрел на паровоз и наконец сказал машинисту:
– Работаете? Ну-ну.
Затем журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием «Улучшить работу лавочных комиссий» с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно». Статья заключала в себе отчет о каком-то заседании, и отношение автора к описываемому событию можно было бы определить одной фразой: «Заседаете? Ну-ну». Ухудшанский читал до самого отъезда.
Один из провожающих, человек с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напугавшее.
– Я знаю такие поездки, – заявил он, – сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас человек сто. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и оборванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Паламидова, или у Лавуазьяна, или у Навроцкого. И потерпевший будет ныть всю дорогу, выпрашивать у соседей кисточку для бритья. Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и друзья покойного, вместо того чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Это очень скучно и противно – возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Поверьте мне! Кто-нибудь, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок. И вы будете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея: бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата. И конечно же, все вы по вечерам будете петь в вагоне «Стеньку Разина», будете глупо реветь: «И за борт ее бросает в надлежащую волну». Мало того, даже иностранцы будут петь: «Вниз по матушке, по Вольге, сюр нотр мер Вольга, по нашей матери Волге».
Лавуазьян разгневался и замахнулся на пророка пишущей машиной.
– Вы нам завидуете! – сказал он. – Мы не будем петь.
– Запоете, голубчики. Это неизбежно. Уж мне все известно.
– Не будем петь.
– Будете. И если вы честные люди, то немедленно напишите мне об этом открытку.
В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фоторепортер Меньшов. Он взобрался туда для того, чтобы заснять моменты отъезда. Несколько минут Меньшов лежал на высоком перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу.
– Падаете? – спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.
– Какое это падение! – презрительно сказал фоторепортер. – Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке культуры и отдыха!
– Ну-ну, – заметил представитель профоргана и скрылся в окне.
Взобравшись на крышу и припав на одно колено, Меньшов продолжал работу. На него с выражением живейшего удовлетворения смотрел норвежский писатель, который уже разместил свои вещи в купе и вышел на перрон прогуляться. У писателя были светлые детские волосы и большой варяжский нос. Норвежец был так восхищен фотомолодечеством Меньшова, что почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Быстрыми шагами он подошел к старику ударнику с Трехгорки, приставил свой указательный палец к его груди и пронзительно воскликнул:
– Вы!!
Затем он указал на собственную грудь и так же пронзительно вскричал:
– Я!!
Исчерпав таким образом все имевшиеся в его распоряжении русские слова, писатель приветливо улыбнулся и побежал к своему вагону, так как прозвучал второй звонок. Ударник тоже побежал к себе. Меньшов спустился на землю. Закивали головы, показались последние улыбки, пробежал фельетонист в пальто с черным бархатным воротником. Когда хвост поезда уже мотался на выходной стрелке, из буфетного зала выскочили два брата— корреспондента, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. В зубах у Скамейкина был зажат шницель по-венски. Братья, прыгая, как молодые собаки, промчались вдоль перрона, соскочили на запятнанную нефтью землю и только здесь, среди шпал, поняли, что за поездом им не угнаться.
А поезд, выбегая из строящейся Москвы, уже завел свою оглушительную песню. Он бил колесами, адски хохотал под мостами и, только оказавшись среди дачных лесов, немного поуспокоился и развил большую скорость. Ему предстояло описать на глобусе порядочную кривую, предстояло переменить несколько климатических провинций, – переместиться из центральной прохлады в горячую пустыню, миновать много больших и малых городов и перегнать московское время на четыре часа.
К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника капиталистического мира: представитель свободомыслящей австрийской газеты господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин Гейнрих был невелик ростом. На мистере Хираме была мягкая шляпа с подкрученными полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все молча стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о Художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его как сиониста больше всего интересует еврейский вопрос.
– У нас такого вопроса уже нет, – сказал Паламидов.
– Как же может не быть еврейского вопроса? – удивился Хирам.
– Нету. Не существует.
Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.
– Но ведь в России есть евреи? – сказал он осторожно.
– Есть, – ответил Паламидов.
– Значит, есть и вопрос?
– Нет. Евреи есть, а вопроса нет.
Электричество, скопившееся в вагонном коридоре, было несколько разряжено появлением Ухудшанского. Он шел к умывальнику с полотенцем на шее.
– Разговариваете? – сказал он, покачиваясь от быстрого хода поезда. – Ну-ну!
Когда он возвращался назад, чистый и бодрый, с каплями воды на висках, спор охватил уже весь коридор. Из купе вышли совжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца, итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим ликторский пучок и топорик, в петлице пиджака, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Вокса. Фронт спора был очень широк – от строительства социализма в СССР до входящих на Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия.
– Спорите? Ну-ну, – сказал Ухудшанский, удаляясь в свое купе.
В общем шуме можно было различить только отдельные выкрики.
– Раз так, – говорил господин Гейнрих, хватая путиловца Суворова за косоворотку, – то почему вы тринадцать лет только болтаете? Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите? Значит, не можете? Тогда перестаньте болтать!
– А мы и не будем делать у вас революции! Сами сделаете.
– Я? Нет, я не буду делать революции.
– Ну, без вас сделают и вас не спросят.
Мистер Хирам Бурман стоял, прислонившись к тисненому кожаному простенку, и безучастно глядел на спорящих.
Еврейский вопрос провалился в какую-то дискуссионную трещину в самом же начале разговора, а другие темы не вызывали в его душе никаких эмоций. От группы, где немецкий профессор положительно отзывался о преимуществах советского брака перед церковным, отделился стихотворный фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Гаргантюа. Он подошел к призадумавшемуся Хираму и стал что-то с жаром ему объяснять. Хирам принялся слушать, но скоро убедился, что ровно ничего не может разобрать. Между тем Гаргантюа, поминутно поправляя что-нибудь в туалете Хирама, то подвязывая ему галстук, то снимая с него пушинку, то застегивая и снова расстегивая пуговицу, говорил довольно громко и, казалось, даже отчетливо. Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения.
– Ведь верно? – говорил он, ворочая головой, словно бы собирался своим большим хорошим носом клюнуть некий корм. – Ведь правильно? Понятно?
Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашались с Гаргантюа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно.
– Вот видите, – сказал он Паламидову, – вы не умеете разговаривать с людьми. А я его убедил. Только что я ему доказал, и он со мной согласился, что никакого еврейского вопроса у нас уже не существует. Ведь верно? Ведь правильно?
Паламидов ничего не разобрал и, кивнув головой, стал вслушиваться в беседу, происходившую между немецким востоковедом и проводником вагона. Проводник давно порывался вступить в разговор и только сейчас нашел свободного слушателя по плечу. Узнав предварительно звание, а также имя и фамилию собеседника, проводник отставил веник в сторону и плавно начал:
– Вы, наверно, не слыхали, гражданин профессор, в Средней Азии есть такое животное, называется верблюд. У него на спине две кочки имеются. И был у меня железнодорожник знакомый, вы, наверно, слыхали, товарищ Должностюк, багажный раздатчик. Сел он на этого верблюда между кочек и ударил его хлыстом. А верблюд был злой и стал его кочками давить, чуть было вовсе не задавил. Должностюк, однако, успел соскочить. Боевой был парень, вы, наверно, слыхали. Тут верблюд ему весь китель оплевал, а китель только из прачечной…
Вечерняя беседа догорала. Столкновение двух миров окончилось благополучно. Ссоры как-то не вышло. Сосуществование в литерном поезде двух систем – капиталистической и социалистической – волей-неволей должно было продолжаться около месяца. Враг мировой революции, господин Гейнрих, рассказал старый дорожный анекдот, после чего все пошли в ресторан ужинать, переходя из вагона в вагон по трясущимся железным щитам и жмуря глаза от сквозного ветра. В ресторане, однако, население поезда расселось порознь. Тут же, за ужином, состоялись смотрины. Заграница, представленная корреспондентами крупнейших газет и телеграфных агентств всего мира, чинно налегла на хлебное вино и с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков.
Разные люди сидели в вагоне-ресторане: и провинциал из Нью-Йорка мистер Бурман, и канадская девушка, прибывшая из-за океана только за час до отхода литерного поезда и поэтому еще очумело вертевшая головой над котлетой в длинной металлической тарелочке, и японский дипломат, и другой японец, помоложе, и господин Гейнрих, желтые глаза которого чему-то усмехались, и молодой английский дипломат с тонкой теннисной талией, и немец-востоковед, весьма терпеливо выслушавший рассказ проводника о существовании странного животного с двумя кочками на спине, и американский экономист, и чехословак, и поляк, и четыре американских корреспондента, в том числе пастор, пишущий в газете союза христианских молодых людей, и стопроцентная американка из старинной пионерской семьи с голландской фамилией, которая прославилась тем, что в прошлом году отстала в Минеральных Водах от поезда и в целях рекламы некоторое время скрывалась в станционном буфете (это событие вызвало в американской прессе большой переполох. Три дня печатались статьи под заманчивыми заголовками: «Девушка из старинной семьи в лапах диких кавказских горцев» и «Смерть или выкуп»), и многие другие. Одни относились ко всему советскому враждебно, другие надеялись в наикратчайший срок разгадать загадочные души азиатов, и третьи, старавшиеся добросовестно уразуметь, что же, в конце концов, происходит в Стране Советов.
Советская сторона шумела за своими столиками. Ударники принесли еду с собою в бумажных пакетах и налегли на чай с лимоном в подстаканниках из белого крупповского металла. Более состоятельные журналисты заказали шницеля, а Лавуазьян, которого внезапно охватил припадок славянизма, решил не ударить лицом в грязь перед иностранцами и потребовал почки-соте. Почек он не съел, так как не любил их сызмальства, но тем не менее надулся гордостью и бросал на иноземцев вызывающие взгляды. И на советской стороне были разные люди. Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы.
Сидели тут металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром. Как бы удивился дипломат с теннисной талией, если бы узнал, что маленький вежливый стихотворец Гаргантюа восемь раз был в плену у разных гайдамацких атаманов и один раз даже был расстрелян махновцами, о чем не любил распространяться, так как сохранил неприятнейшие воспоминания, выбираясь с простреленным плечом из общей могилы.
Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснив, что веселый Паламидов был председателем армейского трибунала, а Лавуазьян в интересах газетной информации переоделся женщиной, проник на собрание баптисток, о чем и написал большую антирелигиозную корреспонденцию, что ни один из присутствующих советских граждан не крестил своих детей и что среди этих исчадий ада имеются даже четыре писателя.
Разные люди сидели в вагоне-ресторане.
На второй день сбылись слова плюшевого пророка. Когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литерные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили «Эй, полна, полна коробочка» с не менее странным припевом «Эх, юхнем!». Открытки человеку с плюшевым носом никто не послал, было совестно. Один лишь Ухудшанский крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая губы и делая вид, что читает «Полное географическое описание нашего отечества». Он был строго наказан. Музыкальный пароксизм случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда необыкновенный поезд уже спал, из купе Ухудшанского послышался шатающийся голос: «Есть на Волге утес, диким мохом порос». Путешествие взяло свое.
А еще позже, когда заснул и Ухудшанский, дверь с площадки отворилась, на секунду послышался вольный гром колес, и в пустой блистающий коридор, озираясь, вошел Остап Бендер. Секунду он колебался, потом сонно махнул рукой и раскрыл первую же дверь купе. При свете синей ночной лампочки спали Гаргантюа, Ухудшанский и фотограф Меньшов. Четвертый, верхний диванчик был пуст. Великий комбинатор не стал раздумывать. Чувствуя слабость в ногах после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и двухчасового стояния на подножке вагона, он взобрался наверх. Оттуда представилось чудесное видение – у окна, на столике, задрав ножки вверх, как оглобли, лежала белотелая вареная курица.
– Я иду по неверному пути Паниковского, – прошептал Остап.
С этими словами он поднял курицу к себе и съел ее без хлеба и соли. Косточки он засунул под твердый холщовый валик. Он заснул счастливый под скрипение переборок, вдыхая неповторимый железнодорожный запах краски.
«Позвольте войти наемнику капитала!»
Ночью Остапу приснилось грустное затушеванное лицо Зоси, а потом появился Паниковский. Нарушитель конвенции был в извозчичьей шляпе с пером и, ломая руки, говорил: «Бендер! Бендер! Вы не знаете, что такое курица! Это дивная, жирная птица, курица!» Остап не понимал и сердился: «Какая курица? Ведь ваша специальность – гусь!» Но Паниковский настаивал на своем: «Курица, курица, курица!»
Бендер проснулся. Низко над головой он увидел потолок, выгнутый, как крышка бабушкиного сундука. У самого носа великого комбинатора шевелилась багажная сетка. В купе было очень светло. В полуспущенное окно рвался горячий воздух оренбургской степи.
– Курица! – донеслось снизу. – Куда же девалась моя курица? Кроме нас, в купе никого нет! Ведь верно? Позвольте, а это чьи ноги?
Остап закрыл глаза рукой и тут же с неудовольствием вспомнил, что так делывал и Паниковский, когда ему грозила беда. Отняв руку, великий комбинатор увидел две головы, показавшиеся на уровне его полки.
– Спите? Ну-ну! – сказала первая голова.
– Скажите, дорогой, – доброжелательно молвила вторая, – это вы съели мою курицу? Ведь верно? Ведь правильно?
Фоторепортер Меньшов сидел внизу, по локоть засунув обе руки в черный фотографический мешок. Он перезаряжал кассеты.
– Да, – вызывающе сказал Остап, – я ее съел.
– Вот спасибо! – неожиданно воскликнул Гаргантюа. – А я уж и не знал, что с ней делать. Ведь жара, курица могла испортиться. Правильно? Выбрасывать жалко! Ведь верно?
– Разумеется, – сказал Остап осторожно, – я очень рад, что смог оказать вам эту маленькую услугу.
– Вы от какой газеты? – спросил фоторепортер, продолжая с томной улыбкой шарить в мешке. – Вы не в Москве сели?
– Вы, я вижу, фотограф, – сказал Остап, уклоняясь от прямого ответа, – знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся.
Меньшов засмеялся. Шутка нового пассажира пришлась ему по вкусу. И в это утро никто больше не задавал великому комбинатору скользких вопросов. Он спрыгнул с дивана и, погладив свои щеки, на которых за три дня отросла разбойничья щетина, вопросительно посмотрел на доброго Гаргантюа. Стихотворный фельетонист распаковал чемодан, вынул оттуда бритвенный прибор и, протянув его Остапу, долго что-то объяснял, клюя невидимый корм и поминутно требуя подтверждения своим словам.
Покуда Остап брился, мылся и чистился, Меньшов, опоясанный фотографическими ремнями, распространил по всему вагону известие, что в их купе едет новый провинциальный корреспондент, догнавший ночью поезд на аэроплане и съевший курицу Гаргантюа. Рассказ о курице вызвал большое оживление. Почти все корреспонденты захватили с собой в дорогу домашнюю снедь: коржики, рубленые котлеты, батоны и крутые яйца. Эту снедь никто не ел. Корреспонденты предпочитали ходить в ресторан. И не успел Бендер закончить свой туалет, как в купе явился тучный писатель в мягкой детской курточке. Он положил на стол перед Остапом двенадцать яиц и сказал:
– Съешьте. Это яйца. Раз яйца существуют, то должен же кто-нибудь их есть?
Потом писатель выглянул в окно, посмотрел на бородавчатую степь и с горечью молвил:
– Пустыня – это бездарно! Но она существует. И с этим приходится считаться.
Он был философ. Выслушав благодарность Остапа, писатель потряс головой и пошел к себе дописывать рассказ. Будучи человеком пунктуальным, он твердо решил каждый день обязательно писать по рассказу. Это решение он выполнял с прилежностью первого ученика. По-видимому, он вдохновлялся мыслью, что раз бумага существует, то должен же на ней кто-нибудь писать.
Примеру философа последовали другие пассажиры. Навроцкий принес фаршированный перец в банке, Лавуазьян – котлеты с налипшими на них газетными строчками, Сапегин – селедку и коржики, а Днестров – стакан яблочного повидла. Приходили и другие, но Остап прекратил прием.
– Не могу, не могу, друзья мои, – говорил он, – сделай одному одолжение, как уже все наваливаются.
Корреспонденты ему очень понравились. Остап готов был умилиться, но он так наелся, что был не в состоянии предаваться каким бы то ни было чувствам. Он с трудом влез на свой диван и проспал почти весь день.
Шли третьи сутки пути. В ожидании событий литерный поезд томился. До Магистрали было еще далеко, ничего достопримечательного не случилось, и все же московские корреспонденты, иссушаемые вынужденным бездельем, подозрительно косились друг на друга.
«Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию?»
Наконец Лавуазьян не сдержался и отправил телеграфное сообщение:
«Проехали Оренбург тчк трубы паровоза валит дым тчк молнируйте инструкции аральское море лавуазьян».
Тайна вскоре раскрылась, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь. Все послали короткие сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из коей валит дым.
Для иностранцев широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха в остроконечной меховой шапке и с кнутом в руке. На полустанке, где поезд случайно задержался, по меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились на верблюжью морду. Началась экзотика, корабли пустыни, вольнолюбивые сыны степей и прочее романтическое тягло.
Американка из старинной семьи вышла из вагона в круглых очках с темными стеклами. От солнечного света ее защищал также зеленый зонтик. В таком виде ее долго снимал ручной кинокамерой «Аймо» седой американец. Сначала она стояла рядом с верблюдом, потом впереди него и, наконец, на нем, уместившись между кочками, о которых так тепло рассказывал проводник. Маленький и злой Гейнрих шнырял в толпе и всем говорил:
– Вы за ней присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в американской прессе: «Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда».
Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга. У них были совершенно одинаковые, чуть сплющенные лица, жесткие усы, желтая лакированная кожа и глаза, припухшие и неширокие. Они сошли бы за близнецов, если бы казах не был в бараньей шубе, подпоясанной ситцевым кушаком, а японец в сером лондонском костюме и если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не кончил двадцать лет назад двух университетов – в Токио и Париже. Дипломат отошел на шаг, нагнул голову к зеркалке и щелкнул затвором. Казах засмеялся, сел на своего шершавого конька и двинулся в степь.
Но уже на следующей станции в романтическую повесть вошли новые элементы. За станционным зданием лежали красные цилиндрические бочки – железная тара для горючего, желтело новое деревянное здание, и перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга. На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черных рабочих штанах и валенках. Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Впереди всех крался Меньшов. В зубах он держал алюминиевую кассету и движениями своими напоминал стрелка, делающего перебежку в цепи. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась скромнее. Снимков пять она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте, позади машин, виднелась цепочка верблюдов. Все это – тракторы и верблюды – отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого?».
Остап проснулся перед заходом солнца. Поезд продолжал бежать в пустыне. По коридору бегал Лавуазьян, подбивая товарищей на издание специальной поездной газеты. Он даже придумал название – «На всех парах».
– Ну, что это за название! – сказал Остап. – Вот я видел стенгазету одной пожарной команды, называлась она – «Из огня да в полымя». Это было по существу.
– Вы – профессионал пера! – закричал Лавуазьян. – Сознайтесь, что вам просто лень писать для рупора поездной общественности!
Великий комбинатор не отрицал того, что он профессионал пера. В случае надобности он мог бы без запинки объяснить, какой орган печати представляет он в этом поезде, – «Черноморскую газету». Впрочем, в этом не было особенной нужды и потому, что поезд был специальный и его не посещали сердитые контролеры с никелированными щипцами. Но Лавуазьян уже сидел со своей пишущей машинкой в вагоне ударников, где его предложение вызвало суматоху. Уже старик с Трехгорки писал химическим карандашом заметку о необходимости устроить в поезде вечер обмена опытом и литературное чтение, уже искали карикатуриста и мобилизовали Навроцкого для собирания анкеты о том, какое предприятие из числа представленных делегатами лучше выполнило промфинплан.
Вечером в купе Гаргантюа, Меньшова, Ухудшанского и Бендера собралось множество газетного народа. Сидели тесно, по шесть человек на диванчике. Сверху свешивались головы и ноги. Ощутительно свежая ночь остудила журналистов, страдавших весь день от жары, а длинные такты колес, не утихавшие уже три дня, располагали к дружбе. Говорили о Восточной Магистрали, вспоминали своих редакторов и секретарей, рассказывали о смешных газетных ляпсусах и всем скопом журили Ухудшанского за отсутствие в его характере журналистской жилки. Ухудшанский высоко поднимал голову и с превосходством отвечал:
– Треплетесь? Ну-ну!
В разгаре веселья явился господин Гейнрих.
– Позвольте войти наемнику капитала, – бойко сказал он.
Гейнрих устроился на коленях толстого писателя, отчего писатель крякнул и стоически подумал: «Раз у меня есть колени, то должен же кто-нибудь на них сидеть? Вот он и сидит».
– Ну, как строится социализм? – нахально спросил представитель свободомыслящей газеты.
Как-то так случилось, что со всеми поездными иностранцами обращались учтиво, добавляя к фамилиям «мистер», «герр» или «синьор», а корреспондента свободомыслящей газеты называли просто Гейнрих, считали трепачом и не принимали всерьез. Поэтому на прямо поставленный вопрос Паламидов ответил:
– Гейнрих! Напрасно вы хлопочете! Сейчас вы будете опять ругать советскую власть, это скучно и неинтересно. И потом, мы это можем услышать от злой старушки из очереди.
– Совсем не то, – сказал Гейнрих, – я хочу рассказать библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите?
– Слушайте, Гейнрих, почему вы так хорошо говорите по-русски? – спросил Сапегин.
– Научился в Одессе, когда в тысяча девятьсот восемнадцатом году с армией генерала фон Бельца оккупировал этот чудный город. Я состоял тогда в чине лейтенанта. Вы, наверно, слышали про фон Бельца?
– Не только слышали, – сказал Паламидов, – но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, когда узнал, что в вашем отечестве произошла революция.
При слове «революция» господин Гейнрих невесело улыбнулся и сказал:
– Генерал был верен присяге.
– А вы почему не застрелились, Гейнрих? – спросили с верхней полки. – Как у вас там вышло с присягой?
– Ну что, будете слушать библейскую историю? – раздраженно сказал представитель свободомыслящей газеты.
Однако его еще некоторое время пытали расспросами насчет присяги и только тогда, когда он совсем уже разобиделся и собрался уходить, согласились слушать историю.
РАССКАЗ ГОСПОДИНА ГЕЙНРИХА
ОБ АДАМЕ И ЕВЕ
– Был, господа, в Москве молодой человек, комсомолец. Звали его – Адам. И была в том же городе молодая девушка, комсомолка Ева. И вот эти молодые люди отправились однажды погулять в московский рай – в Парк культуры и отдыха. Не знаю, о чем они там беседовали. У нас обычно молодые люди беседуют о любви. Но ваши Адам и Ева были марксисты и, возможно, говорили о мировой революции. Во всяком случае, вышло так, что, прогуливаясь по бывшему Нескучному саду, они присели на траву под деревом. Не знаю, какое это было дерево. Может быть, это было древо познания добра и зла. Но марксисты, как вам известно, не любят мистики. Им, по всей вероятности, показалось, что это простая рябина. Продолжая беседовать, Ева сорвала с дерева ветку и подарила ее Адаму. Но тут показался человек, которого лишенные воображения молодые марксисты приняли за садового сторожа. А между тем это был, по всей вероятности, ангел с огненным мечом. Ругаясь и ворча, ангел повел Адама и Еву в контору на предмет составления протокола за повреждения, нанесенные садовому хозяйству. Это ничтожное бытовое происшествие отвлекло молодых людей от высокой политики, и Адам увидел, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева заметила, что перед ней стоит мужественный Адам. И молодые люди полюбили друг друга. Через три года у них было уже два сына.
Дойдя до этого места, господин Гейнрих неожиданно умолк, запихивая в рукава мягкие полосатые манжеты.
– Ну и что же? – спросил Лавуазьян.
– А то, – гордо сказал Гейнрих, – что одного сына зовут Каин, а другого – Авель, и что через известный срок Каин убьет Авеля, Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Все повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с тремя сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится, господа. И так далее. Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятитесь насчет новой жизни.
И Гейнрих удовлетворенно откинулся назад, придавив узкой селедочной спиной толстого добродушного писателя.
– Все это было бы прекрасно, – сказал Паламидов, – если было бы подкреплено доказательствами. Но доказать вы ничего не можете. Вам просто хочется, чтобы было так. Запрещать вам верить в чудо, на которое вы только и надеетесь, нет надобности. Верьте, молитесь.
– А у вас есть доказательства, что будет иначе? – воскликнул представитель свободомыслящей газеты.
– Есть, – ответил Паламидов, – одно из них вы увидите послезавтра, на смычке Восточной Магистрали.
– Ну-у, начинается! – заворчал Гейнрих. – Строительство! Заводы! Пятилетка! Что вы мне тычете в глаза свое железо? Важен дух! Все повторится! Будет и Тридцатилетняя война, и Столетняя война, и опять будут сжигать людей, которые посмеют сказать, что земля круглая. И опять обманут бедного Иакова, заставив его работать семь лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой Рахили. Все, все повторится. И Вечный Жид по-прежнему будет скитаться по земле…
– Вечный Жид никогда больше не будет скитаться! – сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором.
– И на это вы тоже можете представить доказательства в течение двух дней? – возопил Гейнрих.
– Хоть сейчас, – любезно ответил Остап. – Если общество позволит, я расскажу о том, что произошло с так называемым Вечным Жидом.
Общество охотно позволило. Все приготовились слушать рассказ нового пассажира, а Ухудшанский даже промолвил: «Рассказываете? Ну-ну!»
И великий комбинатор начал.
РАССКАЗ ОСТАПА БЕНДЕРА
О ВЕЧНОМ ЖИДЕ
– Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. Скажу только, что около двух тысяч лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гражданам своими жалобами на высокие железнодорожные тарифы, из-за которых ему приходилось ходить пешком. Его видели множество раз. Он присутствовал на историческом заседании, где Колумбу так и не удалось отчитаться в авансовых суммах, взятых на открытие Америки. Еще совсем молодым человеком он видел пожар Рима. Лет полтораста прожил в Индии, необыкновенно поражая йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но Вечный Жид был неграмотен и к тому же имел дырявую память.
Не так давно старик проживал в прекрасном городе Рио-де-Жанейро, пил прохладительные напитки, глядел на океанские пароходы и разгуливал под пальмами в белых штанах – штаны эти он купил по случаю восемьсот лет назад, в Палестине, у какого-то рыцаря, отвоевывающего гроб господень, и они были еще совсем как новые. И вдруг старик забеспокоился. Захотелось ему в Россию, на Днепр. Он бывал везде: и на Рейне, и на Ганге, и на Миссисипи, и на Ян-Цзы, и на Нигере, и на Волге. И не был он только на Днепре. Захотелось ему, видите ли, бросить взгляд и на эту широкую реку.
Аккурат в 1919 году Вечный Жид в своих рыцарских брюках нелегально перешел румынскую границу. Стоит ли говорить о том, что на животе у него хранились восемь пар шелковых чулок и флакон парижских духов, которые одна кишиневская дама просила передать киевским родственникам. В то бурное время ношение контрабанды на животе называлось «носить в припарку». Этому делу старика живо обучили в Кишиневе. Когда Вечный Жид, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зеленую бороду, к нему подошел человек с желто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и строго спросил:
– Жид?
– Жид, – ответил старик.
– Ну, пойдем, – пригласил человек с лампасами.
И повел его к куренному атаману.
– Жида поймали, – доложил он, подталкивая старика коленом.
– Жид? – спросил атаман с веселым удивлением.
– Жид, – ответил скиталец.
– А вот поставьте его к стенке, – ласково сказал куренной.
– Но ведь я же Вечный! – закричал старик.
Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.
– Молчи, жидовская морда! – радостно закричал чубатый атаман. – Рубай его, хлопцы-молодцы!
И вечного странника не стало.
– Вот и все, – заключил Остап.
– Думаю, что вам, господин Гейнрих, как бывшему лейтенанту австрийской армии, известны повадки ваших друзей-петлюровцев? – сказал Паламидов.
Гейнрих ничего не ответил и сейчас же ушел. Сначала все думали, что он обиделся, но уже на другой день выяснилось, что из советского вагона корреспондент свободомыслящей газеты направился к мистеру Хираму Бурману, которому и продал историю о Вечном Жиде за сорок долларов. И Хирам на первой же станции передал рассказ Остапа Бендера по телеграфу в свою газету.
Потный вал вдохновенья
Наутро четвертого дня пути поезд взял на восток. Пустыня окончилась. Мимо снеговых цепей – Гималайских отрогов, – с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил – и выскочил наконец на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом Восточной Магистрали.
В клубах удивительного солнечного света, на фоне алюминиевых гор, стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороге.
В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиною с кошку, модель паровоза, или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения.
Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и «овечка», как принято называть в полосе отчуждения паровозы серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покатил к южному истоку Магистрали – станции Горной.
Ровно два года назад здесь лег на землю первый черно-синий рельс, выпущенный уральским заводом. С тех пор из прокатных станов завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершение всего устроили соревнование и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго.
Вечер на станции Горной, освещенной розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы они здесь имелись, конечно, сказали бы, что такого вечера они не припомнят. К счастью, в Горной старожилов не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилов, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литерный поезд.
Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоявший шагах в двадцати от нее, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой вышла бы арка. В таких случаях Магомет обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд под арку таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы повалил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе.
Поздно ночью литерный поезд шел уже по Восточной Магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, ни к кому не обращаясь, скорбно сказал:
– Странный случай! Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету! Так что ничего не вышло.
– Не беда, – с участием ответил ему Лавуазьян, – пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего лишь через три часа вы снова будете в Горной и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день.
– Черта с два теперь снимешь! – печально молвил фоторепортер. – У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться.
Путешествие по Восточной Магистрали доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к северному укладочному городку, где находился Корейко. Нравились Остапу и литерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшей его геркулесовских знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для вагона-ресторана требовались наличные. Сперва Остап, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита, но вскоре понял, что так жить нельзя. Некоторое время он присматривался к Ухудшанскому, который весь день проводил у окна в коридоре, глядя на телеграфные столбы и на птичек, слетавших с проволоки. При этом легкая сатирическая улыбка трогала губы Ухудшанского, он закидывал голову назад и шептал птицам: «Порхаете? Ну-ну». Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще раз оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе.
Оттуда он вышел только через три часа, держа в руках большой, разграфленный, как ведомость, лист бумаги.
– Пишете? – вяло спросил Ухудшанский.
– Специально для вас, – ответил великий комбинатор. – Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения. Вот. Извольте посмотреть.
И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано:
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей,
табельных фельетонов, а также парадных стихотворений,
од и тропарей
РАЗДЕЛ I. СЛОВАРЬ
Существительные

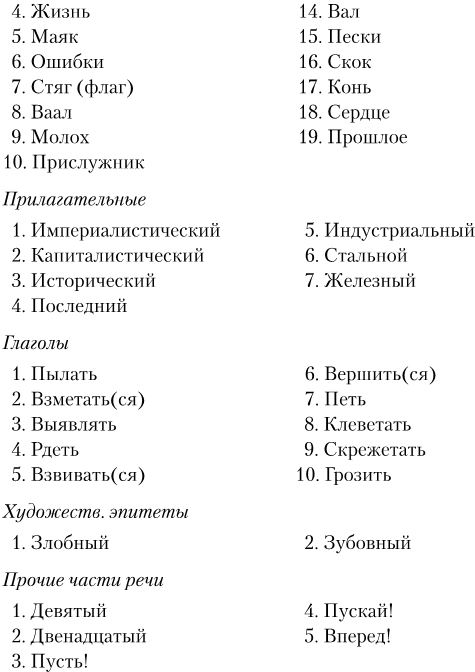
(Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки, кавычки и т. п.)
ПРИМЕЧ. Запятые ставить перед «что», «который» и «если». Многоточия, восклиц. знаки и кавычки – где только возможно.
РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(Составляется исключительно из слов раздела 1-го)
§ 1. Передовая статья
Девятый вал
Восточная Магистраль – это железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала; но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни, вперед!
§ 2. Художеств. очерк-фельетон
Пусть!..
– Вперед!..
Он пылает под клики трудящихся… Он выявляет зарю новой жизни…
– Маяк! Индустриализации!
Пусть отдельные ошибки. Пусть. Но зато как рдеют… как несутся… как взвиваются… эти стяги… Эти флаги!..
Пусть – Ваал капитализма! Пусть – Молох империализма! Пусть!
Но на прислужников уже взметается:
– Последний вал!
– Девятый час!
– Двенадцатый Ваал!
Пусть клевещут. Пусть скрежещут. Пусть выявляется злобный зубовный враг.
Вершится историческая поступь. Пески прошлого взметаются скоком стали.
Это – «железный конь»!.. Это:
– Восточная!
– Магистраль!
«Поют сердца»…
§ 3. Художеств. стихотворение
А) Тринадцатый Ваал
Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.
Железный конь несет вперед
Исторьи скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.
Взвивается последний час,
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
Тебе, Молох – Ваал!
Б) Восточный вариант
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.
Азиатский орнамент
1. Урюк (абрикосы)
2. Арык (канал)
3. Ишак (осел)
4. Плов (пища)
5. Бай (нехороший человек)
6. Басмач (нехороший человек)
7. Шакал (животное)
8. Кишлак (деревня)
9. Пиала (чашка)
10. Медресе (духовное училище)
11. Ичиги (обувь)
12. Шайтан (черт)
13. Арба (телега)
14. Шайтан-Арба (Средне-Азиатская ж. д.)
15. Твоя-моя не понимай
16. Мала-мала (выражения)
ДОБАВЛЕНИЕ
При помощи материалов раздела 1-го по методам раздела 2-го сочиняются также: романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художеств. репортаж, хроника, эпопеи, пьесы, политобозрения, игра в политфанты, радиооратории и т. д.
Когда Ухудшанский ознакомился с содержанием документа, глаза его, доселе мутные, оживились. Ему, пробавлявшемуся до сих пор отчетами о заседаниях, внезапно открылись сверкающие стилистические высоты.
– И за все – двадцать пять тугриков, двадцать пять монгольских рублей, – нетерпеливо сказал великий комбинатор, томимый голодом.
– У меня нет монгольских, – молвил сотрудник профоргана, не выпуская из рук «Торжественного комплекта».
Остап согласился взять обыкновенными рублями, пригласил Гаргантюа, которого называл уже «кум и благодетель», и вместе с ним отправился в вагон-ресторан. Ему принесли графин водки, блистающий льдом и ртутью, салат и большую, тяжелую, как подкова, котлету. После водки, которая произвела в его голове легкое кружение, великий комбинатор таинственно сообщил куму и благодетелю, что в Северном укладочном городке он надеется разыскать человечка, который должен ему небольшую сумму. Тогда он созовет всех корреспондентов на пир. На это Гаргантюа ответил длинной убедительной речью, в которой, по обыкновению, нельзя было разобрать ни слова. Остап подозвал буфетчика, расспросил, везет ли тот шампанское, и сколько бутылок везет, и что еще имеется из деликатесов, и в каких количествах имеется, и что все эти сведения ему нужны потому, что дня через два он намерен дать банкет своим собратьям по перу. Буфетчик заявил, что сделано будет все, что возможно.
– Согласно законов гостеприимства, – добавил он почему-то.
По мере приближения к месту смычки кочевников становилось все больше. Они спускались с холмов наперерез поезду, в шапках, похожих на китайские пагоды. Литерный, грохоча, с головой уходил в скалистые порфировые выемки, прошел новый трехпролетный мост, последняя ферма которого была надвинута только вчера, и принялся осиливать знаменитый Хрустальный перевал. Знаменитым сделали его строители, выполнившие все подрывные и укладочные работы в три месяца вместо восьми, намеченных по плану.
Поезд постепенно обрастал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в твердых, словно бы сделанных из аптекарского фаянса воротничках, в тяжелых шелковых галстуках и суконных костюмах, стали распоясываться. Одолевала жара. Первым изменил форму одежды один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел из своего вагона в странном наряде. На нем были желтые толстые башмаки, чулки и брюки-гольф, роговые очки и русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиками. И чем жарче становилось, тем меньше иностранцев оставалось верными идее европейского костюма. Косоворотки, апашки, гейши, сорочки-фантази, толстовки, лжетолстовки и полутолстовки, одесские сандалии и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического мира. Они приобрели разительное сходство со старинными советскими служащими, и их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам.
Прилежная «овечка», увешанная флагами и гирляндами, поздней ночью втянула литерный поезд на станцию Гремящий Ключ, место смычки. Кинооператоры жгли римские свечи. В их резком белом свете стоял начальник строительства, взволнованно глядя на поезд. В вагонах не было огней. Все спали. И только правительственный салон светился большими квадратными окнами. Дверь его быстро открылась, и на низкую землю спрыгнул член правительства.
Начальник Магистрали сделал шаг вперед, взял под козырек и произнес рапорт, которого ждала вся страна. Восточная Магистраль, соединившая прямым путем Сибирь и Среднюю Азию, была закончена на год раньше срока.
Когда формальность была выполнена, рапорт отдан и принят, два немолодых и несентиментальных человека поцеловались.
Все корреспонденты, и советские, и иностранные, и Лавуазьян, в нетерпении пославший телеграмму о дыме, шедшем из паровозной трубы, и канадская девушка, сломя голову примчавшаяся из-за океана, – все спали. Один только Паламидов метался по свежей насыпи, разыскивая телеграф. Он рассчитал, что если молнию послать немедленно, то она появится еще в утреннем номере. И в черной пустыне он нашел наспех сколоченную избушку телеграфа.
«Блеске звезд, – писал он, сердясь на карандаш, – отдан рапорт окончании магистрали тчк присутствовал историческом поцелуе начальника магистрали членом правительства паламидов».
Первую часть телеграммы редакция поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства неприлично целоваться.
Гремящий ключ
Солнце встало над холмистой пустыней в 5 часов 02 минуты 46 секунд. Остап поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями. Кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видоискатель. Фотографу предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой.
Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, и белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: «Магистраль – первое детище пятилетки».
Еще все спали и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята два года назад как место будущей смычки.
Кочевники ехали целыми аулами. Отцы семейств двигались верхом, верхами, по-мужски, ехали жены, ребята по трое рысили на собственных лошадках, и даже злые тещи и те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много – поезда, рельсы, молодцеватые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос «раз, два, три, четыре, пять, шесть», проверялась готовность радиоустановки. Два укладочных городка, два строительных предприятия на колесах, с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих, стояли друг против друга, перед трибуной, отделенные только двадцатью метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове Южного городка висел плакат: «Даешь Север!», в голове Северного – «Даешь Юг!».
Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли полторы тысячи километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывали бегом. И Север и Юг стремились опередить друг друга и первыми войти в Гремящий Ключ. Победил Север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрелы, причем на лице начальника Севера против воли время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил Юг, но улыбка снова поднимала его выцветшие на солнце усы.
Остап побежал к вагонам Северного городка, но городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру. Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей. Но Меньшову было не до того. Он снимал ударников Магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей – опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. Кроме литерных корреспондентов, были там еще китайский, афганский и персидский консулы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель «Черноморской газеты» О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа манил великого комбинатора наверх, крича: «Ведь верно? Ведь правильно?», – Остап отрицательно мотал головой, водя глазами по трибуне, на которой тесно уместились герои и гости.
В первом ряду спокойно сидел табельщик Северного укладочного городка Александр Корейко. Для защиты от солнца голова его была прикрыта газетной треуголкой. Он чуть выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, который уже пробирался к микрофону.
– Александр Иванович! – крикнул Остап, сложив руки трубой.
Корейко посмотрел вниз и поднялся. Музыканты заиграли «Интернационал», но богатый табельщик выслушал гимн невнимательно. Вздорная фигура великого комбинатора, бегавшего по площадке, очищенной для последних рельсов, сразу же лишила его душевного спокойствия. Он посмотрел через голову толпы, соображая, куда бы убежать. Но вокруг была пустыня.
Пятнадцать тысяч всадников непрестанно рысили взад и вперед, десятки раз переходили вброд холодную речку и только к началу митинга расположились в конном строю позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу.
Строители Магистрали праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев и героев. На полотно со звоном полетели рельсы. В минуту они были уложены, и рабочие-укладчики, забившие миллионы костылей, уступили право на последние удары своим руководителям.
– Согласно законов гостеприимства, – сказал буфетчик, сидя с поварами на крыше вагона-ресторана.
Инженер-краснознаменец сдвинул на затылок большую фетровую шляпу, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле. Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были силачи, забивающие костыль одним ударом, сопутствовал этой операции. Однако мягкие удары о землю вскоре стали перемежаться звоном, свидетельствовавшим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем. Размахивали молотами секретарь крайкома, члены правительства, начальники Севера и Юга и гости. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства.
Начались речи. Они произносились по два раза – на казахском и русском языках.
– Товарищи, – медленно сказал костыльщик-ударник, стараясь не смотреть на орден Красного Знамени, только что приколотый к его рубашке, – что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо. А от всего нашего укладочного коллектива просьба правительству немедленно отправить нас на новую стройку. Мы хорошо сработались вместе и последние месяцы укладывали по пяти километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. И да здравствует наша мировая революция! Я еще хотел сказать, товарищи, что шпалы поступали с большим браком, приходилось отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту!
Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Записывались речи. Инженеров хватали за талию и требовали от них сведений с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг в пустыне задымился, как огромный костер. Лавуазьян, нацарапав десять строчек, бежал на телеграф, отправлял молнию и снова принимался записывать. Ухудшанский ничего не записывал и телеграмм не посылал. В кармане у него лежал «Торжественный комплект», который давал возможность в пять минут составить прекрасную корреспонденцию с азиатским орнаментом. Будущее Ухудшанского было обеспечено. И поэтому он с более высокой, чем обычно, сатирической нотой в голосе говорил собратьям:
– Стараетесь? Ну-ну!
Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он опустился в десяти километрах от Гремящего Ключа, за далеким холмом, на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время.
Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, за холодную речку, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных мисочками и зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейко мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, поднимая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками.
На стол, рядом с графином и микрофоном, поставили девочку-пионерку.
– Ну, девочка, – весело сказал начальник строительства, – скажи нам, что ты думаешь о Восточной Магистрали?
Неудивительно было бы, если б девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи! Позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои…» – и так далее, потому что встречаются у нас примерные дети, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка из Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:
– Да здравствует пятилетка!
Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью.
– Я восхищен, – сказал профессор, – все строительство, которое я видел в СССР, – грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать.
Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран.
А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой причине Страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался человеком более деловым, чем болтливый Гейнрих.
Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны врассыпную кинулись казахи. Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился.
– Вот что, товарищи, – говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую, – давайте условимся – пошлых вещей не писать.
– Пошлость отвратительна! – поддержал Лавуазьян. – Она ужасна.
И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об Узун-Кулаке, что значит Длинное Ухо, что, в свою очередь, значит – степной телеграф. Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно читать. Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлостей в восточном вкусе!
На опустевшей трибуне, среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка, сидел один только Корейко. Он никак не решался сойти вниз.
– Сойдите, Александр Иванович! – кричал Остап. – Пожалейте себя! Глоток холодного нарзана! А? Не хотите? Ну, хоть меня пожалейте! Я хочу есть! Ведь я все равно не уйду! Может быть, вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта «Легкою стопой ты приди, друг мой»? Я могу!
Но Корейко не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз.
– На вас треугольная шляпа? – резвился Остап. – А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лейхтвейса, где вы храните свои тугрики?
– Сперва обедать, – сказал Корейко, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль.
– Можно и пообедать. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, – соврал Остап на всякий случай.
И, вспомнив о молодцах, он погрустнел.
Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивая его лимонадом. Европейцы засели за столы.
Много трудов, забот и волнений перенесли строители Магистрали за два года работы. Но и немало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское и европейское. Вызвал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные Штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в единоборство. Наконец ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство – иностранцы, дипломаты, москвичи! Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там, в Лондонах и Нью-Йорках, привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве, у известного Мартьяныча, и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара.
– Так вы смотрите, Иван Осипович, – говорили ему в управлении, – не подкачайте. Иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее.
– Верьте слову, – бормотал старик со слезами на глазах, – каких людей кормил! Принца Вюртембергского кормил! Мне и денег платить не нужно. Как же мне напоследок жизни людей не покормить? Покормлю вот – и умру!
Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел. Но оставить Европу без обеда он не решился. Представленную им смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос: «Накормлю – и умру», добавил шестьдесят рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке.
Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал:
– Отойди, Мамай, не видишь, что делается! Ах, господи! Соус пикан перестоится. А консоме с пашотом не готово!
На столе уже стояла закуска. Все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки, на стеклянных тарелочках, во льду, лежало масло, скрученное в бутоны, селедки держали во рту серсо из лука или маслины, были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно.
Наконец гости явились за стол. Все были запылены, красны от жары и очень голодны. Никто не походил на принца Вюртембергского. Иван Осипович вдруг почувствовал приближение беды.
– Попрошу у гостей извинения, – сказал он искательно, – еще пять минуточек – и начнем обедать. Личная у меня к вам просьба – не трогайте ничего на столе до обеда, чтоб все было как полагается.
На минуту он убежал в кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями.
– Это что же? – спросил старик упавшим голосом.
– Где же суп, папаша? – закричал Гейнрих с набитым ртом.
Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь. Дальнейшие заботы он бросил на своих подчиненных.
Когда комбинаторы пробились к столу, толстый человек с висячим, как банан, носом произносил первую застольную речь. К крайнему своему удивлению, Остап узнал в нем инженера Талмудовского.
– Да! Мы герои! – восклицал Талмудовский, протягивая вперед стакан с нарзаном. – Привет нам, строителям Магистрали! Но каковы условия нашей работы, граждане! Скажу, например, про оклад жалованья. Не спорю, на Магистрали оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства! Театра нет! Пустыня! Канализации никакой!.. Нет, я так работать не могу!
– Кто это такой? – спрашивали друг у друга строители. – Вы не знаете?
Между тем Талмудовский уже вытащил из-под стола свои чемоданы.
– Плевал я на договор! – кричал он, направляясь к выходу. – Что? Подъемные назад? Только судом, только судом!
И даже толкая обедающих чемоданами, он вместо «пардон» свирепо кричал: «Только судом!»
Поздно ночью он уже катил в моторной дрезине, присоединившись к дорожным мастерам, ехавшим по делу к южному истоку магистрали. Талмудовский сидел верхом на чемоданах и разъяснял мастерам причины, по которым честный специалист не может работать в этой дыре. С ними ехал метрдотель Иван Осипович. В горе он не успел даже снять фрака. Он был сильно пьян.
– Варвары! – кричал он, высовываясь на бреющий ветер и грозя кулаком в сторону Гремящего Ключа. – Всю сервировку к свиньям собачьим!.. Антона Павловича кормил, принца Вюртембергского!.. Приеду домой и умру! Вспомнят тогда Ивана Осиповича. Сервируй, скажут, банкетный стол на восемьдесят четыре персоны, к свиньям собачьим. А ведь некому будет. Нет Ивана Осиповича Трикартова. Скончался. Отбыл в лучший мир, иде же несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Ве-е-ечная па-амять!..
И покуда старик отпевал самого себя, хвосты его фрака трещали на ветру, как вымпелы.
Остап, не дав Корейко доесть компота, поднял его из-за стола и потащил рассчитываться. По приставной лестничке комбинаторы взобрались в товарный вагон, где помещалась канцелярия Северной укладки и стояла складная полотняная кровать табельщика. Здесь они заперлись.
После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем гулянье, фельетонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение:
«СРОЧНАЯ МОСКВА СТЕПНОЙ ТЕЛЕГРАФ ТИРЕ УЗУН-КУЛАК КВЧ
ДЛИННОЕ УХО ЗПТ РАЗНЕС
АУЛАМ ВЕСТЬ СОСТОЯВШЕЙСЯ СМЫЧКЕ
МАГИСТРАЛИ РУБАШКИН».
Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось:
ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ
Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. Двести тысяч четыреста восемьдесят пять лун тому назад молодая, быстроногая, как джейран (горный баран), жена хана – красавица Сумбурун горячо полюбила молодого нукера Ай-Булака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик двенадцать лун возносил молитвы, а потом, со слезами на глазах, запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в семь джасасын (18 кило), бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя – Иссык-Куль, что значит «Сердце красавицы склонно к измене».
– Ведь верно? – спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. – Ведь правильно?
– Конечно, возмутительно! – отвечал Паламидов. – Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «Сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой ли! Не наврал ли вам липовый каракалпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом: «Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики»?
Писатель в детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и Узун-Кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом.
– А по-моему, – сказал он, – в этом нет ничего страшного. Раз Узун-Кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать?
– Но ведь уже тысячу раз писали! – сказал Лавуазьян.
– Узун-Кулак существует, – вздохнул писатель, – и с этим приходится считаться.
Александр ибн-Иванович
В нагретом и темном товарном вагоне воздух был плотный и устойчивый, как в старом ботинке. Пахло кожей и ногами. Корейко зажег кондукторский фонарь и полез под кровать. Остап задумчиво смотрел на него, сидя на пустом ящике из-под макарон. Оба комбинатора были утомлены борьбой и отнеслись к событию, которого Корейко чрезвычайно опасался, а Бендер ждал всю жизнь, с каким-то казенным спокойствием. Могло бы показаться даже, что дело происходит в кооперативном магазине, покупатель спрашивает головной убор, а продавец лениво выбрасывает на прилавок лохматую кепку булыжного цвета. Ему все равно – возьмет покупатель кепку или не возьмет. Да и сам покупатель не очень-то горячится, спрашивая только для успокоения совести: «А может, другие есть?» – на что обычно следует ответ: «Берите, берите, а то и этого не будет». И оба смотрят друг на друга с полнейшим равнодушием. Корейко долго возился под кроватью, как видно, отстегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад.
– Эй, там, на шхуне! – устало крикнул Остап. – Какое счастье, что вы не курите. Просить папиросу у такого скряги, как вы, было бы просто мучительно. Вы никогда не протянули бы портсигар, боясь, что у вас вместо одной папиросы заберут несколько, а долго копались бы в кармане, с трудом приоткрывая коробку и вытаскивая оттуда жалкую, согнутую папиросу. Вы нехороший человек. Ну что вам стоит вытащить весь чемодан!
– Еще чего! – буркнул Корейко, задыхаясь под кроватью.
Сравнение со скрягой-курильщиком было ему неприятно. Как раз в эту минуту он вытягивал из чемодана толстенькие пачки. Никелированный язычок замка царапал его оголенные до локтя руки. Для удобства он лег на спину и продолжал работать, как шахтер в забое. Из тюфяка в глаза миллионера сыпалась полова и прочая соломенная дрянь, какой-то порошок и хлебные усики.
«Ах, как плохо, – думал Александр Иванович, – плохо и страшно. Вдруг он сейчас меня задушит и заберет все деньги. Очень просто. Разрежет на части и отправит малой скоростью в разные города. А голову заквасит в бочке с капустой».
Корейко прошибло погребной сыростью. В страхе он выглянул из-под кровати. Бендер дремал на своем ящике, клоня голову к железнодорожному фонарю.
«А может, его… малой скоростью, – подумал Александр Иванович, продолжая вытягивать пачки и ужасаясь, – в разные города. И ни одна собака. Строго конфиденциально. А?»
Он снова выглянул. Великий комбинатор вытянулся и отчаянно, как дог, зевнул. Потом он взял кондукторский фонарь и принялся им размахивать, выкликая:
– Станция Хацепетовка! Выходите, гражданин! Приехали! Кстати, совсем забыл вам сказать, может быть, вы собираетесь меня зарезать? Так знайте – я против. И потом, меня уже один раз убивали. Был такой взбалмошный старик, из хорошей семьи, бывший предводитель дворянства, он же регистратор загса, Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастья на сумму в сто пятьдесят тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, как это было пошло, Корейко! Пошло и больно. Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен.
Наконец Корейко вылез из-под кровати, пододвинув к ногам Остапа пачки с деньгами. Каждая пачка была аккуратно заклеена в белую бумагу и перевязана шпагатом.
– Девяносто девять пачек, – сказал Корейко грустно, – по десять тысяч в каждой. Бумажками по двадцать пять червонцев. Можете не проверять, у меня как в банке.
– А где же сотая пачка? – спросил Остап с энтузиазмом.
– Десять тысяч я вычел в счет ограбления на морском берегу.
– Ну, это уже свинство. Деньги истрачены на вас же. Не занимайтесь формалистикой.
Корейко, вздыхая, выдал недостающие деньги, взамен чего получил свое жизнеописание в желтой папке с ботиночными тесемками. Жизнеописание он тут же сжег в железной печке, труба которой выходила сквозь крышу вагона. Остап в это время взял на выдержку одну из пачек, сорвал обертку и, убедившись, что Корейко не обманул, сунул ее в карман.
– Где же валюта? – придирчиво спросил великий комбинатор. – Где мексиканские доллары, турецкие лиры, где фунты, рупии, пезеты, центавосы, румынские леи, где лимитрофные латы и злотые? Дайте хоть часть валютой!
– Берите, берите что есть, – отвечал Корейко, сидя на корточках перед печкой и глядя на корчащиеся в огне документы, – берите, а то и этого скоро не будет. Валюты не держу.
– Вот я и миллионер! – воскликнул Остап с веселым удивлением. – Сбылись мечты идиота!
Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек Аладдина в наше суровое время не полагается, все же ему стало чего-то жалко. Стало ему немного скучно, как Роальду Амундсену, когда он, проносясь в дирижабле «Норге» над Северным полюсом, к которому пробирался всю жизнь, без воодушевления сказал своим спутникам: «Ну, вот мы и прилетели». Внизу был битый лед, трещины, холод, пустота. Тайна раскрыта, цель достигнута, делать больше нечего, и надо менять профессию. Но печаль минутна, потому что впереди слава, почет и уважение – звучат хоры, стоят шпалерами гимназистки в белых пелеринах, плачут старушки матери полярных исследователей, съеденных товарищами по экспедиции, исполняются национальные гимны, стреляют ракеты, и старый король прижимает исследователя к своим колючим орденам и звездам.
Минутная слабость прошла. Остап побросал пачки в мешочек, любезно предложенный Александром Ивановичем, взял его под мышку и откатил тяжелую дверь товарного вагона.
Праздник кончался. Ракеты золотыми удочками закидывались в небо, вылавливая оттуда красных и зеленых рыбок, холодный огонь брызгал в глаза, вертелись пиротехнические солнца, бураки подкидывали вверх винегрет из светящихся помидоров и восклицательных знаков. За хижиной телеграфа на деревянной сцене шел спектакль для кочевников. Некоторые из них сидели на скамьях, другие же смотрели представление с высоты своих седел. Часто ржали лошади. Литерный поезд был освещен от хвоста до головы.
– Да! – воскликнул Остап. – Банкет в вагоне-ресторане! Я и забыл! Какая радость! Идемте, Корейко, я вас угощаю, я всех угощаю! Согласно законов гостеприимства! Коньяк с лимончиком, клецки из дичи, фрикандо с шампиньонами, старое венгерское, новое венгерское, шампанское вино!..
– Фрикандо, фрикандо, – сказал Корейко злобно, – а потом посадят. Я не хочу себя афишировать!
– Я обещаю вам райский ужин на белой скатерти, – настаивал Остап. – Идемте, идемте! И вообще бросьте отшельничество, спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. Не то налетят посторонние лица и сожрут вашу порцию. Я устрою вас в литерный поезд – там я свой человек, – и уже завтра мы будем в сравнительно культурном центре. А там с нашими миллионами… Александр Иванович!..
Великому комбинатору хотелось сейчас всех облагодетельствовать, хотелось, чтобы всем было весело. Темное лицо Корейко тяготило его. И он принялся убеждать Александра Ивановича. Он был согласен с тем, что афишировать себя не следует, но к чему морить себя голодом? Остап и сам толком не разбирал, зачем ему понадобился невеселый табельщик, но, раз начав, он не мог уже остановиться. Под конец он стал даже угрожать.
– Будете вот сидеть на своем чемодане, а в один погожий денек явится к вам костлявая – и косой по шее! А? Представляете себе аттракцион? Спешите, Александр Иванович, котлеты еще на столе. Не будьте твердолобым.
После потери миллиона Корейко стал мягче и восприимчивей.
– Может, в самом деле проветриться? – сказал он неуверенно. – Прокатиться в центр. Но, конечно, без шика, без этого гусарства.
– Какое уж тут гусарство! Просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить Художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию в Музее изящных искусств. Берите чемодан.
Миллионеры пошли к поезду. Остап небрежно помахивал своим мешком, как кадилом. Александр Иванович улыбался глупейшим образом. Литерные пассажиры прогуливались, стараясь держаться поближе к вагонам, потому что уже прицепляли паровоз. В темноте мерцали белые штаны корреспондентов.
В купе на верхней полке Остапа лежал под простыней незнакомый ему человек и читал газету.
– Ну, слезайте, – дружелюбно сказал Остап, – пришел хозяин.
– Это мое место, товарищ, – заметил незнакомец. – Я Лев Рубашкин.
– Знаете, Лев Рубашкин, не пробуждайте во мне зверя, уходите отсюда.
Великого комбинатора толкал на борьбу недоумевающий взгляд Александра Ивановича.
– Вот еще новости, – сказал корреспондент заносчиво, – кто вы такой?
– Не ваше собачье дело! Говорят вам – слезайте, и слезайте.
– Всякий пьяный, – визгливо начал Рубашкин, – будет здесь хулиганить…
Остап молча схватил корреспондента за голую ногу. На крики Рубашкина сбежался весь вагон. Корейко на всякий случай убрался на площадку.
– Деретесь? – спросил Ухудшанский. – Ну-ну!
Остапа, который уже успел хлопнуть Рубашкина мешком по голове, держали за руки Гаргантюа и толстый писатель в детской курточке.
– Пусть он покажет билет! – надрывался великий комбинатор. – Пусть покажет плацкарту!
Рубашкин, совершенно голый, прыгал с полки на полку и требовал коменданта. Оторвавшийся от действительности Остап тоже настаивал на вызове начальства. Скандал завершился большой неприятностью. Рубашкин предъявил и билет, и плацкарту, после чего трагическим голосом потребовал того же от Бендера.
– А я не покажу из принципа! – заявил великий комбинатор, поспешно покидая место происшествия. – У меня такие принципы!
– Заяц! – завизжал Лев Рубашкин, выскочивший в коридор нагишом. – Обращаю ваше внимание, товарищ комендант, здесь ехал заяц!
– Где заяц? – провозгласил комендант, в глазах которого появился гончий блеск.
Александр Иванович, пугливо притаившийся за выступом трибуны, вглядывался в темноту, но ничего не мог различить. Возле поезда возились фигуры, прыгали папиросные огни и слышались голоса: «Потрудитесь предъявить!», «А я вам говорю, что из принципа!», «Хулиганство!», «Ведь верно? Ведь правильно?», «Должен же кто-нибудь ехать без билета?» Стукнули буферные тарелки, над самой землей, шипя, пробежал тормозной воздух, и светлые окна вагонов сдвинулись с места. Остап еще хорохорился, но мимо него уже ехали полосатые диваны, багажные сетки, проводники с фонарями, букеты и потолочные пропеллеры вагона-ресторана. Уезжал банкет с шампанским вином, со старым и новым венгерским. Из рук вырвались клецки из дичи и унеслись в ночь. Фрикандо, нежное фрикандо, о котором так горячо повествовал Остап, покинуло Гремящий Ключ. Александр Иванович приблизился.
– Я этого так не оставлю, – ворчал Остап, – бросили в пустыне корреспондента советской прессы. Я подыму на ноги всю общественность. Корейко! Мы выезжаем первым же курьерским поездом! Закупим все места в международном вагоне!..
– Что вы, – сказал Корейко, – какой уж там курьерский! Отсюда никакие поезда не ходят. По плану эксплуатация начнется только через два месяца.
Остап поднял голову. Он увидел черное абиссинское небо, дикие звезды и все понял. Но робкое напоминание Корейко о банкете придало ему новые силы.
– За холмом стоит самолет, – сказал Бендер, – тот, который прилетел на торжество. Он уйдет только на рассвете. Мы успеем.
Для того чтобы успеть, миллионеры двинулись широким дромадерским шагом. Ноги их разъезжались в песке, горели костры кочевников, тащить чемодан и мешок было не то чтобы тяжело, но крайне противно. Покуда они карабкались на холм со стороны Гремящего Ключа, с противной стороны на холм в треске пропеллеров надвигался рассвет. Вниз с холма Бендер и Корейко уже бежали, боясь, что самолет улетит без них.
Под высокими, как крыши, рифлеными крыльями самолета ходили маленькие механики в кожаных пальто. Три пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню. На квадратных окнах пассажирской кабины болтались занавески с плюшевыми шариками. Пилот прислонился спиной к алюминиевой ступеньке и ел пирожок, запивая его нарзаном из бутылки.
– Мы пассажиры, – крикнул Остап, задыхаясь, – два билета первого класса!
Ему никто не ответил. Пилот бросил бутылку и стал надевать перчатки с раструбами.
– Есть места? – повторил Остап, хватая пилота за руку.
– Пассажиров не берем, – сказал пилот, берясь за лестничный поручень. – Это специальный рейс.
– Я покупаю самолет! – поспешно сказал великий комбинатор. – Заверните в бумажку.
– С дороги! – крикнул механик, поднимаясь вслед за пилотом.
Пропеллеры исчезли в быстром вращении. Дрожа и переваливаясь, самолет стал разворачиваться против ветра. Воздушные вихри вытолкнули миллионеров назад, к холму. С Остапа слетела капитанская фуражка и покатилась в сторону Индии с такой быстротой, что ее прибытия в Калькутту следовало бы ожидать не позже чем через три часа. Так бы она и вкатилась на главную улицу Калькутты, вызывая своим загадочным появлением внимание кругов, близких к Интеллидженс-Сервис, если бы самолет не улетел и буря не улеглась. В воздухе самолет блеснул ребрами и сгинул в солнечном свете. Остап сбегал за фуражкой, которая повисла на кустике саксаула, и молвил:
– Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? Четыреста километров. Это не воодушевляет. Остается одно – принять ислам и передвигаться на верблюдах.
Насчет ислама Корейко промолчал, но мысль о верблюдах ему понравилась. Заманчивый вид вагона-ресторана и самолета утвердил его в желании совершить развлекательную поездку врача-общественника, конечно, без гусарства, но и не без некоторой лихости.
Аулы, прибывшие на смычку, еще не снялись, и верблюдов удалось купить неподалеку от Гремящего Ключа. Корабли пустыни обошлись по сто восемьдесят рублей за штуку.
– Как дешево, – шепнул Остап, – давайте купим пятьдесят верблюдов. Или сто!
– Это гусарство, – хмуро сказал Александр Иванович, – что с ними делать? Хватит и двух.
Казахи с криками усадили путешественников между горбами, помогли привязать чемодан, мешок и провизию на дорогу – бурдюк с кумысом и двух баранов. Верблюды поднялись сперва на задние ноги, отчего миллионеры низко поклонились, а потом на передние ноги и зашагали вдоль полотна Восточной Магистрали. Бараны, привязанные веревочками, трусили позади, время от времени катя шарики и блея душераздирающим образом.
– Эй, шейх Корейко! – крикнул Остап. – Александр ибн-Иванович! Прекрасна ли жизнь?
Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду саксауловой палкой.
Багдад
Семь дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов. В начале путешествия Остап веселился от души. Все его потешало: и барахтающийся между верблюжьими кочками Александр ибн-Иванович, и ледащий корабль пустыни, старавшийся увернуться от своих обязанностей, и мешок с миллионом, ударами которого великий комбинатор иногда подбадривал непокорных баранов. Себя Остап называл полковником Лоуренсом.
– Я эмир-динамит! – кричал он, покачиваясь на высоком хребте. – Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-нибудь племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига Наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок, они любят продавать огнестрельное оружие племенам, и марш-марш в Данию. Германия пропустит – в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! Ему бы датского гуся!..
Но через несколько дней, когда от баранов остались только веревочки, а кумыс был весь выпит, даже эмир-динамит погрустнел и только меланхолически бормотал:
– В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли.
Оба шейха сильно похудели, оборвались, поросли бородками и стали похожи на дервишей из небогатого прихода.
– Еще немного терпения, ибн-Корейко, и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и сорок тысяч вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога.
На восьмой день путники подъехали к древнему кладбищу. До самого горизонта окаменевшими волнами протянулись ряды полуциркульных гробниц. Покойников здесь не зарывали. Их клали на землю, обстраивая каменными колпаками. Над пепельным городом мертвых сверкало страшное солнце. Древний Восток лежал в своих горячих гробах.
Комбинаторы стегнули верблюдов и вскоре въехали в оазис. Далеко вокруг озаряли город зеленые факелы тополей, отражавшиеся в залитых водой квадратных рисовых полях. Одиноко стояли карагачи, точно воспроизводящие форму гигантского глобуса на деревянной ножке. Стали попадаться ослики, несшие на себе толстых седоков в халатах и вязанки клевера.
Корейко и Бендер ехали мимо лавочек, торгующих зеленым табаком в порошке и вонючим коническим мылом, похожим на головки шрапнелей. Ремесленники с белыми кисейными бородами возились над медными листами, свертывая их в тазы и узкогорлые кувшины. Сапожники сушили на солнце маленькие кожи, выкрашенные чернилами. Темно-синие, желтые и голубые изразцы мечетей блестели жидким стеклянным светом.
Остаток дня и ночь миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице, а утром выкупались в белых ваннах, побрились и вышли в город. Безоблачное настроение шейхов портила необходимость тащить с собою чемодан и мешок.
– Я считаю первейшей своей обязанностью, – сказал Бендер хвастливо, – познакомить вас с волшебным погребком. Он называется «Под луной». Я тут был лет пять тому назад, читал лекции о борьбе с абортами. Какой погребок! Полутьма, прохлада, хозяин из Тифлиса, местный оркестр, холодная водка, танцовщицы с бубнами и кимвалами. Закатимся туда на весь день. Могут же быть у врачей-общественников свои миниатюрные слабости? Я угощаю. Золотой теленок отвечает за все.
И великий комбинатор тряхнул своим мешком.
Однако погребка «Под луной» уже не было. К удивлению Остапа, не было даже той улицы, на которой звучали его бубны и кимвалы. Здесь шла прямая европейская улица, которая обстраивалась сразу во всю длину. Стояли заборы, висела алебастровая пыль, и грузовики раскаляли и без того горячий воздух. Посмотрев минутку на фасады из серого кирпича с длинными лежачими окнами, Остап толкнул Корейко и, промолвив: «Есть еще местечко, содержит один из Баку», повел его на другой конец города. Но на местечке не было уже стихотворной вывески, сочиненной лично духанщиком из Баку:
УВАЖАЙ СЕБЯ,
УВАЖАЙ НАС,
УВАЖАЙ КАВКАЗ,
ПОСЕТИ НАС.
Вместо того глазам шейхов предстал картонный плакат с арабскими и русскими буквами:
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
– Войдем, – печально сказал Остап, – там, по крайней мере, прохладно. И потом, посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников.
Они вступили в большую, выбеленную мелом комнату, опустили на пол свои миллионы и долго отирали горячие лбы рукавами. В музее было только восемь экспонатов: зуб мамонта, подаренный молодому музею городом Ташкентом, картина маслом «Стычка с басмачами», два эмирских халата, золотая рыбка в аквариуме, витрина с засушенной саранчой, фарфоровая статуэтка фабрики Кузнецова и, наконец, макет обелиска, который город собирался поставить на главной площади. Тут же, у подножия проекта, лежал большой жестяной венок с лентами. Его привезла недавно специальная делегация из соседней республики, но так как обелиска еще не было (ассигнованные на него средства ушли на постройку бани, которая оказалась гораздо нужнее), делегация, произнеся соответствующие речи, возложила венок на проект.
К посетителям тотчас же подошел юноша в ковровой бухарской тюбетейке на бритой голове и, волнуясь, как автор, спросил:
– Ваши впечатления, товарищи?
– Ничего себе, – сказал Остап.
Молодой человек заведовал музеем и без промедления стал говорить о затруднениях, которые переживает его детище. Кредиты недостаточны. Ташкент отделался одним зубом, а своих ценностей, художественных и исторических, некому собирать. Не присылают специалиста.
– Мне бы триста рублей! – вскричал заведующий. – Я бы здесь Лувр сделал!
– Скажите, вы хорошо знаете город? – спросил Остап, мигнув Александру Ивановичу. – Не могли бы вы указать нам некоторые достопримечательности? Я знал ваш город, но он как-то переменился.
Заведующий очень обрадовался. Крича, что все покажет лично, он запер музей на замок и повел миллионеров на ту же улицу, где они полчаса назад искали погребок «Под луной».
– Проспект имени Социализма! – сказал он, с удовольствием втягивая в себя алебастровую пыль. – Ах! Какой чудный воздух! Что здесь будет через год! Асфальт! Автобус! Институт по ирригации! Тропический институт! Ну, если Ташкент и на этот раз не даст научные силы!.. Вы знаете, у них есть столько костей мамонта, а мне они прислали только один зуб, в то время как в нашей республике такая тяга к естествознанию.
– Вот как? – заметил Корейко, с укором глядя на Остапа.
– И вы знаете, – зашептал энтузиаст, – я подозреваю, что это не зуб мамонта. Они подсунули слоновый!
– А как у вас с такими… с кабачками в азиатском роде, знаете, с тимпанами и флейтами? – нетерпеливо спросил великий комбинатор.
– Изжили, – равнодушно ответил юноша, – давно уже надо было истребить эту заразу, рассадник эпидемий. Весною как раз последний вертеп придушили. Назывался «Под луной».
– Придушили? – ахнул Корейко.
– Честное слово. Но зато открыта фабрика-кухня. Европейский стол. Механическое хлебопечение. Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз.
– Что делается! – воскликнул великий комбинатор, закрывая лицо руками.
– Вы еще ничего не видели, – сказал заведующий музеем, застенчиво смеясь. – Едем на фабрику-кухню обедать.
Они уселись в линейку под полотняным навесом с фестонами, обшитыми синей каймой, и поехали. По пути любезный проводник поминутно заставлял миллионеров высовываться из-под балдахина и показывал им здания уже возведенные, здания возводящиеся и места, где они еще только будут возводиться. Корейко смотрел на Остапа злыми глазами. Остап отворачивался и говорил:
– Какой чудный туземный базарчик! Багдад!
– Семнадцатого числа начнем сносить, – сказал молодой человек, – здесь будет больница и коопцентр.
– И вам не жалко этой экзотики? Ведь Багдад!
– Очень красиво! – вздохнул Корейко.
Молодой человек рассердился.
– Это для вас красиво, для приезжих, а нам тут жить приходится.
В большом зале фабрики-кухни, среди кафельных стен, под ленточными мухоморами, свисавшими с потолка, путешественники ели перловый суп и маленькие коричневые биточки. Остап осведомился насчет вина, но получил восторженный ответ, что недавно недалеко от города открыт источник минеральной воды, превосходящей своими вкусовыми данными прославленный нарзан. В доказательство была потребована бутылка новой воды и распита при гробовом молчании.
– А как кривая проституции? – с надеждой спросил Александр ибн-Иванович.
– Резко пошла на снижение, – ответил неумолимый молодой человек.
– Ай, что делается! – сказал Остап с фальшивым смехом.
Но он действительно не знал, что делается. Когда встали из-за стола, выяснилось, что молодой человек успел заплатить за всех. Он ни за что не соглашался взять деньги у миллионеров, уверяя, что послезавтра все равно получит жалованье, а до этого времени как-нибудь обернется.
– Ну а веселье? Как город веселится? – уже без экстаза спрашивал Остап. – Тимпаны, кимвалы?
– Разве вы не знаете? – удивился заведующий музеем. – На прошлой неделе у нас открылась городская филармония. Большой симфонический квартет имени Бебеля и Паганини. Едем сейчас же. Как это я упустил из виду!
После того как он заплатил за обед, отказаться от посещения филармонии было невозможно из этических соображений. Выйдя оттуда, Александр ибн-Иванович сказал дворницким голосом:
– Городская фисгармония!
Великий комбинатор покраснел.
По дороге в гостиницу молодой человек неожиданно остановил возницу, высадил миллионеров, взял их за руки и, поднимаясь от распиравшего его восторга на цыпочки, подвел к маленькому камню, отгороженному решеточкой.
– Здесь будет стоять обелиск! – сказал он значительно. – Колонна марксизма!
Прощаясь, молодой человек просил приезжать почаще. Добродушный Остап пообещал обязательно приехать, потому что никогда не проводил такого радостного дня, как сегодня.
– Я на вокзал, – сказал Корейко, оставшись наедине с Бендером.
– Поедем в другой город кутить? – спросил Остап. – В Ташкенте можно весело провести дня три.
– С меня хватит, – ответил Александр Иванович, – я поеду на вокзал сдавать чемодан на хранение, буду здесь служить где-нибудь в конторщиках. Подожду капитализма. Тогда и повеселюсь.
– Ну и ждите, – сказал Остап довольно грубо, – а я поеду. Сегодняшний день – это досадное недоразумение, перегибы на местах. Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть!
На вокзальной площади они увидели толпу литерных корреспондентов, которые после смычки совершали экскурсионную поездку по Средней Азии. Они окружали Ухудшанского. Обладатель торжественного комплекта самодовольно поворачивался во все стороны, показывая свои приобретения. На нем была бархатная шапка, отороченная шакальим хвостом, и халат, скроенный из ватного одеяла.
Предсказания плюшевого пророка продолжали исполняться.
Врата великих возможностей
В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале Казанского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик «Антилопы» и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала.
За большими немытыми окнами виднелись блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если б внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно, двумя пальцами в перчатке приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся.
– Вставайте, граф! Вас ждут великие дела! – сказал он, расталкивая Балаганова.
Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира.
– Командор! – закричал он.
– Нет, нет, – заметил Бендер, защищаясь ладонью, – не обнимайте меня. Я теперь гордый.
Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром.
– Забурел, забурел! – радостно вскрикивал Балаганов. – Вот забурел!
– Да, я забурел, – сообщил Бендер с достоинством. – Посмотрите на брюки. Европа – «А»! А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан брильянтовым перстнем. Четыре карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях?
– Да так, – замялся Шура, – больше по мелочам.
В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пива с бутербродами для бортмеханика.
– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.
– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
– Ладно, – сказал Остап, – получите пятьдесят тысяч.
Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову пять белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук.
– Неужели тарелочка? – спрашивал он восхищенно.
– Да, да, тарелочка, – ответил Остап равнодушно. – С голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично.
Последние слова он произнес нетвердо.
Парад, надо сказать правду, не ладился, и великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично. Справедливее было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, в чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе.
С тех пор как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко, прошел месяц.
В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не сумел достать номера в гостинице.
– Я заплачу сколько угодно! – высокомерно сказал великий комбинатор.
– Ничего не выйдет, гражданин, – отвечал портье, – конгресс почвоведов приехал в полном составе осматривать опытную станцию. Забронировано за представителями науки.
И вежливое лицо портье выразило почтение перед конгрессом. Остапу захотелось закричать, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион, но он почел за благо воздержаться и вышел на улицу в крайнем раздражении.
Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании, покуда почвоведы, обедавшие всем конгрессом, не встанут из-за стола. В театре в этот день давался спектакль для почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. К тому же Остапа не пустили бы в зрительный зал с мешком в руках, а девать его было некуда. Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне.
Утром Бендер сошел в большом волжском городе. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице.
– Разве что через месяц, – с сомнением говорили отельные заведующие с бородками, и без бородок, и усатые, и просто бритые, – покуда на электроцентрали не смонтируют третий агрегат, и не надейтесь. Все под специалистов отдано. И потом – окружной съезд комсомола. Ничего не можем поделать.
Пока великий комбинатор торчал у высоких конторок портье, по гостиничным лестницам торопились инженеры, техники, иностранные специалисты и комсомольцы – делегаты съезда. И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газету.
Великий комбинатор провел пятнадцать ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали домну, в другом – холодильник, в третьем – цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет, и в номере, где миллионер мог бы нескучно провести вечер с подругой, галдели дети. В дороге он обжился, завел чемодан для миллиона, дорожные вещи и экипировался. Уже Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Владивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет три недели, когда вдруг почувствовал, что если сейчас же не осядет на землю, то умрет от какой-нибудь загадочной железнодорожной болезни. И он сделал то, что делывал всегда, когда был счастливым обладателем пустых карманов. Он стал выдавать себя за другого, телеграфируя вперед, что едет инженер, или врач-общественник, или тенор, или писатель. К его удивлению, для всех людей, приезжавших по делу, номера находились, и Остап немножко отошел после поездной качки. Один раз для получения номера ему пришлось даже выдать себя за сына лейтенанта Шмидта. После этого эпизода великий комбинатор предался невеселым размышлениям.
«И это путь миллионера! – думал он с огорчением. – Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть?»
Даже Европа – «А», которой Остап хвастался перед Балагановым, – костюм, туфли и шляпа – были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян – это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча. Их уже кто-то носил, может быть, час, минуту, но все-таки таскал кто-то чужой. Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с капиталишком в пятьдесят тысяч, отцы города не приезжали в гостиницу представляться, пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих сто двадцать рублей в месяц.
Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае надобности он мог накупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только шесть тысяч.
Нет! Парад решительно не удавался, хотя все было на месте. Вовремя были высланы линейные, к указанному сроку прибыли части, играл оркестр. Но полки смотрели не на него, не ему кричали «ура», не для него махал руками капельмейстер. Но Остап не сдавался. Он крепко надеялся на Москву.
– А как Рио-де-Жанейро? – возбужденно спросил Балаганов. – Поедем?
– Ну его к черту! – с неожиданной злостью сказал Остап. – Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
– Ну и дела! – вздохнул Балаганов.
– Мне один доктор все объяснил, – продолжал Остап. – Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
– Прямо цирк! – воскликнул Шура, ничего не поняв. – Ух, как я теперь заживу! Бедный Паниковский! Он, конечно, нарушил конвенцию, ну бог с ним! Вот радовался бы старик.
– Предлагаю почтить память покойного вставанием, – сказал Бендер.
Молочные братья поднялись и минуту простояли молча, глядя вниз, на переломанные бисквиты и недоеденный бутерброд.
Тягостное молчание прервал Балаганов.
– Знаете, что с Козлевичем? – сказал он. – Прямо цирк! Он все-таки собрал «Антилопу» и работает в Черноморске. Прислал письмо. Вот…
Бортмеханик вынул из кепки письмо.
«Здравствуйте, Шура, – писал водитель «Антилопы», – как живете? Все ли вы еще сын л. Ш.? Мне живется хорошо, только нету денег, а машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Все время ее чиню, прямо сил никаких нет. Пассажиры обижаются. Может, вы, дорогой Шура, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый. Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке, там, где продают старые замки и ключи. А если вам плохо, то приезжайте, как-нибудь перебьемся. Я стою на углу улицы Меринга, на бирже. Где теперь О.Б.? Ваш с уважением Адам Козлевич. Забыл написать. Ко мне на биржу приходили ксендзы, Кушаковский и Морошек. Был скандал. А.К.».
– Побегу теперь искать шланг, – озабоченно сказал Балаганов.
– Не надо, – ответил Остап, – я ему новую машину куплю. Едем в «Гранд-Отель», я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. А вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей.
Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался.
– Это карета прошлого, – сказал он брезгливо, – в ней далеко не уедешь. Кроме того, там в подкладке живут маленькие мыши.
Пришлось сесть в трамвай. Вагон был переполнен. Это был один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Склоку в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. Постепенно в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже злая старушка давно сошла, утеряна и причина спора, а крики и взаимные оскорбления продолжаются, в перебранку вступают все новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.
Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа, и вскоре молочные братья болтались в разных концах вагона, стиснутые грудями и корзинами. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течением.
Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань, со стороны, где колыхался Балаганов, послышался женский вой:
– Украли!! Держите! Да вот же он стоит!
Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
– Бандит! – кричала женщина. – Только отвернулась, а он…
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
– Что ж это такое? Ведь я машинально.
– Я тебе покажу машинально! – сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой. Великий комбинатор отвернулся.
Индийский гость
В четырехугольном замкнутом дворе «Гранд-Отеля» слышались кухонные стуки, шипение пара и крики: «Два чайных комплекта в шестнадцатый», а в белых коридорах было ясно и тихо, как в распределительном зале электростанции. В ста пятидесяти номерах спал конгресс почвоведов, вернувшихся из поездки, тридцать номеров было отведено под делегацию заграничных коммерсантов, которые выясняли наболевший вопрос, можно ли, в конце концов, прибыльно торговать с Советским Союзом, лучший апартамент из четырех комнат занимал знаменитый индусский поэт и философ, а в маленьком номере, отведенном дирижеру симфонического оркестра, спал Остап Бендер.
Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, содержащийся в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза.
– Что ж это было? – пробормотал он, гримасничая. – Гусарство в ресторанном зале! И даже, кажется, какое-то кавалергардство! Фу! Держал себя как купец второй гильдии! Боже мой, не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал: «Почвоведы, встаньте!» – а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я! Да, но по какому это поводу?..
И он вспомнил, что вчера, решив начать подобающую жизнь, он постановил выстроить себе особняк в мавританском стиле. Утро он провел в грандиозных мечтах. Он представлял себе дом с минаретами, швейцара с лицом памятника, малую гостиную, бильярдную и какой-то конференц-зал. В земельном отделе Совета великому комбинатору разъяснили, что участок получить можно. Но уже в строительной конторе все рухнуло. Упал швейцар, гремя каменной мордой, зашатался золотой конференц-зал и развалились минареты.
– Вы частное лицо? – спросили миллионера в конторе.
– Да, – ответил Остап, – резко выраженная индивидуальность.
– К сожалению, строим только для коллективов и организаций.
– Кооперативных, общественных и хозяйственных? – спросил Бендер с горечью.
– Да, для них.
– А я?
– А вы стройте сами.
– Да, но где же я возьму камни, шпингалеты? Наконец, плинтусы?
– Добудьте как-нибудь. Хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации.
По всей вероятности, это и было причиной безобразного ночного гусарства.
Остап лежа вынул записную книжку и стал подсчитывать расходы со времени получения миллиона. На первой страничке была памятная запись:
Верблюд – 180 р.
Баран – 30 р.
Кумыс – 1 р. 75 к.
Итого 211 р. 75 к.
Дальнейшее было не лучше. Шуба, соус, железнодорожный билет, опять соус, опять билет, три чалмы, купленные на черный день, извозчики, ваза и всякая чепуха. Если не считать пятидесяти тысяч Балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте.
– Не дают делать капитальных вложений! – возмущался Остап. – Не дают! Может, зажить интеллектуальной жизнью, как мой друг Лоханкин? В конце концов, материальные ценности я уже накопил, надо прикапливать помаленьку ценности духовные. Надо немедленно выяснить, в чем смысл жизни.
Он вспомнил, что в гостиничном вестибюле весь день толкутся девушки, стремящиеся поговорить с приезжим индусским философом о душе.
– Пойду к индусу, – решил он, – узнаю наконец, в чем дело. Это, правда, пижонство, но другого выхода нет.
Не разлучаясь с чемоданом, Бендер, как был, в смятом костюме, спустился в бельэтаж и постучал в дверь комнаты великого человека. Ему открыл переводчик.
– Философ принимает? – спросил Остап.
– Это смотря кого, – ответил переводчик вежливо. – Вы частное лицо?
– Нет, нет, – испуганно сказал великий комбинатор. – Я от одной кооперативной организации.
– Вы с группой? Вас сколько человек? А то, знаете, учителю трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать…
– С коллективом? – подхватил Остап. – Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один важный принципиальный вопрос насчет смысла жизни.
Переводчик ушел и через пять минут вернулся. Он отодвинул портьеру и пышно сказал:
– Пусть войдет кооперативная организация, желающая узнать, в чем смысл жизни.
На кресле с высокой и неудобной резной спинкой сидел великий философ и поэт в коричневой бархатной рясе и в таком же колпаке. Лицо у него было смуглое и нежное, а глаза черные, как у подпоручика. Борода, белая и широкая, как фрачная манишка, закрывала грудь. Стенографистка сидела у его ног. Два переводчика, индус и англичанин, разместились по бокам.
При виде Остапа с чемоданом философ заерзал на кресле и что-то встревоженно зашептал переводчику. Стенографистка стала спешно записывать, а переводчик обратился к великому комбинатору:
– Учитель желает узнать, не содержатся ли в чемодане пришельца песни и саги и не собирается ли пришелец прочесть их вслух, так как учителю прочли уже много песен и саг и он больше не может их слушать.
– Скажите учителю, что саг нету, – почтительно ответил Остап.
Черноглазый старец еще больше обеспокоился и, оживленно говоря, стал со страхом показывать на чемодан пальцем.
– Учитель спрашивает, – начал переводчик, – не собирается ли пришелец поселиться у него в номере, потому что к нему на прием еще никогда не приходили с чемоданом.
И только после того как Остап успокоил переводчика, а переводчик философа, напряжение прошло и началась беседа.
– Прежде чем ответить на ваш вопрос о смысле жизни, – сказал переводчик, – учитель желает сказать несколько слов о народном образовании в Индии.
– Передайте учителю, – сообщил Остап, – что проблема народного образования волнует меня с детства.
Философ закрыл глаза и принялся неторопливо говорить. Первый час он говорил по-английски, а второй час – по-бенгальски. Иногда он начинал петь тихим приятным голосом, а один раз даже встал и, приподняв рясу, сделал несколько танцевальных движений, изображавших, как видно, игры школьников в Пенджабе. Затем он сел и снова закрыл глаза, а Остап долго слушал перевод. Сперва Остап вежливо кивал головой, потом сонно смотрел в окно и, наконец, начал развлекаться, перебирал в кармане мелочь, любовался перстнем и даже довольно явственно подмигнул хорошенькой стенографистке, после чего она еще быстрее зачиркала карандашом.
– А как все-таки будет со смыслом жизни? – спросил миллионер, улучив минуту.
– Учитель желает прежде, – объяснил переводчик, – познакомить пришельца с обширными материалами, которые он собрал при ознакомлении с постановкой дела народного образования в СССР.
– Передайте его благородию, – ответил Остап, – что пришелец не возражает.
И машина снова пришла в движение. Учитель говорил, пел пионерские песни, показывал стенгазету, которую ему поднесли дети сто сорок шестой трудовой школы, и один раз даже всплакнул. Переводчики бубнили в два голоса, стенографистка писала, а Остап рассеянно чистил ногти.
Наконец Остап громко закашлял.
– Знаете, – сказал он, – переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда и переведите.
Когда философу подтвердили настойчивое желание Остапа, черноглазый старец заволновался.
– Учитель говорит, – заявил переводчик, – что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной. Коллектив…
– До свиданья, – быстро сказал великий комбинатор, – передайте учителю, что пришелец просит разрешения немедленно уйти.
Но философ уже пел нежным голосом «Марш Буденного», которому он выучился у советских детей. И Остап удалился без разрешения.
– Кришна! – кричал великий комбинатор, бегая по своему номеру. – Вишну! Что делается на свете? Где сермяжная правда? А может быть, я дурак и ничего не понимаю, и жизнь прошла глупо, бессистемно? Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же: «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных». До чего же гадко!
В этот день Остап обедал без водки и в первый раз оставил чемодан в номере. Потом он смирно сидел на подоконнике, с интересом рассматривая обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки.
Ночью великий комбинатор вдруг проснулся и сел на кровати. Было тихо, и только из ресторана через замочную скважину пробирался меланхолический бостон.
– Как же я забыл! – сказал он сердито.
Потом он засмеялся, зажег свет и быстро написал телеграмму:
«ЧЕРНОМОРСК. ЗОСЕ СИНИЦКОЙ.
СВЯЗИ ОШИБКОЙ ЖИЗНИ ГОТОВ ЛЕТЕТЬ
ЧЕРНОМОРСК КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ,
МОЛНИРУЙТЕ ОТВЕТ МОСКВА
ГРАНДОТЕЛЬ БЕНДЕР».
Он позвонил и потребовал, чтобы телеграмма была отправлена немедленно, молнией.
Зося не ответила. Не было ответа и на другие телеграммы, составленные в том же отчаянном и лирическом роде.
Дружба с юностью
Поезд шел в Черноморск.
Первый пассажир снял пиджак, повесил его на медную завитушку багажника, потом стащил ботинки, поочередно поднося толстые ножки почти к самому лицу, и надел туфли с языками.
– Слышали вы историю про одного воронежского землемера, который оказался родственником японского микадо? – спросил он, заранее улыбаясь.
Второй и третий пассажиры придвинулись поближе. Четвертый пассажир уже лежал на верхнем диване под колючим малиновым одеялом, недовольно глядя в иллюстрированный журнал.
– Неужели не слышали? Одно время об этом много говорили. Это был обыкновенный землемер – жена, одна комната, сто двадцать рублей жалованья. Фамилия Бигусов. Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам. Приходит он однажды со службы, а у него в комнате сидит японец, в таком, между нами говоря, отличном костюме, в очках и, если хотите знать, в ботинках из змеиной кожи, последняя новость. «Ваша фамилия – Бигусов?» – спрашивает японец. «Да», – говорит Бигусов. «А имя-отчество?» – «Такое-то», – отвечает. «Правильно, – говорит японец, – в таком случае не будете ли вы любезны снять толстовку, – мне нужно осмотреть ваше голое туловище». – «Пожалуйста», – говорит. Ну, между нами говоря, если хотите знать, японец туловище даже не рассматривал, а сразу кинулся к родимому пятну. Было у Бигусова такое пятно на боку. Посмотрел на него японец через увеличительное стекло, побледнел и говорит: «Поздравляю вас, гражданин Бигусов, и позвольте вам вручить посылку и пакет». Жена, конечно, открыла посылку. А там, если хотите знать, лежит в стружках японский обоюдоострый меч. «Почему же мне меч?» – спросил землемер. «А вы, говорит, прочтите письмо. Там все написано. Вы самурай». Тут Бигусов тоже побледнел. Воронеж, если хотите знать, не особенно большой центр. Между нами говоря, какое там может быть отношение к самураям? Самое отрицательное. Ну, делать нечего. Бигусов берется за письмо, вскрывает четырнадцать восковых печатей и читает его. Что же вы думаете? Оказалось, что ровно тридцать шесть лет тому назад проезжал через Воронежскую губернию один японский полупринц инкогнито. Ну, конечно, между нами говоря, спутался его высочество с одной воронежской девушкой, прижил ребенка инкогнито. И даже хотел жениться, только микадо запретил шифрованной телеграммой. Полупринцу пришлось уехать, а ребенок остался незаконный. Это и был Бигусов. И вот по прошествии стольких лет полупринц стал умирать, а тут, как назло, законных детей нету, некому передать наследство, и к тому же угасает знаменитый род, что для японца хуже всего. Ну, пришлось вспомнить про Бигусова. Вот привалило человеку счастье! Сейчас, говорят, он уже в Японии. Старик умер. А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными миллион иен. Миллион! Такому дураку!
– Дали бы мне миллион рублей! – сказал второй пассажир, суча ногами. – Я бы им показал, что делать с миллионом!
В пролете между верхними диванами появилась голова четвертого пассажира. Он внимательно поглядел на человека, точно знавшего, что можно сделать с миллионом, и, ничего не сказавши, снова закрылся журналом.
– Да, – сказал третий пассажир, распечатывая железнодорожный пергаментный пакетик с двумя индивидуальными сухарями, – бывают различные факты в области денежного обращения. У одной московской девицы в Варшаве умер дядя и оставил ей миллионное наследство, а она даже не знала. Но там, за границей, пронюхали, и уже через месяц в Москве появился довольно приличный иностранец. Этот голубчик решил жениться на девушке, пока она не проведала про наследство. А у нее в Москве был жених, и тоже довольно красивый молодой человек из Палаты мер и весов. Она его очень любила и, естественно, не хотела выходить замуж за другого. А тот, иностранец, прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты и фильдеперсовые чулки. Оказывается, иностранный голубчик приехал не сам от себя, а от акционерного общества, которое образовалось специально для эксплуатации дядиного наследства. У них даже был основной капитал – восемнадцать тысяч злотых. Этот их уполномоченный должен был во что бы то ни стало жениться на девушке и вывезти ее за границу. Очень романтическая история! Представляете себе положение уполномоченного! Такая ответственность. А потом он взял аванс и не может его оправдать из-за этого советского жениха. А там, в Варшаве, кошмар! Акционеры ждут, волнуются, акции падают. В общем, все кончилось крахом. Девушка вышла замуж за своего, советского. Так она ничего и не узнала.
– Вот дура! – сказал второй пассажир. – Дали бы мне этот миллион.
И в ажитации он даже вырвал из рук соседа сухарик и нервно съел его.
Обитатель верхнего дивана придирчиво закашлял. Видимо, разговоры мешали ему заснуть.
Внизу стали говорить тише. Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове, и, задыхаясь, шептали:
– Недавно международное общество Красного Креста давало объявление в газетах о том, что разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в тысяча девятьсот восемнадцатом году на войне. Наследство – миллион! То есть было меньше миллиона, но наросли проценты… И вот в глухой деревушке на Волыни…
На верхнем диване металось малиновое одеяло. Бендеру было скверно. Ему надоели вагоны, верхние и нижние диваны, весь трясущийся мир путешествий. Он легко дал бы полмиллиона, чтобы заснуть, но шепот внизу не прекращался.
– …Понимаете, в один жакт явилась старушка и говорит: «Я, говорит, у себя в подвале нашла горшечек, не знаю, что в горшечке, уж будьте добры посмотреть сами». Посмотрело правление жакта в этот горшок, а там – золотые индийские рупии, миллион рупий…
– Вот дура! Нашла кому рассказывать!.. Дали бы мне этот миллион, уж я бы…
– Между нами говоря, если хотите знать, деньги – это все.
– А в одной пещере под Можайском…
Сверху послышался стон, звучный полновесный стон гибнущего индивидуума.
Рассказчики на миг смутились, но очарование неожиданных богатств, льющихся из карманов японских принцев, варшавских родственников или американских солдат, было так велико, что они снова стали хватать друг друга за коленки, бормоча:
– …И вот, когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион…
Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос:
– Миллион! Понимаете, целый миллион…
Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не было. Они сошли на рассвете, в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок арифметической бумаги, котлетные и хлебные крошки, а также веревочку. Стоящий у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам:
– Миллион тонн чугуна. К концу года. Комиссия нашла, что объединение может это дать. И что самое смешное – Харьков утвердил!
Остап не нашел в этом заявлении ничего смешного. Однако новые пассажиры разом принялись хохотать. При этом на всех трех заскрипели одинаковые резиновые пальто, которых они еще не успели снять.
– Как же Бубешко, Иван Николаевич? – спросил самый молодой из пассажиров с азартом. – Наверное, землю носом роет?
– Уже не роет. Оказался в дурацком положении. Но что было! Сначала он полез в драку… вы знаете Иван Николаевича характер… Восемьсот двадцать пять тысяч тонн, и ни на один пуд больше. Тут началось серьезное дело. Преуменьшение возможностей – факт? Равнение на узкие места – факт? Надо было человеку сразу же и полностью сознаться в своей ошибке. Так нет! Амбиция! Подумаешь – благородное дворянство. Сознайся – и все. А он начал по частям. Решил авторитет сохранить. И вот началась музыка, достоевщина: «С одной стороны, признаю, но, с другой стороны, подчеркиваю». А что там подчеркивать, что за бесхребетное виляние! Пришлось нашему Бубешко писать второе письмо.
Пассажиры снова засмеялись.
– Но и там он о своем оппортунизме не сказал ни слова. И пошел писать. Каждый день письмо. Хотят для него специальный отдел завести – «Поправки и отмежевки». И ведь сам знает, что зашился, хочет выкарабкаться, но такое сам нагромоздил, что не может. И последний раз до того дошел, что даже написал: «Так, мол, и так… ошибку признаю и настоящее письмо считаю недостаточным».
Остап уже давно пошел умываться, а новые пассажиры все еще досмеивались. Когда он вернулся, купе было подметено, диваны опущены и проводник удалялся, прижимая подбородком охапку простынь и одеял. Молодые люди, не боявшиеся сквозняков, открыли окно, и в купе, словно морская волна, запертая в ящик, прыгал и валялся осенний ветер.
Остап забросил на сетку чемодан с миллионом и уселся внизу, дружелюбно посматривая на новых соседей, которые как-то особенно рьяно вживались в быт международного вагона – часто смотрелись в дверное зеркало, подпрыгивали на диване, испытывая упругость его пружин, одобряли качество красной полированной обшивки и нажимали все кнопки. Время от времени один из них исчезал на несколько минут и по возвращении шептался с товарищами. Наконец в дверях появилась девушка в бобриковом мужском пальто и гимнастических туфлях с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер.
– Товарищи! – сказала она решительно. – Это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться.
Попутчики Бендера угрожающе загалдели.
– Нечего, нечего. Все имеют такие же права, как и вы, – продолжала девушка. – Мы уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс.
Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный, с раскладкой разницы на всю компанию.
В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов и Паровицкий. Немедля они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними. Не прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию. За нею с конфузливыми улыбками показались еще двое, а потом еще один, усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник.
– Что же это, граждане, – сказал он казенным голосом, – целая шайка-лейка собралась. Уходите, которые из жесткого вагона. А то пойду к главному.
Шайка-лейка оторопела.
– Это гости, – сказала девушка, запечалившись, – они пришли только посидеть.
– В правилах воспрещается, – заявил проводник, – уходите.
Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор.
– Что ж это вы, папаша? – сказал он проводнику. – Пассажиров не надо линчевать без особенной необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке! Пойдемте, я вам сейчас все растолкую. Насчет гостеприимства.
Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки-лейки, принес даже девять стаканов чаю в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег.
– По восточному обычаю, – сказал Остап обществу, – согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.
Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрываемые сухарные пакетики, Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми восемью студентами и одной студенткой.
– Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения, – болтал он радостно, – недавно я даже беседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености. Поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить – есть за ним такой грешок, – то пластинок скопилось восемьсот вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы.
Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик.
– Этому сухарику, – сказал он, – один шаг до точильного камня. И этот шаг уже сделан.
Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро, и вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала частушку:
У Петра Великого
Близких нету никого.
Только лошадь и змея —
Вот и вся его семья.
К вечеру Остап знал всех по именам и с некоторыми был уже на «ты». Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. Он был другим в свои двадцать лет. Он признался себе, что в свои двадцать лет он был гораздо разностороннее и хуже. Он тогда не смеялся, а только посмеивался. А эти смеялись вовсю.
«Чему так радуется эта толстомордая юность? – подумал он с внезапным раздражением. – Честное слово, я начинаю завидовать».
Хотя Остап был, несомненно, центром внимания всего купе и речь его лилась без запинки, хотя окружающие и относились к нему наилучшим образом, но не было здесь ни балагановского обожания, ни трусливого подчинения Паниковского, ни преданной любви Козлевича. В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конферансье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но в конце концов уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конферансье. А конферансье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по Рабису – опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты стары, и приемы стары, а переучиваться поздно. Все, кажется, ясно.
История с Бубешко, преуменьшившим планы, была рассказана вторично, на этот раз специально для Остапа. Он ходил со своими новыми друзьями в жесткий вагон убеждать студентку Люду Писаревскую прийти к ним в гости и при этом так краснобайствовал, что застенчивая Люда пришла и приняла участие в общем гаме. Внезапное доверие разрослось до того, что к вечеру, прогуливаясь по перрону большой узловой станции с девушкой в мужском пальто, великий комбинатор подвел ее почти к самому выходному семафору и здесь, неожиданно для себя, излил ей свою душу в довольно пошлых выражениях.
– Понимаете, – втолковывал он, – светила луна, королева ландшафта. Мы сидели на ступеньках музея древностей. И вот я почувствовал, что я ее люблю. Но мне пришлось в тот же вечер уехать, так что дело расстроилось. Она, кажется, обиделась. Даже наверное обиделась.
– Вас послали в командировку? – спросила девушка участливо.
– М-да. Как бы командировка. То есть не совсем командировка, но срочное дело. Теперь я страдаю. Величественно и глупо страдаю.
– Это не страшно, – сказала девушка, – переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение.
Остап пообещал переключиться и, хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о неразделенной любви и о новых течениях в этой области.
В купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании. И он достиг того, что студенты стали считать его своим. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул:
– Поступай к нам в политехникум. Ей-богу! Получишь стипендию семьдесят пять рублей. Будешь жить как бог. У нас – столовая, каждый день мясо. Потом на Урал поедем на практику.
– Я уже окончил один гуманитарный вуз, – торопливо молвил великий комбинатор.
– А что ты теперь делаешь? – спросил Паровицкий.
– Да так, по финансовой линии.
– Служишь в банке?
Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внятно сказал:
– Нет, не служу. Я миллионер.
Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа и все можно было бы обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.
– Сколько ж у вас миллионов? – спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.
– Один, – сказал Остап, бледнея от гордости.
– Что-то мало, – заявил усатый.
– Мало, мало! – закричали все.
– Мне достаточно, – сказал Бендер торжественно.
С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расползающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с карточным треском.
– В каждой пачке по десять тысяч. Вам мало? Миллион без какой-то мелочи. Все на месте. Подписи, паркетная сетка и водяные знаки.
При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который показался Остапу царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил ноги и посмотрел на шайку-лейку.
– Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды, – сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним.
Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенках купе.
– Живу как бог, – продолжал Остап, – или как полубог, что, в конце концов, одно и то же.
Немножко подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне:
– Что ж вы, черти, приуныли?
– Ну, я пошел, – сказал усатый, подумав, – пойду к себе, посмотрю, как и чего.
И он выскочил из купе.
– Удивительная вещь, замечательная вещь, – заметил Остап, – еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя так, будто знаем друг друга десять лет. Что это, флюиды действуют?
– Сколько мы должны за чай? – спросил Паровицкий. – Сколько мы выпили, товарищи? Девять стаканов? Или десять? Надо узнать у проводника. Сейчас я приду.
За ним снялись еще четыре человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.
– Может, споем что-нибудь? – предложил Остап. – Что-нибудь железное? Например, «Сергей поп, Сергей поп!». Хотите? У меня дивный волжский бас.
И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет». Когда пришло время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало. Одна лишь Люда Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей поп, Сергей поп», но тут же осеклась и выбежала в коридор.
Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая и отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.
– Куда это все убежали? – спросил Бендер.
– В самом деле, – прошептала девушка, – надо узнать.
Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.
– Я пошутил, – забормотал он, – я трудящийся! Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..
– Пустите! – зашептала девушка.
Великий комбинатор остался один.
Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край столика. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.
Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник
В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз, к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади.
«Антилопа» на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость: левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с «матчишем» висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре, рядом с «Антилопой», стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил:
– Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни «изотта-фраскини», ни «линкольна», ни «бьюика», ни даже «форда». Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша «Антилопа».
– Почему же, – возразил Козлевич, – мой «лорен-дитрих» добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков».
– Шланг я вам привез, – сказал Остап, – вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта.
Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал:
– Вы знаете, Адам, новость – на каждого гражданина давит столб воздуха силою в двести четырнадцать кило!
– Нет, – сказал Козлевич, – а что?
– Как что! Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! Двести четырнадцать кило! Давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что?
– Ничего, я слушаю, – ласково ответил Козлевич.
– Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце.
Водитель «Антилопы» хмыкнул, Остап продолжал болтать:
– Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?
– Нет, нет, продолжайте, – сказал Козлевич сочувственно.
– Так вот и живу, – продолжал Остап с дрожью в голосе. – Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.
– А вы у нее были? – спросил прямолинейный Козлевич. – У Зоси Викторовны?
– Не пойду, – сказал Остап, – по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на триста пятьдесят рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник. Нет, Адам, я туда не пойду. До свидания!
Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами.
– Довольно, – сказал Остап, – золотой теленок не про меня. Пусть берет кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе!
Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий.
– Пожалуйста, – промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался.
Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности.
– Ты куда?! – закричал Остап еще издали. – Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Безобразие!
Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках.
«Что ж теперь делать? – размышлял он. – Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?»
На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием.
«Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине! Это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги – пижонство! Гусарство! А что я могу на них сделать, кроме нэпмановского жранья? Дурацкое положение! Музейный заведующий собирается за триста рублей Лувр учинить, любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе! А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать! Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку!»
Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход.
«Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги – это трусливо и не грациозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить пятьдесят тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать «Антилопу» перламутром? А может быть…»
Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Не медля ни минуты, он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт.
Там по его просьбе чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки.
Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал:
Ценная
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ФИНАНСОВ
Москва
И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах.
– Заседание продолжается, – сказал великий комбинатор, – на этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера.
Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы.
Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо короче платья и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю, и он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения.
На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку.
У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.
– Вы вовремя ушли из «Геркулеса», Иван Павлович, – говорил один, прижимая к груди портфель, – там сейчас разгром, чистят, как звери.
– Весь город говорит, – вздохнул другой.
– Вчера чистили Скумбриевича, – сладострастно сказал первый, – пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. «Я, говорит, родился между молотом и наковальней». Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом «Скумбриевич и сын. Скобяные товары». Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи: «Я не Скумбриевич, я сын». Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена.
– Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят?
– Сегодня большой день! Сегодня Берлага, тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его морганатическая жена. Она в «Геркулесе» никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, Бомзе…
Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не волновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.
– Зося, – сказал он, – я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно.
Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ.
– Вы знаете, Зося, – сказал он наконец, – на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в двести четырнадцать кило. Вы этого не замечали?
Зося не ответила.
В это время они проходили мимо кино «Капитолий». Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:
ГОСОБЪЕДИНЕНИЕ РОГА И КОПЫТА
Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь.
– Вот навалился класс-гегемон, – сказал Остап печально, – даже мою легкомысленную идею – и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.
– Печальный влюбленный, – произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.
– Да, – ответил он, – я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью.
– Ну, какой там рыцарь!
– Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже.
– Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан.
– Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно никакого столба нет и это одна моя фантазия?
Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета.
– Мне тридцать три года, – поспешно сказал Остап, – возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил, и только вы…
– Ну, до свиданья, – сказала Зося, – мне в столовку.
– Я тоже буду обедать, – заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску: «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской Государственной академии пространственных искусств», – съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает.
– Здесь только для членов профсоюза, – предупредила Зося.
– Тогда я так посижу.
Они спустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного комбината под пальмой, зеленой, как кровля дома, сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку.
– Перикл! – еще издали закричала Зося. – Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь. Это Фемиди.
– Фемиди, – сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапа.
– Бендер-Задунайский, – грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой – это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом.
– Как! Разве вы еще и Задунайский? – весело спросила Зося.
– Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая? Судя по носкам…
– Я Синицкая-Фемиди.
– Уже двадцать семь дней, – заметил молодой человек, потирая руки.
– Мне нравится ваш муж, – сказал рыцарь, лишенный наследства.
– Мне самой нравится, – ответила Зося запальчиво.
Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко поднимая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культплакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами. Это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах: «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость.
– В этом флотском борще, – с натугой сказал Остап, – плавают обломки кораблекрушения.
Супруги Фемиди добродушно засмеялись.
– А вы, собственно, по какой линии работаете? – спросил Остап молодого человека.
– А я, собственно, секретарь изоколлектива железнодорожных художников, – ответил Фемиди.
Великий комбинатор стал медленно подниматься.
– Ах, представитель коллектива! Этого можно было ожидать! Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочной сок, столь необходимый для здоровья.
Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой.
– Увели девушку! – пробормотал он на улице. – Прямо из стойла увели. Фемиди! Немезиди! Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера…
И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него уже нет. Додумывал он эту мысль на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец воду в состязании на побитие мирового рекорда.
– Тоже, апостол Павел нашелся! – шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. – Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку – повешусь! Убивать надо таких толстовцев!
Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте – в самом хвосте.
– Мне только… – начал Остап.
Но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права.
Только через сорок пять минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу.
– Товарищ, мы посылок обратно не выдаем.
– Как! Уже отправили? – спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. – Я только час тому назад сдал!
– Товарищ, мы посылок обратно не выдаем, – повторил почтовый работник.
– Но ведь это моя посылка, – сказал Остап ласково, – понимаете, моя. Я ее отправил, я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья. Из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете…
– Товарищ, мы обратно посылок не выдаем.
Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.
– Вложить баночку, – пролепетал Остап, – райские яблочки.
– Товарищ, баночку отправите отдельной посылкой, – сказал служащий, смягчаясь. – Ничего вашему дяде не сделается.
– Вы не знаете моего дяди! – горячо сказал Остап. – И потом, я бедный студент, у меня нет денег. Прошу вас как общественника.
– Вот видите, товарищ, – сказал служащий плачущим голосом, – где ее теперь искать! Там три тонны посылок лежит.
Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.
– Больше никогда этого не делайте, – строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.
– Никогда не сделаю! – заявил командор. – Честное студенческое слово!
От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.
– Довольно психологических эксцессов, – радостно сказал Бендер, – переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь. В Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы!
Кавалер ордена золотого руна
Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.
Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.
– Проклятое блюдо! – прошептал человек.
Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.
Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы, портсигары, обручальные кольца, брильянты и другие драгоценные штуки.
Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:
«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев».
«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».
Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.
По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках двадцать пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке: «Любимому сыну Сереженьке Кастраки в день сдачи экзаменов на аттестат зрелости». Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Кастраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как твердо решил вложить в драгоценности весь миллион.
Вообще зима прошла в больших трудах. Брильянтов великий комбинатор достал только на четыреста тысяч; валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на пятьдесят тысяч. На остальную сумму пришлось накупить тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило двадцать фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперсного креста с надписью «Во имя отца и сына и св. духа», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самообложенского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна – литой барашек.
Орден этот Остап выторговал у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ.
– Золотое Руно, – бормотал старик, – дается за высшую доблесть!
– А у меня как раз высшая, – отвечал Остап, – к тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом.
Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Теленка.
Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото – блюдо, крест, браслеты. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал его, бросил на лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба, великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самое ценное в туалете Остапа. Он строил ее четыре месяца, строил, как дом, изготовлял чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная – подбита уникальными черно-бурыми лисами, а крыта неподдельным котиком. Воротник был шит из соболей. Удивительная это была шуба! Супершуба с шиншилловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами, последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась шапка. Не шапка, а бобровая тиара.
Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.
В три часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.
– Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил:
– Все надо делать по форме. Форма номер пять – прощание с родиной. Ну, что ж, адье, великая страна! Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров…
Тут прощание с отечеством по форме № 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
– Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
– Да здравствует великая Румыния! – повторил Остап по-русски. – Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
– Но! – сказал командор добродушно. – Но-но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
– Бранзулетка! – взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
– Бранзулетка! – закричали остальные, бросаясь на Остапа.
Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События разворачивались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что облегчение было вызвано тем, что с него успели содрать стотысячную шубу.
– Ах, такое отношение! – пронзительно запел Остап, дико озираясь.
Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя отца и сына и святаго духа», истерически выкрикивал:
– Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!
При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и поднимался с земли, глядя вперед помраченным взором.
Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.
– Сигуранца проклятая! – закричал Остап, поднимая босую ногу. – Паразиты!
Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к советскому берегу.
Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли.
Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал колебание ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и стало лезть под воду.
– Лед тронулся! – в ужасе закричал великий комбинатор. – Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню.
Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:
– Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
Великий комбинатор
Роман
1 Часть
Начата – 2 августа 1929 г.
Окончена – 23 августа 1929 г
Овес и сено
– Объявляю военный совет открытым, – возвестил Остап.
Антилоповцы сидели вокруг костра, в стороне от дороги. Огонь бросал рваный свет на громоздкий корпус Антилопы. Черная преданная ночь заботливо следила за сохранением тишины и спокойствия.
– После битвы при Ватерлоо, – сказал Остап, – мир еще не видел поражения, подобного тому, которое мы понесли при Лучанске. Можете гордиться, кум пожарный. Ватерлоо и Лучанск! Теперь эти два имени будут стоять рядом. Вы удовлетворены?
– Я хочу кушать, – печально ответил Паниковский.
– Это недостойно солдата! К тому же я не могу раскинуть пред вами кооперативной скатерти-самобранки. Сегодня вы есть не будете. Итак – военный совет. Что, собственно говоря, случилось? Случилось так, что нам на зеленой Антилопе никуда нельзя показаться. Она стала слишком известной. Нужна новая идея. Высказывайтесь, господа, высказывайтесь. Ваше мнение, генерал Цесаревич?
– Замучилась наша машина, вот что! – заявил Адам Казимирович. – Посмотреть ее нужно хорошенько, подремонтировать.
– Это не идея, – сказал Остап, – это жизненная правда. А нам сейчас нужен полет фантазии. Полковник Балаганов?
– Нужно прорываться! – воскликнул Шурка. – Ехать прямо в Одессу! Бороться!
– Полковник молод, – комментировал Остап. – В нем говорит сейчас, по меньшей мере, Козьма Крючков. Ну, а вы, прапорщик Паниковский? Вы тоже хотите прорываться?
Но прапорщик Паниковский был противником шума, погони и вообще бесцельной храбрости.
– В чем дело! – сказал он. – Нужно продать Антилопу и ехать поездом.
Цесаревич издал гневный стон.
– Другими словами, – сказал Остап, – вы хотите для удовлетворения своих мелких страстей продать чужую машину? Так вас прикажете понимать? Нет! Вижу, что никого из вас не посетило вдохновение. В заключительном слове я хотел бы только указать на патриархальный обычай, который существует в Америке. Там краденные автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманитарных побуждений – чтобы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний ему человек. Хотя Антилопа и не краденая, но ее нужно перекрасить. Этого требуют суровые законы жизни.
Генералитет согласился с мнением Остапа. Решено было этой же ночью подъехать к ближайшему городу, войти в него пешим порядком и достать красок. А для машины подыскать надежное убежище за городской чертой.
В третьем часу ночи затравленная Антилопа остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал большой город. Он был нарезан аккуратно, как пирог. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудились антилоповцам. Вероятно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва вниз.
– Райская долина, – сказал Остап. – Такой город приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь. К сожалению, город придется оставить в покое и знакомство с ним ограничить посещением москательной лавки. Однако не будем терять времени. Оставайтесь здесь, а я обревизую окрестности, может быть, и удастся найти подходящий сарайчик.
Остап быстро пошел по дороге и вскоре увидел косой бревенчатый домик, засевший в глубине редкой березовой рощицы. Обойдя его, Остап заметил сарай, который показался ему подходящим местом для сокрытия и перекраски Антилопы. Пока он размышлял о том, кто может жить в этом отдаленном от всякого жилья домике и как получше подойти к его жильцам, дверь отворилась и на крыльцо выбежал полуголый человек с бакенбардами. Лицо его в конце прошлого века было бы совершенно заурядным. В то время большинство мужчин выращивало на лице такие вот казенные верноподданные волосяные приборы. Но сейчас это лицо казалось неестественным.
– О, боже! – застонал обитатель бревенчатого домика, подымая к пепельному небу отчаянное лицо. – Боже, боже! Все те же сны! Все те же сны!
Бакенбардист ударил себя ладонью по янтарной полной щеке, всхлипнул и побежал по тропинке вокруг дома.
– Снятся, проклятые! – донеслось до Остапа. Бендер, любопытный от природы, выставил голову из-за дерева и продолжал рассматривать странного человека с лицом, которое можно встретить теперь разве только у швейцара консерватории.
«Что это за рак-отшельник? – подумал Остап. – Сейчас такого не найдешь даже в зоопарке».
Между тем бакенбардист завершил свой круг и снова появился во дворике. Лицо его выражало страдание. Он помедлил и со словами «Пойду, попробую еще раз» скрылся за дверью.
– Люблю стариков, – прошептал Остап, – с ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы.
Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой, и, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик.
– Чур меня, чур! – воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. – Все тот же сон! А-а-а!
Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.
– Что? Кто? Что такое? – закричал беспокойный старик. – Что? Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс.
– Я вам сочувствую! – воскликнул он.
– Правда? – спросил хозяин домика, приникая к плечу Бендера.
– Конечно, правда, – ответил Остап. – Мне самому часто снятся сны.
– А что вам снится?
– Разное.
– А какое все-таки? – настаивал старик.
– Ну, разное. Смесь. То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны микадо, а вчера – юбилей Сущевской пожарной части.
– Боже! – произнес бакенбардист. – Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или министр?
– Снился. Как же? Генерал-губернатор. В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял.
– А это вам не снилось, приезд государя-императора в город Кострому?
– В Кострому? Было такое сновиденье. Позвольте, когда же это, ну да, 3 февраля этого года. Государь-император. И, помнится, рядом с ним еще матрос Деревенько стоял.
– Ах ты, господи! – заволновался старик. – Что ж это мы здесь стоим. Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?
– Ну что вы! – добродушно сказал Остап. – Какой же я партиец? Я бонопартиец.
Старик не стал допытываться о столь странной партийной принадлежности своего нового знакомого и повел его к себе. В домике бакенбардиста оказалась одна комната с сенями. На бревенчатых стенах висели портреты господ в вицмундирах. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокойные часы своей жизни.
– И давно вы живете таким анахоретом? – спросил Остап.
– С весны, – ответил старик. – Боже! С какими чувствами въезжал я в этот одинокий домик! Моя фамилия – Хворобьев. Федор Никитич. Здесь, думал я, начнется новая жизнь. А ведь что вышло?
И старик, поминутно хватаясь за бакенбарды и кидая виноватые взгляды на родственников и сослуживцев из министерства народного просвещения, доверчиво открыл Бендеру всю свою душу.
Федор Никитич Хворобьев был монархистом. Он не любил советской власти. Она была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. И это вызывало в нем отвращение.
Он возненавидел слово сектор. До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово Пролеткульт, и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. О, этот сектор! Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное слово будут так опошлено.
На службе Хворобьева бесило многое: заседания, МОПРы, ячейки, займы. Но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были заседания, МОПРы, стенгазеты. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах: о жаловании, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд».
Никуда нельзя было уйти от советского строя. Когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы:
«…Тогда мы постановили вывести его из состава правления…»
«…А я так и сказал: на ваше РКК примкамера есть, примкамера…»
«…Лихачева нужно нагрузить!..»
И, тоскливо поглядывая на советские вывески, Хворобьев с раздражением повторял:
– Вывести! Из состава! Примкамера! Хамская власть! В конце концов ненавистный строй пошел навстречу Федору Никитичу и вывел его из состава сотрудников методологическо-педагогического сектора. Хворобьев с отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился в бревенчатом домике, далеко за городом. Он поступил так для того, чтобы уйти от новой власти, которая завладела его жизнью и лишила его покоя.
По целым дням просиживал старик над обрывом и, глядя на город, старался думать о приятном: о молебнах по случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей особы, о гимназических экзаменах и о родственниках, служивших по министерству народного просвещения. Но, к удивлению, мысли его сейчас же перескакивали на советское, неприятное.
«Что-то теперь делается в этом проклятом Пролеткульте?» – думал он.
После Пролеткульта вспоминались ему совершенно уже возмутительные эпизоды: демонстрации первомайские и октябрьские, клубные семейные вечера с лекциями и пивом, полугодовая смета методологического сектора.
– Хорошо же! – вскричал бывший попечитель учебного округа. – Все отняла у меня советская власть: чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом. Ночь принесет мне успокоение. В своих снах я увижу то, что мне будет приятно увидеть!
В первую же после этого ночь бог прислал Федору Никитичу ужасный сон. Снилось ему, что он сидит в учрежденческом коридоре, освещенном керосиновой лампочкой. Сидит и знает, что его с минуты на минуту должны вывести из состава правления. Внезапно открывается железная дверь, и оттуда выбегают служащие с криком: «Хворобьева нужно нагрузить!» Он хочет бежать, но не может.
Федор Никитич проснулся среди ночи. Он помолился богу, указав ему, что, как видно, произошла досадная неувязка, и сон, предназначенный для ответственного, быть может, даже партийного, работника, попал не по адресу. Ему, Хворобьеву, хотелось бы увидеть царский выход из Успенского собора.
Успокоенный, он снова заснул, но вместо лица обожаемого монарха тотчас же увидел лицо председателя месткома товарища Суржикова.
И уже каждую ночь Федора Никитича с непостижимой методичностью посещали одни и те же выдержанные советские сны. Представлялись ему: членские взносы, стенгазеты, МОПРы, летучие митинги, кооперативные магазины, торжественное открытие фабрики-кухни, председатель общества друзей кремации товарищ Войтов и большие советские перелеты.
Монархист ревел во сне. Ему не хотелось видеть друзей кремации. Ему хотелось увидеть министра двора графа Фредерикса, патриарха Тихона, ялтинского градоначальника Думбадзе или хотя бы какого-нибудь простенького инспектора народных училищ. Но ничего этого не было. Советский строй ворвался даже в сны монархиста.
– Все те же сны! – закончил Хворобьев плачущим голосом. – Все они, проклятые!
– Ясное дело, – весело сказал Остап, – бытие определяет сознание. Раз вы живете в советской стране, то и сны у вас должны быть советские. Впрочем, может быть, это и по Фрейду. Вы знаете, я начинаю думать, что это у вас подсознательное!
– Ни минуты отдыха! – жаловался Хворобьев. – Как избавиться от этих кошмарных видений?
– Я вам помогу, – сказал Остап, – мне приходилось лечить друзей и знакомых по Фрейду. Это пустяки. Главное – это устранить причину. Конечно, главной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени. Придется ограничиться полумерами. Ешьте на ночь помидоры с луком и запивайте сырым молоком. А пока что у меня к вам, почтеннейший Федор Никитич, просьба.
И, присыпая свои слова комплиментами по адресу хозяина, Бендер объявил ему о цели своего прихода.
– Небольшая увеселительная прогулка с друзьями, милейшими людьми. Легкая поломка. Необходимость ремонта.
Одуревший от тяжелых снов монархист охотно разрешил Бендеру воспользоваться сараем. Через полчаса Антилопа была спрятана у Хворобьева и оставлена под надзором Цесаревича и Паниковского. Бендер в сопровождении Балаганова отправился в город за красками.
Молочные братья шли навстречу солнцу, пробираясь к центру города. На карнизах домов прогуливались серые голуби. Спрыснутые водой деревянные тротуары были чисты и прохладны. Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, с треском выдвинуть из гнезда спичечный ящичек, полюбоваться на свежую пачку папирос и закурить, спугнув кадильным дымом пчелу с золотыми позументами на брюшке.
Бендер и Балаганов поддались давлению утра, опрятных улиц и бессребреников-голубей. На время им показалось, что совесть их ничем не отягчена, что все их любят, что они женихи, идущие на свиданье с невестами в маркизетовых платьях.
Внезапно дорогу братьям преградил человек с американским складным мольбертом и полированным ящиком красок в руках.
– Простите, – сказал он, – тут только что должен был пройти товарищ Плотский-Поцелуев. Он ежедневно здесь гуляет. Вы его не встретили?
– А кто он такой, что мы его должны встречать? – грубо спросил Балаганов.
Художник растерянно посмотрел по сторонам, сказал «пардон» и устремился дальше.
– Плотский-Поцелуев! – ворчал Шурка, который еще не завтракал. – У меня самого была знакомая акушерка по фамилии Медуза-Горгонер, и я не делал из этого шума, не бегал по улицам с криками: «Не видали ли вы часом гражданки Медузы-Горгонер. Она, дескать, здесь прогуливалась». Подумаешь! Плотский-Поцелуев!
Не успел Балаганов закончить своей тирады, как прямо на Бендера выскочили два человека с черными мольбертами и ящиками красок.
– Товарища Плотского… – сказал один, задыхаясь.
– Поцелуева! – добавил другой.
– Не видели? – прокричал первый.
– Он здесь должен прогуливаться, – объяснил второй.
Бендер отстранил Балаганова, который раскрыл было рот для произнесения ругательства, и вежливо сказал:
– Товарища Плотского, урожденного Поцелуева, мы не видели, но если указанный товарищ вас действительно интересует, то поспешите. Его уже ищет какой-то трудящийся, по виду художник.
Сцепляясь мольбертами и толкая друг друга, художники побежали дальше. А в это время из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, профессию которого было нетрудно угадать. Он придерживал рукою большой стационарный мольберт. В ногах у извозчика лежал ящик с красками.
– Алло! – крикнул Остап. – Вы ищете Плотского-Поцелуева?
– Совершенно верно, – подтвердил жирный художник, жалобно глядя на Остапа.
– Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь! – закричал Остап. – Вас обошли уже три художника! А в чем тут дело? Что случилось?
Но лошадь, гремя подковами по диким булыжникам, уже унесла четвертого представителя изобразительных искусств.
– Какой культурный город! – сказал Остап. – Вы, вероятно, заметили, Балаганов, что из четырех встреченных нами граждан четверо оказались художниками.
Когда молочные братья остановились перед москательной лавкой, Балаганов шепнул Остапу:
– Вам не стыдно?
– Чего? – спросил Остап.
– Того, что вы собираетесь платить за краску живыми деньгами?
– Ах, вы об этом? – сказал Остап. – Признаюсь, немного стыдно. Глупое положение, конечно. Но что ж делать. Не бежать же в исполком и просить там красок на проведение Дня жаворонка. Они-то дадут, но ведь мы потеряем целый день!
Сухие краски в банках, стеклянных цилиндрах, мешках, бочонках и прорванных бумажных пакетах имели заманчивые цирковые цвета и придавали москательной лавке веселый вид.
Командор и бортмеханик придирчиво стали выбирать краски.
– Черный цвет будет слишком траурно, – говорил Остап. – Зеленый уже не подходит. Это цвет рухнувшей надежды. Лиловый – нет! Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый – пошло, голубой – пошло, красный – слишком верноподданно. Придется выкрасить Антилопу в желтый цвет. Немножко ярковато будет, но красиво.
– А вы кто будете? Художники? – спросил продавец, левое ухо которого было слегка закрашено киноварью.
– Художники, – ответил Бендер.
– Так вам не сюда нужно, – сказал продавец, снимая с прилавка картон с образцами красок.
– Позвольте! – воскликнул Остап. – А куда же?
– Напротив.
Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску. Там была изображена коричневая лошадиная голова, и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».
– Все правильно, – сказал Остап, – лошадки кушают овес и сено. Но причем же тут наш брат-художник? Не вижу никакой связи.
Однако связь оказалась, и очень существенная. Остап ее обнаружил уже в самом начале объяснения приказчика.
Город всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь живущих, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, когда в город приехал новый художник Феофан Копытто.
Первый его портрет вызвал в городе большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Копытто оставил станковистов далеко позади. Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сделан из овса. И когда художник Копытто перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Копытто стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и гречневой крупой, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Сейчас он работал над групповым портретом. Большое полотно изображало заседание Губплана. Эту картину Феофан готовил из фасоли и гороха. Но в глубине души он остался верен овсу, который сделал ему карьеру и сбил с позиций диалектических станковистов.
– Овсом оно, конечно, способнее! – воскликнул Остап. – А Рубенс-то с Рафаэлем дураки – маслом старались! Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи. Дайте нам желтой эмалевой краски.
Расплачиваясь с разговорчивым продавцом, Остап спросил:
– Кто это такой Плотский-Поцелуев? А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дел.
– Товарищ Плотский-Поцелуев известный человек, наш горожанин. Теперь из Москвы в отпуск приехал.
– Все понятно, – сказал Остап, – спасибо за информацию. До свидания! На улице молочные братья завидели диалектических станковистов. Все четверо с лицами грустными и томными, как у цыган, стояли на перекрестке. Рядом с ними стояли мольберты, составленный в ружейную пирамиду.
– Что, служивые, плохо? – спросил Остап. – Упустили Плотского-Поцелуева?
– Упустили! – застонали художники. – Из рук ушел.
– Феофан перехватил? – спросил Остап, обнаруживая хорошее знакомство с предметом.
– Уже пишет, собака, – ответили художники. – Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра.
– А где ателье этого деляги? – полюбопытствовал Остап. – Хочется бросить взгляд.
Художники, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Копытто. Феофан работал у себя в садике, на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский-Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель на трехчервонной бумажке, захватывал горстями овес из лукошка и рассеивал его по полотну.
– Сколько вы получите за эту картину? – застенчиво спросил Поцелуев. Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил:
– Что ж. Рублей сто двадцать музей за нее даст.
– Однако дорого.
– А овес-то нынче, – сказал Копытто певуче, – не укупишь. Он дорог, овес-то!
– Это чепуха, – заметил Остап, – по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос, большую картину со многими фигурами, идеологически выдержанную, хотя и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Но идеологически, повторяю, картина замечательно выдержана. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». И, знаете, это была такая строптивая картина, что с ней уже и не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Но художник успел отхватить за выдумку тысячи полторы. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Копытто. Овес вдруг прорастет, и ваши картины заколосятся. И вам уже больше никогда не придется снимать урожай.
Диалектические станковисты сочувственно захохотали. Но Феофан не смутился.
– Это звучит парадоксом, – заметил он, возобновляя посевные манипуляции.
– Ладно, – сообщил Остап, прощаясь, – сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим.
Весь день антилоповцы красили свою машину. К вечеру она стала неузнаваемой и блистала всеми оттенками яичного желтка.
– Конечно, – сказал Остап, – мы могли бы теперь дня три выдавать себя за агентов угрозыска, охотящихся за таинственной зеленой машиной, и воспользоваться законным содействием административных и общественных органов. Но нам просто некогда. Дела призывают нас в Одессу.
На рассвете следующего дня желтая Антилопа покинула гостеприимный сарай и взяла курс на юг.
– Жалко, что не удалось попрощаться с хозяином. Но он так сладко спал, что его жалко было будить. Может, ему сейчас наконец снится сон, которого он так долго ожидал: митрополит Двулогий благословляет чинов министерства народного просвещения в день праздника древонасаждения.
И в ту же минуту сзади в березовой рощице послышался знакомый уже Остапу плачевный рев.
– Все тот же сон! – вопил старый Хворобьев, мелькая между грустными березами. – Боже, боже!
– Я ошибся, – заметил Остап, – ему, должно быть, приснился не митрополит Двулогий, а Клара Цеткин. Однако, черт с ним! Самый полный, Адам Казимирович!
«Веснулин» Бабского
Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. Барану, Баранчику и Барашеку.
Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.
Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия – Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.
Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая, была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:
Остановитесь, потребители!
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?
В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.
Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».
Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.
Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.
Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.
Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских вород пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шацу конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев – герой гражданских фронтов в должности комбрига.
Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.
Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.
Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.
На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.
– Скорее! – крикнул Бабский.
– Что скорее? – спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.
Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:
– Просил же я вас подержать мой бицикл! Я – прошу убедиться – еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.
Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.
Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:
– Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться – одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?
– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! – восхищенно сказал Филюрин.
– Какие выводы?
– Выпить.
– Это всегда можно. Дайте только патент получить.
– Изобретатель должен угощать, – сказал Филюрин с убеждением.
На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.
В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.
Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!
Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.
Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанный из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышел. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.
– Скажите, Бабский, – спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, – изобретать – это трудно?
Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:
– Простейшее дело.
Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.
– Что это дает в месяц? – крикнул Филюрин вдогонку.
– Рублей шестьдеся-а-а-ат! – донеслось сквозь грохот.
Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.
Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.
«Не иначе как Бабский выронил, – подумал Филюрин. – Интересно, сколько такое мыло может стоить?»
В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, насколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы – любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.
Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.
Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.
В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.
Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.
Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.
Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.
Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.
Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды – очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.
Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина – мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.
Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолетовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).
Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.
В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект им. Лошади Пржевальского.
В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.
Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.
– А! Это вы, товарищ Лялин! – примирительно сказал Бабский. – Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.
– Опять изобрели что-нибудь? – проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.
– Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.
Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.
– Так вы мне завтра в подотдел занесите, – нетерпеливо сказал Лялин, – там и подработаем вопрос.
– Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться? – суетился Бабский. – Позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!
И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.
Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.
Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.
«Медицинское мыло, – с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, – наверно, не меньше сорока копеек стоит».
Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.
И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.
Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.
Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов недолго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.
Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.
Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.
Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.
– Стой! – закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.
Голос его был прежний, филюринский.
В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.
Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.
А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.
«Воленс-неволенс»
До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее – в девять часов предстояло прибыть на службу.
Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.
Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.
– Товарищ Бабский! – услышал изобретатель. – Товарищ Бабский!
Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.
– Хулиганы! – крикнул изобретатель, захлопывая окно. – Удивительное хулиганство!
– Товарищ Бабский, – услышал он за собой, – дело в том, что я был в бане…
Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.
– Кто был в бане? – тихо спросил он.
– Я, – ответил стул.
Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:
– Вы были в бане?
Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:
– Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.
– Кого не видно? – раздраженно спросил Бабский.
– Меня, Филюрина.
– Позвольте, почему же вас не видно?
– Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.
По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.
– Так вы говорите, намылились? – спросил изобретатель, дергая себя за бороду. – С научной стороны это весьма интересно!
– Вы же поймите, – убеждал Филюрин, – из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.
– А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?
– Веснушки исчезли, – искательно сказал невидимый, – но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.
В комнате раздалось жалкое стенание.
– Черт его знает, – задумчиво произнес изобретатель, – я изобрел только мыло от веснушек…
– Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?
– Так-с, – заметил Бабский, – надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.
– Я стою.
– Ага. Ну стойте. А я подумаю.
В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.
– Уже без четверти семь, – канючил невидимый. – Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.
Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:
– Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.
Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки – запасные части к бициклу.
– Пошел вон! – завопил Бабский. – Хулиган! Ну, вон отсюда!
Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:
– Я на вас в суд подам!
– Я тебе подам! Украл мыло и еще пристает!
– Вы не имеете права, – хорохорилась пустынная улица, – ответите, как за убийство!
– Ворюга! – дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. – Так тебе и надо!
Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате, успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.
Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.
Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.
Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.
Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора, даже не переменилась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно – возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.
В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:
КТО КУДА, А Я – В СБЕРКАССУ!
«А я куда? – горько подумал невидимый. – Куда я?»
Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест, златозубая мадам упражнялась в звуке «и».
– А я куда? – прошептал Филюрин. – Не идти же на службу в таком виде?
А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем – из отдела сборов.
– Пойду, – решил Филюрин наконец, – ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!
Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.
К тому времени, когда Каин Александрович прибыл во вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул, на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:
– Что, Филюрин болен?
Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.
– Не знаю, – сказал Каин Александрович без всякого выражения, – за ним эти штуки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.
Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.
Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.
Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.
Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.
Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский – одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:
– Зачем нам управделами ПУМа?!
Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра, – это действовало только временно.
При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:
– Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.
Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:
– Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.
По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.
Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела – Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.
Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.
К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.
И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.
Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.
Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.
– Ну что? – спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо. – Как адреналин?
– Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников…
Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:
– Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.
– А все-таки? – настаивал Евсей Львович.
– Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.
На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.
– Неужели уриной?
– Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.
– Тут станешь нервным, – заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь. – Что же вы все-таки думаете?
– Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.
Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.
– Что же с Филюриным? – спросили из угла. – Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.
И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.
– Алколоиды, – сказал Пташников, усмехаясь, – просто выпил лишнее.
– Ничего подобного! – отозвался Костя. – Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.
Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.
– Кстати, Пташников, – сказал Костя с тревогой, – я слепну.
– Да ну вас! – ответил инструктор-обследователь. – Вечно вы выдумываете какие-то болезни!
– Да ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.
– Ладно. Дайте пульс, – на всякий случай сказал Пташников. – Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.
В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.
«Что скажет Каин Александрович?» – тоскливо думал невидимый.
«Кто куда, а я – в сберкассу!»
Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.
– Этого не может быть! – кричал Доброгласов.
– Ей-богу! – защищался Филюрин. – Спросите Бабского!
Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:
– Ну чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.
Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.
– Это бюрократизм! – кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.
Впрочем, никто ничего не понимал.
У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:
– Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!
– Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!
– Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!
– Не мешайте! – шептал Евсей Львович. – Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере…
В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого.
– В конце концов, это не дело администрации, а дело месткома.
Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.
– Я только об одном прошу, чтобы мое дело разобрали!
– Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?
– Я здесь.
– Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.
– Но ведь я же здоровый человек.
– Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.
Сотрудники переглянулись.
– Самодур, – прошептал Иоаннопольский. – Без согласования с месткомом!
– Да, да, Филюрин, – продолжал Каин Александрович, – хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!
– Меня убили! – закричал невидимый. – У меня украли тело!
– Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!
– Какое может быть погребение живого человека!
– Это парадокс, товарищ, – ответил Каин Александрович. – В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?
Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.
Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?!»
– Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.
После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.
– Прямо анекдот! – повторял невидимый.
Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.
– Ну, что новенького в отделе? – спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.
– Ничего, – ответил Иоаннопольский, – говорят, новая тарифная сетка будет.
– Три года говорят, – послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.
– Да.
– Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.
– А вы заявили в милицию?
– Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! – с горечью произнес голос регистратора.
– Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!
Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое – счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистрации.
– Как же все это произошло? – спросил Евсей Львович. – Расскажите подробно.
Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.
– Бывает, бывает, – сказал инкассатор, – на свете, пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.
– Это бабьи разговоры! – сказал невидимый.
– Нет-нет! – закричал инкассатор. – Это не пустяк.
Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.
– Выходит, что и я призрак, – усмехнулся Филюрин.
Но его не услышали.
Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.
– …Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.
Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.
– Вы еще здесь, Егор Карлович? – спросила она.
– Здесь.
– Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!
Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.
– Скажите, – обратился Филюрин к инкассатору, – вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?
Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.
– Егор Карлович? – спросил Пташников. – Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.
– Зачем же обращаться? – тупо спросил Филюрин.
– Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы мерили?
– Где там мерить! – сказал Филюрин грустно. – Пойду я в местком.
В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.
– Меня не имеют права уволить! – раздался голос Филюрина. – Я трудоспособности не потерял!..
Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.
– Кроме того, меня обокрали, – закончил невидимый свой удивительный рассказ. – Ей-богу! Все начисто уперли.
– Так вы подайте в кассу взаимопомощи, – сказал председатель месткома, – в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.
Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.
– Впрочем, вам деньги не нужны. Ни к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит – обнаружившаяся непригодность к работе.
– Работать я могу! – воскликнул невидимый.
– Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного…
– Как!! – завопил невидимый. – С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять? Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.
– Что ж, это верно, – сказал председатель. – Этот вопрос надо заострить.
– А куда он деньги станет класть? – спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.
– Хоть псу под хвост! – грубо ответил невидимый. – Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто куда, а я – в сберкассу. Мое дело!
– Формально будем защищать, – сказал председатель. – Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.
– Нет, это прямо безобразие какое-то, – заметил Филюрин, – взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!
Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.
– Сколько же такой невидимый может прожить? – спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.
– Неизвестно, – злобно ответил загадочный регистратор.
– Может, такой невидимый и не умирает вовсе? – продолжал Юсюпов.
– И наверно даже я буду жить вечно.
Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.
– Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.
– А возможно, что и будет жить вечно! – завздыхал Юсюпов.
– Тебе, курьер, завидно! – огрызнулся Филюрин.
– Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.
Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:
– Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?
Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.
– Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.
– Скряга ты, Филюрин, – произнес председатель, – невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.
В эту минуту, спугнув лодырничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.
– Товарищи посторонние! – провозгласил председатель. – Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.
Комната мигом обезлюдела.
Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.
– А этот уже есть? – спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.
– Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.
Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.
В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.
– Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа Иванопольский? Не понимаю.
– Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.
– Нет, – сказал Доброгласов, – я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.
– Что же вы хотите? – спросил председатель месткома.
– Я требую жертв, – повторил Каин Александрович. – Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс…
И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.
Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами ПУМа пошло в примирительную камеру.
– Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.
Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в развернутую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.
Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэллса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.
Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.
А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.
Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.
О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем ни ночью.
Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.
Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.
История города Пищеслава
Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.
Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название – Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.
Продукция машинки была неслыханная – три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.
Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.
В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.
В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.
Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.
Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.
Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.
Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.
Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:
– Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.
Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.
Возвратить городу прежнее имя было совестно.
Так он и остался Пищеславом.
С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб – здание, по величине своей немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.
Клуб помещался в лучшей части города – между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.
Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.
Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке, комендант, и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.
Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?
При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.
В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров – дорического, ионического и коринфского.
Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чах от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.
В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.
Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.
Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.
Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.
Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтораста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила.
Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.
Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.
Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.
Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.
Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восьмью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни.
Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:
первый приз – сыну безлошадного крестьянина Окоемову за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;
второй приз – сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;
третий приз – сыну мелкого служащего Иоаннопольскому за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.
Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал и отмахнуться от этого было невозможно.
Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.
В городе часто случались скандальные происшествия.
В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.
Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит невовремя.
– Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.
Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.
Происшествию с Господовым «Пищеславский пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собою литературных групп – крестьянской группы «Чересседельник» и городской – ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).
«Многоуважаемый товарищ редактор! – писал «Чересседельник», – не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:
“Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС…”»
Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.
Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.
«Многоуважаемый товарищ редактор! – писала ПАКС. – Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:
“Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Чересседельник»”»…
Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы не было видно.
Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.
Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.
Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках, с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.
На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.
Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.
Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.
Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.
«Первый Госцирк! – прочел Филюрин вслух. – Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».
Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам – к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.
– Ну и люди теперь пошли! – воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.
Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.
– Ни стыда, ни совести у людей нет, – шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.
С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.
– Действительно, – бормотал он, проплывая между колоннами, – безобразия творятся.
Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович, – думал он, – тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».
Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.
Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.
– Тоже построили! – закричал он в негодовании. – Входа-выхода нет. Под суд таких!
И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:
– Под суд!
Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.
Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.
В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:
– Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Каин в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!
Юбилейная речь
В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.
Сон оказался в руку.
Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней – неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.
– Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! – закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу. – Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!
Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.
Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:
– Кто же сядет на главную книгу?
– Назначили Авеля Александровича, – ответил Пташников, – он уже утвержден.
– Конечно, – сказал Иоаннопольский.
Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.
– Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.
Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.
– Я сделал анализ, – сказал Иоаннопольский.
Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.
– Я уже сделал анализ, – глухо повторил Евсей Львович.
– У вас достаточное количество красных кровяных шариков, – с неудовольствием произнес знахарь, – и, знаете, неудобно как-то в служебное время…
– Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? – лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.
Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.
– Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? – сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.
Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.
Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.
– Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.
Ответа не последовало.
– Вы здесь, Егор Карлович?
Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.
Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:
– Что, Филюрин еще не приходил?
– Не приходил, – ответила Лидия Федоровна. – Смотрю, ручка не подымается.
– Может быть, он заболел? – живо отозвался Пташников.
– А разве невидимые болеют?
– Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.
– Но ведь он же ничего не ест!
– Тогда, может быть, на нервной почве? – ядовито сказал Евсей Львович.
– Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.
Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей, учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.
Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.
С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак», на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.
Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.
На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.
Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.
Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.
Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.
Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.
– Куда же он, однако, девался, мадам? – спросил Евсей Львович удивленно.
– Понятия не имею, – ответила мадам, выставив золотой пояс зубов. – Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.
– А вы, извините, мадам, кажется, в положении? – неожиданно молвил Иоаннопольский. – Где служит ваш муж?
Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.
– В таком случае до свиданья, – сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.
Бросив Юсюпова на полдороги, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.
– Уже! – завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.
Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.
– Что, уже? – зашептали сотрудники.
– Уже! – повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.
– Да говорите же, Евсей Львович, – взмолились сотрудники, – что уже?
Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:
– Уже исчез.
– Филюрин исчез?
– Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.
– Теперь, – сказал Пташников, – Каин Александрович его выкинет.
– Вы в этом уверены? – презрительно спросил Евсей.
– Уверен. А вы что думаете?
– Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?
– Ну что за шутки такие! – закричал Костя. – Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.
– Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?
– Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.
– А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?
За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.
– Да, граждане, и это может произойти очень скоро.
– Откуда вы взяли? Это фантазия!
– А невидимый человек – это не фантазия?! – возопил Евсей. – А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?
– В чем же дело? – загомонили служащие.
– Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин?
– Откуда же нам это знать?
– Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?
Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства, Иоаннопольский засмеялся.
Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.
– А я еще, – сказал он, вздрагивая, – сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.
– Да вы с ума сошли, – зашикал Евсей Львович, – что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?
Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.
– Боже меня упаси, – сказал знахарь трагически, – я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.
– Я не мог этого сказать, – возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: – Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.
– Кто же в этом сомневался! – сказала Лидия Федоровна. – Я редко встречала такого милого человека.
– Милого? Что милого! – подлизывался Евсей. – Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.
Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было всё: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастие совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».
Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.
По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.
– Уж я его характер хорошо знаю, – говорил Евсей Львович, – можете поверить мне на слово.
Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя – исчезновение Прозрачного.
– Я просто так думаю, – говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны, – что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!
На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.
– Вы слышали новость? – кричал Иоаннопольский, входя в местком. – Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают – не откликается!
– Ну что из того? – спросил председатель месткома вяло.
Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.
– Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите, – это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»
Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».
Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.
Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:
– Этот вопрос нужно заострить.
Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.
На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.
Каин уволил Авеля
С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.
И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.
– Что с тобой, Каша? – удивленно спросил Авель Александрович, полулежа в кресле.
– Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! – завизжал Каин Александрович.
– Я тебя не понимаю. Этот тон…
– Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.
– Ты что, пьян? – грубо спросил Авель.
Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.
– Я всегда проводил, – говорил он вздрагивающим голосом, – беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.
Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.
Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:
– Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!
При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.
Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.
Сперва он написал в стенную газету «Рупор благоустройства» заметку такого содержания:
НЕ ВСЕ ГЛАДКО
С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича.
В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».
Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами, углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.
Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор благоустройства».
Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.
Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.
Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.
– Что с вами? – закричал Евсей.
– Я родственник, – ответил Пташников.
– Чей?
– Ее.
– И Пташников указал на Лидию Федоровну.
– Кем же она вам приходится?
– Женою.
– Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.
– Скрывали, – зарыдала Лидия Федоровна. – Жили на разных квартирах.
– Сколько же времени вы женаты?
– Двадцать лет. Пятый год скрываем.
– И дети есть?
– Есть. Мальчик один, вы его знаете.
– Какой мальчик?
– Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.
– В таком случае, – сказал Евсей Львович, – вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.
Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны, молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.
– Знаете что, – сказал Евсей Львович, – такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом – как решит Прозрачный, так и будет.
Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.
Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.
Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.
Евсей засуетился.
– Ах, какая чернильница! – восторгался он. – Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.
– Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!
Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:
– А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати… Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителей.
Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.
Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.
Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.
На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.
Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.
Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.
Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.
У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.
Две госпивные с зазорными названиями «Киевский шик» и «Веселый канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.
«Пищеславский пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:
«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:
“Хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.
Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.
Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.
Бейте меня, а также топчите меня ногами.
Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь”».
Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.
Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.
Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.
Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16½ копеек.
На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.
Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.
– Тем лучше, – сказал Иоаннопольский, – оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов? Это целая Панама!
– А завод как же остался?
– Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!
Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.
В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.
Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.
В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных – мелкая сошка Филюрин – стал совестью города.
Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом.
«Ну его к черту! – думал он. – Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».
На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пардон» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновеино ласкательно.
Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лапидус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищетреста» – французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.
Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.
К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.
В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы.
В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.
Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.
Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.
– Что случилось? Что случилось? – пронеслось над толпой.
Еще не все знали в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.
В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.
«А я здесь!»
Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.
Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.
В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.
Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.
– Ау! – кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.
Не получив ответа, невидимый закричал «караул», и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.
А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.
Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.
– Покажите, где вы! – крикнул Иоаннопольский. – Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!
Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.
Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.
Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.
– Товарищ Доброгласов, – сказал регистратор, верьте слову, я тут ни при чем…
– Как же ни при чем, – залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина, – когда совершенно наоборот.
– Эти возмутительные колонны заставили меня…
– Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.
– Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?
– Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.
– Как другой? – закричал Прозрачный. – Я буду жаловаться! Я до суда дойду!
Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:
– Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!
– Даешь Прозрачного! – закричала толпа.
Филюрин не понимал ровным счетом ничего.
«Ну и дубина же этот Прозрачный, – подумал Иоаннопольский. – Сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»
И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:
– Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.
– Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! – пролепетал Доброгласов.
– Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! – зашипел Евсей Львович. – Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!
– Разве я хотел его уволить? – смутился Каин Александрович. – Не помню, ей-богу.
– Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.
Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.
Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.
– Вы и пешком дойдете, – сказал бесцеремонный Евсей, – вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?
– Здесь, – раздался голос с кожаной стеганой подушки.
– Возьмите мою шляпу и помахайте толпе, – посоветовал бухгалтер, – она это любит.
Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади. Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.
– Снимают! – сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.
– Я так и знала, – заявила жена. – После увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.
– Ты просто дура! – устало сказал Доброгласов.
Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.
Жена, однако, не отставала.
– Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!
– А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.
– Но тебя ведь все равно снимают.
Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:
– Ну, это еще бабушка надвое сказала!
– А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?
– Аннета, ты пошлячка! Ну как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?
– Чем же ты будешь кормить своих детей?
– Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.
Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался. После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.
– Они, Егор Карлович, теперь вас как огня боятся! – убеждал Евсей. – Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мною сидит такая личность.
– Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы, – сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.
Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного по-своему.
– Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.
– Кто же его уволит?
– Ну какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!
– Регистратор не может уволить своего начальника.
– Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.
– В самом деле, безобразия творятся! – сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.
На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:
– Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.
Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув.
Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.
Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:
– А я здесь! А я здесь!
Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.
Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают: «Вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.
И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.
И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.
Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.
Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.
Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.
В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.
Постегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.
Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.
Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.
За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.
С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.
Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.
Зато банкет после заседания был великолепен.
Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.
Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.
«Пищеславский пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.
Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.
– Шац, – сказал ему правая рука Прозрачного, – нужен новый памятник.
– Кому?
– Прозрачному!
– Нет, – ответил Шац, – я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»
– Шац, Шац, памятник нужен, – продолжал Евсей, – и вы его сделаете.
– Это действительно так необходимо?
– Этого требует благоустройство города.
– Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.
– Почему?
– Разве может быть видим памятник невидимому?
Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.
– А все-таки вы представьте смету, – заключил он.
– Против сметы я не возражаю, – заметил скульптор, – ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам недешево. Вам бронзу или гипс?
– Бронзу! Обязательно бронзу!
– Хорошо. Все будет сделано.
В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславекого допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иванопольский – подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.
Хищник выходит на свободу
Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.
Обратимся к пружинам более тайным – к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.
Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.
Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению – начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.
Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.
Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».
– Алло! – крикнул Иванопольский.
Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.
– Хамло! – сказал Петр Каллистратович довольно громко.
Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.
Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.
– Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.
– Вижу, – холодно сказал приятель.
– На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.
– Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?
– Ну конечно же.
– Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.
Иванопольский сделал гримасу.
– Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда…
– Не мешайте мне работать, гражданин, – терпеливо сказал Аркадий.
Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:
– А я здесь!
Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:
– А я здесь! А я здесь!
Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.
Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.
«Что случилось? – думал бывший управделами. – Что за кислота такая в городе?»
Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать.
Петра Каллистратовича взяла оторопь.
И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения – словом, все то, что он для краткости называл живым делом.
Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было – они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.
– Придется в другой город переезжать, – бормотал Иванопольский. – Ну и дела!
А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.
– Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.
Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак, потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.
Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.
Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде – пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.
Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.
Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки – гориллы Молли – выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.
Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.
Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.
На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.
Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось – она получала теперь свою порцию бананов полностью.
Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.
Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.
– Если так будет продолжаться еще неделю, – кричал он, – я пропал!
В такую минуту пришел к нему Доброгласов.
– Ну, как насчет «пыщи»? – зло спросил его Брак.
«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалась словом «пыща».
Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:
– Плохо.
– Душат? – спросил Брак.
– Уже задушили, – ответил Каин Александрович. – С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.
– За что?
– По вашему делу. Подряд на фонари.
– Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?
– Вполне естественно.
– Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.
– Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы – лиходатель, а я – взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.
– Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя – и я уже не человек.
– Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.
– Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего – могут посадить.
– Вы думаете, мне лучше? – с чувством сказал Каин Александрович. – Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.
– Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?
– Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?
– «А я здесь»?
– Ну да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!
– Вот если бы он не был прозрачный… – задумчиво молвил Николай Самойлович.
– Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!
– Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!
– Открыл Северную и Южную Америку! – с иронией произнес Доброгласов. – Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?
– Нет, не я.
– А кто?
– Тот, кто сделал его невидимым.
– Бабский!!
– Догадались наконец.
– Но ведь он совершенно сумасшедший.
– А самое существование Прозрачного – это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!
Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.
– Да! – закричал он. – Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!
Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:
– Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..
– Их жалеть нечего, – сказал Доброгласов, с лихвой окупим.
– Ну, с богом! Вы знаете. Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.
И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.
В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.
Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.
– Я невидимый! – кричал голый низким колеблющимся голосом.
Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.
– Я невидимый! Я невидимый! – надсаживался человек. – Я перестал существовать!
– Кто это такой? – спросил Каин Александрович у мальчишки.
– Что тут случилось?
Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.
Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала.
– Срам какой!
– Давно такого хулиганства не было!
– В милицию его!
– Я невидимый! – вопил голый. – Я стал прозрачным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!
– Бабский! – ахнул Доброгласов. – Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!
К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.
– Держите его, граждане! – крикнул он. – Окажите содействие милиции.
– Вон! – орал Бабский. – Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?
– Очень хорошо, – уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя, – не волнуйтесь, гражданин!
Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.
– Гениальные изобретения всегда просты! – кричал Бабский, валясь на спину извозчика. – «Невидим Бабского» – шедевр простоты – два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистилированнои воде!..
Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить – голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что невовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.
Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.
Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.
– Что ж теперь делать? – растерянно спросил Брак.
Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.
– Конечно! – сказал он. – Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.
Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.
– Зайдем ко мне, – предложил Николай Самойлович, – посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.
– Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек…
Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:
– Вот!
В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Иванопольский.
Юридический панцирь
Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.
Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:
– Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!
Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».
– Загорелся сыр божий, – сказал он.
Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.
– Как ваше мнение, Петр Каллистратович? – спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.
Насторожился и Брак.
– Мое такое мнение, – объявил гость, – что Прозрачному нужно пришить дело.
Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.
– Скажите, – вымолвил наконец Каин Александрович, – правильно ли я вас понял? Пришить дело?
– Это немыслимо! – вскричал Брак.
Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.
– Пришить дело. Безусловно.
– Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?
– Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?
– Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.
– Вот и убирайте. Я вам дал идею.
– Не шутите, Иванопольский! – закричал вдруг Брак. – Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.
– Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный – лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.
– Хорошо, – заволновался Доброгласов, – допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!
– Если он сделает эту глупость, он погиб! – спокойно сказал Иванопольский. – Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.
– А если явится?
– Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.
Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.
– Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?
– Прозрачный, конечно!
– Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?
– Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И, наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача – посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!
Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.
– Я человек скромный, – сказал Иванопольский, – но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.
После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:
– Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?
Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому, была бы охота, повеселевший Иванопольский ушел.
Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.
Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам – только до одиннадцати часов вечера.
Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.
На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.
Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:
«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».
Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.
Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.
Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.
Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.
Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.
– Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом, – осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.
– Нет, нельзя, – ответил Евсей, – получится какая-то видимость, а это уже не то.
– Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! – воскликнул Шац.
– Вроде Вандомской?
– Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.
– Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.
– Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам – портики, для прогулки граждан.
– И сквер!
– И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!
Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.
Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.
Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.
– Что с вами? – пошутил Евсей Львович. – У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.
Пташников замялся.
– Или отравление уриной? – приставал начальник.
Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.
– Вы слышали новость, Евсей Львович? – спросил он, с опасением поглядывая на дверь. – Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.
– Что за глупости!
– Честное слово, говорят.
– От кого?
– От бывшей его квартирной хозяйки.
– Какие глупости! – вскричал Иоаннопольский.
Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.
– Чепуха! – проговорил он менее уверенным тоном.
– Нет, нет! Говорят, совершенно точно!
– Ну что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!
– Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!
Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:
– Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.
– При чем тут я? – оправдывался знахарь. – Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.
– Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!
Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.
– Квартирохозяйка подала в суд!
– Чего же она хочет?
– Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.
– Как? Кто смеет возмущаться?
– Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!
– Это ложь! – завопил Евсей. – Они этого не докажут!
– А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.
Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.
Иоаннопольский знал силу сплетни.
«Хорошо, – думал он, – бегая вдоль стены кабинета. – Суд – это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен…»
– А я здесь! – раздался голос Прозрачного.
– Егор Карлович? – спросил Иоаннопольский. – Ну так говорите тише.
– Что новенького в отделе? – сказал Прозрачный. – Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?
Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.
– Разве это про меня говорят? – удивился невидимый. – Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.
Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:
«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».
– Еще можно все поправить, – сказал Евсей Львович, – вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?
– С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?
– В таком случае я ничего не понимаю! – воскликнул Евсей Львович. – Вы, серьезно, с ней не жили?
– Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!
– Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.
И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.
Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.
– Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! – закончил доброжелатель.
После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.
– Едемте ко мне! – торопил Евсей. – Нужно обсудить! Принять меры!
Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.
Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.
– Вот он! – вопила она. – Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!
– Бегите! – шепнул Евсей.
Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:
– На, подлец! Возьми своего ребенка!!!
Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:
– Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!
Евсей Львович был вне себя.
– Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!
И необозримая толпа запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.
– Он убежал! – надрывалась мадам Безлюдная. – Последний босяк этого не сделал бы.
Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.
Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брака.
А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.
Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.
«Вопросов больше не имею»
Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.
– Ну, как насчет пыщи? – хохотал Николай Самойлович.
– Живое дело! – отвечал Иванопольский. – Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!
А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».
В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приема нет!»
И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:
– Приама нет! Приема нет!
– Приема нет! – кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.
Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.
В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.
Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп – просто глупая болтовня пьяной бабы.
Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда преждевременно.
Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам – Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским – родным и богатым братьям Евсея Львовича.
«Не лучше ли бросить, – думал он, – всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»
Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.
На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.
– Евсей! – говорил Прозрачный плачущим голосом. – Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!
Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.
Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.
Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.
– Я не хочу платить алименты! – тосковал Филюрин. – Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!
– Так вы смотрите, – увещевал Иоаннопольский, – говорите громко и медленно. Слышите?
– Да, слышу, слышу, – уныло отвечал Прозрачный, – вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.
Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:
– Суд идет! Прошу встать!
Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.
Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:
– Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!
Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.
– А я здесь! – прокричал Прозрачный.
Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум – заседание начиналось общим сочувствием истице.
Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то в глуби. Евсей Львович в соломенной шляпе «канатье» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.
Вдова с плачем давала объяснения.
Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.
– Не кажется ли это суду подозрительным? – с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.
«Это жулик, – хотелось крикнуть Евсею, – не верьте ему».
Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.
– Уведите этого гражданина! – сказал судья курьеру.
Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.
– И я прошу, – закончила вдова, – чтобы суд заклеймил обманщика и…
– И воочию показал, – не мог удержаться Иванопольский, – что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал…
Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.
– Не кажется ли суду подозрительным, – сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канатье», – что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?
– А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?
Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.
– Филюрин, Егор Карлович, – сказал судья, – дайте ваши объяснения.
Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.
– Что же говорить, товарищ судья! – грустно молвил Прозрачный. – Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?
– Можете.
– Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?
– Не подумала как-то, – ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.
– Больше вопросов не имею! – закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.
– Выведите этого гражданина, – сказал судья.
И судоговорение продолжалось.
Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем.
Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.
Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.
Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.
Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.
Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту им. Лошади Пржевальского.
Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.
Ввели Иванопольского.
– Вы что, пришли как свидетель? – спросил судья.
– Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу, – с жаром сказал Петр Каллистратович.
– Выведите его, – страдальчески сказал судья, – и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?
– Четыре раза, – ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.
Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.
Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канатье» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:
– Больше вопросов не имею.
– Вы и не можете их иметь! – сказал измочаленный судья. – Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.
– Мало того что я невидимый, – послышался рыдающий голос, – она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.
– Прошу выбирать выражения! – сказал судья.
– Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.
– Держитесь ближе к делу.
Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.
– Товарищ судья…
Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.
На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.
Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.
Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.
«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.
Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.
– Согласен! – закричал он, обнимая судью голой рукой. – На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!
Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.
Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.
На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.
– Скажите, – спросил он, – как вы попали на должность заведующего отделом?
– Вы сами меня назначили, – ответил Евсей Львович шепотом.
После вчерашнего он потерял голос.
– Не помню, не помню, – сказал начальник. – А где вы раньше служили?
– Там же. Бухгалтером.
– Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.
Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.
В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.
И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.
За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.
Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.
– Ну что? – спросил он.
– Я думаю, что это на нервной почве, – ответил Пташников по привычке.
– А знаете, – закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце. – А ведь веснушки-то действительно исчезли!
Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска
В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком.
Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше.
– Я попал под автомобиль, – сказал доктор Гром радостно, – потом судился.
И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья.
В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил попачкавшиеся брюки и закричал:
– Убили!
Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля.
– Убили! – твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.
– А я его знаю, – сказал чей-то молодецкий голос. – Это посол страны Клятвии. Клятвийский посол.
Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц.
По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич.
Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда.
На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по сто сорок рублей в месяц, как обремененному большой семьей.
На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения.
Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пенья Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни.
Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием.
На отхожий промысел в Москву потянулись все – умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму.
Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета министров, господин Эдгар Павиайнен, беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа.
Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики.
В палату был внесен запрос:
– Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха?
На это господин председатель совета министров ответил:
– Нет, не известно.
Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.
Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину.
Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала.
С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:
– Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд.
Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали:
– Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!
Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел.
– Сколько? – спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клятвийского казначейства.
Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом.
Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили.
И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения.
Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.
В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, не виданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком.
Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на город Колоколамск и обтекающую его реку Збрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки.
В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели.
Остановившись за десять шагов от незнакомца. Подлинник с удивлением спросил:
– Пардон, где вы достали такой костюм?
– В Буэнос-Айресе, – ответил плачущий джентльмен.
– А галстук?
– В Монтевидео.
– Кто же вы такой? – воскликнул Подлинник.
– Я колоколамец! – ответил джентльмен. – Я Горацио Федоренкос.
Восторгам председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы.
Через десять минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, тридцать лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь – рыдает от счастья.
Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик-Бугаевским. Во время неофициальной части торжества Федоренкос плясал русскую. Он вилял спиной и мягко притопывал каучуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой тридцатидвухэтажного небоскреба для своих сограждан.
– Брешет, – говорили колоколамцы, качая гостя. – Что-что, а насчет дома брешет! Такие дома не могут существовать в природе.
Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков.
Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно.
К концу второго месяца небоскреб был почти готов. Тридцать второй этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров.
Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становится невыносимой.
В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной площадке своего этажа.
Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:
– Милициос!
Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и пребольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчанами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.
В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными, учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома – на шестнадцатом этаже.
По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты как самые емкие были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз – на пастбище.
На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения: из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж – судиться и наконец в 29 этаж – Этаж заключения.
Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки.
Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты.
Никита Псов, житель 19 этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала:
– Никита Иваныч! Отдай хоть ключ от квартиры! Войтить в квартиру нельзя!
Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж, этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой.
Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал:
– Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентельмента!
Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши.
На квартиру Подлинников, проживавших в глухом 32 этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков.
В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала.
Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей, и губернский город не отражался больше в окнах 25 этажа.
Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил.
Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:
– Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление начинается. Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!
И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии.
Впечатлительный гражданин Пферд из дома № 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Пфердом, сведениям, Москва была уже затоплена и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Пферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.
Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа.
– Может, переедем в другой город? – сказал Никита Псов, наименее умный из граждан.
– Лучше стрелять в небо из пушек, – предложил мосье Подлинник, – и разогнать таким образом тучи.
Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии.
И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся.
– Ковчег! – сказал он. – Нужно строить ковчег!
– Ной Архипович! – застонала толпа в предчувствии великих событий.
– Считаться не приходится, – отрезал капитан Похотилло. – Благодарить будете после избавления.
На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе.
Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой Семкиной Библии, которую принес дьякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом.
– Считаться не приходится, – говорил капитан Похотилло.
На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «Считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать.
С первых пассажиров, в числе которых были: мосье Подлинник, Пферд и Сицилия Петровна, сменившая утренний капот на брезентовый тальер, – расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога «катеньку», за что был допущен внутрь с женой и вечнозеленым фикусом.
У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ноя Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным.
Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормчего Похотилло и его первого помощника Лоханкина.
– Ковчег не резиновый! – кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью.
Граждане с надрывом голосили:
– Пройдите в ковчег! Впереди свободнее!
– Граждане, пропустите клетку с воронами! – вопил Васисуалий Лоханкин.
Когда вороны были внесены, капитан Похотилло увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик-Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов.
– Ковчег отправляется! – испуганно закричал капитан. – Граждане! Сойдите со ступенек. Считаться не приходится!
Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось.
Три дня и три ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего.
На четвертый день выпустили через люк, в крыше ворону. Она улетела и не вернулась.
– Еще рано, – сказал Лоханкин.
– Воды еще не сошли! – разъяснил капитан.
На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка:
«Вылезайте, дураки». И подпись: «Синдик-Бугаевский».
Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза им ударило солнце. Ковчег, весь в пыли, стоял на месте его постройки – посреди Малой Бывшей, рядом с пивной «Друг желудка».
– Позвольте, где же потоп? – закричал разобиженный Пферд. – Это все Лоханкин выдумал.
– Я выдумал? – возмущенно сказал Васисуалий Лоханкин. – А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?
– Считаться не приходится! – загремел Похотилло. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу. Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи.
Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведений наших читателей, что:
а) Колоколамск действительно существует;
б) ничего общего с Волоколамском не имеет и
в) находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов.
Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то, даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения.
Но автору вместе с художником К. Ротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города.
Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себялюбского, напившись византийской водки, уронил в речку сбрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Збруи.
Со времени этого события прошли века, Себялюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении сбруи знает только гражданин Псов-старший, который и рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка».
В реку Збрую впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице.
Последовательно угостившись за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Малорусь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и в пивной завода имени Емельяна Пугачева, Псов-старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи.
Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскреба, история которого читателю уже известна. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотилло, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору.
Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного Соловейчика. Здесь, в бору, он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название Соловейчика-разбойника.
Вправо, на горе, высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в Переучетном переулке, неподалеку от Семибатюшной заставы.
Восточная часть города справедливо гордится двумя Бывшими, на стыке которых был построен ковчег – Бездокладной и Землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии.
Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными Индивидуальными банями.
Обойдя молчанием ничем не выдающиеся Мелколавочный, Малосольный и Малахольный переулки, отметим темное пятно города – Приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде.
Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Геть неграмотность» и горящий дом у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно уже в течение пяти лет. Его каждое утро поджигает домовладелец брандмайор Огонь-Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде.
Южная, она же Привокзальная, часть Колоколамска отличается красотой расположенного на ней Старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находятся Спасо-Кооперативная площадь с лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством мосье Подлинника, военизированные курсы декламации и пения Синдика-Бугаевского, старинный храм Выявления Христа, оживленная Гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы «Все за лечобу».
Особенно поражает на Спасо-Кооперативной площади могила неизвестного частника.
В начале нэпа в Колоколамск приехал никому не известный частник за конским волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар, к вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-Кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось.
Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата (никто из колоколамцев никогда не воевал), горожане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю, по субботам, Соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье.
Западная часть города состоит из трех улиц и одного переулка. Широкий, прямой как стрела Кресто-Выдвиженческий проспект украшен новой, Кресто-Выдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие».
Единодушная улица и продолжение ее – Единогласная – соединяются с Южной частью города Досадным переулком. Между Единодушной и Единогласной высится каланча и милицейская часть.
Самая молодая часть города – Зазбруйная часть – стоит на стрелке, образуемой Вожжей и Збруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц.
Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив.
Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится.
Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в историю города.
Казалось бы между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск.
Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего».
Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, но так или иначе Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве.
Приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах.
– Тут я, конечно, хотел бежать, – рассказывал Завитков соседям, – а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс.
– Партийные? – восклицали соседи.
– Партийные! Стояли и кланялись. Стояли и кланялись.
– Смотри, Завитков, – сказали соседи, – за такие факты по головке не гладят.
– Так ведь мне же снилось! – возразил Иосиф Иванович, усмехаясь.
– Это ничего, что снилось. Были такие случаи… Смотри, Завитков, как бы чего не вышло!
И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы.
Целый день Завитков шлялся по городу и, вместо того чтобы варить свою «Африку», советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой.
То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу.
Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей.
– Ну, Завитков? – спросили они нетерпеливо.
Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад, в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатие» гражданин Долой-Вышневецкий.
– Видел? – спросил председатель грозно.
– Видел, – устало сказал Завитков.
– Их?
– Их самых.
И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. Десять партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-Кооперативной площади.
– Хорош ты, Завитков, – сказал Долой-Вышневецкий, – много себе позволяешь!
– Что же это, граждане, – гомонили соседи, – этак он весь Колоколамск под кодекс подведет.
– Где же это видано, чтоб десять партийных одному беспартийному кланялись?
– Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься.
– Сон это, граждане! – вопил изнуренный Завитков. – Разве мне это надо? Во сне ведь это!
За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели мосье Подлинник.
– Граждане! – сказал он. – Слов нет, Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеймить? И я скажу – нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок. И пусть заснет спокойно.
Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с мосье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.
Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах.
Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили Бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к Семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы.
Всю ночь спящий Завитков подсознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к нему в автомобиле председатель Губисполкома, вышел из машины, стал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку.
Со стоном выбежал Завитков на улицу.
Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы.
– Видел! – закричал он, бухаясь на колени. – Председатель исполкома мне ручку поцеловал. Вяжите меня, православные!
К несчастному приблизились Долой-Вышневецкий и мосье Подлинник.
– Сам понимаешь, – заметил Долой-Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, – дружба дружбой, а хвост набок.
Толпа одобрительно роптала.
– Пожалуйста, – с готовностью сказал Завитков, понимавший всю тяжесть своей вины, – делайте что хотите.
– Его надо продать! – заметил мосье Подлинник с обычной рассудительностью.
– Кто же купит такого дефективного? – спросил Долой-Вышневецкий.
И, словно в ответ на это, зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на Губшоссе.
Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале». В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.
– Какой город? – хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.
– Колоколамск! – закричал из толпы Никита Псов. – Колоколамск, ваше сиятельство!
– Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?
– Есть один продажный, – вкрадчиво сказал мосье Подлинник, приближаясь к кибитке. – Вот! Завитков!
Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.
– Давай! – рявкнул главный.
Связанного Завиткова положили в кибитку. И караван вихрем вылетел из города.
– Не поминайте лихом! – донеслись из поднявшейся метели слова Завиткова.
А метель все усиливалась и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось. Как ядро, выкатилась луна. Оконные стекла заросли морозными пальмами. Город мирно спал. И все видели обыкновенные мирные сны.
Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев.
– Как нет? – восклицали колоколамцы. – А Взносов! Наш-то Досифей Взносов! Слава богу, не какой-нибудь частник. Пролетарий чистых кровей.
Весь город гордился Досифеем Взносовым, один лишь Досифей Взносов не гордился самим собой. Дела его шли плохо.
Взносов был холодным сапожником, проживал в Зазбруйной части города, на Штопорной улице, а работал на Привозном рынке в базарные дни.
То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал.
– Пролетарий я, действительно пролетарий, – говорил он хмуро. – И кровей, слава тебе господи, не смешанных. Чай, не мулат какой-нибудь. А что толку? Выпить не на что!
В таком настроении забрел он однажды на квартиру к мосье Подлиннику. Цель у Взносова была простая – отвести душу. А всем в городе было известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели.
Подлинник, облаченный в рубашку-гейша, с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом.
Перед ним дымился суп-пейзан, в котором привольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловом и льдом.
– Принимайте гостя, товарищ Подлинник, – сказал холодный сапожник, входя, – чай, не мулат, не метис какой-нибудь.
– О чем может быть речь! – ответил лжепредседатель. – Садитесь, мосье Взносов. Вон там, возле граммофона стоит пустой стул.
Досифей покосился на пар, восходивший над супом-пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы.
– Пролетарий я, действительно. Не индеец какой-нибудь. Чистых кровей. А выпить тем не менее не на что.
Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к столу не был. Подлинник, багровея, проглотил большой кусок мяса и, отдышавшись, молвил:
– Удивляюсь я вам, мосье Взносов. С вашим происхождением…
– На черта мне это происхождение! – с тоской произнес холодный сапожник. – Из происхождения шубы не сошьешь.
Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее, словно трезубец.
– Вы думаете, не сошьешь шубы? Из происхождения, вы думаете, нельзя сшить шубы?
– Нельзя!
И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуты две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение:
– Тогда, мосье Взносов, – сказал он, – продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?
Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик и вступил в торг. Он требовал: яловочные сапоги одни, портьеру одну, четверть водки и три рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа-пейзан.
Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил, Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал – «Псст», продавец возвращался, и снова уходил, и вновь возвращался, но Подлинник не прибавил ничего. На том и сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки и суп-пейзан.
– Смотрите, мосье Взносов, – сказал Подлинник. – А оно у вас настоящее, это происхождение?
– Чай, не абиссинец! – возразил холодный сапожник, с удовольствием проглатывая водку. – Чистых кровей. Товар настоящий.
И слава Досифея Взносова, – слава, которую он не сумел оценить, померкла. На колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почетного городского пролетария мосье Подлинника.
Председатель лжеартели вцепился в свое новое происхождение с необыкновенным жаром. На Привозном рынке он приобрел связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в губцентр, чтобы поднести лапоточки ответработнику товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям: мальчику Гоге и девочке Демагоге.
Назад взамен лаптей Подлинник привез большое удостоверение какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова – «удовлетворить». Что значилось в удостоверении, не знала даже мадам Подлинник, но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжеартели и близко познакомиться с прекрасным словом «сверхприбыль».
Мосье Подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам.
– Слава богу, – скромно говорил он, – я не какой-нибудь мулат. Пролетарий чистой крови.
Для того чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, Подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье.
По мужской линии род Подлинника восходил к Степану Разину, а по женской – Фердинанду Лассалю.
Из этого же древа явствовало, что прапрапрапрадедушка мосье в свое время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира.
Это был пир генеалогии, знатности и богатства.
О холодном сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли, но сам Досифей Взносов страдал невыразимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить.
И однажды все увидели, как Досифей прошел через город, неся в правой руке дымящуюся тарелку супа-пейзан, а в левой – рюмку водки. Он шел как сомнамбула, шел выкупать свое пролетарское происхождение.
Он вошел в дом Подлинника и с дарами в руках остановился на пороге.
Мосье пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блистал перстень с бриллиантовыми серпом и молотом. Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели, как коллекция старинного оружия.
– Вы пришли к занятому человеку, – сказал Подлинник.
– Вот суп, – робко сказал Досифей, – а вот и водка. Отдайте мне назад мое пролетарское происхождение.
Подлинник встрепенулся.
– Тронутое руками считается проданным, – сказал он ясным голосом. – Происхождение в последнее время поднялось в цене. И я огу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет?
Но у Досифея Взносова билета не было. Он был безбилетный.
Медленно он вышел от Подлинника и удалился в свою Зазбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.
Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8 часов и 40 минут вечера снесла золотое яйцо.
Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом.
С утра Евтушевский, как обычно, был занят: продавал дудки, копался в огородике, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промысловой лжеартели «Личтруд» мосье Подлинника.
После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей.
День был вконец испорчен. Жизнь казалась отвратительной. Дудок в этот день никто не купил. Пополнить запасы топлива не удалось. Курица не неслась.
В таких грустных размышлениях застали Евтушевского мосье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета Подлинников приготовляет мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд.
– Имейте в виду, мосье Евтушевский, – сказал председатель лжеартели, – что ваши мышеловки имеют большой дефект.
– Дефект и минус! – укоризненно подтвердила мадам Подлинник.
– Ну да! – продолжал мнимый председатель. – Ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиенты обижаются. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец.
– Упала и утонула, – добавила председательша. Евтушевский погрустнел еще больше.
Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотанье и затрещали крылья.
– Ей-богу, сейчас снесется! – закричал дудочник, вскочив.
Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто бы на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома.
– Что т-такое?
Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета.
Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посредине которого матово блистало крупное золотое яйцо.
Оторопь взяла присутствующих. Первым очнулся мосье Подлинник.
– Это большое достижение! – сказал он деревянным голосом.
– Достижение и плюс, – добавила жена, не сводя лунатических глаз с драгоценного предмета.
Подлинник потянулся к яйцу рукой.
– Не балуй! – молвил дудочник и схватил вороватую руку.
Голос у него был очень тихий и даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтоб не мешала. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху.
Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился.
– Пустите, – сказал лжепредседатель. – Я только хотел посмотреть, – может, яйцо фальшивое.
Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше трех фунтов.
– Яичко что надо, – завистливо сказал мосье. – Но, может быть, оно все-таки фальшивое.
– Чего еще выдумали, – дудочник высокомерно усмехнулся, – станет вам курица нести фальшивые золотые яйца. Фантазия ваша! Слуш-шай-те… Да тут же проба есть. Ей-богу… как на обручальном кольце.
На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывавшее 56 пробу.
– Ну, теперь вас арестуют, – сказал Подлинник.
– И задавят налогами! – добавила мадам.
– А курицу отберут.
– И яйца отберут.
Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо.
– Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо.
– Пока одно. Потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца. Евтушевский, мосье Евтушевский! Имейте в виду, мосье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент.
– И что там было внутри? – с любопытством спросил старый дудочник.
– Ничего не было. Что там может быть? Потроха…
Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуще прежнего. Лучи лампы отражались на его поверхности лампадным, церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова.
Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку.
Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо.
– Мосье Евтушевский! – закричал Подлинник. – Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, мосье Евтушевский?
Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.
– Он ее зарежет! – закричал Подлинник.
– Зарежет и ничего не найдет! – добавила мадам.
– Откуда же берется золото? – раздался надтреснутый, полный низменной страсти, голос Евтушевского.
– Вот дурак! – заорал разозленный лежпредседатель. – Оттуда и берется.
– Нет, вы скажите, откуда оттуда?
Мосье Подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос не может. Минуты две он озадаченно сопел, а потом сказал:
– Хорошо. Мне вы не верите. Не надо. Но председателю общества «Геть неграмотность» вы можете поверить? Ученому человеку вы доверяете?
Евтушевский не ответил.
Супруги Подлинник ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжелыми мыслями.
Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома неслось кудахтанье курицы, которой Евтушевский не давал спать. Он поминутно брал ее на руки и окидывал безумным взглядом.
К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги Подлинник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла три фунта золота и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки.
Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к домику Евтушевского. Но проникнуть в дом никому не удалось – дудочник не отвечал на стук в двери.
Наконец к дверям домика протиснулись Подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Геть неграмотность» товарища Балюстрадникова. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли человеком-верстой.
После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского.
– Гм, – заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо.
Он поднес его к глазам, почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца.
– Не правда ли, мосье Балюстрадников, – начал Подлинник, – это глупо, то, что хочет сделать мосье Евтушевский? Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца.
– Хочу, – прошептал Евтушевский.
За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом.
Председатель общества «Геть неграмотность» погрузился в размышления.
– Надо резать! – вымолвил он наконец.
Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билась об оконное стекло.
Подлинник был в ужасе.
– Зачем резать? – кричал он, наседая на «Геть неграмотность».
«Геть» иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу.
– А как же иначе? Ведь курица питается не золотом. Значит, все золото, которое она может снести, находится в ней. Значит, нужно резать.
– Но позвольте!.. – вскричал Подлинник.
– Не позволю! – ответил Балюстрадников.
– Спросите кого угодно. И все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца.
– Пожалуйста. Под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите.
Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де-Нанжи в четвертом действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой.
– Граждане! – завопил он. – Что делать с курицей?
И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен.
– А что с ей делать, с курицей-то?
– Заре-езать! – закричали все.
– В таком случае я в долю! – воскликнул мосье Подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника.
В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по Бездокладной улице. Преследователи, стукаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню.
Через минуту соотношение сил определилось так.
По пустой, нудной улице, подымая пыль, катилась курица Барышня. В десяти метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с Подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам Подлинник со столовым ножом в руке.
На площади Барышню, вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, умертвили и выпотрошили.
Золота в ней не было и на грош.
Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу. И действительно, внешним своим видом Барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур.
Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Геть неграмотность». В общей свалке и неразберихе он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Геть рукопожатие».
Золотого фарша нигде не нашли.
Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу.
Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка тяжело, как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку.
В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь как первое. Была и 56 проба. Но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова:
«С НОВЫМ ГОДОМ».
На бумажке была надпись:
«Передать С. Т. Евтушевскому. Дорогой сын! Эти два яйца – все, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа Тигрий Евтушевский».
На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом.
Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов Кресто-Выдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые неслись с колокольни храма Выявления Христа.
Как всегда бывает по время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-Кооперативная площадь была запружена толпой.
У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из четырех пеших милиционеров и их начальника товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам.
– В кого стреляют? – закричал Никита Псов, врезываясь в толпу.
Он несколько запоздал, и по его внешнему виду (сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива) можно было заключить, что если он сейчас же, немедленно, не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца.
Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно смотрел на низкие снежные облака.
Постепенно и толпа заприметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке.
– По вражескому самолету, – отчаянным голосом скомандовал Отмежуев, – пальба шеренгой!!
Шеренга, зажмурив глаза, выпалила.
– Недолет! – с сожалением крикнул Никита Псов. – Ну, все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!
И тут же поделился с толпой своими соображениями:
– Знаем мы этих летунов! Это из страны Клятвии штурмовать наш Колоколамск летят. Ясное дело!
Слух о нашествии врага исторг у собравшихся на площади протяжный вопль.
Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через пять минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара:
«КРАСНЫЙ КАЛОШНИК-ГАЛОШНИК».
Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Мосье Подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать.
Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух.
Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивались за борт корзины.
– Сдавайся! – завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором.
Воздухоплаватели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом.
Шар на минутку взмыл, но, продырявленный колоколамскими пулями, снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу.
– Сдаемся! – закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. – Сдаемся, дураки вы этакие!
Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома.
– Вот еще идиоты! – кричали сверху. – Навязались на нашу голову.
– Ладно уж! – отвечали снизу. – Сходи, Клятвия, на землю. Здесь посчитаемся!
При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься.
– Что вы делаете?! – кричали калошники-галошники.
Никита Псов не ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину.
– Чтоб вы сдохли! – истерически закричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус.
Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валяные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу.
– Консервов нету? – деловито крикнул мосье Подлинник.
– Сукины вы сыны! – ответили воздухоплаватели, уносясь в небеса.
Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего «Красный Калошник-Галошник» камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен. Шар, гонимый ветром, потащил остальных по Старорежимному бульвару к центру города.
Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брандмайор Огонь-Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды.
На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены.
– Что же вы, черти, – плача, вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых кальсонах, – на своих кидаетесь с топорами?! Шар прострелили, дураки!
Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акация», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный Калошник-Галошник».
– Написано на вас, что вы спортсмены? – угрюмо говорил Отмежуев. – Откуда мне знать? По уставу, после троекратного предупреждения, обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать!
– Да ну вас, болванов! – сказал человек в очках. – Давайте лучше шар чинить.
Но шара уже не было. Он пропал бесследно.
Зато на другой день после отъезда неудачливых калошников-галошников из города во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.
Обычно к двенадцати часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу.
В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж.
В длинных самоедских санях, влекомых цугом двенадцатью собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом.
При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой.
Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду и зычным голосом вскрикивая:
– Шарик, черт косой! Но-о-о, Шарик!
Доставалось и другим собачкам.
– Я т-тебе, Бобик!.. Но-о-о, Жучка!.. Побери-и-гись!!
Колоколамцы, не зная, кого послал бог, на всякий случай крикнули «ура!».
Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной «Голос минувшего» придержал своих неукротимых скакунов.
Через пять минут, привязав собачий поезд к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатертей не было.
– Чем прикажете потчевать? – спросил хозяин дрожащим от волнения голосом.
– Молчать! – закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива.
Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю:
– Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции Отмежуеву?
– Будут! – ответил молодой человек. – Я профессор центральной изящной академии пространственных наук Эммануил Старохамский.
– Слушаюсь! – крикнул Отмежуев.
– Метеориты есть?
– Чего-с?
– Метеориты или так называемые болиды у вас есть?
Отмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.
– Гнойниками не интересуюсь! – воскликнул молодой восемнадцатилетний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. – По имеющимся в центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра Первого благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров.
Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас мосье Подлинник, мудрейший из колоколамцев.
Он приветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра Первого благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов и что старик этот единственный человек, который может дать профессору нужные ему разъяснения.
Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком.
– Ну что, старик, – дружелюбно спросил профессор, – в крематорий пора?
– Пора, батюшка, – радостно ответил полуторавековый старик, – в наш, совецкай крематорий. В наш-то колумбарий!
Потом подумал и добавил:
– И планетарий.
– Метеорит помнишь?
– Как же, батюшка, помню. Все приезжали, Александр Первый приезжал. И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской. И этот, который крутит, киноимпетор приезжал. И Анри Барбюс в казенной пролетке приезжал. Расспрашивал про старую жизнь, я, конечно, таить не стал. Истязали, говорю. В 1801 году, говорю.
Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог.
– Ну-с, – задумчиво молвил профессор, – придется делать бурение.
За пиво он не заплатил, раскинул на Большой Месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение.
Через неделю он оброс бородкой, задолжал за шесть гроссов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников.
Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели.
– Пропадает наш Старохамский без средствиев, – говорили они дома за чаем, – а какое же бурение без средствиев!
По вечерам избранное общество собиралось в «Голосе минувшего» и разглядывало погибающего путешественника.
Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы.
– Вот, пожалуйста, что в газетах пишут, – бормотал он. – «Все на поиски профессора Старохамского», «Экспедиция на помощь профессору Старохамскому». Меня ищут. Ох! Найдут ли?!
И профессор рыдал с новой силой.
– Наука! – с уважением говорили колоколамцы. – Это тебе не ларек открыть. Шутка ли! Метеорит. Раз в тысячу лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит! А тут человек задаром гибнет!
Наконец через месяц экспедиция напала на верный след.
С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросанями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из «Голоса минувшего», с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы.
А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали:
– Гнойники есть?
– Нарывы есть?
На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного.
Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще человек двадцать исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.
Грачи прилетели в город Колоколамск.
Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям.
Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих.
Днем на склонах Старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава подымала голову.
Но не весенний ветер, не крики грачей, не попытки реки Збруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова.
– Источник! Источник! – вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан: – Своими глазами!
На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа.
Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика.
– Тпр-р-р! – сказал доктор Гром. И все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками.
– Ну, – строго спросил доктор, – скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?
Гром любил уснащать речь стихотворными цитатами.
– В Приключенческом тупике источник забил, – с убеждением воскликнул Никита. – Своими глазами!
И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в Приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли.
– Тут я, конечно, вскочил, – закончил Никита, – и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло. Своими глазами!
И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда.
– Прибежали в избу дети, – заявил доктор Гром, – если это не нарзан, то, худо-бедно, боржом.
Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в Приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника.
Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование.
– Слыхали ль вы, – сказал он, наконец подымаясь, – слыхали ль вы за рощей глас ночной? Слыхали ль вы, что это – источник, худо-бедно, в десять раз лучше нарзана?
Толпа ахнула. И доктор стал выкрикивать результаты анализа.
– Натри хлорати – 2,7899! Натри бикарбоници – 10,0026. Ферри бикарбоната – 3,1267, кали хлораци – 8,95.
– Сколько хлораци? – взволнованно переспросил мосье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.
– Восемь целых, девяносто пять сотых! – победоносно ответил Гром. – Буря мглою небо кроет.
– Что небо! – ахнул Подлинник. – Это все кроет. Это богатство!
– Кисловодску – конец! – сказал доктор. – При таких углекисло-щелочных данных наш источник вконец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву.
В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах.
Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадривал Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой.
Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью:
Колоколамский
Радиоактивный курорт
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»
Главный директор – т. Подлинник
Начальник АФО – т. Отмежуев
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад.
– А я? – в тоске спрашивал доктор.
После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг друга по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт:
ЗАВЕД. МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВОЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКО-САНИТАРНОЙ
ЧАСТЬЮ Д-Р ГРОМ
Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта.
Подлинник хлопотал как наседка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую и начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка.
На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пильняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков.
Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью – доктор Гром.
В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд три лекции: «Вчера, сегодня и завтра колоколамского курорта», «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана».
Из последней лекции, а равно и из первых двух, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость».
Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска, уже выручка главного директора достигла изрядной суммы и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивный лечебно-показательный, методологическо-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул.
В Приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме № 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился.
За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли.
Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная.
Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и с базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы.
В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же, в довершение несчастья, с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли.
К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества «Геть рукопожатие» гражданина Долой-Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий.
Торжество открылось в лучшем городском помещении – анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки.
Шесть сотрудников общества «Геть рукопожатие» преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками.
Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадникова одарило взволнованного юбиляра двенадцатью хромовыми портфелями крокодильей выделки.
Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял туш.
Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою четыре брезентовых портфеля с мечами и бантами.
Не ударил лицом в грязь и брандмайор Огонь-Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем: он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения.
Долой-Вышневецкий плакал.
Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства.
– Вы! – воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра. – Вы – жрец науки, мученик идеи, великой идеи отмены рукопожатий в нашем городе! Вот я плачу перед вами!
Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось.
– Я глухо рыдаю! – закричал он.
И сделал знак рукой.
Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями.
– Я не могу говорить! – проблеял Подлинник. И, захватив в руки груду портфелей, ловко стал метать их в юбиляра, дружелюбно покрикивая:
– Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!
Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой-Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться.
Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал.
На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку.
У мясных рядов вилась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет посвятил он великому делу истребления рукопожатий в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.
– А вот кому хорошие портфели! – зазывал юбиляр. – А вот кому кожа на штиблеты, на сапоги, на дамские лодочки! Ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху – мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!
Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам.
Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.
– Я не оратор! – говорил он. – Но десять рублей за этот портфель, с ума сойти! Тоже мореплаватель!
– У нас без торгу! – отвечал мореплаватель и плотник. – А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! На сапоги! На дамские лодочки!
Торговал он и на другой день.
В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием.
Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель – глава общества «Геть рукопожатие».
1001 День, или Новая Шахерезада
Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке Когтей и Хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов: начальник учреждения товарищ Фанатюк боролся со своим заместителем товарищем Сатанюком.
Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше, и момент трагической развязки близился.
Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга.
– Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу!
– Слышали? Бросают! В Усть-Сысольск! На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а вконец разложившегося Сатанюка.
Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно.
Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извозопромышленников.
И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.
Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил и с 1 апреля, т. е. с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника.
В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты.
Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному: начать в десять и кончить в четыре.
Неосмотрительные последователи Сатанюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище.
Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин.
– Лапшин? – спросил начальник звонким голосом. – Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка?
– Служил, – сказал Ваня, – а теперь я при управлении делами.
– Вы бывший патриарх?
Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал.
– Ну, идите, – сказал Фанатюк, – вы уволены.
В коридоре к Лапшину подступили любопытствующие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек: одного за связь с мистическими элементами, а другого – за то, что во времена керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из министерства земледелия.
Засим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова.
Увидав ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клевреткой поверженного Сатанюка, и Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать ее из пределов конторы.
– А! – сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда.
– Здравствуйте, Павел Венедиктович, – сказала Шайтанова страстным голосом.
В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза.
– А мы вас уволим! – заметил Фанатюк.
И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком.
– Почему же вы хотите меня уволить? – спросила Шахерезада. – РКК не позво…
– Какая там Ре-Ке-Ке! – воскликнул Фанатюк. – Я здесь начальник, и я незаменим.
– О Павел Венедиктович, – промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза, – керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливреинова.
– А кем он был? – с любопытством спросил Фанатюк.
– Он был незаменимейшим из незаменимых, – ответила Шахерезада.
«Что ж, – подумал Павел Венедиктович, – уволить я ее всегда успею».
И сказал:
– Только покороче, а то уже половина третьего.
И Шахерезада в этот
начала рассказ —
О выдвиженце на час
– Рассказывают, о счастливый начальник конторы по заготовке Когтей и Хвостов, что два года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан Горчицей и Щелоком, – высокочтимый товарищ Ливреинов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюций. И не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлит ЦКК его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству…
В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к четырем. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя:
«Клянусь Госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником Горчицы и Щелока».
Шахерезада Федоровна прибыла на службу ровно в десять и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка.
– Что же произошло с начальником конторы по заготовке Горчицы и Щелока? – нетерпеливо спросил начальник.
Шахерезада Федоровна Шайтанова не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила:
– Знайте, о товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник Горчицы и Щелока товарищ Ливреинов имел гордый характер и большие связи. И он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связей и гордости? Ливреинов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки Горчицы и Щелока ему нет равных. И вот все о нем.
Случилось же так, что после трех лет безоблачного правления в контору Ливреинова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья – секретари – вбежали в кабинет Ливреинова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливреинов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил:
– А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?
– Их заставляют подметать коридоры и разносить чай, – сказал первый секретарь. – Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство.
– Им не дают решительно никакого занятия, – сказал второй секретарь. – Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда.
Секретари смолкли.
– И это все способы, которые вам известны? – с насмешкой спросил Ливреинов.
– Все! – ответили секретари, поникая главами.
– В таком случае, – гневно воскликнул Ливреинов, – вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знайте же, глупые секретари, что есть сорок способов, и на каждый способ сорок вариантов, и на каждый вариант сорок тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю… У меня выработан идеальный план… Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день.
Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фанатюк сказал про себя:
«Клянусь Госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане».
А когда наступил
Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в десять часов утра, сказала:
– …Этот универсальный план, – ответил Ливреинов, – гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари. Слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам, я представлю ему всех служащих и скажу им: «Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель». Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии за тридцать пять тысяч рублей золотом. И, всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке Горчицы и Щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь.
И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливреинов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бобриковом кондукторском полупальто.
– Здорово, товарищек! – воскликнул Ливреинов. – Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдем.
И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им:
– Исполняйте все приказы товарища… товарища…
– Папанькина! – помог выдвиженец.
– Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель.
Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке Горчицы и Щелока.
Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла.
А когда наступил
она сказала:
– …И Щелока. И, гордый своей незаменимостью и уменьем выходить из самых сложных положений, товарищ Ливреинов уехал. И вот все о нем.
А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливреиновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанькин выгнал всех трех секретарей и их ближайших родственников числом тридцать.
Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за три года учреждение работало нормально, и впервые за три года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливреинова. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливреинова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому.
– Таким образом, – закончила Шахерезада Федоровна, – незаменимейший из незаменимых пал от своей собственной руки. Но эта история, – продолжала Шахерезада, – ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Портищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю.
– Просим, просим! – закричали члены комиссии. Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.
Шахерезада Федоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятий и вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке…
– Рассказывайте подлиннее! – шептали ей вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди. – Затягивайте!
Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза.
– Что же случилось с товарищем Портищевым? – воскликнул Фанатюк. – И почему он вел двойную жизнь?
И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием:
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
– Знайте же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года находился праведный коммунист Елисей Портищев. Работал он по профессиональной линии и занимал покойное место в одном из мощных московских губотделов.
Товарищ Портищев слыл работягой и любил выражаться о себе так:
– Мы, которые из деревенской бедноты, к работе привычные.
И действительно, как бы рано ни приходили служащие в губотдел, за столом зампредседателя уже находился товарищ Портищев. Ровно в десять ему подавали стакан кипятку. Чаю Портищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца.
В полдень Портищев вынимал из ящика письменного стола желтую репку и, заботливо очистив плод перочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами.
Зубы у него были замечательные: красивее, чем вставные. Через час работяга съедал два холодных яйца всмятку.
Холодные яйца всмятку – вещь невкусная, но товарищу Портищеву было все равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Портищева появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге.
Из пакетика вынимался брусочек свиного сала и разрезывался на ломтики. Засим товарищ Портищев накалывал каждый ломтик на острие перочинного ножа и отправлял в рот.
После принятия пищи работяга сметал со стола крошки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал озабоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку.
К концу рабочего дня товарищ Портищев подымался, богатырски разминал плечи и подходил к стенным часам-ходикам, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственноручно, и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов.
Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Портищев прибывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжение всего заседания смотрел на него преданными глазами.
Обычно товарищ Портищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием ораторов и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей.
Членские взносы он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало.
Портищев очень любил получать жалованье новенькими бумажками.
С командировочными и суточными доходы его составляли рублей четыреста в месяц. Их он расходовал весьма скупо.
– Куда нам, беднейшим слоям крестьянства, шикарить! Чай, не городские! – восклицал он. – Облигации покупать надо!
А на самом деле товарищ Портищев вел еще одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев…
Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.
А когда наступил
она сказала:
– …Жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев…
По субботам, ровно в три часа дня Портищев покидал губотдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Портищев преображался самым странным образом.
Чинное, железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Портищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе.
В родную свою деревню, отстоявшую за шестьдесят километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Портищев, а Елисей Максимович Портищев.
На станции его ожидала пароконная рессорная телега. По дороге в деревню встречные мужики прочувствованно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклонением головы. Покинув лошадей на работника, губотделец говорил ему:
– Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь? Может, ты и восемь часов в день работать хочешь, как городской лодырь?
Поучив работника, Елисей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осматривал конюшню с шестью лошадьми и жеребенком, большой, светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца.
Десятка два благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом сверкающий зубами Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги привезенные с собою городские крошки, громко и властно кричал: «Цып! Цып! Цып!»
И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала гласу профработника.
До поздней ночи сидел Елисей Максимович за струганым столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть к накоплению. Ему уже казалась мала усадьба, жалким казался дом, недостаточным количество скота.
– Мельницу бы взять в аренду! – стонала жена.
– Денег не хватит, – со вздохом отвечал Портищев, – разве командировку внеочередную взять с целью выявления недочетов союзного аппарата на периферии. Придется взять. Эх! Если б в партию не платить, все легче было бы!..
В воскресенье Елисей Максимович обязательно заходил с визитом в сельскую ячейку. В ячейке его, городского коммуниста, очень боялись и вместе с прочими крестьянами считали, что Портищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит.
– Плохо у вас тут культработа подвигается! – говорил он тягуче. – Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы.
В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стесненным сердцем уезжал в город. Он вез с собою в платочке шесть репок на шесть дней, двенадцать яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд к Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Портищев – стопроцентный праведник.
В половине десятого товарищ Портищев входил в совершенно пустой еще губотдел, подтягивал гирю ходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал казенную часть своей двойной жизни. И вот все об этом обманщике.
– Но если товарищ Фанатюк разрешит, – добавила Шахерезада, – я расскажу высокочтимой комиссии еще более удивительную историю о товарище Алладинове и его волшебном билете.
Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете
И Шахерезада Федоровна начала:
– Рассказывают, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссий по чистке, что мастер Тихон Алладинов был человеком скромным и деятельным.
Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Алладинова были оценены по достоинству. И вот в один из прекраснейших дней его жизни, на открытом собрании ячейки, Алладинову вручили партийный билет в коричневом переплетике.
Взволнованный всем этим, Алладинов вышел во двор электростанции и присел на крылечке. Дивная и радостная картина представилась его глазам: за рекой в елочных огнях лежал город, звездами было засыпано небо, от работы электростанции под ногами Алладинова тряслась земля, а внизу с шумом бежала в темную реку отработанная вода.
Счастливое раздумье Алладинова прервал старый рабочий станции Блюдоедов.
– Вот что, Тихон, – сказал он, – ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделен удивительнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нем ладонью, чтобы получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя.
В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился.
А когда наступил
начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение спозаранку и, как только аккуратная Шахерезада Федоровна ровно в десять часов вошла в кабинет, встретили ее нетерпеливыми криками:
– Что же сделал товарищ Алладинов, узнав о волшебных свойствах своего билета?
И Шахерезада, вежливо улыбнувшись, сказала:
– Знайте же, что товарищ Алладинов в течение двух лет вел себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы то ни было.
Но однажды в доме Алладинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать две освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий. Все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату, и именно для себя.
Экстренное собрание продолжалось тридцать шесть часов без перерыва. Было выкурено три тысячи папирос «Пли» и около восьмисот козьих ножек. Во время прений председателю дали восемь раз по морде и в шести случаях он дал сдачи. На семнадцатом часу уволокли за ноги двух особенно кипятившихся старушек. На двадцать четвертом часу упал в обморок сильнейший из жильцов, волжский титан Лурих Третий, записанный в домовой книге под фамилией Ночлежников.
Но обмен мнениями ни к чему не привел. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью.
К этому времени в душе Алладинова созрело желание получить комнату какими то ни было средствами. Он увел председателя в уголок и прижал его спиной к домовой стенгазете «Вьюшка». Потом, сам не сознавая, что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплетике, быстро раскрыл его и похлопал ладонью. И Алладинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись подхалимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо.
На другой день Алладинов переменил свою комнату с пестрыми обоями на большую, удобную квартиру в ущерб другим, имевшим на то большее право.
«Дурак Блюдоедов, – подумал он, – зря только отговаривал меня. Билетик – хорошая штука».
И с тех пор товарищ Алладинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билет и…
В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день закончился.
А когда наступил
она сказала:
– Он выбирал людей потрусливее и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нем ладонью и часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться.
И постепенно он переменился. Он занял, явно не по способностям, ответственный пост с доходными командировками; от производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержание, но выводя зато забавнейшие росчерки. Он научился говорить со зловещими интонациями в голосе и глядеть на просителей невидящими цинковыми глазами.
А билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Алладинова увеличивались. Казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена, Нина Балтазаровна, одевалась с непонятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что «теперь все умные люди покупают бриллианты». Сам товарищ Алладинов выходил на улицу одетый богаче, чем Борис Годунов в бытность его царем. На нем была богатая шапка, тяжелая, как шапка Мономаха, и длинная шуба.
Однажды, возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай. И, на его беду, он попал в один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. И мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления все продолжаются, и в перебранку вступают все новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.
В такой именно, зараженный драчливой бациллой, вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Алладинов. В трамвае он давно уже не ездил, так как пользовался автомобилем.
И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом и, не дожидаясь ответной реплики, оскорбил его также и действием. Все это он проделал, весело улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета.
И, вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплетике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет.
– А еще партийный! – сказал бравый милиционер. – Позор, позор, позор!
И, заломив руку пьяного товарища Алладинова японским приемом джиу-джитсу, милиционер свел его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его обладателю.
И пухлая звезда товарища Алладинова померкла с еще большей быстротой, чем взошла, потому что обнаружились все его нечистые дела. И вот все об этом позорном человеке. Но эта история, как она ни интересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях – о товарище Абукирове и товарище Женералове.
– Я ничего не слыхал об этих людях! – сказал товарищ Фанатюк. И подумал: «Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой, по всей вероятности, замечательной истории!»
И Шахерезада Федоровна, музыкально позвякивая чайной ложечкой, неторопливо начала повествование:
– Знайте же, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе Союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием учреждения.
В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вящего украшения столицы.
Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбекнектар».
Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек: уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга.
Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова.
То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги.
«Ой, – подумал начальник газонов, – у него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы не вышло неприятностей».
И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегченным сердцем покинул «Гелиотроп». И вот все о нем.
Что же касается начальника вазонов товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал.
Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался.
«Ой! – подумал он. – У него работы тьма, а я бездельничаю. Не миновать неприятностей!»
И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из «Гелиотропа» позже своего деятельного коллеги.
Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами, в конце концов, гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в десять, а в девять.
Но тут Шахерезада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла.
А когда наступил
она сказала:
– …И пришел на службу не в десять, а в девять.
И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого.
На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из «Гелиотропа» в половине седьмого вечера.
Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту.
Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до восьми часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел.
На четвертый день оба симулировали до десяти часов вечера. А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе.
Женералов сидел до полуночи. Абукиров ушел в час ночи.
И наступило то время, когда оба они засиделись в «Гелиотропе» до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим.
Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем.
– А я-то дурак! – восклицал один.
– А я-то дурак! – стонал другой.
– Никогда себе не прощу! – кричал первый.
– Сколько мы с вами времени потеряли зря? – жаловался второй.
И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами.
Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли.
«А что, – подумал он, – если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?»
И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бостона, он побежал в «Гелиотроп».
Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго.
И действительно, между мокрыми львами «Гелиотропа» стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников.
И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча:
– Тьма работы, срочное требование на вазоны!
– Работы тьма. Новые газоны!
И рассказывают (но один лишь Госплан всемогущий знает все), что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро.
И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица.
Но вся эта правдивая история ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами.
– Я ничего не слышал о таком человеке! – воскликнул товарищ Фанатюк.
И подумал:
«Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем узнаю о человеке с бараньими глазами!»
– В этом рассказе, – начала Шахерезада Федоровна, – будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами.
Борис Индюков сызмальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но Институт Стихотворных Эмоций, где он обучался, прихлопнул Главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку.
Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинства слова, одновременно освобождая от воинской повинности: ИДИЭ, или Институт Динамики и Экспрессии на Поварской улице, и литкурсы артели лжеинвалидов под названием Литгико при ГАХНе.
Дела артели Литгико шли плохо, так что ректор беллетристического предприятия гр. Мусин-Гоголь уже собирался сматывать удочки: ему не под силу было конкурировать с Институтом Динамики и Экспрессии. Литгико пустовало, а ученики валом валили в ИДИЭ, куда поступил также и Борис Индюков.
Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как Главпрофобр закрыл и эту литизбушку.
С печальным воем кинулись ученики в уцелевшее Литгико. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением.
Но Мусин-Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за два года вперед.
Литгико занимало половину магазина на 1-й Тверской-Ямской. Вторую половину и окно арендовал часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин-Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался Отдел отсрочек, где предъявителям квитанций выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор-вундеркинд, тринадцатилетний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Инбер.
Ровно через два часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый Главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин-Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения.
И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За два месяца он сочинил роман из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил «Начальнику гублита дружелюбиво». Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении.
Тогда Индюков написал шесть романов: «На перепутье», «Пути и овраги», «Шагай, фабзаяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня-активистка».
Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль.
Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла. Когда же наступил
она сказала:
– …В его голову пришла замечательная мысль.
Сообразив, что конкурировать с пятьюдесятью тысячами советских писателей – задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил три дня и три ночи. И все понял.
«Зачем, – решил он, – самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие».
И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета «Однажды утром» задумала библиографический отдел по совершенно новой системе.
– Понимаете? – радостно говорил редактор Индюкову, который случайно оказался в его кабинете. – Мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия – три строки. Понимаете? Не больше! Гениально! Отдел так и будет называться: «В три строки».
– Понимаю! – радостно отвечал Индюков.
– Отлично! – ликовал редактор. – Утрем нос всем толстым журналам!
– Утрем! – кричал Индюков тем же тоном, каким суворовские солдаты кричали: «Умрем».
Новая работа совершенно поглотила Бориса Индюкова. В трех строчках как раз вмещалось все то, что Индюков мог сказать о толстой, в четыреста страниц книге.
Рецензии на отечественные романы писались по форме № 1.
«Автор. Название книги. Из-во. Год. Цена. Число страниц». Кому нужна книга писателя (такого-то)? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю (такому-то) осветить быт мороженщиков, до сих пор еще никем не затронутый».
Рецензии на иностранные романы писались по форме № 2.
«Автор. Название книги. Из-во. Цена. Число страниц». Книга французского писателя (такого-то) написана со свойственным иностранцам мастерством. Но… кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет».
Подписывался Индюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа писателей. Он подписывался: «Б. И.», «А. Б.», «Индио», «Индус», «Инус», «Иус», а иногда просто «ов». Но, несмотря на эти предосторожности, Индюкова иногда выслеживали и поколачивали.
Спасаясь от побоев, Индюков вошел в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцирях в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он сшил себе толстую шубу на вате и на хорьках и, когда его били, только улыбался.
Писатели, изнуренные борьбой с «Индио», «Б. И.» и «овым», переменили тактику. Малодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всесильным «Индио».
Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения: «Тов. Индюкову – дружелюбиво». И ничто отныне не омрачает его благополучия.
И если высокочтимый товарищ Фанатюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Индюков выругает его в трех строках по форме № 1.
Но эта история менее занимательная, чем рассказ о «Золотом Лете».
И товарищ Фанатюк подумал:
«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не услышу рассказа о «Золотом Лете».
И Шахерезада Федоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ.
– Знайте, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения: губернское издательство «Водопой» и издательское общество «Золотое Лето».
«Водопой» издавал изящную литературу с налетом социальной грусти и предисловиями чинов Государственной Академии Художественных Наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплетах, крытых сатином, который обычно идет на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплета книга была заключена в бумажную обертку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки:
Переплет, суперобложка и форзац
работы худ. Э. Рыцарева.
Суперобложка отпечатана на Гос. карточной фабрике.
И действительно, каждая водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму треф. Вообще «Водопой» славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления!
Что же касается издательского общества «Золотое Лето», то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования.
Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии Худ. Наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой независимо от содержания книги были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалось это в интересах распространения.
Авторам своим «Золотое Лето» никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивало писательскую чашку чаю (полбутылки вина на писательскую душу).
Говоря короче, «Водопой» издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а «Золотое Лето» печатало сочинения современных авторов, признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции.
Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. «Водопой» полагал почему-то, что его грабит «Золотое Лето», захватив в исключительное пользование современных авторов. А «Золотое Лето», в свою очередь, облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира.
Междоусобие, все усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений беспрерывно делали визиты в Центробукву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты «Водопоя» сводились к тому, чтобы подчинить себе «Золотое Лето», а «Лето» стремилось поглотить «Водопой».
И вот однажды Центробуква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно еще лучше, постановила слить их вместе, присвоив новому организму название «Златопой». Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить «Златопоем».
Золотолетовцы бродили по новому учреждению и гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая во мгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла верх их группа.
Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего.
Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.
А когда наступил
она сказала:
– И конкуренция, которую Центробуква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой.
Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима, в начале реформы сильно опечалились.
– Были две кормушки, – визгливо восклицали они, – а стала одна кормушка.
Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло.
– Были две кормушки, – восклицали они еще визгливее, – и остались две кормушки!
И во мгле златопоевских коридоров продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить автора в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях.
Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хамяков, автор двух книг, из коих одна – «Бураны» – была издана в тысяча девятьсот одиннадцатом году, другая же – «Буруны» – в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Придя к заключению, что читатель соскучился и ждет от него третьей книги, Модест Хамяков пришел в «Златопой» позондировать почву.
Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хамякове писателя, уцелевшего от старого мира.
– Модест Львович, – сказал он, – подкинули бы нам полное собрание своих сочинений.
Хамяков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу, но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хамякове автора, признавшего советскую власть на неделю раньше Мексики.
– Здравствуйте, товарищ Хамяков, – сказал молодой человек. – Подкиньте нам свои романы для собраньица сочиненьиц.
– А я уже подкинул, – сказал простодушный Модест. – В бывший «Водопой». Для собраньица сочиненьиц.
– Здравствуйте! – с горечью закричал молодой человек. – Ведь вы – современный автор и, следовательно, подведомственны бывшему «Лету». Давайте собраньице!
Собраньице оказалось у простодушного Модеста в портфеле. Книги же, сданные водопоевцам, строгий молодой человек обещал отобрать.
Тихий Модест засел на своей Собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в «Златопое» из-за его собраньица началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка. Но и старичку не удалось одолеть молодого человека.
– Мы, – упрямо бормотал водопойный старик, – уже включили Хамякова в план. Ведь он типичный автор, уцелевший от старого режима.
– А мы не включили? – надсаживался золотолетовский молодец. – Насчет старого мира нам ничего не известно, но зато хорошо известно, что он признал советскую власть еще раньше Мексики. Де-юре и де-факто!
И через два месяца, в рекордный срок, объединенное издательство «Златопой» выпустило в продажу двух Хамяковых. Одно собрание было издано в косовороточных переплетах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало перу академика Худ. Наук и имело налет социальной грусти.
То же самое собрание сочинений появилось одновременно в желтой обложке с изображением балок и мордочек с предисловием того же худ. академика, но уже с примесью социального негодования. И, к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка «Златопоя».
– Но это ничто, – добавила Шахерезада, – в сравнении с историей о преступлении Якова Трепетова.
И товарищ Фанатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал:
«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой истории!»
И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ.
– Людям свойственно быть недовольными своей профессией.
Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела союза местного транспорта.
Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребрениками.
– Этот не украдет, – говаривал о нем культработник Умрихин. – Бернардов украдет, даже Бернгардов может украсть! Я украду! Но Трепетов Яшка копейки чужой не тронет.
Но Яков Трепетов тронул чужую копейку.
Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось.
Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, культработник Яков Трепетов, этот бессребреник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелек и неторопливо стал удаляться.
В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепетов не сопротивлялся. Собралась толпа.
– Он пошутил! – кричал подоспевший Умрихин. – Пустите его! Что за глупые шутки, Яков?
– Он пошутил, – поддержала толпа, хорошо знавшая Трепетова.
И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепетов сказал:
– Я не шутил. Я обокрал этого почтенного гражданина. Я вор. Ведите меня в темницу. Вяжите меня.
Однако никто его не вязал. Тогда Трепетов вспылил.
– Почему, – обратился он к милиционеру, – вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?
Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести уличенного в темницу нет надобности.
– Вы не знаете Уголовно-процессуального кодекса! – завизжал Трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами. – А я знаю! Я досконально изучил! Заявление потерпевшего от кражи не обязательно! Если преступление, предусмотренное сто восьмидесятой статьей Уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия.
– Что ж, я могу, – неуверенно сказал милиционер, – будьте, граждане, свидетелями.
И он повел Якова Трепетова судиться.
На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с девятью рублями сорока четырьмя копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью пятьдесят копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания.
Потерпевший в продолжение всего заседания умолял обвиняемого «оставить эти глупые шутки». Но обвиняемый был непоколебим.
– Делайте ваше дело! – заявил он судьям. – Важны не девять рублей сорок четыре копейки, а важен принцип. Я преступил закон и должен понести соответствующую кару.
Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился.
А когда наступил
она сказала:
– И суд вынужден был заключить бессребреника на две недели в исправдом.
– А мне больше и не надо! – сказал Трепетов, просияв. – Спасибо, судьи! Вы правильно судили!
Дело в том, что испытаннейший культработник и активный общественник Трепетов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов.
Писал он их по ночам, а утром прятал написанное в сундук и, вздыхая, невыспавшийся и хмурый, шел на работу, повторяя по дороге сочиненные за ночь строфы:
Не верь, родимая, наветам,
Я их не устрашусь! Вотще!
И грудь моя под дулом пистолета
Все, все вздыхает по тебе!
Не верь, родимая, молю – не верь,
Ведь я люблю тебя, как зверь.
На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось все меньше. Расширение сети кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень.
А между тем в душе зрела весенняя поэма. Даже название было уже проработано – «Майские грезы». Выявились даже начальные строки:
По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят…
Времени же совершенно не было. Доведенный до крайности потными валами вдохновения, Яков Трепетов решился на кражу.
«В тюрьме мне никто не помешает, – с горькой радостью думал культработник, – там напишу я «Майские грезы»».
Две недели показались ему достаточным сроком. И потому он с такой радостью встретил приговор.
В первый же день, с аппетитом пообедав передачей, которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в парашу найденную в булке записку: «Яша! Брось эти глупости!» – Яков Трепетов засел за поэму.
Под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать:
МАЙСКИЕ ГРЕЗЫ (Поэма)
По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят…
Но тут дверь камеры с шумом отворилась.
– Трепетов Яков! – закричал надзиратель.
– Есть! – ответил поэт, отрываясь от любимого занятия.
– Идите в клуб. Вы, кажется, культработник? Вас начальник культотдела зовет.
– Зачем? – воскликнул узник.
– Вести культработу. Поставить библиотеку на должную высоту, оживить кружковую работу и вовлечь побольше старичков-рецидивистов!
Со стесненным сердцем побрел Трепетов в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслышавши звуки трубы, он принялся прорабатывать, вовлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошел.
Говорят, что поэма «Майские грезы» никогда не была закончена. Ибо, отсидев свой срок, Трепетов нашел культработу запущенной и ему пришлось работать даже по ночам.
– Таким образом, – закончила Шахерезада, – одним плохим поэтом стало меньше! Но эта история ничто в сравнении с рассказом о молодости как таковой.
– Я ничего не знаю об этом, – сказал председатель по чистке товарищ Фанатюк. – Что же это за история?
И Шахерезада Федоровна, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, начала новый рассказ.
– Сейчас, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, я расскажу вам трагическую историю.
Среди нынешней молодежи нетрудно различить юношей двух типов: жоржей и братишек.
Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности.
Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие панталоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке-фрейлине или о том, что их дедушка был чиновником министерства финансов. По вечерам жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие.
Есть еще смешанные фигуры: жоржобратишки и братишкожоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма жоржей к детской непосредственности братишек. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту жоржей.
Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей: Коля Архипов был типичным братишкой, а вид Гени Черепенникова сразу указывал на то, что Геня чистопородный жорж.
И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одухотворенному лицу.
– Вот тебе за политграмоту Бердникова и Светлова! – сказал Коля Архипов после нанесения удара.
Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо «заматывать» такую полезную книгу.
В коридоре стало тихо. Все ждали обратного удара. Геня Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но, вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушел.
Два дня перед ним витала тень дедушки из министерства финансов и взывала о мщении. А на третий день он подошел к братишке Архипову и сказал:
– Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесло Исполбюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции.
– Чего? – спросил Коля.
– Дуэли.
– Это можно, – хладнокровно сказал Коля, – мы к дуэли привычные.
– Не паясничайте, Архипов! – воскликнул Черепенников. – Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть, то есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку: «В смерти моей прошу никого не винить». Способ самоубийства любой. Вас это устраивает?
Колю Архипова это устраивало. Он шаркнул ножкой, обутой в яловочный сапог, и заявил, что давно жаждал американской дуэли.
– Смотрите, – сказал Геня Черепенников, отрезав две бумажки и отмечая одну из них крестом, – дело серьезное. Вы живете последний день.
– Пожалуйста, пожалуйста, – угодливо заметил Архипов, – после того как вы замотали у меня Бердникова, я как-то потерял вкус к жизни!
– Что вы, интересно знать, запоете, когда вытащите роковую бумажку? – со злостью закричал Геня.
Враги потянули жребий.
Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест.
В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день окончился.
А когда наступил
она продолжала:
– Что же теперь будет? – жалобно спросил он.
– Очень просто, – сказал Архипов, – вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЭЖЭ листок почтовой бумаги, твердым почерком напишете: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом – какой широкий выбор! Сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво – под сибирским экспрессом, у станции Лосиноостровской.
Геня Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним.
«В смерти моей прошу никого не винить», – написал он на листке почтовой бумаги.
Дедушка одобрительно закивал головой.
Потом Геня Черепенников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись:
«В смерти моей прошу винить Николая Архипова (Токмаков переулок, 20, комн. 271. Застать можно вечером), который подстрекал меня к самоубийству».
Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было все равно.
«Дадут Кольке восемь лет со строгой за подстрекательство, – злорадно подумал он, – воображаю его удивление».
Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка – старорежимный самурай – строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к харакири.
«И чего этот лезет, – подумал Геня Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени, – самого небось каждый день по морде хлестали, и ничего, дожил, дурак, до восьмидесяти лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций!»
Однако смыть оскорбление кровью было необходимо.
Геня Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил два десятка папирос «Ау».
Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн.
И Геня Черепенников решился.
Он взял чистый лист бумаги и твердым почерком написал:
«В нарсуд Бауманского района. Настоящим прошу привлечь к ответственности гр. Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели».
Через неделю нарсуд приговорил Архипова к пятнадцати рублям штрафа, что составляло его полуторамесячную стипендию.
Архипов был сконфужен. Черепенников торжествовал.
– А следующая история, – закончила Шахерезада, – будет об удивительном больном – Мисаиле Трикартове.
«Клянусь Госпланом, – подумал товарищ Фанатюк, – я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове!»
И Шахерезада Федоровна начала:
– Знайте, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весною служилым людом овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, ртутная палочка термометра подымается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше.
Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и по возможности на юге.
Мисаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени.
– Все лечатся, – восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь, – а я должен погибать. Я тоже хочу лечиться!
– Что же с вами? – участливо спрашивали сослуживцы.
– Откуда мне знать! – визжал Мисаил. – Ну колит, ну катар. Порок сердца. Я не доктор, но я чувствую.
И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров.
Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с тою внимательностью, с какою кошка прислушивается к движениям мыши.
Во время осмотра трусливый Мисаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.
– Ну что? – выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки.
Он хотел спросить, «есть ли надежда», но губы у него задрожали и насчет надежды не вышло.
– Вы здоровы, – сказал профессор. – Абсолютно.
– У меня порок сердца! – вызывающе сказал Трикартов.
Профессор рассердился.
– А вы знаете, что такое порок сердца?
За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился.
– Знаю, – сказал он. – Порок сердца – это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз.
– Вы дурак, – ответил профессор.
Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства. Но государство этого не захотело.
Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев.
Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал.
С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого.
Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог.
Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.
А когда наступил
она сказала:
– Гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины.
– А мне почему этого не делают? – спросил Трикартов санитара. – Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов.
– Вас нет в списке, – равнодушно ответил санитар.
Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая и ее нарочно скрывают от него в саду.
Вечером, на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал.
– Дайте мне мои процедуры, – кричал Мисаил Александрович, прыгая. – Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья! Я деньги платил.
– Вы здоровы, – сконфуженно говорил главврач. – Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться!
Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своею собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану.
– Я им покажу, – сказал он, возвращаясь в санаторий. – Я уже чувствую себя лучше.
Днем он бегал по опрятным аллейкам, крича:
– Где горное солнце?
Не добившись солнца, Мисаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрыгиваясь, выпил шестнадцать стаканов газового напитка.
– Я им покажу! – шептал он, пробираясь через окно в свою комнату.
Остаток времени он провел с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлег на постель, озарив себя гробовым светом, – лечился всю ночь. Здоровье Мисаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. Души Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и большей частью по ночам.
– Плохо вы что-то выглядите, – сказал ему однажды врач. – Вы бы яичек побольше ели.
«Знаем! – подумал опытный Мисаил. – Хочет мне сплавить дешевые яички, а дорогое горное солнце уже месяц как от меня прячет!»
Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к заветному солнцу. Но наслаждаться им пришлось всего лишь один час. Спугнула няня. По дороге в Москву, на станции Скотоватая, Мисаилу сделалось плохо. Пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий.
– Что с вами? – спрашивали друзья.
– Залечили, сукины дети! – ответил Мисаил. – Кварцевой лампы пожалели. Горное солнце давали в недостаточном количестве. Для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья!
– Но эта история, – добавила Шахерезада, – ничто в сравнении с рассказом о борьбе двух чиновников.
«Клянусь Госпланом, – подумал товарищ Фанатюк, – что я не уволю ее, пока не услышу этого рассказа!»
И на этом окончился четырнадцатый служебный день.
Вот уже четырнадцать служебных дней, с десяти часов утра до четырех часов дня, Шахерезада Федоровна Шайтанова, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, рассказывала главе учреждения товарищу Фанатюку и членам комиссии по чистке всякого рода завлекательные истории и басни.
Четырнадцать дней контора, лишенная разумного руководства, бездействовала.
И вот, на пятнадцатый день, Шахерезада, глаза которой светились необыкновенным оживлением, начала новый рассказ.
– Знайте же, товарищ Фанатюк, что история, которую я вам сейчас поведаю, история чрезвычайно правдивая и гласит о борьбе двух чиновников.
Была в Москве контора по заготовке Когтей и Хвостов.
– Как? – вскричал товарищ Фанатюк. – Ведь это наша контора.
– Не перебивайте меня, о высокочтимый шеф, – ответила Шахерезада, тряся серьгами. – Быть может в Москве еще одна такая контора. Ведь один Госплан всеведущ и всемудр. Итак, я продолжаю. И были в этой конторе два начальника. Одного звали Фанатюк…
– Как! – снова воскликнул Фанатюк с раздражением. – Речь идет обо мне?
– Все возможно на свете, – уклончиво заметила Шахерезада. – В адресном столе под литером Ф. значится, может быть, несколько Фанатюков. Итак, я продолжаю. Другой начальник носил мелодичную фамилию Сатанюк.
При имени своего врага товарищ Фанатюк вскочил.
– Однако, – закричал он, багровея, – это переходит все границы! На свете не бывает таких совпадений!
– На свете бывают и не такие совпадения, – сурово сказала делопроизводительница. – Если угодно, я могу прекратить рассказ, который, впрочем, обещает быть весьма интересным.
– Нет, нет! – воскликнул товарищ Фанатюк. – Рассказывайте, рассказывайте! Я, в конце концов, не против самокритики!
И Шахерезада, прерываемая возгласами удивления и возмущения, продолжала рассказ.
– Итак, начальников было двое, и, вместо того чтобы помогать друг другу в работе, они боролись между собой. И в жарких схватках они потянули за собой всю контору, и служащие разделились на два лагеря – фанатюковцев и сатанюковцев. Свет не видел более глупой и бессмысленной борьбы, ибо здесь решающую роль играли не интересы дела, а самолюбие начальников.
Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Интригами противника он был снят с поста и брошен в Умань для ведения культработы среди тамошних извозопромышленников.
И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.
– Это намек на меня! – вскричал глава учреждения. – Молчать! В двадцать четыре часа!.. Впрочем, простите, это все-таки интересно, рассказывайте.
– Ну и вот! – продолжала Шахерезада. – Надо прямо сказать, что товарищ Фанатюк был не из тех людей, которые хватают с неба звезды. Можно даже сказать, что он был глуп как пробка. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Вы ведь не против самокритики. Итак, он был глуп как пробка! Понимаете? Как пробка! Глуп и злопамятен.
Своим скудным умишком он решил выжить из конторы всех служащих, которых он считал сторонниками поверженного Сатанюка, и немедленно после обеда он приступил к чистке. Это был очень глупый человек. Понимаете? Очень. Он был, знаете ли, так глуп, что даже трудно вам рассказать. Я вижу, что это вам неприятно. Я лучше перестану.
– Продолжайте! – прохрипел Фанатюк.
На губах у него появилась мыльная пена. Члены комиссии старались не смотреть в его сторону.
– Так вот, этот глупый человек дал себя обвести вокруг пальца ничтожнейшей из служащих, своей делопроизводительнице. Он хотел ее уволить, эту делопроизводительницу, потому что считал ее главной клевреткой Сатанюка.
Но делопроизводительница принялась рассказывать ему сказки, и этот более чем наивный человек слушал сказки четырнадцать дней. И служащие, ожидавшие увольнения, благословляли ее. Слушает он их и сейчас. Сегодня пошел пятнадцатый день. И пока он занимался этой чепухой, его враг, всеми нами уважаемый товарищ Сатанюк… Однако довольно. Не хочу больше рассказывать.
– Говорите! Что же сделал Сатанюк? – раздался умоляющий голос Фанатюка. – Я требую этого!..
– Не хочу. Не желаю. Противно.
– Но ведь, кажется, – говорил Фанатюк, предчувствуя недоброе, – ведь, кажется, полагается рассказывать тысяча один день.
– Не желаю, и все тут. По колдоговору я вам сказки рассказывать не обязана.
– Тогда я вас увольняю. Вон. Без выходного. Запишите в протокол: «Увольняется делопроизводительница Шахерезада Шайтанова, как дочь…» Ну, все равно – «как дочь английской королевы Виктории». Вон!
Шахерезада встала. Серьги ее издали пугающий звон.
– Хорошо. Осел хочет узнать свою судьбу. Итак, я продолжаю. И пока он слушал сказки, товарищ Сатанюк не дремал. Он нажал все пружины, и говорят, что добился восстановления.
– Не может быть! – запищал Фанатюк.
– Все может быть! – ответила побледневшая от торжества Шахерезада. – Прислушайтесь.
И действительно: откуда-то снизу, очевидно из швейцарской, послышался ропот голосов. Он все увеличивался, рос и приближался. Вскоре можно было различить явственное «ура».
Двери кабинета распахнулись, и в портале показалась мощная фигура товарища Сатанюка.
При нем были три портфеля. Один большой, нашейный, крокодиловый и два из свиной кожи в руках. И голос товарища Сатанюка был как морской прибой в шестибалльный ветер.
– Кто сидит за моим столом? – спросил он, потряхивая какой-то бумажонкой. – Товарищ Фанатюк назначается в город Колоколамск на должность городского фотографа.
И еще никто в мире не сдавал дела с такой быстротой, как товарищ Фанатюк. Так окончились сказки Новой Шахерезады.
Рассказы и фельетоны 1929—1937
В робкое подражание состоявшейся недавно в Москве смычке русских писателей с украинскими, редакции ЧУДАКА удалось организовать еще одно культурное празднество – встречу классиков с современными беллетристами.
Наиболее любезным и отзывчивым оказался Лев Николаевич Толстой, немедленно ответивший на приглашение телеграммой: «Выезжаю. Вышлите к вокзалу телегу».
Гоголь, Пушкин, Достоевский и Лермонтов прибыли с похвальной аккуратностью.
Из современных беллетристов пришли – Лидин, Малашкин, Леонов и Пильняк.
Приходили еще Шкловский и Катаев. Катаев, узнав, что ужина не будет, – ушел, Шкловский вздохнул и остался.
Когда все собрались, наступило естественное замешательство. Лев Толстой, заправив бороду в кушак, с необыкновенной подозрительностью рассматривал писателя Малашкина. Лермонтов посвистывал. Пильняк растерянно поправлял очки на своем утином носу и, вспоминая, какую ерунду он написал про Лермонтова в своем рассказе «Штосс в жизнь», уже пятый раз бормотал Шкловскому:
– Но при советской власти он не может вызвать меня на дуэль? Как вы думаете? Мне совсем не интересно стреляться с этим забиякой!
На это Шкловский отвечал:
– Я формалист и как формалист могу вам сообщить, что дуэль является литературной традицией русских писателей. Если он вас вызовет, вам придется драться. И вас, наверное, убьют. Это тоже в литературных традициях русских писателей. Я говорю вам это как формалист.
И Пильняк горестно склонялся на плечо Лидина.
Леонов с восторгом на пухлом лице заглядывал в глаза Достоевскому. Гоголь сутулился где-то на диване. Жизнерадостен был лишь Александр Сергеевич Пушкин, немедленно усвоивший себе всю мудрость висевшего на стене плаката «Долой рукопожатие» и не подавший на этом основании руки Лидину.
Наконец, вошел Горький. Пользуясь тем, что, с одной стороны, он классик, а с другой – современный беллетрист, собрание единогласно избрало его председателем.
В короткой речи Алексей Максимович объявил, что целью предстоящих дебатов является обнаружение недостатков в произведениях собравшихся.
– Одним словом, – добавил быстро освоившийся Пушкин, – выявление недочетов! Прекрасно! Но я хочу на данном отрезке времени выявить также и достижения. В книге моего уважаемого собрата по перу, Малашкина, под названием «Сочинения Евлампия Завалишина о народном комиссаре», на 120 стр., я прочел: «Кухарка остановилась, оттопырила широкий зад, так что обе половинки отделились друг от друга». Это блестяще, собрат мой! Какой выпуклый слог!
Малашкин, багровея, отошел к подоконнику и оттуда забубнил:
– А Лидин-то! Написал в романе «Отступник», что «пахло запахом конского аммиака». А никакого конского нет. И коровьего нет. Есть просто аммиак. А конского никакого нет.
Все повернулись в сторону Лидина и долго на него смотрели. Наконец, автора «Отступника» взял под свою защиту Шкловский.
– Лидин, конечно, писатель нехороший. Но вот что написал хороший писатель Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством». Написал он так: «Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи (которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах) высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога». Что это за рука, выросшая на руке же у старухи?
– А кто написал, что «Прусская пехота, по-эскадронно гоняясь за казаками…», – раздался надтреснутый голос Гоголя. – Написано сие в «Краткой и достоверной повести о дворянине Болотове», в сочинении Шкловского. Вот, где это написано, хотя пехота в эскадронах не ходит.
От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с еще большей силой.
– Позвольте, позвольте! – закричал он.
– Не позволю! – решительно отвечал Гоголь. – Если уж на то пошло, то и наш уважаемый председатель Алексей Максимович чего понаписал недавно в журнале «Наши достижения»! Рассказал он, как некий тюрк-публицист объяснял «… интересно и красиво историю города Баку. «Бакуиэ» называл он его и, помню, объяснял: «Бад» – по-персидски гора, «Ку» – ветер. Баку – город ветров». А оно как раз наоборот: «ку» – гора, «бад» – ветер. Вот какие у вас достижения!
Назревал и наливался ядом скандал. Шкловский рвался к Льву Толстому, крича о том, что не мог старый князь Болконский лежать три недели в Богучарове, разбитый параличом, как это написано в «Войне и мире», если Алпатыч 6-го августа видел его здоровым и деятельным, а к 15 августа князь уже умер.
– Не три недели, значит, – вопил Шкловский, – а 9 дней максимум он лежал, Лев Николаевич!
Лермонтов гонялся за Пильняком, пронзительно крича:
– Вы, кажется, утверждали в своем «Штоссе в жизнь», что мои и ваши сочинения будут стоять на книжных полках рядом? К барьеру! Дуэль!
– Позволь мне! – просил Пушкин, – я сам его ухлопаю. Иначе он про меня тиснет какой-нибудь пасквильный рассказик.
– Телегу мне! – мрачно сказал Толстой.
За Толстым, который уехал, не попрощавшись, переругиваясь, повалили все остальные.
Культурное празднество, к сожалению, не удалось.
Тень Оскара Уайльда в глухом сюртуке и высоком, колючем воротничке витала над Камерным театром больше десяти лет. Как появилась тень этого благородного англичанина в день премьеры «Саломеи», так и прижилась. Она своевольно вмешивалась в дела режиссера Таирова, стучалась в уборные актеров и читала им певучие нотации.
– Ты как ножку ставишь? Видел, немецкие солдаты маршируют? Так и ходи, как в «Саломее» ходил.
И все покорялись придирчивой тени. По лицу режиссера Таирова катились перламутровые слезы. Он хотел освободиться от тени. Но тень была сильнее, и каждая новая постановка была похожа на «Саломею», как походит иной ответственный работник на родителя своего – служителя культа.
Катерину из «Грозы» нельзя было отличить от страстной дочери царя Ирода, краснозадые туземцы из «Багрового острова» рычали, как Иоканааны, и где-то за кулисами рыдал Булгаков в насильно напяленном на него глухом уайльдовском сюртуке и остром, как бритва, воротничке, подпирающем склеротические щечки.
Но вдруг, воспользовавшись тем, что тень Уайльда вышла на минуту из театра по своей надобности, режиссер Таиров запер двери и не пустил англичанина назад. Освобожденный от докучливой тени, Таиров поставил новую пьесу О’Нейла «Негр». И в первый раз за 10 лет в театре не пахло Уайльдом.
Чтобы узнать, стоит ли идти на новую пьесу, нужно обратиться к первому знакомому драматургу. Если он скажет, что пьеса плохая, – значит, пьеса хорошая. Если же он выразится о пьесе одобрительно, то это значит, что пьеса – его собственная или еще хуже.
«Негра» знакомый драматург обязательно выругает.
– Какая же это пьеса? – скажет драматург, сияя. – Там в первой картине 154 реплики, а у Бомарше в первой картине «Женитьбы Фигаро» – 279. А кто классик? Бомарше! Кстати, в моей пьесе «О чем рычала трансмиссия» в первой картине ровно 279 ре…
Достаточно хотя бы бегло взглянуть на четвертую картину «Негра», чтобы убедиться в неправоте автора «О чем рычала». В картине этой есть одна реплика – и какая реплика! Жалкая, она тонет в грохоте аплодисментов. Да и вообще О’Нейл в своей короткой и мужественной пьесе скуп на реплики.
Пьеса настолько коротка, что Таирову для услаждения капризных москвичей пришлось выпускать на просцениум плохих тенорков, которые в соответствии со своими не столь голосовыми, сколь носовыми данными, исполняли перед занавесом сладковатые песенки.
Но даже и это мероприятие не могло убить пьесу.
Режиссер Таиров ввел еще и такое нововведение. Во время сумасшествия героини декорации сдвигаются и раздвигаются, как гармоника. Придумав это, режиссер радовался, как дитя, и все время возвращался к своей игрушке. Публике игрушка тоже понравилась.
– Сейчас, сейчас сдвинется! – восклицали прозорливцы.
И декорации действительно сдвигались.
– А сейчас раздвинется! Ой, раздвинется! – утверждали пророки.
И декорации действительно раздвигались.
Теперь несколько слов о титулах.
В наше время длинные, высокопарные и гремучие титулы сохранились только у деятелей искусства. Нет больше князей и баронов. Но есть князья оперы, герцоги драмы и баронессы оперетки. Некторые знатоки генеалогии из Главискусства утверждают, что князь равен теперь народному артисту республики, граф – заслуженному артисту и так далее. Иногда даже суфлер бывает заслуженным бароном. Тогда он особенно громко подает реплики.
В таком аристократическом окружении публика чувствует себя стесненной. Многим просто неловко. Они простые счетоводы, а не заслуженные, они простые монтеры, а не народные монтеры республики.
В «Негре» занята была только одна заслуженная артистка – Коонен, да и той аплодировали не за чин, а за хорошую игру.
В городе Бобруйске произошло несчастье.
Местный фотограф Альберт написал киносценарий. А так как Альберт был тонким ценителем изящного и по рассказам бобруйских старожилов превосходно знал все детали великосветской жизни, то сценарий вышел полнокровный.
Однако Альберт понимал, что в наше суровое время без идеологии – труба. Поэтому, кроме аристократов, в сценарии действовали и лица, совершающие трудовые процессы. Об этом можно было судить уже из одного названия сценария.
Нас три сестры. Одна за графом, другая герцога жена, а я, всех краше и милее, простой беднячкой быть должна.
Сценарий Гарри Альберта.
Дописав последнюю строку, Альберт запер свое фотографическое заведение на висячий замок, отдал ключи шурину и, запаковав сценарий в корзинку, выехал в Москву.
Зная по картинам «Кукла с миллионами» и «Медвежья свадьба», что с постановкой «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога жена…» сможет справиться только фабрика Межрабпомфильм, Альберт направился прямо туда.
Прождав шесть дней в коридорах, по которым прогуливались молодые люди в развратных шерстяных жилетках и приставских штанах, Альберт попал в литчасть.
– Длинное название! – сразу сказал толстый человек с превосходными зубами, принявший у Альберта его рукопись. – Надо сократить. Пусть будет просто «Три сестры». Как вы думаете, Осип Максимович?
– Было уже такое название… – сумрачно отозвался Осип Максимович. – Кажется, у Тургенева. Актуальнее будет назвать «Герцога жена». Как вы думаете, Олег Леонидович?
Но Олег Леонидович уже читал вслух сценарий Гарри Альберта.
1. Граф Суховейский в белых штанах наслаждается жизнью на приморском бульваре.
2. Батрачка Ганна кует чего-то железного.
3. Крупно. Голые груди кокотки Клеманс.
4. Крупно. Белой акации ветки душистые или какая-нибудь панорама покрасивше.
5. Надпись: «Я всех краше и милее».
6. Кующая Ганна, по лицу которой капают слезы.
7. Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться.
В середине чтения в литчасть вошел лысый весельчак.
– Уже, уже, уже! – закричал он, размахивая короткими руками.
– Что уже, Виктор Борисович? – спросили Олег Леонидович с Осипом Максимовичем.
– Уже есть у нас точно такая картина, – называется «Веселая канарейка», сам Лев Кулешов снимал.
– Вот жалко, – сказал Олег Леонидович. – А сценарий хорош. До свидания, господин Альберт.
И автор сценария «Нас три сестры, одна за графом…» с разбитым сердцем уехал на родину. А «Веселая канарейка», как правильно заметил Виктор Борисович, уже шла на терпеливых окраинах всего Союза.
Был в Одессе кабак «Веселая канарейка», был он при белых. Тут есть все, что нужно Межрабпомфильму для создания очередного мирового боевика: ресторан для коммерции, а белые для идеологии. (Без идеологии нынче – труба.)
В ресторане:
Голые ножки – крупно. Бокалы с шампанским – крупно. Джаз-банд (которого, кстати сказать, в то время в Одессе не было) – крупно. Погоны – крупно. Чья-нибудь грудь «покрасивше» – крупно. Монтаж – перечисленное выше.
Но были в Одессе также и пролетарии. Однако Межрабпому показывать их в обычном виде скучно. Поэтому режиссер Кулешов пролетариев переодел. Один в революционных целях приобрел облик князя (визитка, лакированные туфли, цилиндр). Другой в тех же целях ходит в виде блестящего казачьего офицера (шпоры, кинжалы, аромат гор, черные усы).
Таких пролетариев можно показать и крупно.
Действие разворачивается примерно тем же мощным темпом, что и у Гарри Альберта:
1. Отрицательные персонажи наслаждаются жизнью на приморском бульваре.
2. Пролетарии говорят чего-то идеологического.
3. Крупно. Голые груди кокотки.
4. Крупно. Белой акации ветки душистые.
5. Надпись: «Это есть наш последний…»
6. По лицу жены положительного персонажа текут слезы протеста против французского империализма.
7. Кокотка в ванне – крупно. Она же в профиль, сверху, снизу, сбоку, с другого боку.
8. Надпись: «… и решительный…»
9. Чего-то идеологического. Можно копыта лошадей – крупно.
10. Надпись: «… бой»!!!
11. Отрицательный персонаж хочет расстрелять положительного.
12. Князь в визитке и цилиндре спасает его.
После этого на экране показывают фабричную марку Межрабпомфильма – голый рабочий поворачивает маховое колесо.
Мы предлагаем эту марку поскорее заменить. Пусть будет так: голая девушка поворачивает колесо благотворительной лотереи.
Это по крайней мере будет честно. Это будет без очковтирательства.
В большом городе встречаются люди, которые скрывают свою профессию. Это беговые жучки, бильярдные чемпионы, поставщики анекдотов для календарей и старушки, обмывающие покойников. Все они почему-то выдают себя за членов профсоюза нарпит. Одеваются они скромно, и лица у них серенькие.
Но среди таких, стыдящихся своей профессии, людей есть прекрасные фигуры. Это еще молодые граждане в котиковых шапочках и розовых кашне. Обедают они в ресторане Союза писателей, а ужинают в артистическом кружке. Они точно знают, с кем и как живет администратор Принципиального театра, скоро ли дадут «заслуженного» резонеру Небесову, а также куда и на каких условиях «покончил» конферансье Саша Бибергал.
Это мародеры, следующие по пятам наступающей или отступающей театральной армии. Это сочинители диких романсов, в которых клеймятся фашисты, песенок шута, где подвергаются осмеянию король и королева. Это поставщики отбросов в неприхотливые театры малых форм. Свои произведения они не подписывают, будучи людьми осторожными.
Но их, как и всех скрывающих свою профессию, быстро находят те, которые в них нуждаются. Старушки сами появляются в тех домах, где лежит покойник. Бильярдные короли тихими голосами предлагают вам сыграть по маленькой, а потом обыгрывают вас дотла. Беговой жучок издали приветствует вас радостными жестами и за двадцать копеек обещает указать лошадь, которая наверное придет первой и сделает вас богатым и счастливым. Молодые люди в котиковых шапочках порхают за кулисами и готовы в кратчайший срок обогатить портфель театра любым произведением – агитдрамой, сельхозводевилем, синтетическим монтажом, предвыборной интермедией или идеологическим обозрением.
С недавнего времени котиковые молодые люди, пробавлявшиеся до сих пор антифашистскими элегиями и агрономическими скетчами, вышли на большую дорогу, теперь они пишут обозрения для московского Мюзик-Холла.
Таинственные анонимы остались верны своей привычке угождать всем господам – Главреперткому, который борется с мещанством, и мещанству, которое борется с Главреперткомом.
Репертком ублажают видом положительных крестьянок в шелковых юбчонках, а соответствующую публику голыми ножками, самодельным джазом и опереточной звездой.
Репертком сначала хмурится. Голые ножки, джаз и звезда пугают его. Но крестьянки в шелковых юбчонках вызывают у реперткома радостную улыбку и одобрительные слова:
– Наконец-то родной наш Мюзик-Холл выходит на широкую дорогу общественности!
Что же касается зрителя, то положительные крестьянки, тоненькими голосками проклинающие внешних и внутренних врагов, приводят его в замешательство. Это же самое, но в более осмысленном исполнении, он мог бы услышать даром в своем жилтовариществе на вечере самодеятельности! И только голые ножки, звезда и джаз спасают положение.
– Еще можно жить и работать, – говорит зритель. – Совсем как у людей.
Если порядочному драматургу предложат написать пьесу при том условии, что в ней главными действующими лицами должны явиться: зебра из зоосада, два трамвайных пассажира и предводитель сирийского племени друзов, а в качестве вещественного оформления фигурировать: фрезерный станок, полдюжины пуговиц и изба-читальня, – то порядочный драматург немедленно ответит:
– Нет. Занимательного и полезного зрелища, то есть зрелища, на котором широкая масса могла бы отдохнуть душой и телом, я сделать не могу. Полагаю, что этого не могли бы сделать также ни Шекспир, ни Чехов, ни Шкваркин.
Но то, что не под силу мастерам сцены, вполне доступно котиковым молодым людям.
С цыганским смаком они принимают любые заказы.
– Что? Идеологическое обозрение? Прекрасно! Из чего делать? Тридцать девушек? Конечно, голые? Хорошо! Разложение? Два роликобежца? Отлично! Бар? Опереточная звезда? Великолепно! Песенка поэкзотичней? И для комика отрицательный персонаж? Превосходно! Можно типичного бюрократа, – знаете с портфелем…
И котиковые молодые люди, не теряя ни секунды, принимаются за работу. Через два дня великолепное обозрение готово. Называется оно: «С неба свалились». Советский гад и бюрократ (Поль) попадает за границу, где взору его представляется тридцать голых фигуранток, одна американка (голая), артистка Светланова и джаз. Затем действие переносится на территорию нашего отечества, куда гад и бюрократ (Поль) привозит тридцать фигуранток, одну американку (голую), артистку Светланову и джаз. На этом бессмысленное обозрение обрывается.
Во время перерывов, вызванных тем, что ни режиссер, ни актеры не знают, что делать дальше, на сцену выходит конферансье в своем обычном репертуаре, повторяя изо дня в день излюбленные публикой экспромты.
Дирижер, до которого дошли туманные слухи о том, что за границей дирижеры якобы подпевают оркестру, время от времени начинает петь так, как не позволил бы себе петь даже дома с целью досаждения вредным соседям.
Если Мюзик-Холлу не стыдно и он собирается ставить свои «марксистские» обозрения и впредь, то это должно быть обусловлено двумя пунктами:
1. Фамилия автора (ов) широко опубликовывается (ются).
2. Фотографические их карточки анфас и в профиль вывешиваются в вестибюле театра.
Надо знать, с кем имеешь дело!
Параллельно начатому недавно соревнованию между заводами, стали состязаться между собой и отдельные граждане нашего отечества.
Но в то время, как предприятия соревнуются на лучшую работу, граждане-одиночки из кожи лезут, чтобы совершить что-нибудь побезобразней.
Турнир начал Липпер, рабочий мариупольского завода имени Ильича. Фантазия у этого человека оказалась небольшая – он проглотил пятак царского образца и от этой болезни лечился почти два месяца, что страхкассе обошлось в 138 рублей.
Трудно, конечно, поверить тому, что взрослый человек глотает царские пятаки по неосторожности. Взрослые люди глотают только шпаги, да и то с целью извлечения доходов. Но откуда же в Мариуполе быть шпагам? Пришлось Липперу удовольствоваться медяком. Но в остальном он не прогадал. Доходу его от этого дела позавидует любой шпагоглотатель.
Соревнование продолжил главный бухгалтер бобруйского кустпромхоза Ревзин. Но то ли Ревзин не нашел подходящей монеты, то ли пожирание аннулированных денежных знаков показалось ему пошлым занятием, но бухгалтер пошел по другой линии.
На собрании по случаю Международного дня работницы бухгалтер терпеливо прослушал все речи о раскрепощении женщины, а потом встал и, сверкая одухотворенными глазами, заявил:
– Уважаемый докладчик не полностью осветил женское движение. Были женщины гораздо активнее теперешних. О них надлежит сейчас же вспомнить. Например, Екатерина Великая или председательницы разных благотворительных обществ, например!
Кто знает, чего бы еще не наговорил главный бухгалтер. Может быть, от веселой Екатерины он перешел бы к воспоминаниям о Мессалине. Может быть, предложил бы он даже почтить память Мессалины вставанием, но, подняв свои одухотворенные глаза, бухгалтер заметил смущение в рядах слушателей и прервал свою речь на самом интересном месте.
Тоска бухгалтера по активным женщинам оказалась, впрочем, не обоснованной. Есть еще у нас женщины с сильным характером.
Милиция арестовала акушерку Алексееву, занимавшуюся нелегальными абортами в станице Пашковской, вблизи Краснодара. От сделанного ею аборта в это время умирала крестьянка Горбань.
На другое утро в пашковскую милицию явилась дама в перчатках и накинулась на милиционера с таким пылом, что бедняга принял ее за Екатерину Великую. Дама оказалась, однако, чином повыше.
– Как вы смели арестовать мою маму? – кричала она. – А известно ли вам, что я жена зав. окрторгом Осипова! Немедленно освободите мою маму!
Но милиционер не захотел освободить виновницу множества варварских абортов, маму великой женщины в перчатках, за что и был обозван полицейским.
Нарсудья Савин тоже не уважил незаконной просьбы. Уже через полчаса после этого он понял, что дама сбегала еще кой-куда, потому что в милицию прибежал очень возбужденный начальник адмотдела Вождев и потребовал освобождения мамы жены зав. окрторгом, преуспев в этом, начальник удалился.
А любвеобильная дочь работала вовсю. Еще через полчаса в милицию вошел следователь Кондратьев распорядился освободить маму ответственной жены, заявив, что так велел прокурор Раусов.
А дочь продолжала работать. Явился нарочный из города и вручил нарсудье бумажку от врид. – пред. кубокрсуда4 Порукова. Врид. – пред. требовал от нарсудьи явки к нему с докладом по делу акушерки.
А еще через день умерла крестьянка Горбань.
Так в один день из-за теши зав. окрторгом был поднят на ноги чуть ли не весь окружной аппарат.
Но все эти безобразные достижения превзошел коллектив «Заря Свободы» в станице Петровской Кубанского округа.
До 1927 года в коллективе применялись розги. Без этого заря свободы казалась руководителям артели неполной. Провинившимся всыпали от пяти до двадцати розог, смотря по проступку. Теперь наказанием служат поклоны в молитвенной комнате – виновники кладут до 300 и больше поклонов.
Другие прелести «Зари Свободы» заключаются в запрещении членам артели жениться. Руководители-сектанты выгоняют женившихся из коллектива.
Наряду с этим сектантские главари не гнушаются принимать от безбожного правительства большие кредиты.
Мариупольскому глотателю пятаков остается только завидовать. На состязании он остался далеко позади полномочной жены зав. окрторга. А о лаврах «Зари Свободы» ему даже и мечтать нельзя.
Путь молитвы и подписки
Самые смирные названия носят у нас религиозные журналы. Сразу видно, что эти журналы ничего общего не имеют с изданиями светскими и суетными, вроде журнала «Даешь» или провинциального литературного приложения, снабженного пышным титулом «Грохот станков».
Грохота здесь не заметно. Все скромно и благостно.
Духовно-нравственный журнал «Баптист».
Журнал евангельских христиан для всех ищущих истину и любящих Господа – «Христианин».
Есть и сладенький журнал адвентистов седьмого дня «Голос истины», есть и полевой цветочек под названием «Вестник духовных христиан-молокан».
Зато содержание духовно-нравственного журнала совсем иное.
Уже передовая «Утренний час с богом» учит осторожному отношению к прессе.
«Утреннее бдение, – поучает духовно-нравственный журнал, – готовит нас к ежедневной борьбе с началом зла внутри и вне нас… мы вооружаемся ранее, чем сатана найдет возможность напасть на нас, прежде, чем взяться за чтение утренней газеты…»
Грех пожаловаться на недостаток материала в «Баптисте». Его множество. Тут и статья «Как успевать в христианской жизни» с советами немедленно присоединиться к церк-ри часто молиться и питаться словом божьим, и снова стихи, и притчи и ответы читателям, и ноты духовных гимнов, и хроника.
Но наибольшего пафоса редакция достигает в обращении к читателям.
В светских журналах такое обращение звучит сухо и деловито: «Открылась подписка на такой-то журнал. Цена на год – 6 руб., на полгода – 3 р. 20 коп., на 1 мес. – 60 коп.»
Совсем не то в «Баптисте». Здесь голос духовных пастырей достигает высочайшего напряжения:
«Дорогие братья и сестры! С сердечной просьбой обращаемся к вам и просим принять эту нашу просьбу близко к сердцу. Просим вас при перемене вашего адреса сообщать об этом в редакцию заблаговременно». Но братья и сестры путают заказы.
«В результате же огорчение. Оказывается, надо журнал посылать вместо Мартынова на имя Мосенко. Братья, так же нельзя обращаться с редакцией».
«… Братья, ведь нас много! Если вы не будете внимательны к собственным заказам, то, конечно, вы запутаете все…»
В конце концов редакция издает протяжный вопль:
«Просим вас, дорогие братья и сестры, больше и усерднее молиться за нас и за журнал, чтобы он доставлял благодать читающим. Очень много есть людей, имеющих желание побранить редакцию, пробрать ее, а как мало молящихся за дело братского журнала „Баптист». Станьте на путь молитвы за журнал и увидите успех».
Тут редакция сделала важное упущение. Молитва за журнал, конечно, расширяет подписку, но хорошо бы, если подписчики еще постились.
Если еще и пост, тогда дело верное. Подписка, безусловно, расширится, и 39-й «Интернациональной» типографии в Москве, где печатается эта духовная пища, будет больше работы.
Не переименовать ли, кстати, эту типографию из «Интернациональной» в типографию имени 12 апостолов?
О, как прекрасны ноги твои…
Руководствуясь самыми благими намерениями, издательство «Прибой» выпустило брошюрой «Антирелигиозную викторину».
Некоторые вопросы, которыми издательство «Прибой» надеется распропагандировать сторонников религии, вызывают смущение.
Вот вопрос под № 47:
«Когда женский вопрос впервые был поставлен ребром?»
Нет сомнения, что здесь встанет в тупик как небольшая группа играющих, так и массовое собрание.
И долго будут все молчать, пока торжествующий руководитель вечера не объяснит, что это случилось при сотворении Евы из ребра Адама.
Но не успевают собравшиеся оправиться от этого тяжкого каламбура, как на головы их обрушивается новая каверза «Прибоя»:
«51. Какого кардинала нельзя назвать мракобесом?»
Тревога пробегает по рядам.
– Какого же, в самом деле, кардинала нельзя назвать мракобесом? Кто же, наконец, этот дивный кардинал?
Взоры с надеждой обращаются на счетовода административно-финансового отдела товарища Пруста, отец которого был католиком.
Но Евстигней Пруст, отец которого был католиком, тоже ничего не знает о таком кардинале.
Один лишь руководитель смеется безумным смехом. Он уже заглянул в последние странички брошюрки и знает ответ:
«Мракобесом нельзя считать птицу кардинал, каковая водится в Америке. Смотри „Малый энциклопедический словарь», изд. Брокгауз – Ефрон, т. II – „Кардинал»».
Рассмешив таким образом собрание, автор викторины углубляется в области более серьезные, и вопрос № 79 гласит:
«Где сказано: „Слуги, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо такова есть воля божья»?»
Все молчат. Чтобы ответить на такой вопрос, надо быть не только человеком верующим, но еще и начетчиком, великолепно знающим тексты Нового завета. Сказано это в Первом послании апостола Петра, глава II, стих 13.
Затем собрание засыпают градом вопросов:
«Чем известен в истории христианской церкви монах Дионисий Малый?» Не знаете! Так, так! А «какой святой православной церкви ударил по уху епископа на одном из вселенских соборов?» И это вам неизвестно?
Собрание смущенно молчит. Многие из оглушенных викториной потратили свою молодость на изучение политграмоты и сделали большую оплошность – так и не узнали, какой такой святой смазал по уху епископа.
Последние вопросы викторины проходят уже при опустевшем почти зале.
Напрасно руководитель вопит:
– Почему говорят: «Последняя у попа попадья»? «При чтении какого евангелия попы плюются»? Откуда текст: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая!.. Живот твой – круглая чаша… два сосца твои как два козленка… Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах… там я окажу ласки мои тебе»?
Но никого уже нет в зале. Все побежали менять книжки политэкономии на послания апостолов.
Нельзя же иначе! У нас теперь, как-никак, культурная революция. Стыдно ведь не ответить на вопросы безбожной викторины, состряпанной «Прибоем».
Экспонаты Музея восковых фигур поражают зрителя сходством своим с живыми существами.
Ужаленная змеей египетская царица Клеопатра тяжело дышит. Император Нерон с необыкновенной естественностью рассматривает публику в изумруд. За столом сидит обезьяна в цилиндре и читает газету.
Все как будто живет натуральной жизнью и в то же время все мертво и представляет только видимость жизни.
Есть такой музей и в Самаре.
Сначала экспонаты его кажутся живыми. Ведь они имеют фамилии, они служат и получают жалованье. Наконец, это члены и кандидаты партии.
Но на деле оказывается, что работа их – только видимость работы, а коммунистичность – призрачна.
И чем больше эти фигуры работают и скандалят, тем больше убеждаются в том, что они мертвы.
Экспонаты самарского музея будут изображены в наиболее типичных для них позах.
Фигура партийного служащего окрместхоза Юдина предстанет перед нами в ту минуту, когда он явился в зуболечебницу на Некрасовской улице и потребовал принять его детей безо всякой очереди.
Коротко говоря, коммунист во что бы то ни стало требовал нарушения порядка.
Получив отказ, он кинулся к жалобной книге и, напирая в записи на свою партийность, требовал снять заведующего с работы. Дикое бурбонство5 Юдина вызвало среди ожидавших больных возмущение.
Петр Александрович Болонкин, юрисконсульт Союзхлеба, одна из любопытнейших фигур Самары.
На службу фигура является иногда весьма навеселе. Выезжает в область на суд и к разбору дела не является. Дело проваливается, хотя получены суточные, квартирные и прочие сладостные суммы.
Сутяжничество Болонкина непостижимо. Он оспаривает законные иски, защищает незаконные увольнения и вызывает этим лишнюю трату на судебные расходы. Незаконность действий конторы по Самаре и округам всегда защищается Болонкиным.
Е. Е. Морозова работает среди членов правления Коопинсоюза6. Грубостью своей вызывает трепет в служащих и инвалидах. Провела неудачное, вызвавшее недовольство инвалидов укрупнение артелей, где дрожжевиков соединили с сапожниками, столярами, столяров и плотников с торговцами из комиссионного магазина.
По ее распоряжению в артель был принят председателем неинвалид Пермяков, пьянствовавший неделями и доведший артель имени Галактионова до критического состояния. Только после длительных жалоб инвалидов Пермякова сняли.
В деревнях, где Морозова бывала по командировкам, она оскорбляла крестьян, называла их болванами и мужичьем. Это вызвало жалобу крестьян.
Музей богат. Есть там и Митлер, предместкома СТС по частным предприятиям, ретивый защитник бывших торговцев, спекулянтов и лишенцев. Есть и Аникин, управделами Союзхлеба, зажимающий неугодных ему людей, гонитель рабкоров, злостный нарушитель законов о труде.
Самарские фигуры суетятся, стараются во что бы то ни стало показаться живыми, кому-то нужными но на деле все эти люди мертвы, бесполезны и лучшее для них место – Музей восковых фигур, рядом с вечно дышащей Клеопатрой и обезьяной, вечно делающей вид, будто она читает газету.
Общество транспортных бюрократов под названием: «Мне все равно. Лопайте, что хотите». – Содружество чинуш и лентяев: «А мы просо вытопчем, вытопчем».
Давно пора дать некоторым учреждениям их настоящие имена.
Что, например, значит вот такое название:
«Правление Транспортного Потребительского Общества Казанской жел. дороги».
Ничего за этим названием нет, и само название обманное.
По справедливости это учреждение должно носить такой титул:
«Общество транспортных бюрократов под названием: “Мне все равно. Лопайте, что хотите”».
Есть еще на свете и «Раменское общество потребителей». И у этого общества название фальшивое. Ничего оно для потребителей не делает и делать не хочет.
Настоящее название этому обществу должно быть совсем другое:
«Содружество чинуш и лентяев».
В районе Казанской железной дороги, в поселке Прозоровка, строится санаторий Цустраха7.
На постройке занято 500 рабочих. Все они сидели без горячей пищи.
Срочно нужно было открыть столовую.
Правление ТПО Казанской дороги открыть столовую отказалось. «Раменское общество потребителей» открыть столовую соглашалось, но просило передать ему всю торговлю на станции Прозоровка. Иначе, мол, будет убыточно.
Тогда стали улещивать кооп-генералов.
– Мы вам помещение под столовую дадим бесплатно.
– А мы все равно отказываемся!
– Освещение и оборудование тоже бесплатно отпустим.
– Нет. Не надо нам. Лишняя столовая, лишние хлопоты.
– И топливо даром дадим.
– А мы все равно столовой не откроем.
Так и продолжался разговор в духе:
– «А мы просо сеяли, сеяли!»
– «А мы просо вытопчем, вытопчем».
Ничем нельзя было смягчить жестокие кооперативные сердца. На указание о том, что нельзя оставить 500 человек рабочих без пищи, последовал обычный возмутительно холодный ответ.
Для укрощения строптивых потребительских организаций пришлось прибегнуть к помощи прокурора Московской губернии.
Долго ратовал прокурор, и долго сидели на сухоедении Прозоровские сезонники. Наконец в ход были двинуты последние силы – прокурор заговорил о привлечении виновных к ответственности.
Тогда только ТПО открыло столовую, о чем и сообщило прокурору тов. Шумяцкому в форме довольно наглой.
Суть письма тепеовцев сводилась вот к чему:
а) мы эту столовую открывать обязаны не были,
б) но мы ее открыли, так сказать, в виде личного одолжения. Так что вы имейте в виду. Знайте нашу доброту.
Итак, после всего происшедшего ТПО считает, что открытие рабочей столовой есть с его стороны акт величайшего милосердия, а отнюдь не прямая обязанность.
Если так, то к чему называться «Потребительским обществом»?
Каждое учреждение должно получить свое настоящее название.
Для ТПО Казанской дороги читатели сами быстро найдут его!
Некоторые скептики утверждают, что наши писатели пишут плохо.
Это преувеличено. Пишут они хорошо. А вот говорят, действительно, неважно. Объясняется это тем, что большинство из них обучались в гимназиях и до сих пор при виде кафедры, к которой их вызывают, испытывают непобедимый страх.
Между прочим, в своем быту они очень разговорчивы. Как гимназисты на большой перемене. С жаром и жестикуляцией они набрасываются друг на друга, дергают за пуговицы, кричат об «установках», целеустремленности, о смысле жизни. Но стоит им только собраться в одном месте, усесться за стол под взглядами публики и подчиниться воле диспутного регламента, как гимназический страх вселяется в их робкие души.
– О чем сегодня будет спрашивать Суслин? Ты не знаешь?
– О реках и озерах Южной Америки. Я ничего не выучил.
И вызванный к доске ученик вместо того, чтобы плавно повествовать о реках и озерах Южной Америки, пытается рассказать о флоре и фауне Соломоновых островов (сведения, почерпнутые у Жюля Верна).
На этот раз писателям был задан урок о Пильняке.
– Что будет? – трусливо шептала Вера Инбер. – Я ничего не выучила.
Олеша испуганно написал шпаргалку. Всеволода Иванова грызло сомнение: точно ли река Миссури является притоком Миссисипи. Зозуля, согнувшись под партой, лихорадочно перелистывал подстрочники, решебники и темники.
И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью.
Он вызвался отвечать первым и бойко говорил целый час. За это время ему удалось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка.
На него приятно было смотреть.
Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из «Красного дерева».
Публика насторожилась. Посыпались записки. Одни требовали ареста Пильняка. Другие просили прочесть «Красное дерево» целиком и полностью, якобы для лучшего ознакомления с проступком писателя. Кроме того, поступила записка с вопросом: «Будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив № 84, и по какому талону?»
После Волина говорил Зозуля.
Нежным голосом он сообщил, что писатели вообще люди малосведущие и что им нужно учиться, учиться и учиться. При этом Мих. Левидов покраснел. Он, как видно, совсем не знал урока и рассчитывал только на то, что его не вызовут.
Ученику Шкловскому, как всегда, удалось обмануть учителя.
Он все-таки произнес речь о флоре и фауне Соломоновых островов, хотя были заданы реки и озера Южной Америки. Легко обойдя вопрос о Пильняке, Шкловский заявил, что писателю нужна вторая профессия и только тогда он будет хорошим писателем.
На брошенную ему записку ученик Шкловский Виктор не ответил. Записка была гадкого содержания:
«Вторая ваша профессия известна – вы непременный участник диспутов. Но какая же ваша первая профессия?»
Всеволод Иванов боязливо пробрался к кафедре. Ему мучительно хотелось сказать, что он не оратор, но, вспомнив, что это выражение уже принадлежит Горькому, он совсем растерялся и урока не ответил.
Вера Инбер наполнила зал меланхолическими стонами.
– Вы жалеете птичку? – сказала она тоненьким голоском.
– Жалеем, – хрипло ответили сидевшие в первых рядах контрамарочники.
– А овечку вы жалеете? – допытывалась писательница.
Зал, видимо, жалел овечку.
– Так пожалейте же и писателя, – заключила Вера Инбер. – Ему очень, очень трудно писать!
Так как это не имело никакого отношения к Пильняку, то зал сочувственно похлопал писательнице.
Юрий Олеша читал свою речь по бумажке.
Громовым голосом он опубликовал популярный афоризм о том, что если дать овцам свободу слова, то они все равно будут блеять.
– Пильняк проблеял, – заявил Олеша.
Справедливость этого положения никто не оспаривал.
Левидов осуществил заветную мечту публики. Он не говорил и радовался этому, как дитя.
В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом. Но так как пишут они на три с плюсом, то публика была очень довольна, что увидела всех в лицо.
Еще каких-нибудь три года тому назад, в то розовое обольстительное утро, когда Эйзенштейн и Александров в сопровождении ассистентов, экспертов, администраторов, уполномоченных и консультантов выехали на первую съемку «Старого и нового», уже тогда было отлично известно, что нет ничего омерзительнее и пошлее нижеследующих стандартов:
1. Деревенский кулак, толстый, как афишная тумба, человек с отвратительным лицом и недобрыми, явно антисоветскими глазами.
2. Его жена, самая толстая женщина в СССР. Отвратительная морда. Антисоветский взгляд.
3. Его друзья. Толстые рябые негодяи. Выражение лиц контрреволюционное.
4. Его бараны, лошади и козлы. Раскормленные твари с гадкими мордами и фашистскими глазами.
Известно было также, что стандарт положительных персонажей в деревне сводился к такому незамысловатому облику: худое благообразное лицо, что-то вроде апостола Луки, неимоверная волосатость и печальный взгляд.
По дороге в деревню, вспоминая о стандартах, киногруппа Эйзенштейна заливалась смехом. Они думали о том, каких пошлых мужичков наснимал бы в деревне режиссер Протазанов, и это их смешило.
– Счастье, что послали нас! – восклицал Эйзенштейн, добродушно хохоча. – Чего бы тут Эггерт наделал! Небось толстого кулака заснял бы!
– И жену его толстую! – поддержал Александров.
– И осла его, и вола его, – закричали ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы и хранители большой печати Совкино, – и всякого скота его. Все это толстое, стремящееся к ниспровержению существующего строя.
– Да что тут говорить! – заключил Эйзенштейн. – Пора уже показать стране настоящую деревню!
Об этом своем благом намерении показать настоящую деревню Эйзенштейн оповестил газеты и сам любезно написал множество статей.
И страна, измученная деревенскими киноэксцессами Межрабпомфильма и ВУФКУ, с замиранием сердца принялась ждать работы Эйзенштейна.
Ждать ей пришлось не так уже долго – годика три.
За это время некие торопливые люди успели построить в Туапсе новый город и два гигантских нефтеперегонных завода, Балахнинскую бумажную фабрику, совхоз «Гигант», Турксиб и прочие многометражные постройки.
А деревенского фильма все еще не было.
По Москве ходит слух ужасный. Говорят, что каждый год один из руководителей Совкино, обеспокоенный тем, что стоимость фильма все увеличивалась, тревожно спрашивал Эйзенштейна:
– А что будет, если картина провалится?
И ходит также слух, что режиссер неизменно отвечал:
– Ничего не будет. Вас просто снимут с работы.
И, дав такой ответ, режиссер с новым жаром принимался за картину, которая должна была изобразить настоящую деревню.
И вот картина появилась на экране.
Настоящая деревня была показана так:
1. Кулак – афишная тумба с антисоветскими буркалами.
2. Жена – чемпионка толщины с антисоветскими подмышками.
3. Друзья – члены клуба толстяков.
4. Домашний скот – сплошная контра.
И – венец стандарта: деревенская беднота, изображенная в виде грязных идиотов.
Сюжет – на честное слово. Ничего не показано. Всему приходится верить на слово. Дело идет о возникновении колхоза, но как он возникает – не показано. Говорится о классовой борьбе в деревне, но не показано из-за чего она происходит.
Утверждается, что трактор вещь полезная. Но эйзенштейновские тракторы бегают по экрану без всякого дела, подобно франтам, фланирующим по Петровке.
Кончается картина парадом сотни тракторов, не производящих никакой работы.
Как же случилось, что замечательный режиссер, сделавший картину «Броненосец Потемкин», допустил в своей новой работе такой штамп? Конечно, Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты.
Несомненно, все это сделано намеренно. Картина нарочито гротескна. Штампы чудовищно преувеличены. Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне.
Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался. Картина, на которой остались, конечно, следы когтей мастера, оказалась плохой.
Оправдались самые худшие опасения помянутого выше одного из руководителей Совкино. Картина провалилась.
Что-то теперь будет с одним из руководителей Совкино?
Алмазная дочка, или Приключение одной газеты
Отрадно наблюдать, с каким пылом, энергией и добросовестностью борются наши газеты с мещанской литературой. Часто, отрадно часто атакуют наши газеты твердыни пошлости, мещанства и халтуры.
Появляются статьи под самыми строгими заголовками:
«ЗА УШКО – ДА НА СОЛНЫШКО».
«ВЫДЕРНЕМ ХАЛТУРУ С КОРНЕМ».
«УДАРИМ МОЛОТОМ РАБОЧЕЙ КРИТИКИ
ПО БЕСПАРДОННЫМ НАСКОКАМ
ОМЕЩАНИВШИХСЯ ПИСАТЕЛЕЙ».
Или совсем уже просто:
«ЕЩЕ ОДНА ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЛЯ».
Все это делается очень зло, а иногда даже жестоко. Но – правильно! Уместно!
Мы не возражаем против этой расправы. Так им и надо. Пусть не пишут ерунды. Делайте с ними, что хотите. Обрывайте им уши, бейте по крепкому темени. Можете даже разрезать пошляков на куски, зашивать в корзины и отправлять малой скоростью куда-нибудь на станцию Пепелихи.
И это, на первый взгляд жестокое, наказание будет только справедливым возмездием,
А теперь приступим к рассмотрению романа, который печатается в «Рабочей газете», газете хорошей и пылко нападающей на мещанскую литературу.
К удивлению читателей, роман этот печатается не под названием «Выдернем халтуру с корнем» и не в виде цитаты, снабженной гневными комментариями редакции.
Называется он «Гарри Тернер» и печатается серьезным образом, как видно с целью дать читателям «Рабочей газеты» увлекательное, душеспасительное и политически полезное чтение.
Обычно рецензенту самому приходится излагать содержание произведения. Он долго копается в унылых главах и с трудом выволакивает на белый свет основную нить романа.
Но «Рабочая газета» идет навстречу рецензенту – она печатает так называемое «Содержание предыдущего».
Приводим его целиком, во избежание обвинений в «передергивании, выхватывании отдельных фраз и в недобросовестном подходе».
«Содержание предыдущего. Молодой англичанин Тернер, индийский националист Рао и индус Маха-ду кочуют по Индии. Алисе, дочери алмазного короля Джонса, понравился Тернер, и она присоединяется к путникам. Тернера обвинили в похищении Алисы. Сыщику Пичу8 удается арестовать Тернера и заключить его в башню».
В напечатанной под «Содержанием предыдущего» коротенькой (100 строк) главке имеется превосходный набор литературных отмычек:
Утопленник, Питер, Браун, Ричарде, Джеке, мертвец, Уэльч, скальпель, веревка, пузырек с хлороформом, укротитель зверей в цирке, сейф, секретные документы, заброшенная шахта, Чарльз Эванс, могила, труп, кладбище, Эмми, Южная Америка, тайна, Мери и – «убить этого негодяя».
Мы уверены в том, что Алиса в конце концов отмежуется от своего алмазного папы-короля и врасту хотя бы в индийский национализма. А может быть, Алиса погибнет и молодой англичанин Тернер, освобожденный от женских пут, сам пойдет по столбовой дороге, веду щей к освобождению Индии из-под пяты британского суперимпериализма, рука об руку с националистом Рао и индусом Махаду.
Неясна роль сыщика Пича. Вернее всего, это юмористический персонаж. Но он со своей башней останется в дураках. Мы в этом уверены. Он всегда оставался в дураках, бедняга Пич. С ним было так по крайней мере в 12 тысячах псевдосоветских, густо вымазанных красной помадой романах.
Ах, как хорошо, если бы за «предыдущим» не было бы уже никакого «последующего».
Тогда «Рабочая газета» могла бы начать действительную борьбу с литературным мещанством и штампованными Алисами, дочками американских королей.
В акционерном обществе «Насосы» создалось напряженное положение. Говорили только о чистке, рассказывали пугающие истории из практики бывших ранее чисток и вообще волновались свыше меры.
Незаметно насосовцы перешли на страшные рассказы. Инструктор из отдела поршней, товарищ Быдто-Стерегущий, поведал обществу грустный случай. Ему, Быдто-Стерегущему, в молодости явился призрак покойного деда. Призрак размахивал руками и призывал на племянника кары небесные.
Быдто-Стерегущего осмеяли, и он сознался, что призрак этот явился, собственно говоря, не ему лично, а одному очень хорошему знакомому, которому верить можно безусловно. Все же разговор о выходцах с того света продолжался. Все насосовцы оказались сознательными и с презрением отметали даже самую мысль о возможности появления призраков в наше трезвое материалистическое время.
Заклейменный всеми, Быдто-Стерегущий отмежевался от своего рассказа и уже собирался было удалиться в свой отдел поршней, когда внезапно заговорил Культуртригер, старый работник отдела шлангов.
– Легко сказать, – заметил он, – а призрак такая вещь, что душу леденит.
– Стыдно, товарищ Культуртригер! – закричали все. – Стыдно и глупо верить в привидения.
– Да, если бы мне в руки попался призрак, – сказал товарищ Галерейский, – уж я бы ему…
И Галерейский самодовольно улыбнулся.
– Чудес на свете нет, – сказали два брата, работавшие в обществе «Насосы» под разными фамилиями – Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. – Чудес на свете нет, а гением творения их является человек.
– Материалистам призрак нипочем, – подтвердил Галерейский. – Тем более мне как марксисту.
– Может быть, – тихо сказал дряхлый Культуртригер. – Все может быть. На свете много загадочного и непостижимого.
– Высадят вас на чистке по второй категории, тогда будете знать, как мистику разводить при исполнении служебных обязанностей, – сказал Лев Рубашкин.
– Гнать таких стариков надо, – поддержал Ян Скамейкин, поглядывая на своего брата Рубашкина.
На этом разговор кончился.
На другой день в акционерном обществе «Насосы» появилось привидение. Оно вышло из уборной и медленным шагом двинулось по длинному темному коридору.
Это было обыкновенное, пошленькое привидение во всем белом, с косой в правой руке. Привидение явно шло вровень с веком, потому что в левой руке держало вместо песочных часов новенький будильник.
Спугнув проходившую машинистку, которая с визгом умчалась, привидение вошло в кабинет товарища Галерейского.
– Вам чего, товарищ? – спросил Галерейский, не поднимая головы.
Привидение заворчало. Галерейский глянул и обомлел.
– Кто? Что? – завопил он, опрокинув стул и прижавшись к стене.
Привидение взмахнуло косой, словно собираясь в корне подсечь молодую жизнь своей жертвы. Галерейский не стал терять ни минуты. Он бросился к конторскому шкафу, всхлипывая, вполз туда и заперся на ключ. Призрак нагло постучал в дверцу шкафа, после чего изнутри донесся истерический крик.
– Тоже материалист! – озабоченно сказало привидение, переходя в следующую комнату, где сидел ничего не подозревавший Быдто-Стерегущий.
Стерегущий сразу упал, как сбитая шаром кегля, громко стукнувшись головой об пол. Привидение с презрением пихнуло его ногой и, тихо смеясь, вышло в коридор.
В отделе шлангов Лев Рубашкин и Ян Скамейкин невинно развлекались игрою в шашки.
– У-лю-лю! – негромко сказало привидение, вваливаясь в отдел, треща будильником и как бы подчеркивая этим, что дни братьев сочтены.
– Мама! – сказал Лев Рубашкин шепотом и выпрыгнул в окно.
Ян Скамейкин ничего не сказал. Он свалился под стол, лязгая зубами, как собака.
Дальнейшая работа привидения дала поразительные результаты.
Из шестидесяти насосовцев:
Испытали ужас – тридцать шесть.
Упали в обморок – восемь.
Заболели нервным тиком – девять.
Остальные отделались легким испугом. Галерейский совершенно поседел, Быдто-Стерегущий взял бюллетень, Рубашкин при падении со второго этажа вывихнул руку, а Скамейкин помешался в уме и целую неделю после этого на всех бумагах ставил подпись вверх ногами.
На чистке все сидели молча и слушали биографию Галерейского.
– Все это хорошо, – сказал с места старый Культуртригер. – Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоялся? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?
– Это клевета! – закричал Галерейский.
– А кто в шкафу прятался? – ехидно спросил Культуртригер. – Кто поседел от страха? У меня про всех записано.
Старик вынул записную книжку и стал читать.
– Вел себя также недостойно материалиста Лев Рубашкин, каковой при виде призрака выпрыгнул в окно. А еще считается общественным работником. А равно и товарищ Скамейкин. Ноги мне целовал от ужаса. У меня все записано.
Культуртригер схватил председателя комиссии за рукав и, брызгая слюной, стал быстро изобличать насосовцев в мистике.
Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь.
Происходило так не потому, что Андрей Бездетный родился именно в этом месяце и верил в свою счастливую звезду. А также не потому, что эта пора, богатая туманами и дождями, подносила ему на своих мокрых ладонях дары вдохновенья.
Андрей Бездетный просто был нехорошим человеком и уважал даже не весь ноябрь, а только седьмое его число. К этому дню он готовился с лета.
– Богатое число, – говаривал Бездетный.
В этот день даже «Эмиссионно-балансовая газета», обычно испещренная цифрами и финансовыми прогнозами, – даже она печатала стихи.
Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной теме. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение:
«Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря – Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо».
Но Бездетный лирикой не торговал.
Итак, с июля месяца он мастерил эпос, романтику и другие литературные завитушки.
И в один октябрьский день Андрей вышел на улицу, сгибаясь, как почтальон, под тяжестью ста шестидесяти юбилейных опусов. Накануне он подбил итоги. Выяснилось, что редакций десять все-таки останутся без товара.
Нагруженное октябрьскими поэмами, кантатами, одами, поздравительными эпиграммами, стихотворными пожеланиями, хоралами, псалмами и тропарями, бледное дитя века вошло в редакцию, первую по составленному им списку, редакцию детского журнала под названием «Отроческие ведомости». Не теряя времени, поэт проник в кабинет редакторши и, смахнув со стола выкройки распашонок и слюнявок, громким голосом прочел:
Ты хотя и не мужчина,
А совсем еще дитя,
Но узнаешь годовщину,
Все по пальцам перечтя.
Пальцев пять да пальцев пять
Ты сумеешь сосчитать,
К ним прибавить только три —
Годовщину ты сочти.
– Ничего себе приемчик? – похвалялся Андрей. – Заметьте, кроме общей торжественности, здесь еще арифметика в стишках.
Редакторше стишок понравился. Понравился он также заведующей отделом «Хороводов и разговоров у костра». И уже с громом открывалась касса, когда редакторша застенчиво сказала:
– Мне кажется, товарищ Бездетный, что тут какая-то ошибка. Пять да пять действительно десять. И если к десяти прибавить, как вы сами пишете, «только три», то получится тринадцать. А ведь теперь не тринадцатая годовщина Октября, а только двенадцатая.
Андрей Бездетный зашатался. Ему показалось, что его коленчатые чашечки наполнились горячей водой. Ведь все сто шестьдесят юбилейных тропарей были построены на цифре тринадцать.
– Как двенадцатая? – сказал он хрипло. – В прошлом году была двенадцатая!
– В прошлом году была одиннадцатая годовщина, – наставительно сказала заведующая отделом «Хороводов». – Вы же сами в прошлом году печатали у нас такой стих:
Пальцев три и пальцев семь —
Десять пальцев будет всем,
К ним прибавь всего один —
Все узнаешь ты, мой сын.
– Да, – сказал Бездетный, ужаленный фактом в самое сердце.
И касса с грохотом закрылась перед его затуманившимися очами.
Всю ночь Андрей, бледное дитя века, просидел за своим рабочим столом. Сто шестьдесят опусов лежали перед ним.
– Как же, – бормотал Андрей, – как же так случилось? Что же теперь будет?
Положение было действительно ужасное.
Девяносто пять произведений трактовали о буржуях, для которых тринадцатая годовщина является поистине чертовой дюжиной. В остальных шестидесяти пяти хоралах Андрей Бездетный высмеивал вредителей и эмигрантов, упирая на то, что цифра тринадцать, как число несчастливое, несет им гибель.
Путь к переделкам был отрезан. Приемчик погиб. Для сочинения новых поздравлений не хватило бы времени.
Только одно новое стихотворение удалось ему написать. Там говорилось о двенадцатом часе революции, который пробил. Это было все, что могла изобрести его жалкая фантазия.
И Андрей Бездетный, подобно чеховскому чиновнику, лег на клеенчатый диван и умер. Поспешив со стихами на целый год вперед, он своей смертью все-таки опоздал на несколько лет. Ему следовало бы умереть между пятой и шестой годовщинами.
Вечером на прохладной улице один гражданин бьет другого гражданина.
Гражданин, которого бьют, недоволен.
– Убивают, – кричит он, растерянно поглядывая по сторонам.
Гражданин, который бьет, тоже недоволен.
– Что же ты кричишь? – спрашивает он, нанося последующие удары. – Не кричи, а то душу выну.
Второй гражданин, оказавшийся в затруднительном положении (будет кричать – убьют, не будет кричать – тоже убьют), подымает отчаянный визг.
Собирается большая, меланхоличная толпа и молча смотрит.
– Спасите! – надрывается жертва. Толпа безмолвствует. Ободренный общим молчанием, хулиган приводит в исполнение свою угрозу – начинает вынимать из «другого гражданина» душу.
Душа покидает свое место со стонами и криками.
– Что же вы стоите, черти! – верещит душа. – Не видите, человека убивают?!
Толпа отлично видит.
Но на всякий случай молчит.
– Зачем впутываться не в свое дело! – бормочут в толпе.
Процесс вынимания души длится до прихода милиционера.
Тут толпа проявляет необыкновенное оживление. Все разбегаются. Не то еще в свидетели возьмут.
Из милиции хулигана отпускают через полчаса. Свидетелей нет. И кто кого бил, понять невозможно.
На другой вечер хулиган ловкими движениями вынимает душу из следующего гражданина.
Вечером в прохладном помещении клуба идет заседание по чистке финансового учреждения. Один товарищ, стоящий перед столом, забивает баки другому товарищу, сидящему за столом.
Товарищ, которому забивают баки, недоволен.
– То, что вы отмежевались от своих родителей, мне известно, – говорит он, – и это не так важно. Расскажите нам, как вы работаете!
Товарищ, который забивает баки, тоже недоволен.
– Так вот и работаю, – говорит он обиженно, – работаю, можно сказать, не покладая рук, как полагается!
– Все это общие фразы, – морщится товарищ за столом. – Вы введите нас в курс своей работы.
Большая меланхоличная толпа сидит на скамьях и молчит.
– Кто хочет высказаться, товарищи?
Толпа безмолвствует.
Ободренный общим молчанием первый товарищ начинает выматывать душу у председателя. Он уныло бубнит о своих общественных заслугах: организация кружка мандолинистов и одна стенгазетовская заметка «Почему чай подается без сахара?».
– Что же вы молчите, товарищи? – кричит председатель, обращаясь к толпе. – Разве вы не знаете, что это бюрократ?
Толпа отлично знает.
Но молчит. На всякий случай.
– Зачем впутываться не в свои дела! – бормочут на задних скамьях.
Мало-помалу все расходятся.
Бюрократ остается на службе.
И на следующее утро он лениво глотает чай, умышленно не глядя за перегородку, где уже полтора часа топчутся растерянные посетители.
Иван Антонович Филиппиков, сотрудник Палаты мер и весов, очень любил свое учреждение. Он хотел бы даже, чтобы Палате принадлежала высшая власть в стране. Уж очень ему нравилась Палата, существующий в ней порядок, блестящие цилиндрические гири, метры и литры, одним своим видом говорящие о точности и аккуратности.
В таких приятных мыслях гражданин Филиппиков прогуливался однажды по городу.
Подойдя к оживленному перекрестку, Иван Антонович увидел плакат:
ПЕРЕХОДЯ УЛИЦУ,
ОГЛЯНИСЬ ПО СТОРОНАМ
Для пущей внушительности на плакате был изображен милиционер с улыбкой манекена и с красной палкой в руке.
Иван Антонович добросовестно кинул взгляд на запад. Потом глянул на восток. Потом покосился на юг и, наконец, повернулся к северу. И на севере, у магазина наглядных пособий, где веселые скелеты обменивались дружественными рукопожатиями, он увидел мальчика, на плече которого сидел попугай.
– Грияждане, – скучным голосом говорил мальчик, – американский попугай-прорицатель Гаврюшка докладает тайны прошедшего, настоящего и будущего. Пакет со счастьем – десять копеек!
Попугай-прорицатель строго смотрел на Филиппикова.
«Разве в виде шутки попробовать!» – сказал себе Иван Антонович.
И уже через минуту вестник счастья с ворчаньем вручил ему розовый конверт.
Иван Антонович надел очки и вынул из конверта предсказание своей судьбы.
«Вы родились, – прочел он, – под знаком Рыб и Меркурия. Вы испытали много превратностей, но не теряйте мужества. Судьба вам будет благоприятствовать. Скоро вы получите приятное известие. Счастье и выгоды в изобилии выпадут на вашу долю. Вы получите большие имения, которые вам будут приносить большие доходы. Оракул предвещает вам, что ваша жизнь будет цепью счастливых дней».
– Оракул! – с удовольствием произнес Филиппиков. – Оракул! Моя жизнь будет цепью счастливых дней. Скоро я получу приятное известие.
Лучезарно улыбаясь, Иван Антонович поглядел на витрину магазина наглядных пособий, где рядами возлежали лошадиные черепа, и поплелся домой.
– Слышишь, Агния, – сказал он жене, – наша жизнь будет цепью счастливых дней.
– Почему цепью? – испуганно спросила жена.
– Да вот оракул сказал, Агнесса.
И гражданин Филиппиков, член многих добровольных обществ, передал своей жене, гражданке Филиппиковой, пакет со счастьем.
Агнессу ничуть не смутило то, что ее дорогой муж родился под знаком Рыб и Меркурия. Она любила Ивана Антоновича и никогда не сомневалась в том, что он родился именно под этими знаками.
Но с практичностью домашней хозяйки она обратила все свое внимание на фразу, сулящую непосредственные реальные блага.
«Вы получите большие имения, которые принесут вам большие доходы».
– Вот хорошо, – сказала Агния. – Большие имения! Большие доходы! Как приятно!
До самого вечера Иван Антонович почему-то чувствовал себя скверно, а за ужином не вытерпел и сказал жене:
– Знаешь, Агнесса, мне не нравится… то есть не то чтоб не нравится, а как-то странно. Какие же могут быть теперь имения, а тем более доходы с них? Ведь время-то теперь советское.
– Что ты, – сказала жена. – Я уже забыть успела, а ты все про своего оракула.
Однако ночь Филиппиков провел дурно. Он часто вставал, пил воду и смотрел на розовый листок с предсказанием. Нет, все было в порядке, по новой орфографии. Листок, несомненно, был отпечатан в советское время.
– Какое же имение? – бормотал он. – Совхоз, может быть? Но за доходы с совхоза мне не поздоровится. Хороша же будет эта цепь счастливых дней, нечего сказать.
А под утро приснился Ивану Антоновичу страшный сон. Он сидел в полосатом архалуке и дворянской фуражке на веранде помещичьего дома. Сидел и знал, что его с минуты на минуту должны сжечь мужики. Уже розовым огнем полыхали псарня и птичий двор, когда Филиппиков проснулся.
На службе, в Палате мер и весов, Иван Антонович чувствовал себя ужасно, не подымал головы от бумаг и ни с кем не беседовал.
Прошло две недели, прежде чем Филиппиков оправился от потрясения, вызванного предсказанием попугая Гаврюшки.
Так радикально изменилось представление о счастье. То, что в 1913 году казалось верхом благополучия (большие имения, большие доходы), теперь представляется ужасным (помещик, рантье).
Оракул, несмотря на свою новую орфографию, безбожно отстал от века и зря только пугает мирных советских граждан.
И он присоединился к великому лагерю драматургов, разбивших свои палатки на мостовой проезда имени Художественного театра.
«ЛЕТОПИСЬ ВСЕРОССКОМДРАМА»
Число заявок на золотоносные драматические участки увеличивается с каждым днем. Это можно легко увидеть, прочитав газетные театральные отделы.
«Пахом Глыба закончил для одного из московских театров новую пьесу, трактующую борьбу с бюрократизмом в разрезе борьбы с волокитой».
«Вера Пиджакова работает над пьесой «Легкая кавалерия». Пьеса вскоре будет закончена и передана в портфель одного из московских театров».
«М. И. Чтоли переделал для сцены исторический роман «Овес». Пьеса в ближайшем будущем пойдет в одном из московских театров».
Пойдет ли?
Ой ли?
Сколько лет мы читаем о новых пьесах Пахома Глыбы, Веры Пиджаковой и М. Чтоли. Мы узнаем, что пьесы эти закончены, отделаны, переработаны и приняты. Но где этот «один из московских театров», где «Легкая кавалерия», где историческое действо «Овес», с каких подмостков раздаются страстью диалоги, вырвавшиеся из-под пера т. Глыбы?
Нет таких подмостков, нет «одного из московских театров», ничего этого нет.
Есть великий лагерь драматургов, которые разбили свои палатки у подъездов больших и малых московских театров. И в этом лагере еще больше неудачников, чем в любом лагере золотоискателей на берегах Юкона в Аляске.
Под драматургом мы подразумеваем всякого человека, написавшего сочинение, уснащенное ремарками: «входит», «уходит», «смеется», «застреливается».
Первичным видом драматурга является гражданин, никогда не писавший пьес, чувствующий отвращение к театру и литературе. На путь драматурга его толкают тяжелые удары судьбы.
После длительного разговора с женой гражданин убеждается, что жить на жалованье трудновато. А тут еще надо внести большой пай в жилстроительную кооперацию.
– Не красть же, черт возьми!
И гражданин, прослышавший от знакомых, что теперь за пьесы много платят, не теряет ни минуты и в два вечера сочиняет пятиактную пьесу. (Он, собственно говоря, задумал пьесу в четырех действиях, но, выяснив в последний момент, что авторские уплачиваются поактно, приписал пятое.)
Заломив шляпу и весело посвистывая, первичный вид драматурга спускается вниз по Тверской, сворачивает в проезд Художественного театра и в ужасе останавливается.
Там, у входа в театр, живописно раскинулись палатки драматургов. Слышен скрип перьев и хриплые голоса.
– Заявки сделаны! Свободных участков нет!
Те же печальные картины наблюдает новый драматург и у прочих театров. И уже готов первичный вид драматурга завопить, что его затирают, как вдруг, и совершенно неожиданно для автора, выясняется, что пьеса его никуда не годится. Об этом ему сообщает знакомый из балетного молодняка.
– С ума вы сошли! – говорит знакомый. – Ваша пьеса в чтении занимает двое суток. Кроме того, в третьем акте у вас участвуют души умерших. Бросьте все это!
Все драматурги второго, более живучего вида находятся под влиянием легенды о некоем портном, который будто бы сказал:
– Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак все еще был как новый.
Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые.
В пьесы переделываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления.
Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекочевывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго.
Третий, самый законченный вид драматурга – драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков.
Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются льстивые телефонные звонки.
– Да, – говорит признанный драматург, – сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу.
– Да, – говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, – откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо!
Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство.
Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону.
– Да, – неизменно отвечает драматург, – моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини.
Но вот наступает день расплаты.
Рассадив режиссеров по разным комнатам и страшась мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц.
Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом.
В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.
Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Филосопуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ.
Ежедневно не менее десяти раз перебегал Филосопуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем.
– Лечу, лечу, – бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока». – Лечу! Дела! Заседание! Сверхсрочное!
«Побольше бы нам таких! – радостно думал знакомый. – Таких бодрых, смелых и юных душой!»
И действительно, Филосопуло был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был, как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры палили по англо-французским ложементам в Крымскую кампанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города.
Но как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. Авксентий Пантелеевич Филосопуло ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений.
– Что? Началось уже? – спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. – А-а! Очень хорошо!
Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих.
– Привет! Привет! – говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. – Прекрасно! Вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича.
Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами.
– Что? – кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. – Что? Мое мнение? Вполне поддерживаю.
Наевшись до одурения и выпив восемь стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами: «Верно! Хр-р… Поддерживаю! Хх-р. Пр-р-равильно! Кр-р. Иван Семеныча… Хр-р-кх-х-х…»
Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосопуло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил:
– Лечу! Лечу! У меня в пять комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседайте! Привет!
И Авксентий Пантелеевич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой.
Управившись с колбасой и вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебегал в Утильоснову и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодушные утильосновцы обильно уснащали свои длительные заседания.
Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня.
– Представь себе, дружок, в директорате большие перемены.
– Председателя сняли? – лениво спрашивала жена.
– Да нет! – досадовал Филосопуло. – Пирожных больше не дают! Сегодня давали бисквиты «Делегатка». Я съел четырнадцать.
– А в этом вашем, в синдикате, – из вежливости интересовалась жена, – все еще пирожки?
– Пирожки! – радостно трубил Авксентий. – Опоздал сегодня. Половину расхватали, черти. Однако штук шесть я успел.
И, удовлетворенный трудовым своим днем, Филосопуло засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу: «Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить…»
Недавно с Авксентием Пантелеевичем стряслось большое несчастье.
Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосопуло сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплющенная гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосопуло не обратил на это внимания.
– Поддерживаю, – сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик.
Пока говорил докладчик, Филосопуло успел справиться с колбасой.
– И что же мы видим, товарищи! – воскликнул оратор. – По линии колбасы у нас не всегда благополучно. Не все, не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу. Колбасу, товарищи… Где-то тут была колбаса…
Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик.
Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопуло задергался и захрипел.
На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул! доктора!».
Но спасти Филосопуло не удалось.
Авксентий в тот же день умер в страшных мучениях.
Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино.
– Ужас! Ужас! – воскликнул маленький и толстый режиссер. – Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют?
– От нас требуют советскую картину.
– Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, – завизжал толстяк. – Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография.
– Да, – сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. – Порнографии теперь нельзя.
– Вот и скучища выходит, – закричал кинотолстяк. – Какая же это картина без порнографии?
Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы.
– Тяжело! – сказал режиссер с боярской бородой. – Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается?
– И мистики нельзя.
– Какой кошмар!
– Фокстрота нельзя.
– А детектив разве позволяют?
– И детектива нельзя.
– Просто бедлам.
– До чего докатились!
– Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя.
– За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют.
– И тайны минаретов не дозволяются.
– С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят – примитив. Невыразительно.
– Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер.
– Кстати о Петронии. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, – у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло хватают?
Говоривший это седовласый халтурщик в изнеможении опустился на плюшевый диван.
– И разлагающейся Европы тоже нельзя, – добавил молодой человек, как видно, подающий надежды ассистент.
На молодого человека все набросились.
– Открыли Америку. Если б нам разрешили разлагающуюся Европу! О-о-о!
Наговорившись вдоволь, режиссеры разошлись по своим шатрам. Для них все было ясно:
– Конечно. Загубили кинематографию. Амба. Работать невозможно.
Но оказалось, что нет никаких признаков амбы.
В двух последних картинах «Турксиб» и «Обломок империи» нет ни мистики, ни порнографии, ни разлагающейся Европы, ни тайн минаретов, ни блюющих цезарей, ни длиннометражных поцелуев в диафрагму, ни всего того, что компания киноправедников считает элементами, придающими фильму интерес.
И если сказать постановщикам бесконечного числа хламных картин, что именно поэтому и хороши «Турксиб» и «Обломок империи», то они никогда не поверят.
В самом деле: вместо наложницы хана главную роль в «Турксибе» играют рельсы.
Изящного молодого человека с профилем Рамон Наварро в «Обломке империи» заменяет давно небритый унтер-офицер Филимонов.
Здесь есть то, о чем забыли праведники и мученики. Здесь талант, настоящая тема и обыкновенная политическая грамотность.
И на вопли кинорежиссеров, на скорбные вопросы «что же наконец требуется», ответ есть только один:
– Талантливость и уменье не отставать от века.
– Пей, собака!
– Пей до дна, пей до дна! – подхватил хор.
Раздались звуки цевниц и сопелей.
Граф Остен-Бакен уже лежал под столом.
В тот вечерний час, когда в разных концах Москвы запевают граммофоны-микифоны, на улицах появляются граждане, которых не увидишь в другое время.
Вот идет тощий юноша в лаковых штиблетах. Это не баритон, не тенор и даже не исполнитель цыганских романсов. Он не принадлежит к той категории трудящихся (рабис, рабис, это ты!), коим даже в эпоху реконструкции полагается носить лаковую обувь.
Это обыкновенный гражданин, направляющийся на вечеринку. Третьего дня вечеринка была у него, вчера у товарища Блеялкина, а сейчас он идет на ассамблею к сослуживцу Думалкину. Есть еще товарищ Вздох-Тушуйский. У него будут пировать завтра.
У всех – Думалкина, Блеялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова – есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Блеялкина, мадам Вздох и мадам Маркова.
И все пируют.
Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях.
Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой.
Все известно заранее.
Известно, что у Блеялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Кларой в одну Сахару».
Надо заметить, что дамы ненавидят друг друга волчьей ненавистью и не скрывают этого.
Пока мужчины под звуки «Нас двое в бунгало, и больше никого нам не надо» выпивают и тревожат вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злобы лицами сидят в разных углах, как совы днем.
– Почему же никто не танцует? – удивляется пьяница Думалкин. – Где пиршественные клики? Где энтузиазм?
Но так как кликов нет, Думалкин хватает мадам Блеялкину за плечи и начинает танец.
На танцующую пару все смотрят с каменными улыбками.
– Скоро на дачу пора! – говорит Марков, подумав.
Все соглашаются, что действительно пора, хотя точно знают, что до отъезда на дачу еще осталось месяцев пять.
К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы. И, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский.
– Слышали, господа, – говорит он, – через два месяца денег не будет.
– У кого не будет?
– Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменят деньги.
– А как же жить?
– Да уж как хотите, – легкомысленно говорит Вздох. – Ну, пойдем, Римма. До свиданья, господа.
– Куда же вы? – говорит испуганная хозяйка. – Как же насчет денег?
– Не знаю, не знаю! В Госплане спросите. Наобедаетесь тогда на фабрике-кухне. Значит, назавтра я вас жду. Марковы принесут пластиночки – потанцуем, повеселимся.
После ухода Вздохов водворяется неприятная тишина. Все с ужасом думают о тех близких временах, когда отменят деньги и придется обедать на фабрике-кухне.
Так пируют они по четыре раза в неделю, искренне удивляясь:
– Почему с каждым разом ассамблеи становятся все скучнее и скучнее?
Это исследование нами предпринято для того, чтобы осветить тот участок театра, насчет которого не распинаются критики, не говорят пламенных речей на заседаниях Главискусства, который не рекламируется в газетах, не дает дефицита, но тем не менее имеет контрамарочников.
Кто из вас, граждане, не присутствовал задарма на уличных спектаклях? Этот театр содержит в себе все виды сценического искусства.
Улица оглашается пронзительным пением, куплетами, зву флейты и трагическими монологами.
Земля дрожит от топота танцующих людей и медведей. Все есть на улице.
Старушка с герцогом
На Кузнецком, у витрины трикотажной лавки, на фоне розовых сорочек и дамских фетровых колпачков, стоит старая девушка в шляпке с вуалеткой. Старая помахивает большим рыжим ридикюлем и жалобно поет:
Бегите во Фландрию, герцог де Линь,
Бегите во Фландрию, герцог!
За вами сомкнётся безбрежная синь
И хлопнут железные дверцы.
Мимо старушки с герцогом де Линем, которому по неизвестным нам причинам необходимо мчаться во Фландрию, проходят деловые и неделовые люди. Неделовые люди долго стоят возле певицы и, покачивая в такт головою, выслушивают песню до конца и уходят, не заплатив. Деловые быстро суют две копейки и, охая, устремляются за автобусом.
Кое-как старушка перебивается. И если говорить честно, то почему бы ей, старой девушке, не процветать?
В Большом театре тоже ведь не ахти какие слова поют («Бог всесильный, бог любви, ты внемли моей мольбе» или «Милая Аида, луч светлый солнца»). И ничего. Процветают.
Московские Эсмерадьды
Сказавший «а», должен сказать «б».
Там, где опера, там без балета невозможно.
Академический балет представлен на улице двумя цыганочками лет по семи.
Цыганочки работают в двухстах шагах от певицы. Они богато украшены малахитовыми серьгами и изумрудными соплями. Выпучив животики и тряся многочисленными юбками, цыганочки откалывают мессереровские антраша с уклоном в «танцы народностей».
Танцы их еще короче, чем на понедельничных сборных халтур-абендах9.
Неделовых людей, которые и тут хотят ускользнуть от уплаты денег, балетчицы грубо оскорбляют словами и даже действиями.
Настоящий персимфанс
Какой же порядочный театр, насчитывающий не менее пяти ярусов и ста колонн, мешающих зрителю смотреть на сцену, может обойтись без хорошей классической музыки?
Хромой скрипач-флейтист в черных очках – уличный персимфанс (передвижной симфонический оркестр без дирижера) – выгодно отличается от понедельничного персимфанса тем, что он действительно:
1. Передвижной (настоящий персимфанс предпочитает отсиживаться в Большом зале консерватории).
2. Симфонический (работает без участия именитых гастролеров).
3. Без дирижера (в настоящем персимфансе, говорят, профессор Цейтлин нет-нет, а взмахнет смычком и строго глянет на музыкантов, посильно заменяя дирижера).
На улице дело чистое. Дирижера действительно нет, если не считать постового милиционера, дирижирующего уличным движением. Да и то взмах его палочки подает музы кантам сигнал убираться подобру-поздорову, пока их не свели в отделение.
В лапу с эпохой
В области цирка и эстрады уличные артисты совершенно заткнули рабисовских10 коллег.
Никогда в мюзик-холле не увидеть фокусника, работающего с такой отчетливостью и блеском, как дающий свои волшебные представления на бульваре.
Всемирно известный загадочный индивидуум и загадка лабораторий (500 аншлагов в Нью-Йорке и Минске) мосье Касфикис11 приезжает с 15 вагонами аппаратуры. Во время работы ему помогает дюжина индусов со скрещенными руками и десяток отечественных верзил, снующих за сценой.
И нет-нет, а номер не удается.
То испортится астральный фонтан, то заест блок, и воздушная посылка остается висеть в воздухе, то с галерки раздается крик оскорбленного ребенка:
– Мама, у него птица позади привязана на веревочке!
Но китайца с Тверского бульвара не поймаешь. 300 отчаянных любителей фокусов заглядывают в самую его душу и все же не могут открыть секрета.
Беспризорный аккомпанирует своим куплетам на ложках, унесенных из нарпитовской столовой. И текст и исполнение гораздо свежее, чем у всяческих музыкальных споунов.
Даже в танцах дрессированных медведей отразилась современность. В то время, как на цирковой арене медведи отплясывают фокстрот, их уличные собратья идут в ногу с эпохой.
– А покажи, Миша, – говорит вожак, дергая цепь, – покажи, Миша, как у нас поднимают производительность труда.
– А ну, покажи, Миша, как супруги из загса идут.
И Миша показывает все, что требует эпоха.
Великие артисты
Это нищие. Играют они великолепно. Играют по методу Станиславского. Переживают. Натурально кашляют. Идеально хромают. В ролях слепых играют так, что никакому королю Лиру не угнаться. Тут вы увидите Фирса.
– Уехали, – говорит Фирс, – кхе-кхе. А меня забыли, кхе-кхе. Подайте бедному старичку. Три дня старичок не ел. Совсем старичок отощал.
Юродивые из «Царя Федора Иоанновича» стоят в уголку с кроткими лицами, робко протягивая ручку.
И дядя Ваня, тряся своей великолепной бородой, конфиденциально шепчет:
– Подайте бывшему землевладельцу и крупному собственнику.
Хорошо играют. И, казалось бы, рольки крохотные, а как сделаны! Великие артисты!
– Кто написал эту порочащую меня заметку? – спросил Арест Павлович.
Он заговорил с теми дерзкими интонациями в голосе, какие присущи у нас только некоторым начальникам и людям свободных профессий (извозчикам, зубоврачам и театральным барышникам).
– Я не могу допустить подрыва моего авторитета. Это возмутительно!
И он махнул рукою в сторону стенгазеты «Под копирку».
Там, под рисунком, изображавшим голого волосатого человека в автомобиле, были помещены стихи:
МОЧАЛКОЙ ПО ЧЕРЕПУ
В двенадцать часов по утрам
Со стула встает наш директор,
И в баню стремится он сам
В казенной машине при этом,
Он любит казенный бензин
И труд сверхурочный шофера,
И жаждет он легкого пару,
Но мы поддадим ему жару.
Стихи были подписаны странным псевдонимом – Антихрист.
– Кто это Антихрист? – добивался Арест Павлович, заглядывая в глаза редактора стенгазеты – человека с толстым плаксивым лицом и жалобной улыбкой.
– Я считаю ваш вопрос не этичным, – ответил редактор, страдальчески кривя апельсиновое лицо. – Вы не имеете права добиваться раскрытия псевдонима. Все наши стенкоры: Антихрист, и Венера, и Винтик, и Форсунка – все они для вас не более как Венера, Форсунка, Винтик и Антихрист. А фамилии тут ни при чем.
Арест Павлович испугался.
– Вы, товарищ Укусихин, не подумайте, что я с целью зажима самокритики. У меня и в мыслях не было. Но заметка товарища Антихриста насквозь лжива. Ведь не возражаю же я против заметки товарища Венеры, который совершенно правильно пишет о плохой постановке работы кружка балалаечников. А вот товарищ Антихрист мне подозрителен. И псевдоним у него какой-то церковный. Смотрите, не есть ли это равнение на узкие места? Не развязывают ли подобные выступления мелкобуржуазную стихию?
– Стихию? – спросил Укусихин. – Нет. Стихию не развязывают.
– Но ведь заметка полна клеветы! – завизжал Арест Павлович.
– А вы напишите опровержение. Если будет деловое опровержение – мы напечатаем.
– И конечно, напишу.
Придя домой, Арест авлович долго думал над тем, как бы похитрее составить опровержение. Отпираться было очень трудно. Наконец Ареста Павловича осенило.
На другой день он передал в стенгазету опровержение:
«МОЙ ОТВЕТ АНТИХРИСТУ
Трудно отвечать на заметки, подписанные псевдонимом. Уже это одно (псевдоним) показывает, что человек не решается честно взглянуть вам в глаза и укрывается под псевдонимом.
Но я не боюсь смотреть в глаза правде-матке. И вот я отвечаю на выпад скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста.
Да будет известно гр. Антихристу и его присным, что я не только не ездил в баню на казенном автомобиле, но и вообще не был в бане с 1923 года. Я ожидал получения квартиры в жил-кооперации, где будет ванна и где я, если захочу, буду мыться без всякого разрешения со стороны скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста».
Это опровержение было помещено в очередном номере стенгазеты «Под копирку». И в этом же номере Арест Павлович с ужасом прочел новое стихотворение Антихриста:
ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ АРЕСТЕ
Как ныне сбирается вещий Арест
Отмстить неразумным стенкорам,
Он в бане не моется вот уж шесть лет,
Покрылся он грязью с позором.
В заключение говорилось о том, что поход «вещего Ареста» на стенкоров никак нельзя назвать культурным походом. (Шесть лет не мылся в бане.)
И тут только Арест Павлович понял, в какую бездну увлекла его страсть к опровержениям.
Кто бы ему теперь поверил, что не далее как в прошлую пятницу он ездил в баню на казенном автомобиле.
Американский инженер Чарльз-Анна-Хирам Фост подписал договор на год работы в СССР.
Родственники и знакомые господина Фоста считали, что Чарльз-Анна-Хирам сделал хороший бизнес.
– Хотя смотрите, дружище Фост, – сказал ему знакомый фабрикант резиновых грущ, – за свои денежки большевики заставят вас поработать.
Чарльз-Анна-Хирам объяснил, что работы не боится и давно уже искал широкого поприща для применения своих обширных познаний. Потом уложил чемоданы, сел на пароход и отплыл в Европу.
– Вы едете работать в Москву? – спросили его на пароходе на третий день плавания.
– Еду, – сказал Хирам.
– Там много работать придется. Пищать будете.
– Для этого и еду. Раз подписал договор – буду пищать.
Когда инженер Фост в поезде пересекал Европу, к нему подошел любопытствующий пассажир и, узнав о цели поездки Хирама, воскликнул:
– Все соки из вас выжмут в Москве!
Эти мрачные предсказания навеяли грусть на впечатлительную душу Хирама. Ему показалось даже, что он сделал не столь уж блестящий бизнес.
Управделами треста, кренясь набок, взошел в кабинет директора и доложил:
– Приехал иностранный специалист.
– Это тот, на которого мы договор заключали? Прекрасно! Он нам нужен до зарезу. Вы куда его девали?
– Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.
Директор забеспокоился.
– Какой там может быть отдых! Столько денег за него плачено! Он нам нужен сию минуту. Жалко вот, что мне сейчас нужно ехать… Тогда отложим на завтра. Вызовите его ко мне ровно в десять часов утра.
Ровно в десять Чарльз-Анна-Хирам Фост, распаляемый мыслью о широчайшем поприще, на котором он сейчас же начнет применять свои знания, сидел в директорской приемной.
Директора еще не было.
Не было его также через час и через два.
Хирам начал томиться. Развлекал его только управделами, который время от времени появлялся и вежливо спрашивал:
– Что, разве еще не приходил директор? Странно, странно!
В два часа дня управделами поймал в коридоре инженера Румянцева-Дунаевского и начал с ним шептаться.
– Прямо не знаю, что делать! Иван Павлович назначил американцу на десять часов утра, а сам уехал в Ленинград для увязки сметных неполадок. Раньше недели не вернется. Посидите с ним, Адольф Николаевич, неудобно, все-таки иностранец. Деньги плачены.
Румянцев-Дунаевский выхватил из приемной раздраженного ожиданием Фоста и повел его в Третьяковскую галерею смотреть картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына».
В течение недели господин Фост, руководимый Румянцевым-Дунаевским, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь.
«Дорогая Цецилия, – писал он невесте в Филадельфию, – вот уже около десяти дней я сижу в Москве, но к работе еще не приступал. Боюсь, что эти дни мне вычтут из договорных сумм».
Однако 15-го числа артельщик-плательщик вручил Фосту полумесячное жалование.
– Не кажется ли вам, – сказал Фост своему новому другу Румянцеву-Дунаевскому, – что мне заплатили деньги зря?
– Почему зря? – удивился Румянцев. – Вы же ездите к нам каждый день!
– Но ведь вы не поручили мне никакой работы! Я не работаю.
– Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! – вскричал Дунаевский. – Впрочем, если вы хотите, мы можем поставить вам специальный стол в моем кабинете!
После этого Хирам сидел за специальным собственным столом и писал письма невесте.
«Дорогая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я абсолютно ничего не делаю, но деньги мне платят аккуратно. Все это меня удивляет».
Приехавший из Ленинграда директор узнал, что у Фоста уже есть стол, и успокоился.
– Ну вот и прекрасно! – сказал он. – Пусть Румянцев-Дунаевский введет американца в курс дела.
Через два месяца к директору явился Фост. Он был очень взволнован,
– Я не могу получать деньги даром, – выпалил он. – Дайте мне работу! Я считаю такое положение нетерпимым! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону.
Конец речи Хирама не понравился директору.
Он вызвал к себе Румянцева-Дудаевского.
– Что с американцем? – спросил он. – Чего он бесится?
– Знаете что, – сказал Румянцев, – по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется. Вот, действительно, склочная натура. Вот что, Иван Павлович, к нему надо применить репрессии.
Через две недели инженер Фост, видный американский специалист, писал своей невесте уже не из Москвы, а из какого-то Средне-Удинска.
«Дорогая крошка! Наконец-то я на заводе. Работы много и работа очень интересная. Сейчас я разрабатываю проект полной механизации всех работ. Но вот что меня поражает, дорогая Цецилия, это то, что сюда меня послали в наказание! Можешь ли ты себе это представить?..»
Знаете ли вы, что такое общественный просмотр?
Если вы журналист, деятель театра или просто культработник, то вы, конечно, не знаете, что такое общественный просмотр.
Трудно журналисту, деятелю кино или просто культработнику попасть в число лиц, которым выпадает счастье явиться первыми зрителями нового фильма или новой пьесы.
Как видно, основная беда состоит в том, что попасть на общественный просмотр можно только даром, по пригласительным билетам.
Есть в каждом городе люди, которые целью своей поставили бесплатное пользование благами жизни.
С такими людьми разговор носит всегда один и тот же характер:
– Еду во Владивосток, – говорит принципиальный неплательщик. – Попутешествовать, встряхнуться.
– А ведь такое встряхивание обойдется вам недешево. Подумайте, один железнодорожный билет…
– У меня бесплатный проезд!
– Разве вы железнодорожник?
– Нет, я не железнодорожник.
Выясняется, что принципиальный неплательщик непричастен также и к водному транспорту и никаких прав на бесплатный проезд не имеет, вообще он ни на что не имеет прав, но все получает бесплатно.
Как видно, у нас уж такая страна. Достаточно только очень захотеть, чтобы получить.
А принципиальные неплательщики упрямы чрезвычайно. И своего добиваются.
Таким образом в зале, где происходит общественный просмотр, представителей общественности почти нет. Их с успехом заменяют молодые шалуны и шалуньи совершенно неизвестных профессий.
Шалуны и шалуньи по части знакомы (в поездах и санаториях знакомства совершаются чрезвычайно легко). Они приветствуют друг друга веселыми криками и занимают места по неизвестно полученным контрамаркам, а то и вовсе без таковых.
Редких представителей общественности оттесняют на галерку. Кроме принципиальных неплательшиков и одиночек-общественников в зале теснятся первачи. Слой первачей образуется так.
Часть билетов (очень незначительная) рассылается по учреждениям. Там их забирает тот, кто увидит первым. Забирает все сразу. Отсюда и слово первач.
Первачи великодушны и охотно распределяют билеты среди знакомых девушек, отдавая предпочтение красивым блондинкам, склонным к полноте. Некрасивым девушкам первачи билетов никогда не дают.
Поэтому в день общественного просмотра в зале есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться, есть на чем отдохнуть глазу.
Иногда же просмотры, как видно, для удобства немногочисленных представителей общественности, устраиваются в полночь, когда просыпаются совы, или на рассвете, когда просыпается петух.
Одиночки-общественники, замороченные работой, на такие просмотры попасть, конечно, не могут. А первачам и неплательщикам все равно, в каком часу дня или ночи. Лишь бы бесплатно.
А бывают и такие просмотры.
Перед серебристым экраном сидит чиновник из Совкино с невыразительными чертами лица и смотрит новый заграничный фильм.
– А ведь ничего фильмик? – шепчет он самому себе. – Надо купить.
И вскоре по воле чиновника с невыразительными чертами лица на экранах появляются фильмы:
1. «Лулу».
2. «Мулен-Руж».
3. «Опыт инженера Стронга».
4. И др., и др., и др-р-р, гав-гав!
Такого чиновника действительно хочется укусить за икры.
Несомненно, что человек с таким вкусом, как наш чиновник, хорошие картины бракует, ибо нам доподлинно известно, что есть на Западе не только плохие фильмы.
Итак, на английский манер позволим себе задать вопрос достопочтенным гражданам из Совкино:
– Известно ли вам, что за последние годы вами куплено отвратительное, бездарное, вредное из всего того, что выпущено в области кино за границей?
Ответ согласны услышать в любом месте и в любой день, письменно и устно.
Время от времени, но не реже, однако, чем раз в месяц, раздается истошный вопль театральной общественности:
– Нужно оздоровить советскую эстраду!
– Пора уже покончить!
– Вон!
Всем известно, кого это «вон» и с кем «пора уже покончить».
– Пора, пора! – восклицают директора и режиссеры театров малых форм.
– Ох, давно пора, – вздыхают актеры этих же театров.
– Скорее, скорее вон! – стонет Главискусство.
Решают немедленно, срочно, в ударном порядке приступить к оздоровлению советской эстрады и покончить с полупетуховщиной.
Всем ясно, что такое полупетуховщина.
Исчадие советской эстрады, халтурщик Полупетухов, наводнил рынок пошлыми романсами («Пылали домны в день ненастья, а ты уехала в ландо»), скетчами («Совслужащий под диваном»), сельскими частушками («Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию»), обозрениями («Скажите – А!»), опереттами («В волнах самокритики») и др. и пр.
Конечно, написал все это не один Сандро Полупетухов, писали еще Борис Аммиаков, Луврие, Леонид Кегельбан, Леонид Трепетовский и Артур Иванов.
Однако все это была школа Сандро и все деяния поименованных лиц назывались полупетуховщиной.
Действительно, отвратительна и пошла была полупетуховщина. Ужасны были романсы, обозрения, частушки, оперетты и скетчи.
И желание театральной общественности оздоровить эстраду можно только приветствовать.
Оздоровление эстрады обычно начинается с созыва обширного, сверхобщего собрания заинтересованных лиц.
Приглашаются восемьсот шестьдесят два писателя, девяносто поэтов, пятьсот один критик, около полутора тысяч композиторов, администраторов и молодых дарований.
– Не много ли? – озабоченно спрашивает ответственное лицо.
– Ну, где же много? Всего около трех тысяч пригласили. Значит, человек шесть приедет. Да больше нам и не нужно. Создадим мощную драмгруппу, разобьем ее на подгруппы, и пусть работают.
И действительно, в назначенный день и час в здании цирка, где пахнет дрессированными осликами и учеными лошадьми, наверху, в канцелярии, открывается великое заседание.
Первым приходит юный Артур Иванов в пальто с обезьяньим воротником. За ним врываются два Леонида, из коих один Трепетовский, а другой Кегельбан. После Луврие, Бориса Аммиакова является сам Сандро Полупетухов.
Вид у него самый решительный, и можно не сомневаться, что он вполне изготовился к беспощадной борьбе с полупетуховщиной.
– Итак, товарищи, – говорит ответлицо, – к сожалению, далеко не все приглашенные явились, но я думаю, что можно открывать заседание. Вы разрешите?
– Валяй, валяй, – говорит Аммиаков. – Время не терпит. Пора уже наконец оздоровить.
– Так вот я и говорю, – стонет председатель. – До сих пор наша работа протекала не в том плане, в каком следовало бы. Мы отстали, мы погрязли…
В общем, из слов председателя можно понять, что на театре уже произошла дифференциация, а эстрада безбожно отстает. До сих пор Луврие писал обозрения вместе с Артуром Ивановым, Леонид Трепетовский работал с Борисом Аммиаковым, а Сандро Полупетухов – с помощью Леонида Кегельбана.
– Нужно перестроиться! – кричит председатель. – Если Луврие будет писать с Трепетовским, Сандро возьмет себе в помощники Иванова, а Кегельбан Аммиакова, то эстрада несомненно оздоровится.
Все соглашаются с председателем. И через неделю в портфель эстрады поступают оздоровленные произведения.
Романс («Ты из ландо смотрела влево, где высилось строительство гидро»), скетч («Радио в чужой постели»), колхозные частушки («Мой миленок идеот, убоялся факта, он в колхозы не идет, не садится в трактор»), обозрение («Не морочьте голову»), оперетта («Фокс на полюсе») и др. и пр.
И на месяц все успокаиваются.
Считается, что эстрада оздоровлена.
В вестибюле некоего московского учреждения висят две таблички. Одна висит на левой двери, другая на правой двери. Других дверей в вестибюле нет.
И тем не менее на табличке, украшающей левую дверь, написано:
ЛЕВАЯ СТОРОНА
Что же касается таблички на правой двери, то и там в свою очередь строго указано:
ПРАВАЯ СТОРОНА
Черт знает что такое! Непостижимая вещь!
Кому эти надписи нужны? Младенцам? Но младенцы в это учреждение не ходят. Может быть, эти надписи должны помочь неграмотным разобраться, где правая – где левая сторона? Но неграмотные не смогут оценить этой заботы. Они не умеют читать. А если бы даже и умели, то свободно ориентировались бы и без этих надписей.
Удивление растет еще и потому, что вышеназванное учреждение является издательством и посещается исключительно титанами и гениями, то есть писателями и критиками.
Если бы эта статья предназначалась для серьезной профсоюзной газеты под названием «Голос Председателя», то нам не осталось бы ничего, как воскликнуть:
– О чем сигнализирует этот жизненный факт?
И хотя эта статья так и не появится в «Голосе Председателя», но факт все же кое о чем сигнализирует. Сигнализирует он о том, что учрежденский администратор в безумном стремлении выделиться из пестрой толпы завхозов дошел до так называемой ручки.
Можно биться об заклад, что он уже объявил себя сверхударзавхозом и в настоящую минуту, трусливо мигая белыми ресницами, сочиняет новую серию табличек, коими собирается оборудовать учрежденскую лестницу.
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА
ВТОРАЯ СТУПЕНЬКА
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА
И так далее, по числу ступенек, всего сто сорок девять табличек.
Деятельность сверхударного завхоза глупа, но особенного вреда не приносит. На каждую хорошую мысль неизбежно находится свой дурак, аккуратно доводящий ее до абсурда.
Не страшен, конечно, какой-нибудь вокальный квартет, объявляющий всем и вся, что отныне он становится ударным квартетом имени «Непрерывки и Пятидневки».
Пусть называется. От пошляков не отобьешься.
Но болезненно пугает суперударничество, охватившее некоторых драматургов.
То и дело в газетах появляются телеграммы-молнии о громовых успехах драмударников:
«Драматург-ударник Константин Ваалов в порядке соцсоревнования написал за последний месяц пять актуальных пьес для клубного театра и вызывает на написание такого же количества пьес драматурга Е. Едокова».
«Ударная бригада писателей при доме «Общества по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова» в течение последних трех дней выпустила одиннадцать пьес для деревенской сцены. Пьесы трактуют разные актуальные вопросы и называются:
«Фанька-забойщица» (Деревенский водевиль с танцами).
«С миру по нитке» (Крестьянский лубок).
«Шея» (Народная трагедия в семи актах).
«Голому – рубашку!» (Хороводное действо).
«Овин» (Драма).
«Колесо» (Драма в четырех частях).
«Пахота» (Драма с прологом и апофеозом).
«Железный конь» (Деревенская опера).
«Кулак Евтюхин» (Сцены из жизни).
«Поп Федор нашел помидор» (Вечер затейников)».
И каждый день приносит все новые грозные вести. Уже Е. Едоков откликнулся на зов Константина Ваалова и в восемнадцать ударчасов написал и успел перепечатать на машинке четыре пьесы, трактующие отход инженерства от нейтральности, а также вопросы использования отходов пряжи на текстильном производстве и вопросы колхозного движения в СССР.
Чтобы окончательно прижать к земле Ваалова, драматург Едоков заявил, что эта работа нисколько его не утомила, и в этот же день сочинил трехактную оперетту, к коей написал и музыку, хотя до сих пор никогда музыкой не баловался.
Уже и ударная бригада при «Обществе по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова» превзошла свои темпы и увеличила производительность труда на семьдесят три процента.
Уже и в газете появилось радостное сообщение:
«ПЬЕСА В ПЯТЬ МИНУТ —
КОМЕДИЯ “НЕПОЛАДКИ В ПРОБИРНОЙ ПАЛАТКЕ”».
Речь шла о последних достижениях драматурга Василия Готентодта.
Одним словом, халтурщики бьют в тимпаны.
Тимпан им попался на этот раз очень удобный – идея ударничества. Под прикрытием этого тимпана изготовляются сотни бешеных халтур.
Но если плакаты завхоза вызывают смех, то ударничество «готентодтов» страшит. Ведь пьесы эти ставятся!
Ведь где-то идет народная трагедия в семи актах «Шея». Ведь по радио уже передают вечер затейников под названием «Поп Федор нашел помидор». Идет и «Фанька-забойщица», идет и «Овин», и «Пахота».
Спасите, кому ведать надлежит!
Защищайте социализм!
Гоните пошляков!
Тревожная весть пронеслась по служебным комнатам обширной конторы, ведающей учетом и распределением «дедушкина кваса». Сотрудники «Дедкваса» скоплялись группами по три и четыре человека, что само по себе уже указывало на крайнее неблагополучие в конторе.
– Скатывается! – грустно шептались отдельные сотрудники «Дедкваса».
– Сползает! – испуганно бормотали в группах.
– Скатывается на рельсы делячества! – говорил старый дедквасовец Выводов.
– Сползает в болото оппортунизма! – хныкал сотрудник Распопов.
– Он нас всех погубит, – откровенно сказала женщина-архивариус. – Я знаю по опыту. Года четыре тому назад был уже у нас прецедент. Начальником конторы служил тогда один партийный товарищ. За ним все держались, как за каменной стеной, а он возьми и разложись.
– И что же? – наивно спросил Выводов.
– А вы как думаете? – с горечью сказала женщина-архивариус. – Его куда-то бросили. Я уцелела только потому, что была в то время беременна и меня нельзя было уволить по кодексу.
Из этого рассказа дедквасовцы быстро уяснили себе участь всех прочих сотрудников, кои не находились в то время в интересном положении.
– И затем была чистка с песочком? – спросил Распопов, дрожа всем телом.
– С наждаком! – грубо ответила женщина-архивариус, уходя к себе в подвал.
Все увидели ее сильно расширенную талию.
– Ей хорошо! – молвил Выводов. – Ее и сейчас нельзя будет уволить. Кодекс не допустит. Но что будет с нами? Скатывается наш любимый начальник, сползает, собака. И это нас погубит. Он полетит – и мы полетим.
– А у меня жена, у меня кредит на мебель, – сказал Распопов, – долги у меня.
И все смолкли в немом отчаянии.
Положение дедквасовцев было весьма щекотливым. Время было бурное – любой мог пострадать. Взволновавшую дедквасовцев весть разнес курьер.
– Заглядываю я вчера в кабинет, а он, товарищ Избаченков, сидит в креслице, и глаза у него бегают. Ну, думаю, так и есть. Впал и, конечно, в разложение. Я их много видел. Которые в креслице сидят и в глаза не смотрят, те конечно, в разложение впадают.
Отборные дедквасовцы, цепко державшиеся за товарища Избаченкова, понимали, что если выставят начальника, то и любимым подчиненным дышать недолго.
– Его нужно упредить, – сказал, наконец Распопов. – Повлиять на него. Что за безобразие – заниматься делячеством! Ему что? Перебросят. А нам куда идти? Где мы такую кормушку найдем?
– Как на него повлиять? – вопрошал Выводов. – Ведь я политически слабограмотный. Надо спасти его от идеологических шатаний.
– Он должен признать свои ошибки, – сказал Распопов, тяжело дыша.
– Свои принципиальные ошибки, – поправил его Выводов.
И оба они осторожно пробрались в кабинет любимого шефа.
Избаченков сидел перед американским шкафом, за стеклами которого церковным золотом мерцали корешки энциклопедического словаря, и работал. У самого его лица блистали полированные черные уши телефонных трубок.
– Здравствуйте, товарищ Избаченков, – решительно сказал Выводов. – Как вы себя чувствуете?
– Да так себе. Неважно, – ответил шеф. – Присядьте пока.
– Ах, товарищ Избаченков, – продолжал Выводов, – я только что видел одного делягу. У него был такой идеологически опустошенный вид, что просто жалко было на него смотреть. Несчастные люди.
Избаченков поднял голову.
– Вот как, – сказал он. – Интересно!
– Да, – хорохорился Выводов, – история безжалостно ломает всех несогласных с нею.
– Вы сами подумайте, – подхватил Распопов, – остаться за бортом жизни! Все живут, работают, а ты сидишь где-то в углу со вскрытыми корнями, и всем противно на тебя смотреть.
– Да, да, – горячился Выводов, – кошмар! Главное, ты сбит с идеологических позиций. Моральное состояние ужасное. Чувствуешь себя каким-то изгоем. И надо вам сказать всю правду. Вы меня извините, товарищ Избаченков, но нет пророка в своем отечестве, ей-богу, нет пророка.
– Зачем же быть пророком? – взмолился Распопов. – Товарищ Избаченков, не будьте пророком! Мы – старые служащие, мы знаем, чем кончаются все эти штуки.
– Позвольте, в чем дело? – изумился Избаченков. – Что это вы там бормочете? Кто морально опустошен? Какие такие пророки?
Выводов толкнул локтем Распопова и, сильно побледнев, пропел:
– Товарищ Избаченков, мы вас очень просим… Мы люди семейные. У Распопова кредит на мебель. На улице мороз. Не губите! Не разлагайтесь под влиянием мещанского окружения…
– Ничего не понимаю, – сказал Избаченков.
– Ради детей… Берегите свою партийную репутацию.
– Почему же партийную? – спросил Избаченков, улыбаясь. – Вы, вероятно, хотели сказать – беспартийную?
– Не шутите с огнем! – закричал Выводов. – Вас уже вычистили? Тогда вам нужно немедленно покаяться.
– Да меня не вычистили. Я – старый беспартийный. Неужели вы не видели, что меня никогда нет на ячейке?
– Мы думали, что вы приписаны к другому предприятию, – закричал Распопов, почуяв совершенно новую ситуацию. – Это меняет дело!
А старый Выводов, трясясь от счастливого смеха, подошел к беспартийному начальнику и прошептал:
– В таком случае я вам расскажу такой анекдот про одного еврея – сдохнете!
Гроза, нависшая над «Дедквасом», миновала.
Уже давно граждан Советского Союза волновал вопрос: «А нужна ли нам сатира?»
Мучимые этой мыслью, граждане спали весьма беспокойно и во сне бормотали: «Чур меня! Блюм меня!»
На помощь гражданам, как и всегда, пришло Исполбюро 1 МГУ.
Что бы ни взволновало граждан: проблема ли единственного ребенка в семье, взаимоотношения ли полов, нервная ли система, советская ли сатира – Исполбюро 1 МГУ уже тут как тут и утоляет жаждущих соответствующим диспутом.
«А не перегнули ли мы палку? – думали устроители. – Двадцать пять диспутантов! Не много ли?»
Оказалось все-таки, что палку не перегнули. Пришла только половина поименованных сатириков. И палка была спасена.
Потом боялись, что палку перегнет публика. Опасались, что разбушевавшиеся толпы зрителей, опрокидывая моссельпромовские палатки и небольшие каменные дома, ворвутся в Политехнический музей и слишком уже переполнят зал.
Но и толпа не покусилась на палку. Публика вела себя тихо, чинно и хотела только одного: как можно скорее выяснить наболевший вопрос – нужна ли нам советская сатира?
Любопытство публики было немедленно удовлетворено первым же оратором:
– Да, – сказал режиссер Краснянский, – она нам нужна.
Чувство облегчения овладело залом.
– Вот видите, – раздавались голоса, – я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.
Но спокойная, ясная уверенность скоро сменилась тревогой.
– Она не нужна, – сказал Блюм, – сатира.
Удивлению публики не было границ. На стол президиума посыпались записочки: «Не перегнул ли оратор тов. Блюм палку?»
В. Блюм растерянно улыбался. Он смущенно сознавал, что сделал с палкой что-то не то.
И действительно. Следующий же диспутант писатель Евг. Петров назвал В. Блюма мортусом из похоронного бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в действиях Блюма факт перегнутия палки.
Засим диспут разлился широкой плавной рекой.
После краткой, кипучей речи В. Маяковского к эстраде, шатаясь, подошла девушка с большими лучистыми глазами и швырнула на стол голубенькую записку:
«Почему Вл. Маяковский так груб и дерзок, точно животное, с выступавшим т. Блюмом. Это непоэтично и весьма неприятно для уха».
Записка подействовала на Маяковского самым удручающим образом. Он немедленно уехал с диспута в Ленинград. Кстати, ему давно уже нужно было туда съездить по какому-то делу.
Писатель Е. Зозуля выступил весьма хитро. Все диспутанты придерживались такого порядка: одни говорили, что сатира нужна, и награждались аплодисментами; другие утверждали, что сатира не нужна, и тоже получали свою порцию рукоплесканий.
Своенравный Зозуля с прямотой старого солдата заявил, что плохая сатира не нужна (аплодисменты), а потом с тою же прямотой отметил, что хорошая сатира нужна (аплодисменты).
Потом снова выступал В. Блюм. И снова он утверждал, что сатира нам не нужна и что она вредна. По его словам, не то Гоголь, не то Щедрин перегнули палку.
Услышав о знакомом предмете, зал оживился, и с балкона на стол свалилась оригинальная записка: «Не перегнул ли оратор палку?»
Председатель Мих. Кольцов застонал и, чтобы рассеять тяжелые тучи, снова сгущавшиеся над залом, предоставил слово писателю и драматургу В. Ардову.
– А вот и я, – сказал писатель и драматург. – Я за сатиру.
И тут же обосновал свое мнение несколькими веселыми анекдотами.
За поздним временем перегнуть палку ему не удалось, хотя он и пытался это сделать.
– Лежачего не бьют! – сказал Мих. Кольцов, закрывая диспут.
Под лежачим он подразумевал сидящего тут же В. Блюма.
Но, несмотря на свое пацифистское заявление, немедленно начал добивать лежачего, что ему и удалось.
– Вот видите! – говорили зрители друг другу. – Ведь я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.
Не обязательно влюбляться весною. Влюбляться можно в любое время года.
В светлый январский день, когда галки, поскользнувшись на обледенелых карнизах, неуклюже слетают на мостовую, – в такой день начальница легкой кавалерии Варя Пчелкина со спешившимися кавалеристами произвела налет на финансово-счетный отдел.
– А! Кавалеристы! – с подогретой радостью воскликнул заведующий финансами. – Налетайте! Милости просим!
Звеня невидимыми миру шпорами, легкая кавалерия рассыпалась по отделу.
Варе Пчелкиной достался стол рядового служащего товарища Лжедмитриева. Сам рядовой служащий, лицо которого стало бледным, как сметана, трусливо переглянулся с сослуживцами и принялся давать объяснения. Послышались слова: «Контокоррентный счет», «сальдо в нашу пользу», «подбить итоги» и «мемориальный ордер».
– Так, значит, в нашу пользу? – с предельной суровостью спросила Пчелкина.
– Да. Сальдо в пашу пользу, – вежливо ответил Лжедмитриев.
И хотя все оказалось в порядке, начальница легкой кавалерии отошла от стола товарища Лжедмитриева с каким-то смутным чувством.
Часа полтора Пчелкина перетряхивала бумаги другого рядового служащего, а потом, повинуясь движению сердца, вернулась к столу Лжедмитриева. Лжедмитриев опешил.
– Давайте еще подзаймемся, – сказала Варя дрогнувшим голосом. – Так вы говорите, что сальдо в нашу пользу?
– В нашу!
Тем не менее товарищ Пчелкина вторично произвела полную проверку работы товарища Лжедмитриева.
«Придирается, – взволнованно думал служащий, – закопать хочет!»
Всю ночь начальница легкой кавалерии нежно думала о работниках финансово-счетного отдела, – в частности, о товарище Лжедмитриеве.
Утром по чистой случайности она проходила мимо комнаты счетработников. В открытую дверь она увидела Лжедмитриева. Он держал в руке огромный бутерброд и чему-то добродушно смеялся.
«Все кончено, – подумала Варя Пчелкина. – Люблю!»
Она быстро побежала в штаб, захватила для приличия двух кавалеристов и совершила на Лжедмитриева третий налет.
Бутерброд выпал изо рта рядового служащего.
Проверка шла целый час. Начальница задавала путаные вопросы и подолгу глядела в перекошенное от страха, но сохранившее еще следы вчерашней красоты лицо Лжедмитриева.
«Он волнуется, – думала Варя, – только любовь может вызвать такую бледность».
– А скажите, товарищ, – спрашивала она робко, – не числится ли за сотрудниками авансовой задолженности?
– Не числится, – угрюмо отвечал Лжедмитриев. – То есть числится, конечно. Там, в книге, написано.
После пятого налета Варя Пчелкина бродила по штабу и выпытывала у сокавалеристов их мнение о Лжедмитриеве.
– Парень он ничего, – говорили кавалеристы, – довольно крепкий. Но, в общем, слабый парень. Общественной работы не ведет.
– Да, да, – бормотала Варя, – не ведет, ох, не ведет.
В это время вокруг Лжедмитриева стояли сослуживцы и обсуждали создавшееся положение.
– Плохи твои, дела, Ваня, – говорил старый кассир Петров-Сбытов, – статочное ли дело – пять налетов на одного человека. Я бы на твоем месте с ума сошел. Может быть, у тебя неполадки?
– Что вы, Павел Иванович, у меня в книгах ажур.
– Ажура теперь недостаточно, – наставительно сказал Петров-Сбытов, – теперь общественную работу вести надо. А какая твоя общественная работа? Будильник выиграл на пионерской лотерее – и всё. Этого, брат, недостаточно. Исправься, пока не поздно. Статью напиши в стенгазету. В кружок запишись какой-нибудь.
После восьмого налета Лжедмитриев написал в стенгазету статейку – «О необходимости проведения нового быта». После десятого он записался в кружок Осоавиахима и по вечерам хаживал в противогазовой маске. После двенадцатого занялся физкультурой и выпустил на волю свою канарейку, каковая замерзла на лету, ввиду того что любовь поразила сердце начальницы легкой кавалерии, как мы уже говорили, в январе месяце, и наблюдалось резкое понижение температуры. Он приобрел славу лучшего общественника.
Однако налеты продолжались. Лжедмитриев чувствовал себя прескверно. Варя заходила в отдел каждое утро, вяло перебирала бумаги, но никак не решалась сказать о свой любви.
И вот, не то на девятнадцатом, не то на двадцатом налете, наступило объяснение.
– То, что я хочу вам сообщить, – сказала Пчелкина, – вероятно, вас удивит.
– У меня ажур, – тускло заметил Лжедмитриев и привычным движением вытащил книгу личных счетов.
– Да, да, покажите, – оживилась Варя, – вы знаете, я о вас много думаю. В последнее время для меня все стало ясным.
– Конечно, ясным, – сказал Лжедмитриев, зверея. – Посмотрите книги! Картинка! Ажур!
– Я теперь совсем не сплю по ночам, – пробормотала Варя.
– А я разве сплю? – с горечью вопросил Лжедмитриев. – Со времени первого налета я глаз не сомкнул.
– Да? Правда?
– Честное слово.
– Я так рада! Так рада!
– Не понимаю, чему вы радуетесь! – с удивлением сказал Лжедмитриев. – Человек погибает, а вы радуетесь!
– Уже во время первого налета я почувствовала, что вы меня любите!
– Я? Вас?
– Ну, да, глупенький.
– Я? Вас? Н-нет.
– Не любите?
– Ей-богу, не люблю. Ни капельки.
Несколько минут Пчелкина молчала. Потом поднялась и ушла.
Налеты совершенно прекратились, но Лжедмитриев так втянулся в общественную работу, что по-прежнему остался лучшим общественником.
Вот как преображает человека любовь, даже неразделенная.
– Любите ли вы критиков? – спросили как-то одну девицу в Доме Герцена.
– Да, – ответила девица. – Они такие забавные.
Девица всех считала забавными: и кроликов, и архитекторов, и птичек, и академиков, и плотников.
– Ах, кролики! Они такие забавные!
– Ах, академики! Они такие забавные!
Не соглашаясь в принципе с огульной оценкой дом-герценовской девицы, мы не можем не согласиться с нею в частном случае.
Критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные.
Они бранчливы, как дети.
Трехлетний малютка, сидя на коленях у матери, вдруг лучезарно улыбается и совершенно неожиданно говорит:
– А ведь ты, мама, стерва!
– Кто это тебя научил таким словам? – пугливо спрашивает мать.
– Коля, – отвечает смышленый малютка.
Родители бросаются к Коле.
– Кто научил?
– Пе-етя.
После Пети след теряется в огромной толпе детишек, обученных употреблению слова «стерва» каким-то дореформенным благодетелем.
И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами.
Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать.
«Автор, – пишет критик Ив. Аллегро, – в своем романе «Жена партийца» ни единым словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нужны ли нам такие романы, где нет ни слова о мелиоративных работах в Средней Азии?»
Критик Гав. Цепной, прочитав рецензию Ив. Аллегро, присаживается к столу и, издав крик: «Мала куча – крыши нет», – пишет так:
«Молодой, но уже развязный автор в своем пошловатом романе «Жена партийца» ни единым, видите ли, словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нам не нужны такие романы».
Самый свирепый из критиков т. Столпнер-Столпник в то же время и самый осторожный. Он пишет после всех, года через полтора после появления книги. Но зато и пишет же!
«Грязный автор навозного романа «Жена партийца» позволил себе в наше волнующее время оклеветать мелиоративные работы в Средней Азии, ни единым словом о них не обмолвившись. На дыбу такого автора!»
Столпник бьет наверняка. Он знает, что автор не придет к нему объясняться. Давно уже автор лежит на веранде тубсанатория в соломенном кресле и кротко откашливается в платочек. Синее небо и синие кипарисы смотрят на больного. Им ясно, что автору «Жены партийца» долго не протянуть.
Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора.
Молчит Ив. Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков.
– Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение!
И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована главполитпросветом даже для сельских библиотек.
Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое вечное перо?
И верные перья начинают скрипеть.
«Как это ни странно, – пишет Ив. Аллегро, – но превосходный роман «Дитя эпохи» прошел мимо нашей критики».
«Как это ни странно, – надсаживается Гав. Цепной, – но исключительный по глубине своего замысла роман «Дитя эпохи» прошел мимо ушей нашей критики».
Последним, как и всегда, высказывается Столпнер-Столпник. И, как всегда, он превосходит своих коллег по силе критического анализа.
«“Дитя эпохи”, – пишет он, – книга, которую преступно замолчали Ив. Аллегро и Гав. Цепной, является величайшим документом эпохи. Она взяла свое, хотя и прошла мимо нашей критики».
Случай с «Дитятей эпохи» дает возможность критикам заняться любимым и совершенно безопасным делом: визгливой семейной перебранкой. Она длится целый год и занимает почти всю бумагу, отпущенную государством на критические статьи и рецензии о новых книгах.
И целый год со страниц газет и журналов шлепаются в публику унылые слова: «передержка», «подтасовка фактов», «нет ничего легче, как…» и «пора оставить эти грязные маневры желтой прессы».
Однако самым забавным в работе критиков является неписаный закон, закон пошлый и неизвестно кем установленный. Сводится этот закон к тому, чтобы замечать только то, что печатается в толстых журналах.
Отчаянная, потная дискуссия развивается вокруг хорошего или плохого рассказа, напечатанного в «Красной нови» либо в «Новом мире».
Но появись этот самый рассказ в «Прожекторе», «Огоньке» или «Красной ниве», ни Столпнер-Столпник, ни Ив. Аллегро, ни Гав. Цепной не нарушат своего закона – не напишут о нем ни строки.
Эти аристократы духа не спускаются до таких «демократических» низин, как грандиозные массовые журналы.
А может быть, Столпнер-Столпник ждет, чтобы за это дело взялся Ив. Аллегро? А Аллегро с опаской глядит на Гав. Цепного?
Разве не забавные люди – критики?
Журналист Иван Кишечников, сотрудник многих журналов и газет, где он обычно подписывался псевдонимами «Марк Тираспольский» или «Андрей Пасмурный», всю жизнь мечтал о фотоаппарате.
Рассматривая иллюстрированные журналы. Кишечников думал:
– Ах, до чего ж хорошо показывать жизнь, как она есть! Фиксировать бытовые моменты! Отображать факты! Как, должно быть, интересно покачивать в ванночке пластинку, на которой постепенно выявляется лицо современности!..
И очень хотелось Ивану Кишечникову и живущим душа в душу с ним Марку Тираспольскому или Андрею Пасмурному купить фотоаппарат. Но очень долго Кишечникову не удавалось осуществить свою заветную мечту, то есть отображать, фиксировать и показывать жизнь, как она есть. То надо было ехать в Батум отдыхать, то жена требовала денег на покупку лимитрофных чулок.
А жизнь блистала многообразием, какое, по мнению журналиста, безусловно надо было бы зафиксировать.
– Смотри, – говорил Ивану Кишечникову Марк Тираспольский. – Видишь? Вот идут пионеры. Как громко зовет этот барабан к борьбе. Хорошо бы заснять эту бодрую жанровую картинку.
– Хорошо бы! – поддерживал Андрей Пасмурный. – А еще хорошо бы сфотографировать какой-нибудь производственный процесс или индустриальный мотив. И фотогенично, и воспитательно. А главное, какие это будут прекрасные иллюстрации к моим очеркам и зарисовкам заводских будней.
И солнце, верный друг фотографов, улыбалось Ивану Кишечникову.
И великий день настал. Шатаясь от волнения. Кишечников вынес из магазина случайных вещей аппарат «бебе», наделенный отличнейшими данными.
– Светосила четыре с половиной! – шептал Кишечников, прижимая к вздымающейся груди свое чудо оптики. – Затвор «компур»! Тессар! Компур-р! Отображать! Фиксировать!
Придя домой, Кишечников грубо схватил жену за руку, посадил ее на диван и заснял подругу своей жизни на фоне кавказского ковра. Проделал он эту операцию 12 раз – по числу купленных кассет. Потом он быстро сбегал в ванную комнату, снова зарядил кассеты и избрал жертвой единственного своего ребенка – трехмесячного Афанасия Кишечникова. Утомив младенца Фасю, Кишечников-Тираспольский погрузил квартиру во мрак и долго пыхтел над ванночкой.
Результаты фотоработы вполне его удовлетворили. Кишечникову приятно было видеть хотя и несколько искаженные, но все же родные лица.
Ранним утром деятельный журналист, мечтавший о засъемке индустриальных мотивов, подкрался к люльке безмятежно почивавшего Афанасия, вытащил его во двор и заснял снова 12 раз, по числу кассет. Посиневшего младенца с трудом вырвали из цепких рук Ивана.
– Лучше сними меня, – говорила жена.
Кишечникову только этого и нужно было. Жена сидела в кресле, покачивая ножкой в лимитрофном чулке, а Кишечников щелкал. По числу кассет.
Снимал жену и на другой день. Снимал и на третий.
Прошло полгода. Иван Кишечников уже бодро управлял аппаратом, бойко говорил о проработке негативов и пускался в длительные беседы о преимуществах затвора «компур» перед прочими затворами, но снимал по-прежнему жену и ребенка.
Зачастую он разнообразил свои занятия фотографированием друзей и близких родственников.
Иногда Марк Тираспольский шептал Ивану Кишечникову:
– Где же индустриальные мотивы? Где фиксирование производственных процессов, которое блестяще помогло бы очеркам и зарисовкам заводских будней?
– Где, – со слезами в голосе поддерживал его Андрей Пасмурный, – где жизнь, как она есть?
И очень хорошо. Пусть будет разгул техники.
Недавно радиослушателям, в том числе и радиозайцам12, одним словом, всем вольным сынам эфира передавали по радио звуковое кино. Сыны эфира попивали чай и подкручивали какие-то шурупы, заботясь о чистоте передачи. Сама же передача нисколько их не волновала.
Между тем произошло событие потрясающее: «Великий немой», который до сих пор и пикнуть не мог, сразу заговорил, запел, начал играть на фортепьянах и трубах. Мало того!
Зазвучавшую фильму передали по радио. Техника напрягла все свои силы, чтобы оглушить человека, заставить его почтительно разинуть рот.
Но человек перестал удивляться.
– Радио? Ничего. Интересно. Звучащий фильм? А-а-а? Любопытно.
– Звучащий фильм по радио? Что ж, пожалуйста. Мы не против.
Привередливо стало человечество.
Дети – те еще удивляются, волнуются и, если родители не пускают их на сеанс говорящего кино, даже плачут. Что же касается взрослых, то они относятся к разгулу техники снисходительно.
Конечно, только снисходительностью можно объяснить то, что говорящее кино появилось у нас два года позже, чем за границей.
За эти два года, в течение которого кинозаправилы с печальной неторопливостью «догоняли и перегоняли» заграницу, общественность дремала. То и дело раздавались предостерегающие вопли:
– Товарищи! Примите во внимание заграницу. Там звуковое начало свою жизнь с той же чепухи, которой начинало в свое время кино немое. Помните?
В те времена каждый город называл кино по-своему. В Петербурге ему дали название «синематофаф», в Киеве – «биоскоп» и «биограф». В Одессе молодое искусство носило название «иллюзион». Однако Елисаветград не мог удовлетвориться таким скромным наименованием. В Елисаветграде кино называлось «электроиллюзион». Это было вдвойне заманчиво ввиду того, что в Елисаветграде электричество было тогда силой весьма мало исследованной и само по себе привлекало толпы зрителей.
В прочих городах империи фантазия предпринимателей работала вовсю. Какими только словами не обзывали кино: и «электропаноптикум», и «живой стереоскоп», и «жироскопический театр», и даже «магический ящик».
Несмотря на все эти помпезные и величественные названия, программы иллюзионов и элёктропа-ноптикумов были весьма незамысловаты:
1. Видовая (какой-то водопад).
2. «Любовь трубадура» (драма в одной части, в красках).
3. «Похороны генерал-майора Холодацкого»13 (без музыки).
4. «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега» (драма в двух частях, с участием Гаррисона).
5. «Глупышкин женится» (комическая).
6. «Гомон-журнал»14.
Так помните же, – надрывалась общественность, – нам не нужен Глупышкин даже в том случае, если он заговорит. Нам не нужен кинокрасавец Гаррисон, даже если он будет петь. Постарайтесь как-нибудь обойтись без разнохарактерного дивертисмента.
Киноорганизации, как водится, чутко прислушивались к голосу общественности, и общественность мало-помалу успокоилась.
В последнее время стали даже забывать о говорящем кино и привыкать к той мысли, что его, может быть, и вовсе не будет.
Однако оно в конце концов появилось.
Многим великим изобретениям в начале их жизни суждено подвергаться унижениям. Так, одно время был унижен граммофон, который злые люди принудили исполнять исключительно «Марш Буланже» на тубофоне или лесную картинку «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и лягушке-квакушке. И много времени прошло, прежде чем человечество опомнилось и позволило граммофону передавать пение замечательного певца или речь народного трибуна.
Так было унижено Глупышкиным и Дурашкиным немое кино.
И вот теперь новое, замечательное изобретение – звуковое кино – тоже подвергается опасности быть униженным.
Первая программа звукового кино сразу показала несоответствие между самим изобретением и его применением. Изобретение уже разменяли на мелочь, уже заставили работать для неинтересных и малопонятных похождений мультипликационного Тип-Топа, который для нашего времени ничуть не лучше довоенного Глупышкина.
В общем получилось то, против чего так усердно предостерегала общественность. Получилась – заря кинематографа. Получился электробиоскоп.
Как водится, в начале сеанса долго и крупно перечислялись имена режиссера и сорежиссера, лаборантов, аспирантов, ассистентов, экспертов, администраторов и заведующих запятыми. А имя изобретателя тов. Шорина, который один лишь показал превосходную работу, мелькнуло где-то между именами соассистента и созаведующего запятыми.
«Ножницы» обнаружились на первом же сеансе: высокая техника и неумение достойным образом оформить для нее тему. 1930
Однажды, проснувшись рано утром, товарищ Сорокин-Белобокий понял, что весна вступила в свои права. По небу катились сдобные облака. Пели птицы.
«Мы, – подумал Сорокин-Белобокин, – молодой весны гонцы». Он почувствовал, что этот день прекраснее прочих и что его необходимо как-нибудь отметить.
Обычно Сорокин-Белобокин и летом и зимой носил одну и ту же черную волосатую кепку. Но в этот раз кепка, тяжелая, как подкова, внушала ему отвращение. Число головных уборов в гардеробе товарища Сорокина было невелико – упомянутая кепка и оставшийся после дедушки-артиста новый вороной котелок.
И сам черт дернул Белобокина в первый весенний день надеть этот странный и даже неприличный в наши дни головной убор.
День был так хорощ что трамвайные пассажиры не кусали друг друга, как обычно, а напротив – обменивались улыбками.
И путешествие «гонца весны» к месту службы прошло вполне благополучно, если не считать радостного замечания одного из пассажиров:
– Давить надо таких гадов в котелках!
Тем не менее товарищ Сорокин-Белобокин умудрился донести к месту службы чашу весенней радости почти не расплескав ее.
– Здравствуйте, товарищи! – крикнул Сорокин-Белобокин звонким, майским голосом, входя в секцию брючного кризиса, в коей служил.
И странно, сослуживцы, которые обычно отвечали ему бодрыми восклицаниями, как-то замедлили с ответом.
– Весна-то какая! – сказал Сорокин.
На это также не последовало ответа. Все служащие расширенными глазами смотрели на котелок.
– Что случилось? – спросил Сорокин-Белобокин с тревогой в голосе. – Почему вы все молчите?
И тут он увидел на стене плакат о чистке, на котором с волнующей краткостью было написано:
! ВОН ИЗ АППАРАТА!
!героев 20-го числа!
!головотяпов и головотяпок!
– Как? Разве уже началось? – пробормотал Сорокин и, притихший, уселся за стол.
Поводив несколько минут карандашом по бумаге, он не выдержал и обратился к деловоду Носкевичу:
– Прямо умора какая-то. Открываю я сегодня утром гардероб и вижу – котелок висит, – остался от дедушки-артиста. Что за черт? Отличный венский котелок на белой шелковой подкладке. Я и надел. Ничего плохого тут нет.
– Да, – сказал деловод Носкевич, ни к кому не обращаясь, – а был еще и такой случай. Юрисконсульта одного, Пружанского, вычистили по второй. За ревность, за чванство и за бюрократизм. Одним словом, за старый быт.
– И правильно, – сказал Сорокин-Белобокин, – за бюрократизм следует гнать. Но при чем тут кода к, товарищи? Если уж на то пошло, то мой дедушка играл главным образом для народа, в садах трезвости. А котелок, что ж, котелок – каприз артиста, веяние эпохи. Не больше.
– Каприз артиста! – завизжал Носкевич. – Плакат вы видите – «Вон героев двадцатого числа»? И ведь плакат в нашей комнате повесили недаром. Вот нас восемь человек. Значит, есть среди нас герой двадцатого числа. Кто же этот герой? Я, например, котелков не ношу.
– И я не ношу! – быстро сказала девушка Заикина.
– Никто из нас не носит!
Сорокин-Белобокин обомлел. Вороной котелок лежал на его столе как вещественное доказательство неблагонадежности.
– Это же голословное обвинение, – сказал Сорокин-Белобокин плачущим голосом. – Вы все меня знаете. Какой же я герой двадцатого числа? Тем более что и жалованье мы получаем первого и пятнадцатого.
– Чужая душа – потемки! угрожающе сказал Носкевич. – Ходят тут всякие в котелках.
Сорокин-Белобокин не выдержал и, схватив котелок, кинулся в местком.
Вот котелок, – крикнул он, – возьмите в культфонд! Может, для Драмкружка пригодится. Котелок взяли. Домой товарищ Сорокин-Белобокин шел без шапки. Счастливо улыбался.
Во вкусовом комбинате «Щи да каша» никто так ничего и не узнал о замечательном событии, происшедшем в стенах этого почтенного пищевого учреждения.
Глава «Щей да каши» товарищ Аматорский, оказавшийся виновником происшедшего, засекретил все до последней степени. Не быть ему, Аматорскому, главою учреждения, если какой-нибудь злой контрольный орган пронюхает о совершившемся.
У Аматорского были самые благие намерения. Хотелось ему одним взмахом определить способности своих подчиненных, выделить способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых.
Но как в массе служащих отыщешь способных? Все сидят, все пишут, все в мышиных толстовках.
Однажды, прогуливаясь в летнем саду «Террариум», товарищ Аматорский остановился у столика, где под табличкой «Разоблачитель чудес и суеверий, графолог И. М. Кошкин-Эриванский» сидел волосатый молодой человек в очках с сиреневыми стеклами и определял способности граждан по почерку.
Помедлив некоторое время, товарищ Аматорский своим нормальным почерком написал на клочке бумаги:
«Тов. Кошк. – Эриванскому. На заключение».
Когда графолог получил эту бумажку, глаза его под сиреневыми стеклами засверкали. Определить характер Аматорского оказалось пустяковым делом.
Через пять минут глава «Щей и каши» читал о себе такие строки:
«Вы, несомненно, заведуете отделом, а вернее всего, являетесь главою большого учреждения. Особенности вашего почерка позволяют заключить, что вы обладаете блестящими организаторскими способностями и ведете ваше учреждение по пути процветания. Вам предстоит огромная будущность».
– Ведь до чего верно написано! – прошептал товарищ Аматорский. – Какое тонкое знание людей! Насквозь проницает, собака. Вот кто мне нужен. Вот кто поможет мне определить способности щи-да-кашинцев!
И Аматорский пригласил И. М. Кошкина-Эриванского к себе в учреждение, где задал ему работу. Кошкин должен был определить по почерку служащих, кто к чему способен. Расходы (по полтиннику за характеристику) были отнесены за счет ассигнований на рационализацию.
Три дня и три ночи корпел И. М. Кошкин-Эриванский над почерками ничего не подозревавших служащих. И, совершив этот грандиозный труд, он открыл перед товарищем Аматорским книгу судеб.
Все раскрылось перед начальником ЩДК.
Добрый Кошкин-Эриванский никого не «закопал». Большинство служащих, по определению разоблачителя чудес и суеверий, были людьми хотя и средних способностей, но трудолюбивыми и положительными. Лишь некоторые внушали опасение («Способности к живописи», «Наклонность к стихам», «Будущность полководцев»).
И один лишь самый мелкий служащий – Кипяткевич получил триумфальный отзыв. По мнению Эриванского, это был выдающийся человек.
«Трудно даже представить себе, – писал Кошкин каллиграфическим почерком, – каких вершин может достигнуть данный субъект. Острый, проницательный ум, ум чисто административный характеризует этого индивидуума. Оригинальный наклон букв свидетельствует о бескорыстии. Довесок к букве «щ» говорит о необыкновенной работоспособности, а завиток, сопровождающий букву «в», – о воле к победе. Нельзя не ждать от этого индивидуума крупных шагов по службе».
Когда Кошкин-Эриванский покидал гостеприимное ЩДК, на лестнице его догнал Кипяткевич и спросил:
– Ну как?
– Такое написал, – ответил Кошкин, – что пальчики оближешь.
Кипяткевич вынул кошелек и честно выдал разоблачителю чудес и суеверий обусловленные пять рублей.
Немедленно вслед за этим Кипяткевича позвали в кабинет самого Аматорского.
Кипяткевич бежал в кабинет весело, справедливо ожидая отличия, повышения и награды.
Из кабинета он вышел, шатаясь. Аматорский почему-то распек его и пообещал уволить, если он не исправится.
Прочтя о гениальном индивидууме с необыкновенным довеском к букве «щ», Аматорский очень обрадовался. Наконец-то он сыскал змею, которая таилась в недрах учреждения и могла когда-нибудь занять его место.
«Теперь, – сказал он самому себе, – и в отпуск можно ехать спокойно. Прищемил гада!»
Фабзайца Выполняева умоляли, фабзайца Выполняева просили:
– Поедем с нами, фабзаяц! Плановая экскурсия с горячими завтраками. В Крым. Лекция у подножия Ай-Петри. Культхоровод на Ласточкином гнезде. Осмотр местной промышленности. Визит в виноградный колхоз. Все вместе обойдется в тридцать три рубля шестьдесят копеек, включая горячие завтраки и проезд в жестком вагоне.
Фабзаяц упрямился.
– Поедем, – говорили ему, – приятное с полезным соединишь. Полезное с приятным увидишь. Все организовано. Билеты через местком. Руководители и докладчики с пеной на губах уже дожидаются нашего прибытия у подножия скалистого Ай-Петри. Поедем, Выполняев. Полная реконструкция ума и здоровья.
– Не поеду, – сказал наконец Выполняев, – не люблю я этих массовых маршрутов. Приходится идти туда, куда лезут все. Стадное чувство. Я – вольная птица. Поеду один. Зато увижу все, что мне захочется. Захочу на гору – полезу на гору. Не захочу на гору – не полезу на гору. А вас все равно обманут. Возьмут тридцать три рубля шестьдесят копеек, а покажут на двадцать семь рублей восемьдесят копеек. А я – сам себе кассир, руководитель и затейник. Захочу – влезу на Ласточкино гнездо и устрою себе хоровод. Не захочу – не устрою.
Оторвавшись от массы экскурсантов, фабзаяц Выполняев с головой погрузился в бурную жизнь туриста-единоличника.
Сперва он решил стать пешеходом и совершить переход из Пскова во Владивосток и обратно, попутно изучая быт и нравы встречных народов. Он даже приобрел подбитые железом тапочки и палку, коей намеревался обороняться от собак. Потом, соразмерив срок отпуска (две недели) с расстоянием, отделяющим Владивосток от Пскова, он отказался от этой мысли.
И хорошо сделал. Жизнь пешеходов необычайно сложна. Пешеход, покинувший исходный пункт своего путешествия молодым, является к пешеходному финишу потрепанным старичком. За долгое свое пешеходство он успевает несколько раз жениться и оставить по пути следования ряд маленьких детей. Жизнь оказывается прожита довольно глупо, знаний прибавилось немного, профессию свою пешеход успел забыть, и единственной отрадой его старости является воспоминание о том, как возле какого-то совхоза он целую ночь отбивался от собак.
И Выполняев, так ратовавший против избитых маршрутов, все-таки решил поехать в Крым.
Долго и грустно стоял турист-единоличник в очереди у железнодорожной кассы. К концу дня, когда Выполняев почти добрался до решетчатого окошечка кассы, стоявший впереди него организатор коллективной поездки с горячими завтраками в Крым взял сразу тридцать восемь билетов. Билетов больше не было.
– А индивидуальные туристы? – спросил Выполняев с дрожью в голосе.
Но кассир, как видно, не оценил глубоко индивидуальных свойств фабзайца Выполняева и порекомендовал ему прийти на другой день.
Выехал он на сутки позже своего коллективного соперника.
В станционных буфетах ему оставались только какие-то несъедобные пачки с желудевым кофе и щелоком.
– Позвольте! – хорохорился Выполняев.
– Экскурсия все съела, – говорили буфетчики. – Как раз перед вами проехала. Злые на еду.
– Что ж они ели? – со стоном спрашивал Выполняев.
– Обыкновенно. Судак ели.
– Неужели ели и крутые яйца? – плакался Выполняев, чувствуя голодную тошноту.
Поотощав в пути, единоличник прибыл к подножью ялтинской гостиницы «Девятый вал».
– Дайте-ка номерок подешевле, – сказал Выполняев, тяжело дыша.
– Подешевле не будет, – ответили ему.
– Ну что ж, давайте подороже.
– А где их взять? И дешевые и дорогие – все экскурсанты заняли. По заявкам.
И тут только запыленный единоличник заметил своих соперников. Они в одних трусиках бегали по коридорам гостиницы, обмениваясь радостными криками.
– Стадо! – презрительно пробормотал Выполняев, кривя рот. – Ездят по избитым маршрутам и только номера занимают.
Ночь он провел в лирической прогулке по набережной, а утром гордо и одиноко отправился на Ай-Петри.
Но у подошвы горы стояло шестьдесят восемь экскурсий, слушая шестьдесят восемь руководителей.
Полюбовавшись на гору издали, Выполняев побрел в город. По дороге его обогнала вереница автобусов с экскурсантами.
«Возьмите меня с собой! – хотел крикнуть Выполняев. – Я погибаю здесь один. Меня никто не уважает. Со мной никто не хочет говорить. Я одинок и грязен. Спасите меня!»
Но страшным усилием воли единоличник поборол в себе здоровое чувство самокритики.
Зато вечером, когда с вершины Ласточкина гнезда донеслись до него веселые звуки культхоровода, единоличник Выполняев не выдержал.
Он взобрался на скалу, пал на колени и, глухо рыдая, произнес:
– Простите меня. Примите меня. У меня осталось тридцать рублей. Я вношу их в общий фонд. Я не могу больше жить без общества.
Его простили, и уже на другой день он носился в тигровых трусиках вместе с прочими по пляжу, оглашая чистый крымский воздух радостными криками.
Когда гражданин Удобников шел по своему личному делу в пивную, на него сверху свалилось пальто с песьим воротником.
Удобников посмотрел на пальто, потом на небо, и наконец взор его остановился на большом доме, усеянном множеством окон и балконов.
– Не иначе как пальто с этажа свалилось, – совершенно правильно сообразил гражданин Удобников.
Но с какого этажа, с какого балкона свалилось пальто – понять было невозможно.
– Черт бы их подрал, жильцов стоеросовых, – сказал вслух Удобников. – Кидают свои песьи шубы, а ты их подымай!
И, перекинув на руку пальто, Удобников быстро пошел…
На первый этаж Удобников и не заходил. Ему было ясно, что оттуда пальто свалиться не могло.
И он начал обход квартир со второго этажа.
– Пардон, – сказал он в квартире № 3. – Не ваше ли пальтишко? Шел, понимаете, по личному делу, а оно на меня и свалилось. Не ваше? Жаль, жаль!
И честный Удобников двинулся дальше. Он сам себе удивлялся.
– До чего же честные люди все-таки существуют!
– Ведь вот, граждане, – разглагольствовал он в квартире № 12. – Я-то ведь мог пальто унести. А не унес! И жильцы, хотя бы вы, например, могли бы сказать: «Да, наше пальтишко. Спасибо вам, неизвестный гражданин!» А ведь не сказали. Почему? Честность! Справедливость! Свое не отдам и чужое не возьму. Ну, пойду дальше, хотя и занят личным делом. Пойду.
И чем выше он поднимался, тем теплее становилось у него на душе. Его умиляло собственное бескорыстие.
И вот, наконец, наступила торжественная минута. В квартире № 29 пальто опознали. Хозяин пальто, пораженный, как видно, добропорядочностью Удобникова, с минуту молчал, а потом зарыдал от счастья.
– Господи, – произнес он сквозь слезы. – Есть еще честные люди!
– Не без того, имеются, – скромно сказал Удобников. – Мог я, конечно, шубенку вашу унести. Но вот не унес! А почему? Честность заела. Что шуба! Да если б вы бриллиант или же деньги обронили, разве я бы не принес? Принес бы!
Дети окружили Удобникова, восклицая:
– Честный дядя пришел!
И пели хором:
На тебя, наш честный дядя,
Мы должны учиться, глядя.
Потом вышла хозяйка и застенчиво пригласила Удобникова к столу.
– Выпьем по стопке, – сказал хозяин, – по севастопольской.
– Простите, не употребляю, – ответил Удобников. – Чаю разве стакашек!
И он пил чай, и говорил о своей честности, и наслаждался собственной добродетелью.
Так было бы, если бы гражданин Удобников действительно отдал упавшее на него пальто. Но пальто он унес, продал и, сидя пьяный в пивной, придумывал всю эту трогательную историю.
И слезы катились по его лицу, которое могло бы быть честным.
Теперь как-то не принято работать в одиночку. Многие наконец поняли, что ум – хорошо, а два все-таки лучше. Поэтому, когда редакции серьезного трехдекадника «Кустарь-невропатолог» понадобился художественный очерк о психиатрической больнице, то послали туда не одного журналиста, а сразу двух – Присягина и Девочкина. Поочередно поглядывая на беспокойного Присягина и на круглое, глобусное брюхо Девочкина, секретарь «Невро-кустаря» предупреждал:
– Имейте в виду, что это не предприятие какое-нибудь, где вы можете безнаказанно всем надоедать. В больнице имени Титанушкина нужно держаться очень осторожно. Больные, сами понимаете, люди немного нервные, просто сумасшедшие. Среди них много буйных, и раздражаются они очень легко. Не противоречьте им, и все пройдет благополучно.
Сговорившись с секретарем относительно пределов художественности очерка, Девочкин и Присягин немедленно отправились выполнять задание.
На круглой, как тарелка, окраинной площади чета очеркистов справилась у милиционера о дальнейшем пути.
– Прямо, – сказал милиционер, – и налево, в переулок. Там только два больших серых здания. В одном психиатрическая, а в другом учреждение «Силостан». Там спросите.
– Мне страшно, – признался Присягин, когда друзья подходили к серым воротам. – Вдруг они на нас нападут!
– Не нападут, – рассудительно ответил Девочкин. – Ты только не приставай к ним насчет душевных переживаний. Я уже бывал в сумасшедших домах. Ничего страшного, тем более что теперь режим в таких больницах совсем свободный. Сумасшедшим предоставлено право заниматься любимым делом. Я буду тебе все объяснять.
В это время на каменное крылечко ближайшего серого дома с визгом выкатился очень расстроенный гражданин. Шершавым рукавом пиджака он отирал потное лицо.
– Скажите, пожалуйста, – спросил Девочкин, – это сумасшедший дом?
– Что? – закричал гражданин. – Вот это? Конечно, сумасшедший дом.
И, размахивая портфелем, гражданин умчался, что-то каркая себе под нос.
Друзья, бессмысленно покашливая, вступили на цементные плиты вестибюля. Швейцар в глупой фуражке с золотым околышем степенно говорил какой-то женщине с подносом, по-видимому сиделке:
– Новый-то – буен! Как начал сегодня с девяти утра бушевать, так никакого с ним сладу нет. Одно слово – псих. Патрикеев уже к нему и так и этак – и ничего. Уперся на своем. «Всех, говорит, повыгоняю. Начальник я или не начальник?»
– Чай я ему носила, – грустно сказала сиделка, – не пьет. Все пишет. Каракули свои выводит.
– Наверно, опасный экземпляр, – шепнул Присягину опытный Девочкин.
– Может, вернемся? – трусливо пробормотал Присягин.
Девочкин с презрением посмотрел на коллегу и обратился к швейцару:
– У кого можно получить пропуск для осмотра заведения?
– Какой пропуск? – строго сказал золотой околыш. – У нас вход свободный.
– Как видишь, – разглагольствовал Девочкин, когда друзья поднимались по лестнице, – совершенно новая система лечения. Ничто внешне не напоминает сумасшедший дом. Вход свободный. Врачи не носят халатов. И даже больные без халатов. Халат угнетает больного, вызывает у него депрессию.
В первой же комнате очеркисты увидели пожилого сумасшедшего. Он сидел за большим столом и бешено щелкал на окованных медью счетах. При этом он напевал на какой-то церковный мотив странные слова: «Аванс мы удержим, удержим, удержим».
– Этого лучше не трогать, – сказал осторожный Присягин. – Стукнет счетами по башке, а потом ищи с него.
– Ты трус, Вася, – отвечал Девочкин. – Он совсем не буйный. Иначе ему не дали бы счетов. Просто шизофреник.
Но, увидев, что в этой же комнате урна для окурков прикована цепью к стене, сам побледнел и далеко обошел больного.
– Черт их знает! Может, они лупцуют друг друга урнами.
– Очень свободно. Оттого урна и прикована.
Толкаясь в дверях, друзья быстро вывалились из комнаты в длинный коридор. Там сумасшедшие прогуливались парочками, жуя большие бутерброды.
– Это, кажется, тихие, – облегченно сказал Присягин. – Давай послушаем, что они говорят.
– Вряд ли это что-нибудь интересное, – авторитетно молвил Девочкин. – Какое-нибудь расстройство пяточного нерва или ерундовая психостения.
Однако когда до уха Девочкина долетело: «Он из меня все жилы вытянул», то очеркист насторожился и стал внимательно прислушиваться.
– Все жилы, – сказал один больной другому. – Он ко мне придирается. Хочет сжить со свету. А почему – неизвестно. И такая меня охватывает тоска, так хочется подальше из этого сумасшедшего дома. Куда-нибудь на юг, на южный берег…
– Против меня плетутся интриги, – хрипло перебил второй. – Малороссийский хочет меня спихнуть. И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию. Это не зря. Но еще посмотрим, кто кого! Негодяй!
– Обрати внимание, – шепнул Девочкин, – типичный бред преследования.
– Ужас-то какой! – простонал Присягин. – Знаешь, эта обстановка меня гнетет.
– То ли еще будет! – сказал бесстрашный Девочкин.
– Войдем в эту палату номер шестнадцать. Там, кажется, сидит только один сумасшедший, и если он на нас набросится, мы сможем его скрутить.
В большой палате, под плакатом «Не задавайте лишних вопросов», сидел человек с бумажными глазами и в длинной синей толстовке, из кармана которой высовывались какие-то никелированные погремушки.
– Вам кого? – раздражительно крикнул больной.
– Можно у вас узнать… – начал оробевший Девочкин.
– Молчи, – шепнул Присягин, вцепившись в руку своего друга. – Разве ты не видишь, что ему нельзя задавать лишних вопросов?
– Что же вы молчите? – сказал больной, смягчаясь. – Я вас не укушу.
«Это еще не известно, – подумал Девочкин. – Скорее всего, что именно укусишь».
– Да кто же вам нужен наконец? – завизжал сумасшедший. – Если вам нужен начканц, то это я – Патрикеев. Я – начальник канцелярии. Ну-с, я вас слушаю. Садитесь, я вам рад.
– В-ва-ва-ва! – задребезжал Присягин, оглядываясь на дверь.
– Ради бога, не волнуйтесь, – начал Девочкин. – Да, да, вы – начальник канцелярии, прошу вас, успокойтесь.
Однако больной раздражался все больше и больше. Багровея, он начал:
– Если вы пришли к занятому челове…
– Бежим! – крикнул Присягин.
Но тут из соседней палаты, на дверях которой висела стеклянная табличка: «М.Ф. Именинский», раздался леденящий душу крик.
Раскрылась дверь, и из палаты выбежал новый больной.
– Тысячу раз повторял я вам, – кричал он на больного, называвшегося Патрикеевым, – чтобы машину не давали кому попало. Мне ехать, а машины нет!
– Бежим! – повторил Присягин, увлекая за собой Девочкина.
Их догнал безумный крик:
– Мне на дачу, а машины нет!
Скатившись по лестнице в вестибюль, очеркисты ошалело присели на скамейку.
– Ну и ну! – сказал Присягин, отдуваясь. – Убей меня, во второй раз не пойду в сумасшедший дом. Мы просто были на волосок от смерти.
– Я это знал, – ответил храбрый Девочкин. – Но не хотел говорить тебе об этом, не хотел пугать.
Часы в вестибюле пробили четыре. И сразу же сверху, как стадо бизонов, ринулись больные с портфелями. Сбивая друг друга с ног, они побежали к вешалке.
Девочкин и Присягин в страхе прижались к стене. Когда больные выбежали на улицу, Девочкин перевел дух и сказал:
– На прогулку пошли. Прекрасная постановка дела. Образцовый порядок.
На улице друзья увидели вывеску, на которую они не обратили внимания при входе:
СИЛОСТАН
ТРЕСТ СИЛОВЫХ АППАРАТОВ
Ввиду того что время было позднее, а очерк о сумасшедшем доме надо было написать сегодня же, друзья честно описали все, что видели, назвав очерк «В мире душевнобольных».
Очерк этот был напечатан в «Невро-кустаре» и очень понравился.
«Как отрадно, – писал в редакцию видный психиатр Титанушкин, – читать очерк, в котором с такой исчерпывающей полнотой и правильностью описаны нравы и повадки душевнобольных».
За месяц до окончания технического вуза студент Побасенков сказал своему другу и однокашнику Прелюбодяеву:
– Знаешь, меня беспокоит контрактация. Пошлют инженером черт знает в какую глушь, а отказаться нельзя.
– Неужели это тебя смущает? – сказал Прелюбодяев. – Кто тебя законтрактовал?
– «Стройстрой». Где-то на Урале. А тебя кто?
– Меня на Сахалин должны послать. Там теперь большое строительство. Но мне на Сахалин ехать не придется. У меня объективные причины. Остаюсь в Москве. Дело решенное.
– Как же тебе удалось? – удивился Побасенков.
– Своевременно принятые меры, – скромно заметил Прелюбодяев. – Титаническая работа. Вот результаты.
И Прелюбодяев развернул перед Побасенковым павлиний хвост различнейших документов.
– Антиконтрактационную кампанию я начал еще два года назад. Вот! Во-первых, удостоверение от Адмотдела, что я проживаю в Москве совместно с девяностовосьмилетней бабушкой, абсолютно лишенной возможности покинуть пределы Москвы и области.
– Но ведь у тебя нет никакой бабушки! – воскликнул Побасенков.
– Скажу прямо, пришлось завести. Лучше бабушка, чем Сахалин. Ну, пойдем дальше. История болезни. Это было посложнее бабушки. Прошу взглянуть.
И он протянул коллеге большой медицинский бланк.
– Значит, у тебя невроз сердца, неврастения левого среднего уха и ослабление кишечной деятельности? С каких это пор? – вскричал Побасенков.
– Ты посмотри ниже, – самодовольно сказал Прелюбодяев.
– Боже мой! Рахит! Трещина черепной лоханки! Писчая судорога! Куриная слепота! Плоская ступня! И костоеда!
– И костоеда! – подтвердил Прелюбодяев.
– Но ведь всего этого у тебя нет?
– Нет, есть! Раз написано, значит есть! А раз есть, кто же меня сможет послать на Сахалин с трещиной в лоханке? Но и не это главное. Должен тебе сказать, что я уже служу. В тихой, но финансово-мощной конторе. Знакомства! Связи! Вот все необходимое и достаточное для начинающего инженера.
– А как же я? – печально спросил Побасенков.
– Ты? Ты поедешь на Урал. И ничто тебя не спасет. Ты поздно спохватился. За месяц нельзя приобрести ни бабушки, ни рахита, ни связей, – следовательно, и тихой работы в Москве.
Так оно и вышло. Ловкий Прелюбодяев вывернулся и от контракта увильнул, а глупый Побасенков запаковал свой багаж в скрипящую корзинку, перехватил байковое одеяло ремешком от штанов и поехал на Урал работать в «Стройстрое».
Как полагается в романах и в жизни, прошел год.
Как полагается, были неполадки, неувязки и мелкие склоки. Кто-то оттирал Побасенкова, кому-то и сам Побасенков показывал зубы. Но год прошел, все утряслось, инженер Побасенков приобрел опыт, знание и вес.
Осенью он поехал в Москву выдирать недоданные строительству материалы.
Когда решительным шагом он проходил по коридору нужного ему учреждения, к его щеке прижались чьи-то рыжие усы и знакомый голос радостно воскликнул:
– Побасенков!
Перед уральским инженером стоял Прелюбодяев. Он долго и больно хлопал Побасенкова по плечам, бессмысленно хохотал, а потом сразу скис и сказал:
– Плохо я живу.
– Почему плохо? – спросил Побасенков. – У тебя ведь все есть. Трещина в черепной механике, рахит, бабушка, тихая служба! Чего тебе еще? Кстати, мне нужно получить у вас чертежи конструкций для нового цеха. Ты этим, наверное, заведуешь? Ты ведь конструктор по специальности?
– Что ты, что ты? – испуганно забормотал Прелюбодяев. – Какой же дурак работает теперь конструктором? Это ответственно, опасно. Я тут служу в канцелярии. Так оно спокойнее.
Прелюбодяев огляделся по сторонам и трусливо забормотал:
– Хорошо тебе на производстве. А у нас тут идет вакханалия. Чистка идет. Выкинут по какой-нибудь категории, потом иди доказывай. Хочу идти на производство, у меня уже есть удостоверение о том, что, ввиду моего болезненного состояния, мне нельзя жить в Москве и области. Может, к вам на Урал перекинуться?
– Кто же тебя возьмет такого? – грустно сказал Побасенков. – Знания ты растерял. А бумажки у нас и без тебя составлять умеют. Трудное твое дело, Прелюбодяев. Надо было раньше подумать.
Побасенков давно уже ушел, а Прелюбодяев все еще стоял в коридоре и бормотал:
– На Сахалин хорошо бы, на крупное строительство!
Пешехода надо любить. Его надо лелеять и по возможности даже холить.
Обычно пешеходов изображают каким-то диким стадом, отдельные представители которого только и думают, как бы поскорее угодить под колеса автомобиля.
В соответствии с этим ложным представлением многие блюстители порядка, муниципальные перегибщики и головокруженцы, не так давно охотились на пешеходов, как на бекасов. То один, то другой пешеход, сошедший с тротуара на мостовую, падал жертвой милиции движения. Он уплачивал четвертак штрафа и, жалко улыбаясь, спрашивал:
– Где же мне прикажете ходить?
Милиционер принимался объяснять, что ходить следует по тротуару, но, взглянув на тротуар, по которому лавой текли граждане, безнадежно взмахивал рукой. Однако четвертака не отдавал.
По справедливости, площадь московских улиц надо было бы переделать заново. Двум миллионам пешеходов предоставлены только узкие полоски, асфальтовые тесемки тротуаров, а пяти тысячам авто отданы довольно широкие мостовые.
Между тем при существующей пропорции следовало бы поступить наоборот – отдать мостовые пешеходам, а машинам предоставить тротуары.
Это, конечно, крайняя точка зрения, приближающаяся к шутке. Но в ней есть сладчайшая капля истины, заключающаяся в том, что пешеходов надо уважать, ибо они представляют собой далеко не худшую часть человечества. Ведь ни для кого не является секретом, что из среды пешеходов вышли такие замечательные люди, как Ньютон, Себастьян Бах, Вольтер, Пушкин, врач-общественник Гааз и Всеволод Мейерхольд.
Возвращаясь к той мысли, что пешеходов надо любить, надо отметить, что такую же позицию занял с нынешнего года и Моссовет. Везде, где производится прокладка новых усовершенствованных мостовых, одновременно идет расширение тротуаров.
Во всех концах Москвы можно наткнуться на толпы народа. Люди стоят на холмиках строительного мусора и вывороченного булыжника. Как зачарованные, смотрят они на большую дорожную машину. Машина жрет битый кирпич, цемент и песок, пьет воду и время от времени страшно гаркает, переваривая в железном пузе съеденную пищу. У машины, похожей на осадное орудие персидского царя Кира, отличное пищеварение. Она извергает готовый бетон, фундамент для мостовой.
Машина вызывает к себе уважение.
Рядом с ней стоит американец в подтяжках и, заложив руки в карманы, следит за работой. Он тоже пользуется уважением. Обслуживающий персонал – механики и рабочие – чувствуют себя артистами летней эстрады. Их нахмуренные лица говорят:
– Да, мы работаем, мы строим мостовую. И ничего в этом удивительного нет. Мы привыкли к уважению.
Толпа безмолвно с этим соглашается.
Зрители уважают также друг друга. Как-никак, они тоже являются участниками этого сложного дела – они смотрели, обменивались корректными замечаниями и одобряли. Все это дает право на уважение.
Таким образом, все остаются довольными друг другом.
Фундамент укрывают рогожами. Через некоторое время он дозревает, и тогда улицу заливают асфальтом. Тут удовольствие и чувство обоюдного уважения достигают невиданных размеров.
Если укладка бетонной одежды мостовой по величественности и грохоту может сравниться со спектаклем театра МОСПС, то заливка улицы асфальтом, работа тонкая, чистая и полная нюансов, скорее приближается к спектаклю Художественного театра.
Нет уже дьяволов с чанами, в которых кипит асфальт. И белый угарный дым не подымается уже больше к окнам четвертых этажей. Сухой и горячий асфальт в порошке привозят на грузовиках, разравнивают граблями и сейчас же прессуют маленькими катками.
Сперва он выглядит, как паюсная икра, жирный, зернистый и мягкий. Потом его посыпают песком и снова прессуют. Через два по свежей мостовой уже катятся автомобили, оставляя на асфальте европейские пятна бензина и масла.
Одни извозчики недовольны.
Впрочем, они всегда недовольны. Как видно, прогресс в транспорте органически им противен. Они были недовольны, когда появился первый трамвай, они проклинали первый автомобиль, они воротят бороды от дорожных машин. Все это несет им скорую и вполне заслуженную гибель.
С горя они запрашивают 15 рубликов до Рязанского вокзала. Извозчичье жало ранит так больно, что этой каретой прошлого пользуются только в крайних случаях. На извозчиках ездят только:
а) роженицы;
б) железнодорожные пассажиры с багажом и
в) пьяные.
Но и эта клиентура скоро ускользнет от извозчиков, и наша страна лишится почти последних признаков так называемой «матушки-России». Уже в извозчичьем стане началось разложение. Наиболее молодые и прогрессивные извозчики обучаются шоферскому делу.
В горячей дискуссии о том, что нужнее для Москвы – метро или автобус – мнения резко разделились. Образовались лагери метрополистов и автобусианцев.
Метрополисты полагали, что только метро может спасти Москву. Автобусианцы же утверждали, что были мы без метро, и никакого метро нам не надо, хватит автобусов.
Одни лишь извозчики с прямолинейностью старых николаевских высказались и против метро, и против автобусов. Заодно они высказались против трамвая и такси.
Извозчики, мол, и сами решат великую транспортную проблему. Но Моссовет нашел четвертое решение:
– И метро и автобус!
Юный техник Глобусятников безмерно тосковал.
«Все что-то делают, – думал он, сжимая в руке рейсфедер, – один я что-то ничего не делаю. Как это нехорошо! Как это несовременно!»
Положение действительно было напряженное.
Техник Сенека объявил себя мобилизованным до конца пятилетки.
Химик Иглецов ревностно участвовал в буксире.
Все знакомые, как говорится, перешли на новые рельсы, работали на новых началах. И этого Глобусятников, работавший на старых началах и рельсах, никак не мог понять.
– Ну, зачем вам, – спрашивал он Сенеку, – зачем вам было объявлять себя мобилизованным?
– У нас прорыв, – бодро отвечал Сенека, – это позор. Надо бороться. Какие могут быть разговоры, если прорыв?
Остальные отвечали в том же роде. И даже спрашивали Глобусятникова, что он лично делает для выполнения промфинплана.
На это юный техник ничего не отвечал, над промфинпланом он не задумывался.
А жизнь подносила все новые неожиданности.
Металлург Антизайцев премию от своего изобретения в размере ста пятидесяти рублей положил в сберкассу на свое имя и уже был отмечен в кооперативной прессе как примерный вкладчик-пайщик.
Уже и пожилой инженер Ангорский-Сибирский что-то изобрел, от чего-то отказался и также был отмечен в экономической прессе.
А Глобусятников все еще ничего не делал. Наконец его осенило.
– Файна, – сказал он жене, – с завтрашнего дня я перехожу на новые рельсы. Довольно мне отставать от темпов.
– Что это тебе даст? – спросила практичная жена.
– Не беспокойся. Все будет в порядке.
И на другой день юный техник явился в свое заводоуправление.
– С этой минуты объявляю себя мобилизованным, – заявил он.
– И прекрасно, – сказали на заводе. – Давно пора.
– Объявляю себя мобилизованным на борьбу с прорывом.
– И чудесно. Давно бы так.
– На борьбу с прорывом, – закончил юный Глобусятников, – на заводе «Атлет».
– Как? А мы-то что? У нас ведь прорыв тоже, слава богу, не маленький.
– Там больше, – сказал Глобусятников.
И начальство, пораженное стремлением техника помочь промышленности, отпустило его.
На заводе «Атлет» был больше не только прорыв. Было больше и жалованье.
– Видишь, Файнетта, – говорил Глобусятников жене. – Все можно сочетать: жалованье и общественное лицо. Надо это только делать с уменьем. Вот у нас бюджет и увеличился на пятьдесят семь рублей с копейками. Да уж бог с ними, с этими копейками, зачем их считать? Я человек не мелочный.
Через месяц Файна-Файнетта сказала:
– Котик, жизнь безумно дорожает!
– Объявляю себя мобилизованным, – сразу ответил техник. – Мне шурин говорил, что я дурак. На заводе «Атлет» мне платят двести девяносто рублей, в то время как на «Котловане» мне легко дадут триста сорок.
То же самое объявил Глобусятников заводоуправлению «Атлета», умолчав, конечно, о разнице в окладах.
– Объявляю себя… – кричал он. – Там прорыв… Я не могу отставать от темпов.
Техника пришлось отпустить.
И уже ничего не тревожило борца с прорывами.
– Что мне, – говорит он, – химик Иглецов! Подумаешь, участвует в буксире. Я больше сделал. Если нужно будет, я себя не пожалею, не пощажу. Если понадобится, даже жену мобилизую. Она, кстати, довольно прилично печатает на машинке. Самоуком дошла. А вы мне тычете инженера Ступенского! Еще неизвестно, кто больше сделал для блага. Может, я больше сделал! И даже наверно больше!..
О несправедливости судьбы лучше всех на свете знал Виталий Капитулов.
Несмотря на молодые сравнительно годы, Виталий был лысоват. Уже в этом он замечал какое-то несправедливое к себе отношение.
– У нас всегда так, – говорил он, горько усмехаясь. – Не умеют у нас беречь людей. Довели культурную единицу до лысины. Живи я спокойно, разве ж у меня была бы лысина? Да я же был бы страшно волосатый!
И никто не удивлялся этим словам. Все привыкли к тому, что Виталий вечно жаловался на окружающих.
Утром, встав с постели после крепкого десятичасового сна, Виталий говорил жене:
– Удивительно, как это у нас не умеют ценить людей, просто не умеют бережно относиться к человеку. Не умеют и не хотят!
– Ладно, ладно, – отвечала жена.
– И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Вчера Огородниковы до одиннадцати жарили на гармошке и совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли!
– Не говори так, Виталий, – вздыхала жена. – Не надо.
– Умру, умру, – настаивал Капитулов. – И тогда те же Огородниковы будут говорить: «Не уберегли мы Капитулова, замучили мы его своей гармошкой, горе нам!» И ты скажешь: «Не уберегла мужа, горе мне!»
Жена плакала и клялась, что убережет. Но Виталий не верил.
– Люди – звери, – говорил он, – и ты тоже. Вот сейчас ты уже испугалась ответственности и навязываешь мне на шею свой шарф. А вчера небось не навязывала, не хотела меня уберечь от простуды. Что ж, люди всегда так. Простужусь и умру. Только и всего. В крематории только поймут, что, собственно говоря, произошло, какую силу в печь опускают. Ну, я пошел!.. Да не плачь, пожалуйста, не расстраивай ты мою нервную систему.
Рассыпая по сторонам сильные удары, Капитулов взбирался на трамвайную площадку первым. Навалившись тяжелым драповым задом на юную гражданку, успевшую захватить место на скамье, Виталий сухо замечал:
– Какая дикость! Средневековье! И таким вот образом меня терзают каждый день.
Замечание производило обычный эффект: вагон затихал, и все головы поворачивались к Виталию.
– Люди – звери, – продолжал он печально. – Вот так в один прекрасный день выберусь из трамвая и умру. Или даже еще проще – умру прямо в вагоне. Кто я сейчас для вас, граждане? Пассажир. Обыкновенный икс, которого можно заставлять часами стоять в переполненном проходе. Не умеют у нас беречь людей, этот живой материал для выполнения пятилетки в четыре и даже в три с половиной года. А вот когда свалюсь здесь, в проходе, бездыханный, тогда небось полвагона освободят. Ложитесь, мол, гражданин. Найдется тогда место. А сейчас приходится стоять из последних сил.
Тут обыкновенно юная гражданка багровела и поспешно вскакивала:
– Садитесь, пожалуйста, на мое место.
– И сяду, – с достоинством отвечал Капитулов. – Спасибо, мой юный друг.
Добившись своего, Капитулов немедленно разворачивал «Известия» и читал похоронные объявления, время от времени крича на весь вагон:
– Вот полюбуйтесь! Еще один сгорел на работе. «Местком и администрация с глубокой скорбью извещают о преждевременной смерти…» Не уберегли, не доглядели. Теперь объявлениями не поможешь!..
Прибыв на место службы и грустно поздоровавшись, Капитулов садился и с глубоким вздохом поднимал штору шведского стола.
– Что-то Виталий сегодня бледнее обыкновенного, – шептали служащие друг другу, – ведь его беречь надо.
– В самом деле, у нас такое хамское отношение к людям, что только диву даешься.
– Вчера мне Виталий жаловался. Столько, говорит, работы навалили, что не надеется долго прожить. Ну, я по человечеству, конечно, пожалел. Взял его работу и сам сделал.
– Как бы не умер, в самом деле. А то потом неприятностей не оберешься. Скажут, не уберегли, не доглядели. Просто ужас.
Капитулов задремал над чистой бухгалтерской книгой.
– Тише! – бормотали сослуживцы. – Не надо его беспокоить. Опять он, наверно, всю ночь не спал, соседи гармошкой замучили. Вчера он жаловался. Действительно, люди – типичные звери.
К концу служебного дня Виталий смотрел на календарь и с иронией говорил:
– У нас всегда так. Где же нам догнать и перегнать при таком отношении к людям? Не умеют у нас беречь человека. Видите, опять пятнадцатое число. Нужно отрываться от дела, бежать в кассу, стоять в очереди за жалованьем, терять силы. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли…
Старый граф умирал.
Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: «Отправляясь в гости, собирайте кости». Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок.
До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось.
Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало также подумать и о боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам.
– Я умираю в антисанитарных условиях, – бормотал он сварливо. – До сих пор не могли потолка побелить.
И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало. В письме указывалось, что деньги, внесенные за могилу, возвращению не подлежат, но что если тело месье Средиземского при документах, подтверждающих право месье на могильный участок, прибудет в Ниццу, то оно будет действительно погребено на ниццском кладбище. Причем расходы по преданию тела земле, конечно, целиком ложатся на месье.
Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело против трех вузовцев – Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше.
Вражда его к молодым людям возникла обычным путем. В домовой стенгазете появилась раскрашенная карикатура, изображавшая графа в отвратительном виде – с высокими ушами и коротеньким туловищем. Под рисунком была стихотворная подпись:
В нашем доме номер семь
Комната найдется всем.
Здесь найдешь в один момент
Классово чуждый элемент.
Что вы скажете, узнав,
Что Средиземский – бывший граф?!
Под стихами была подпись: «Трое».
Средиземский испугался. Он засел за опровержение, решив в свою очередь написать его стихами. Но он не мог достигнуть той высоты стихотворной техники, которую обнаружили его враги. К тому же к Шкарлато, Пружанскому и Талмудовскому пришли гости. Там щипали гитару, затягивали песни и боролись с тяжким топотом. Иногда сверху долетали возгласы: «… Энгельс его ругает, но вот Плеханов…» Средиземскому удалась только первая строка: «То, что граф, я не скрывал…» Опровергать в прозе было нечего. Выпад остался без ответа. Дело как-то замялось само по себе. Но обиды Средиземский забыть не мог. Засыпая, он видел, как на темной стене на манер валтасаровских «мене, текел, фарес» зажигаются три фосфорических слова:
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ, ТАЛМУДОВСКИЙ
Вечером в переулке стало тепло и темно, как между ладонями. Кушеточные пружины скрипели. Беспокойно умирал граф. Уже неделю тому назад у него был разработан подробный план мести молодым людям. Это был целый арсенал обычных домовых гадостей: жалоба в домоуправление на Шкарлато, Пружанского и Талмудовского с указанием на то, что они разрушают жилище, анонимное письмо в канцелярию вуза за подписью «Друг просвещения», где три студента обвинялись в чубаровщине и содомском грехе, тайное донесение в милицию о том, что в комнате вузовцев ночуют непрописанные подозрительные граждане. Граф был в курсе современных событий. Поэтому в план его было включено еще одно подметное письмо – в университетскую ячейку с туманным намеком на то, что партиец Талмудовский вечно практикует у себя в комнате правый уклон под прикрытием «левой фразы».
И все это еще не было приведено в исполнение. Помешала костлявая. Закрывая глаза, граф чувствовал ее присутствие в комнате. Она стояла за пыльным славянским шкафом. В ее руках мистически сверкала коса. Могла получиться скверная штука: граф мог умереть неотмщенным.
А между тем оскорбление надо было смыть. Предки Средиземского всевозможные оскорбления смывали обычно кровью. Но залить страну потоками молодой горячей крови Шкарлато, Пружанского и Талмудовского граф не мог. Изменились экономические предпосылки. Пустить же в ход сложную систему доносов было уже некогда, потому что графу оставалось жить, как видно, только несколько часов.
Надо было придумать взамен какую-нибудь сильно действующую быструю месть.
Когда студент Талмудовский проходил дворик дома, озаренный жирной греческой луной, его окликнули. Он обернулся. Из окна графской комнаты манила его костлявая рука.
– Меня? – спросил студент удивленно.
Рука все манила, послышался резкий павлиний голос Средиземского:
– Войдите ко мне. Умоляю вас. Это необходимо. Талмудовский приподнял плечи. Через минуту он уже сидел на кушетке в ногах у графа. Маленькая лампочка распространяла в комнате тусклый бронзовый свет.
– Товарищ Талмудовский, – сказал граф, – я стою на пороге смерти. Дни мои сочтены.
– Ну, кто их считал! – воскликнул добрый Талмудовский. – Вы еще поживете не один отрезок времени.
– Не утешайте меня. Своей смертью я искуплю все то зло, которое причинил вам когда-то.
– Мне?
– Да, сын мой! – простонал Средиземский голосом служителя культа. – Вам. Я великий грешник. Двадцать лет я страдал, не находя в себе силы открыть тайну вашего рождения. Но теперь, умирая, я хочу рассказать вам все. Вы не Талмудовский.
– Почему я не Талмудовский? – сказал студент. – Я Талмудовский.
– Нет. Вы никак не Талмудовский. Вы – Средиземский, граф Средиземский. Вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью люди не лгут. Вы мой сын, а я ваш несчастный отец. Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас.
Но ответного прилива нежности не последовало. Талмудовский вскочил, и с колен его шлепнулся на пол толстый том Плеханова.
– Что за ерунда? – крикнул он. – Я Талмудовский! Мои родители тридцать лет живут в Тирасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Талмудовского.
– Это не ваш отец, – сказал старик спокойно. – Ваш отец здесь, умирает на кушетке. Да. Это было двадцать два года тому назад. Я встретился с вашей матерью в камышах на берегу Днестра. Она была очаровательная женщина, ваша мать.
– Что за черт! – восклицал длинноногий Талмудовский, бегая по комнате. – Это просто свинство!
– Наш полк, – продолжал мстительный старик, – гвардейский полк его величества короля датского, участвовал тогда в больших маневрах. А я был великий грешник. Меня так и называли – Петергофский Дон-Жуан. Я соблазнил вашу мать и обманул Талмудовского, которого вы неправильно считаете своим отцом.
– Этого не может быть!
– Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон! Мужайтесь, сын мой! Я предвижу, что вас вычистят также из университета. А в доме про вас будут стихи сочинять, как про меня написали: «Что вы скажете, узнав, что Талмудовский бывший граф?» Но я узнаю в вас, дитя мое, благородное сердце графов Средиземских, благородное, смелое и набожное сердце нашего рода, последним отпрыском коего являетесь вы. Средиземские всегда верили в бога. Вы посещаете церковь, дитя мое?
Талмудовский взмахнул рукой и с криком «к чертовой матери!» выскочил из комнаты. Тень его торопливо пробежала по дворику и исчезла в переулке. А старый граф тихо засмеялся и посмотрел в темный угол, образованный шкафом. Костлявая не казалась ему уже такой страшной. Она дружелюбно помахивала косой и позванивала будильником. На стене снова зажглись фосфорические слова, но слова «Талмудовский» уже не было. Пылали зеленым светом только две фамилии:
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ
В это время во дворике раздался веселый голос:
– По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! По моря-ам, морям, морям, морям!
То возвращался домой с карнавала на реке веселый комсомолец Пружанский. Его узкие белые брюки сверкали под луной. Он торопился. Дома ждал его маринованный судак в круглой железной коробочке.
– Товарищ Пружанский! – позвал граф, с трудом приподняв к окну свою петушиную голову. – А, товарищ Пружанский!
– Это ты, Верка? – крикнул комсомолец, задрав голову.
– Нет, это я, Средиземский. У меня к вам дело. Зайдите на минуточку.
Через пять минут пораженный в самое сердце Пружанский вертелся в комнате, освещенной бронзовым светом. Он так суетился, словно на него напали пчелы.
А старый граф, придерживая рукой подбородок, длинный и мягкий, как кошелек, плавно повествовал:
– Я был великий грешник, сын мой. В то время я был блестящим офицером гвардейского его величества короля датского полчка. Мой полк участвовал тогда в больших маневрах у Витебска. И там я встретил вашу мать. Это была очаровательная женщина, хотя и еврейка. Я буду краток. Она увлеклась мною. А уже через девять месяцев в бедной квартире портного Пружанского зашевелился маленький красный комочек. И этот комочек были вы, Пружанский.
– Почему вы думаете, что этот красный комочек был именно я? – слезливо спросил Пружанский. – То есть я хочу спросить, почему вы думаете, что отцом этого красного комочка были именно вы?
– Эта святая женщина любила меня, – самодовольно ответил умирающий. – Это была чистая душа, хотя и еврейка. Она рассказала мне, кто настоящий отец ее ребенка. Этот отец – я. И этот сын – вы. Вы мой сын, Яша. Вы не Пружанский. Вы – Средиземский. Вы граф! А я великий грешник, меня даже в полчку так и называли – Ораниенбаумский Дон-Жуан. Обнимите меня, молодой граф, последний отпрыск нашего угасающего рода.
Пружанский был так ошеломлен, что с размаху обнял старого негодяя. Потом опомнился и с тоской сказал:
– Ах, гражданин Средиземский, гражданин Средиземский! Зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет?
Старый граф участливо смотрел на своего второго, единственного, сына, кашляя и наставляя:
– Бедное благородное сердце! Сколько вам еще придется испытать лишений! Из комсомола, конечно, вон. Да я надеюсь, что вы и сами не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза – вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы Средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок! Не видишь разве, что я здесь умираю на кушетке?
– Не может этого быть, – отчаянно сказал Пружанский.
– Однако это факт, – сухо возразил старик. – Умирающие не врут.
– Я не граф, – защищался комсомолец.
– Нет, граф.
– Это вы граф.
– Оба мы графы, – заключил Средиземский. – Бедный сын мой. Предвижу, что про вас напишут стихами: «Что вы скажете, узнав, что Пружанский просто граф?»
Пружанский ушел, кренясь набок и бормоча: «Значит, я граф. Ай-ай-ай!»
Его огненная фамилия на стене потухла, и страшной могильной надписью висело в комнате только одно слово:
ШКАРЛАТО
Старый граф работал с энергией, удивительной для умирающего. Он залучил к себе беспартийного Шкарлато и признался ему, что он, граф, великий грешник. Явствовало, что студент – последний потомок графов Средиземских и, следовательно, сам граф.
– Это было в Тифлисе, – усталым уже голосом плел Средиземский. – Я был тогда гвардейским офицером…
Шкарлато выбежал на улицу, шатаясь от радости. В ушах его стоял звон, и студенту казалось, что за ним по тротуару волочится и гремит белая сабля.
– Так им и надо, – захрипел граф. – Пусть не пишут стихов.
Последняя фамилия исчезла со стены. В комнату влетел свежий пароходный ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах.
В эту ночь все три студента не ночевали дома. Они бродили по фиолетовым улицам в разных концах города, пугая своим видом ночных извозчиков. Их волновали разнообразные чувства.
В третьем часу утра Талмудовский сидел на гранитном борту тротуара и шептал:
– Я не имею морального права скрыть свое происхождение от ячейки. Я должен пойти и заявить. А что скажут Пружанский и Шкарлато? Может, они даже не захотят жить со мной в одной комнате. В особенности Пружанский. Он парень горячий. Руки, наверно, даже не подаст.
В это время Пружанский в перепачканных белых брюках кружил вокруг памятника Пушкину и горячо убеждал себя:
– В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского, насквозь пропитанного режима. Я не хочу быть графом. Рассказать невозможно, Талмудовский со мной просто разговаривать не станет. Интересно, как поступил бы на коей месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно. Ай-ей-ей! А что скажет Шкарлато? Втерся, скажет, примазался. Он хоть и беспартийный, но страшный активист. Ах, что он скажет, узнав, что я, Пружанский, бывший граф! Скрыть, скрыть!
Тем временем активист Шкарлато, все еще оглушаемый звоном невидимого палаша, проходил улицы стрелковым шагом, время от времени молодецки вскрикивая:
– Жаль, что наследства не оставил. Чудо-богатырь. Отец говорил, что у него имение в Черниговской губернии. Хи, не вовремя я родился! Там теперь, наверно, совхоз. Эх, марш вперед, труба зовет, черные гусары! Интересно, выпил бы я бутылку рома, сидя на оконном карнизе? Надо будет попробовать! А ведь ничего нельзя рассказать. Талмудовский и Пружанский могут из зависти мне напортить. А хорошо бы жениться на графине! Утром входишь в будуар…
Первым прибежал домой Пружанский. Дрожа всем телом, он залег в постель и кренделем свернулся под малиновым одеялом. Только он начал согреваться, как дверь раскрылась, и вошел Талмудовский, лицо которого имело темный, наждачный цвет.
– Слушай, Яшка, – сказал он строго. – Что бы ты сделал, если бы один из нас троих оказался сыном графа?
Пружанский слабо вскрикнул.
«Вот оно, – подумал он, – начинается».
– Что бы ты все-таки сделал? – решительно настаивал Талмудовский.
– Что за глупости? – совсем оробев, сказал Пружанский. – Какие из нас графы!
– А все-таки? Что б ты сделал?
– Лично я?
– Да, ты лично.
– Лично я порвал бы с ним всякие отношения!
– И разговаривать не стал бы? – со стоном воскликнул Талмудовский.
– Нет, не стал бы. Ни за что! Но к чему этот глупый разговор?
– Это не глупый разговор, – мрачно сказал Талмудовский. – От этого вся жизнь зависит.
«Погиб, погиб», – подумал Пружанский, прыгая под одеялом, как мышь.
«Конечно, со мной никто не будет разговаривать, – думал Талмудовский. – Пружанский совершенно прав».
И он тяжело свалился на круглое, бисквитное сиденье венского стула. Комсомолец совсем исчез в волнах одеяла. Наступило длительное, нехорошее молчание. В передней раздались молодцеватые шаги, и в комнату вошел Шкарлато.
Долго и презрительно он оглядывал комнату.
– Воняет, – сказал он высокомерно. – Совсем как в ночлежном доме. Не понимаю, как вы можете здесь жить. Аристократу здесь положительно невозможно.
Эти слова нанесли обоим студентам страшный удар. Им показалось, что в комнату вплыла шаровидная молния и, покачиваясь в воздухе, выбирает себе жертву.
– Хорошо быть владельцем имения, – неопределенно сказал Шкарлато, вызывающе поглядывая на товарищей. – Загнать его и жить на проценты в Париже. Кататься на велосипеде. Верно, Талмудовский? Как ты думаешь, Пружанский?
– Довольно! – крикнул Талмудовский. – Скажи, Шкарлато, как поступил бы ты, если бы обнаружилось, что один из нас тайный граф?
Тут испугался и Шкарлато. На лице его показался апельсиновый пот.
– Что ж, ребятки, – забормотал он. – В конце концов нет ничего особенно страшного. Вдруг вы узнаете, что я граф. Немножко, конечно, неприятно… но…
– Ну, а если бы я? – воскликнул Талмудовский.
– Что ты?
– Да вот… оказался графом.
– Ты, графом? Это меня смешит.
– Так вот я граф… – отчаянно сказал член партии.
– Граф Талмудовский?
– Я не Талмудовский, – сказал студент. – Я Средиземский. Я в этом совершенно не виноват, но это факт.
– Это ложь! – закричал Шкарлато. – Средиземский – я.
Два графа ошеломленно меряли друг друга взглядами. Из угла комнаты послышался протяжный стон.
Это не выдержал муки ожидания, выплывая из-под одеяла, третий граф.
– Я ж не виноват! – кричал он. – Разве я хотел быть графским сынком? Любовный эксцесс представителя насквозь прогнившего…
Через пятнадцать минут студенты сидели на твердом, как пробка, матраце Пружанского и обменивались опытом кратковременного графства.
– А про полчок его величества короля датского он говорил?
– Говорил.
– И мне тоже говорил. А тебе, Пружанский?
– Конечно. Он сказал еще, что моя мать была чистая душа, хотя и еврейка.
– Вот старый негодяй! Про мою мать он тоже сообщил, что она чистая душа, хотя и гречанка.
– А обнимать просил?
– Просил.
– А ты обнимал?
– Нет. А ты?
– Я обнимал.
– Ну и дурак!
На другой день студенты увидели из окна, как вынесли в переулок желтый гроб, в котором покоилось все, что осталось земного от мстительного графа. Посеребренная одноконная площадка загремела по мостовой. Закачался на голове смирной лошади генеральский белый султан. Две старухи с суровыми глазами побежали за уносящимся гробом. Мир избавился от великого склочника.
На берегу реки N живописно раскинулся город N. Впрочем, не будем делать загадочного лица… Скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат:
ПИЩА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища… Именно этого недоучел ярославский коопзаведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным.
Иной начстоловой, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить в столовой рукомойник. Где ему помнить о скучных мелочах! Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора.
Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами.
Они никогда не говорят «еда» или «кушанье». Они говорят «питание». Не «накормить посетителя», а «охватить едока». Блюда у них не «порционные», а «учебно-показательные». Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц.
И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе.
Вводи в организм горячую пищу и разные закуски
Не отвлекайся во время еды разговором, это мешает правильному выделению желудочного сока
Фруктовые воды сулят нам углеводы
Просят о скатерти руки не вытирать
А скатертей и вовсе нет. Столы накрыты липкой нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы цепями к ножке стола (чтоб не украли). И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью:
Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи
В обеденные часы заведующий-мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов «А» пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года.
А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует:
– Почему эти калории такие невкусные! И витамины какие-то неудобоваримые!
О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог:
– Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготовляются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички – и те выделываются в зависимости от толщины потребительской шеи! А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок.
Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия пищи большое значение.
Едят везде. Едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино, едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах, помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения, но теперь, с выпуском сорокаместного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест, где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека.
Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу, каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде.
Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай соответственно холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадается под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлении ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса.
Как-то незаметно выработалось не писанное и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль.
Если на вывеске написано «Ресторан», то обязательно в помещении чисто, есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из пяти-шести блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения: «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки – первая дверь направо». Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из трех человек играет «Турецкий марш» Моцарта.
Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении не чисто, высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка, меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок, в каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет – музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.
Начинается это так.
Старый халтуртрегер Многопольский получает письмо, отпечатанное на узкой полоске папиросной бумаги. Многопольского приглашают срочно пожаловать на кинофабрику для ведения переговоров.
Подсознательно чуя, что за папиросной бумажкой скрываются другие бумажки, значительно большей плотности и даже снабженные водяными знаками, литератор быстро является в соответствующий кабинет, где его уже поджидает задумчивая коллегия из девяти человек.
В кабинете имеется только один стул, на котором сидит начальник сценарной части. Остальные начальники разместились на батареях центрального отопления. В комнате грязно, а на столе почему-то стоит чучело филина об одном глазу. На кинофабриках всегда имеются какие-то странные предметы: то медведь с резным блюдом на вытянутых лапах, то автомат для выбрасывания перронных билетов, а то бюст Мазепы.
Коллегия сообщает Многопольскому, что ему пора уже включиться в работу кино и написать сценарий. Многопольский отвечает, что и сам давно хочет включиться и, так сказать, подойти вплотную. Посему, ввиду отсутствия разногласий по творческим вопросам, стороны, улыбаясь, приступают к подписанию типового договора.
– Аванс вы сможете получить уже сегодня, – ласково говорит начальник сценарной части, – но сначала вы нам напишите краткое либретто.
– Видите, – морщится Многопольский, – либретто у меня еще как-то не сложилось.
– Ну, так примерную тему напишите.
– Тема тоже как-то еще не сложилась, не отлилась…
– Ну, что-нибудь напишите!
– То есть как что-нибудь?
– Ну, что-нибудь, чтоб, одним словом, была бумажка, оправдательный документ.
Многопольский наваливается животом на стол и проворно набрасывает краткую заметку, в которой очень часто встречаются выражения: «в плане» и «в разрезе».
Одноглазый филин печально смотрит на халтуртрегера. Он знает, чем все это кончится.
В первый месяц совесть не слишком мучит Многопольского. Он не включается и не подходит вплотную к кинодеятельности и в последующие четыре месяца. И только, когда ему приносят на тонкой папиросной бумаге приглашение в двадцать четыре часа сдать сценарий или в тот же срок вернуть полученный аванс, Многопольский чувствует, что спасения нет. Но он крепится. Даже опись имущества не толкает его к исполнению договора. Он надеется на чудо. Но чудо не приходит. Вместо него, стуча сапогами по лестнице, в квартиру литератора подымаются возчики. Они приехали за мебелью.
Тут больше нельзя тянуть ни одной секунды. Многопольский запирает дверь на ключ и, покуда возчики стучатся и грозят милицией, пишет со сверхъестественной быстротой:
ЕЕ БЕТОНОМЕШАЛКА
Сценарий в 8 актах.
1. Из диафрагмы: Трубы и колеса.
2. Крупно: Маховое колесо.
3. Крупно: Из мелькающих спиц колеса выплывает лицо молодой ударницы Авдотьюшки.
4. Надпись: «На фоне все усиливающегося кризиса капитализма цветет и наполняется индустриальным содержанием красавица Дуня».
Пишется легко и быстро, к тому же подбадривают крики и ругательства возчиков на лестничной площадке. В ту минуту, когда силами подоспевшей милиции взламывается дверь, сценарий «Ее бетономешалка» готов.
На киноколлегию сценарий производит двойственное впечатление. Им, собственно, сценарий нравится, но они, собственно, ожидали чего-то другого. Чего они ждали, они и сами не знают, но чего-то ждали, чего-то большего.
Начальники отделов тоскливо мычат, маются, не находят себе места. Однако тот факт, что перед ними лежит рукопись, бумажка, какой-то оправдательный документ, их удовлетворяет.
– Все-таки есть от чего оттолкнуться, – говорит начальник сценарного отдела, стараясь не смотреть на мудрого филина. – Но, безусловно, надо кое-что добавить.
– Что ж, можно, – с готовностью отвечает Многопольский. – А что именно?
– Ну, что-нибудь такое. Чтоб все-таки было видно, что над сценарием работали, исправляли, переделывали.
– Тут, например, – раздается равнодушный голос с подоконника, – недостаточно отражена проблема ликвидации шаманизма в калмыцких степях.
– Шаманизма? – бормочет Многопольский, сильно напуганный возчиками. – У меня, между прочим, действие развертывается в ЦЧО, но вопросы шаманизма можно вставить. Я вставлю.
Литератора просят также вставить еще вопросы весенней путины и разукрупнения домовых кустов, а также провернуть проблему вовлечения одиноких пожилых рабочих в клубный актив.
– Можно и пожилых, – соглашается Многопольский, – можно и одиноких.
При виде сценария, изготовленного в плане индустриальной поэмы и в разрезе мобилизации общественного внимания на вопросах борьбы с шаманизмом и жречеством в калмыцких степях, режиссер зеленеет. Немеющей рукой он отталкивает сочинение.
– Душечка, – шепчет ему начальник производственного отдела, – так нельзя. За сценарий деньги плачены. Надо ставить.
– Но ведь это написано в плане бреда, – лепечет режиссер.
Все же в конце концов ставить картину он соглашается. Как-никак оправдательный документ у него есть. Дали ему ставить, он и ставит. Кроме того, прельщает возможность съездить в калмыцкие степи, подобрать интересный экзотический типаж.
Через год в маленьком просмотровом зале задумчивая коллегия принимает картину. Когда зажигается свет, озаряя перекошенные ужасом лица, начальник всей фабрики сурово говорит:
– Картину надо спасать! В таком виде она, конечно, показана быть не может.
– Я думаю, что сюда надо что-нибудь вставить, – говорит молодой человек, которого видят здесь в первый раз и который неизвестно как сюда попал.
Коллегия с надеждой смотрит на молодого человека.
– Конечно, переработать, – продолжает неизвестный. – Во-первых, нужно выкинуть весь мотив бетономешалки. Дуня должна заняться соевой проблемой. Это теперь модно, и картина определенно выиграет. И потом, почему активист Федосеич не перевоспитал шамана? В чем дело?
– Так его сразу и перевоспитаешь! – бурчит режиссер.
– А очищающий огонь революции вы забыли? – торжествующе спрашивает молодой человек.
После такого неотразимого аргумента спасать картину поручают именно ему. Спасение продолжается долго, очень долго и почему-то влечет за собой экспедицию в Кавказскую Ривьеру.
После нового просмотра (картина называется теперь «Лицо пустыни») члены коллегии боятся смотреть друг другу в глаза. Ясно одно – картину надо снова спасать. Несуразность событий, развертывающихся в картине, настолько велика, что ее решают трактовать в плане гротескного обозрения – ревю с введением мультипликации и юмористических надписей в стихах.
– Вот кстати, – кричит заведующий какой-то частью, – я как раз получил циркуляр о необходимости культивировать советскую комедию.
И все сразу успокаиваются. Бумажка есть, все в порядке, можно и комедию.
Два выписанных из Киева юмориста быстро меняют характер индустриально-соевой поэмы. Все происходящее в картине подается в плане сна, который привиделся пьяному несознательному Федосеичу.
Наконец, устав бороться с непонятным фильмом, его отправляют в прокат. Его спихивают куда-то в дачные кино, в тайной надежде, что пресса до него не докопается.
И долго коллегия сидит в печальном раздумье: «Почему же все-таки вышло так плохо? Уж, кажется, ничего не жалели, все отразили, проблемы все до одной затронули! И все-таки чего-то не хватает. В чем же дело?»
Для всех граждан лето кончилось. Граждане уже ходят в калошах, покорно ожидают гриппа, часто подходят к трубам центрального отопления и ласкают их холодными пальцами.
А для ревнителей футбола – лето еще в самом разгаре. Тесно сидят они на стадионе, накрыв головы газетами, и по их щекам стекают толстые капли. И неизвестно – дождь ли бежит по щекам ревнителей или слезы восторга перед классной игрой.
Несколько раз в году бывают светлые и удивительные, почти что противоестественные дни, когда в Москве не происходит ни одного заседания. Не звенят в эти дни председательские колокольчики, никто не просит слова к порядку ведения собрания, не слышны замогильные голоса докладчиков.
Все ушли. Ушли на стадион «Динамо» смотреть футбол.
Со всех сторон на Страстную площадь стекаются любители футбольной игры, юные и пожилые ревнители физкультуры. Отсюда на стадион «Динамо» ведет прямая дорога. Отсюда многотысячные толпы идут напролом.
Именно здесь, на этой прямой, образованной из Тверской улицы, Ленинградского шоссе и «показательного километра», произошел первый и пока единственный в мире случай, когда пешеходы задавили автомобиль.
Повторяем. Не автомобиль задавил пешехода, а пешеходы задавили автомобиль.
Драма разыгралась на «показательном километре». Нетерпеливые ревнители футбола, завидев шероховатые серые бастионы «Динамо», просвечивавшие сквозь кущи Петровского парка, развили недозволенную скорость и мгновенно смяли мирно пересекавший дорогу «фордик», модель «А». «Форд» визжал, как зайчик. Но было поздно. По нему прошло пятьдесят тысяч человек, после чего потерпевший, естественно, был сдан в утиль.
На этой же прямой некая старушонка, прибывшая из Можайска в день матча, безрезультатно простояла в трамвайной очереди восемь часов кряду и, так ничего и не поняв, уехала обратно в Можайск.
Положение обыкновенных граждан в такой день ужасно. Все пути сообщения заняты любителями. Размахивая руками и громко делясь догадками насчет предстоящей игры, они захватывают вагоны, мостовые, тротуары, окружают одиночные такси и с молящими лицами просят шофера отвезти их на стадион, просят как нищие, со слезами на глазах.
В общем, так или иначе, счастливые обладатели билетов (обычно это организованные через завкомы зрители) подбираются к стадиону. Здесь их ожидают еще большие толпы. Это неорганизованные зрители, которые билетов не достали и не достанут. Пришли они в надежде на чудо.
Расчет простой: у кого-нибудь из пятидесяти тысяч заболеет жена или приятель. «Бывают же такие случаи», – мечтает неорганизованный зритель. И этот «кто-нибудь» продает свой билет. Или вдруг какой-нибудь полусумасшедший индивидуум, пробившись к самым воротам северной трибуны, раздумает; вдруг кто-то не захочет идти на матч. И тоже продаст свой билет.
Но напрасно неорганизованный зритель умильно заглядывает в глаза зрителя организованного и шепчет:
– Нет у вас лишнего билетика?
Все напрасно. Жены и приятели в такой день не болеют, а полусумасшедших индивидуумов и вовсе нет.
Утверждают, впрочем, что какой-то оригинал предложил свободный билет на круглую трибуну. Едва он сообщил об этом, как утонул в толпе неорганизованных зрителей. Минуты две продолжалось тяжелое топтанье и возня, а когда все разошлись с раскрасневшимися лицами, на месте происшествия были найдены только две пиджачные пуговицы и кучка пепла. И никто до сих пор не знает, куда девался опрометчивый собственник билета.
За полчаса до начала матча, когда зритель идет косяком, как сельдь, а машины, собравшиеся со всей Москвы, выстраиваются в длинную веселую ленту, кинофабрика высылает съемочную группу, которая быстро накручивает кадры, изображающие уличное движение в Нью-Йорке. Это необходимо для картины «Акула капитала».
Бетонные откосы стадиона заняты сплошь. На северной трибуне зрители разворачивают пакетики и, волнуясь, закусывают (они не успели пообедать). На южной, солнечной, трибуне устраивают из газет дурацкие смешные треугольники и фунтики и напяливают их на головы.
Наконец звучит четырехтонный судейский гудочек. Все невольно вздыхают. Курящие заранее закуривают, чтобы потом не отвлекаться, а некурящие кладут в рот мятные драже «пектус» и нервно цокают языками.
Матч проходит с возмущающей душу любителя быстротой. Хотя игра длится полтора часа, но любителю чудится, что его обманули, что играли только две минуты. И даже в эти две минуты судья был явно пристрастен к одной из сторон. Любителю всегда кажется, что судья кривит душой и неверно судит, что нападающая пятерка недостаточно быстро бегает, а левый край вообще ни к черту, размагнитился окончательно, и гол дали с офсайта, и вообще, будь он, любитель, на поле, все было бы гораздо интересней, правильней и лучше.
Но все же любитель футбола хороший и настоящий человек. Он молод. Он волнуется, кипит, болеет душой, высоко ценит дружную игру команды, точную передачу мяча и верный удар по воротам. Он не любит мазунов и так называемых индивидуалов, которые «заматываются», играют сами за себя и портят всю чудесную музыку футбола.
Ни одно зрелищное предприятие не может похвалиться такой обширной рабочей аудиторией, как стадион в день большого международного матча. «Рабочая полоса» занимает здесь девять десятых всех мест.
Конец второго тайма проходит в сумерках. Над полем пролетает тяжелый почтовый самолет. Он еще освещен солнцем, а на трибунах уже ясно видны спичечные вспышки. В эту тихую минуту, когда, для того чтобы отыграться, остается только несколько драгоценных мгновений и игра достигает предельного напряжения, с места поднимается первый пижон в белой замшевой кепке и, ступая по ногам, устремляется к выходу. Его увлекает мечта попасть в пустой вагон трамвая. Сейчас же, вслед за этим событием, определяется число пижонов, присутствующих на матче. Их примерно три тысячи человек. Они срываются с места и, обезумев, бегут к выходу. Это жалкие люди, которым трамвай дороже футбола. Их презирают как штрейкбрехеров.
В то время как они с визгом, кусая друг друга, борются за местечко на конечной остановке трамвая, весь массив зрителей переживает последние неповторимые комбинации футбольного боя.
И еще минуту спустя после финального свистка все сидят неподвижно, встают без суеты и чинно выходят на шоссе, поднимая облака пыли. Тут, на «показательном километре», обсуждается игра и выносятся окончательные суждения о том или ином игроке.
Здесь плохо приходится одиночке. Хочется поделиться, а поделиться не с кем. С жалобной улыбкой подбегает одиночка к группам и заговаривает с ними. Но все заняты спором, и появление нового собеседника встречается холодно. Плохо одиночке!
На последнем большом матче приключилась беда с великим любителем футбола. Он был на стадионе в большой компании, но при выходе растерял приятелей в толпе. И случилось для него самое ужасное – не с кем было поделиться впечатлениями.
Он метался среди чужих равнодушных спин, не зная, что делать. Впечатления распирали его. И, не будучи в силах сдержать чувства, он решил послать кому-нибудь телеграмму. Но кому?
Результатом всего этого явилось следующее происшествие: в городе Сызрани, ночью, почтальон разбудил мирного служащего, дядю указанного любителя, и вручил ему телеграмму. Долго стоял захолустный дядя, переступая босыми ногами по холодному полу и силясь разобрать непонятную депешу:
«Поздравляю счетом три два пользу сборной тчк Турции выделялся левый край Ребии зпт большим тактом судил Кемаль Рифат зпт обрадуй тетю».
Дядя не спал всю ночь. Тетя плакала и тоже ничего не понимала.
Тем временем Эдисон начал производить какие-то непонятные манипуляции. Покрыв барабан тонким сквозным листом, он принялся вращать ручку, одновременно произнося слова бессмертного стихотворения:
У Мери была маленькая овечка,
Маленькая овечка была у Мери.
Затем он привел цилиндр в исходное положение, снял с него первую покрышку, заменил ее другой и снова принялся вертеть ручку в первоначальном направлении. Вдруг негромко, но явственно послышался голос Эдисона, рассказывающий достопамятное приключение Мери и овечки.
Так появился на свет младенец-граммофон, лепеча приличествующие его возрасту детские стишки. Это было в 1877 году.
С тех пор граммофон вырос, возмужал в неимоверной степени, сильно поистаскался от блудливой жизни и в 1931 году, совершенно забыв о маленькой невинной Мери, передает речитативное бормотание джаз-квартета:
Как тебе не стыдно красть в воскресенье,
Когда для этого есть —
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.
Как тебе не стыдно изменять жене в воскресенье,
Когда для этого есть —
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота.
Тем временем Музтрест производил какие-то непонятные манипуляции. За время длинного пути от овечки к джазу граммофон потерял трубу. Но в Музтресте долго не могли свыкнуться с исчезновением этого чудного придатка. Там, как видно, считали, что граммофон с ужасной железной трубой – это инструмент, идеологически выдержанный, достойный того, чтобы его изготовлять на советских фабриках, а граммофон-чемодан – это символ разложения, бытового загнивания и даже сползания в мелкобуржуазное болото. В связи с этим граммофон без трубы долго находился под подозрением.
Собственно говоря, пропасть между хорошим портативным граммофоном и советской общественностью образовалась не случайно. Ее вырыли молодые пижоны.
Покуда общественность в различных конференц-залах яростно дискуссировала вопросы театра, литературы и кино, покуда выясняли, кто похитил три такта из песенки «Пой, ласточка, пой», покуда горячо спорили, какие нужно делать фильмы – хорошие или плохие – и сколько шагов назад сделал Камерный театр, пижоны завладели граммофоном.
Молодые люди в широких сиреневых панталонах и дамских беретах с превеликими трудами обзавелись заграничными граммофонами и, виляя бедрами, пустились в пляс. В квартирах под шелковыми абажурами замяукали, засвистали немецкие и американские джазы. Рев стоял страшный.
«Как она прекрасна, когда переходит улицу», – стонали граммофоны.
«Я не имею беби», – жаловался томный голос.
«Август, где твои волосы?
Обернувшись к граммофону, общественность только ахнула.
Оглушенные хрипом саксофонов, визгом каких-то особенных дудочек и топотом резиновых подошв, смутились даже умные люди. Граммофон-чемодан был скомпрометирован. И Музтрест, пользуясь смятением, с новой силой налег на выпуск громоздких купеческих граммофонов с расписными трубами.
Вслед за этими древними машинами протаскивался в массы соответствующий древний репертуар, который по мысли «знатоков рынка» должен был противостоять тлетворному влиянию фокстрота.
Выбор пластинок был велик.
И был примерно таков:
«Марш Буланже», соло на тубофоне.
«Мельница в лесу», сельская картинка в исполнении оркестра духовых инструментов с подражанием кукушке, пению петуха, водопаду и ропоту ручейков.
«От бутылки вина не болит голова», старинная русская песня в исполнении оркестра великодержавных инструментов.
«А болит у того, кто не пьет ничего», старинная русская песня…
«Был у Христа-младенца сад», романс.
Конечно, удовлетворялись и более высокие требования. Продавались пластинки с сольными ариями, симфонической музыкой, квартетами, вообще принимался во внимание любитель музыки.
Теперь предоставим слово любителю.
Однажды он в магазине Музтреста на Тверской купил четыре пластинки.
На одной была наклейка ««Риголетто», ария герцога». Но пластинка эта почему-то играла «Тоску», арию Каварадосси. На обороте была наклейка ««Тоска», ария Каварадосси». По счастливому стечению обстоятельств там оказалась ария герцога из «Риголетто».
Вторая пластинка сообщала: ««Богема», музыка Леонкавалло». С этим нововведением Музтреста примириться невозможно – «Богему» написал Пуччини, а не Леонкавалло.
На третьей пластинке Музтрест отказался от русского языка. Перешел на итальянский. Но привычка к ошибкам его не оставила. Вместо «Ла донна е мобиле» написано «Ла донна е нобиле». Написали просто по инерции. «Нобиле» – это известно, что такое, – генерал, которого спасали, а вот «мобиле» – это дело темное, чисто итальянское.
На четвертой пластинке этикетка была в порядке, но сама пластинка не играла. Раздавалось только шипенье и какие-то вздохи.
Слышал автор и увертюру к «Спящей красавице», где в музыку врывался стук молотка. Стучали где-то по соседству со студией. Очевидно, Музтрест перестраивал работу, воздвигая на сей предмет новую фанерную перегородку.
Общественность снова ахнула.
Нужно было срочно продискуссировать вопрос:
Что лучше: граммофон с трубой и с «Мельницей в лесу» или граммофон без трубы и с чарльстоном «Я не имею беби»?
Тут было над чем подумать.
И вдруг выяснилось, что лучше всего граммофон без трубы, без «Мельницы в лесу» и без «Я не имею». Оказалось, что нужен хороший легкий современный граммофон с хорошей современной пластинкой.
И эта мысль настолько актуальна, что ее необходимо в исполнении Качалова записать на пластинку и распространить среди потребителей.
Для начала новой граммофонной эры это будет очень хорошо.
Каждую весну в кругах, близких к малым формам искусства, начинает обсуждаться вопрос о Молоковиче.
– Куда девался Молокович?
– Действительно, был человек и вдруг исчез!
– Что могло случиться с Молоковичем? Неужели и его успели проработать и загнать в бутылку? А уж такой был бодрый, такой живучий.
– Может быть, он умер?
– Все возможно.
И в кругах, близких к малым формам искусства, качают головами.
– А какой был халтурщик! Прямо скажу – не халтурщик, а король-солнце, царь-кустарь! Помните, как он впихнул в птицеводческий журнал «Куриные ведомости» стишок про путину, героический стих о рыбе? И когда редактор стал упираться и кричать, что ему нужно о птицах, Молокович сразу нашелся. «Я, говорит, написал не про обычную рыбу, а про летающую. Так что это по вашему ведомству». В общем, схватил деньги и убежал.
– Да. Невероятный был человек!
И нельзя понять: говорятся эти слова с порицанием или с тайным восхищением.
Подходит лето. О Молоковиче начинают забывать. А осенью всем уже кажется, что никогда такого человека и не было, что все это журналистские басни, веселая сказка о чудо-богатыре.
И вдруг к 7-му ноября Молокович неожиданно возникает из небытия. И не просто возникает. Блеск, сопровождающий его появление, так ослепителен, что в кругах, близких к малым формам, только ахают.
Имя Валерьяна Молоковича появляется сразу в шестидесяти изданиях. Тут и еженедельники, и полудекадники, и двухнедельники, и ведомственные газеты, выходящие через день, и праздничные альманахи, и сборники молодежных песен, и бюллетени, и руководства для затейников. И во всех этих органах Валерьян Молокович уверенным голосом поет хвалу Октябрю и неустрашимо заявляет себя сторонником мировой революции.
– Да, этот умрет, – шепчут работники малых форм. – Дождешься. Смотрите, что он написал в альманахе «Гусляр-коллективизатор». Смотрите:
Призадумались ужи,
Нет у них родной межи,
Сдул Октябрь межей преграду.
Плохо нонче стало гаду.
Перед праздниками всех редакторов охватывает беспокойство. С утра до вечера длятся редакционные совещания. До зарезу нужны праздничные стихи. Во всех редакциях, будь это даже редакция журнала для диспетчеров или для специалистов по алюминию, считают, что в такой день выйти без стихов немыслимо.
А стихов нет.
– А может, можно как-нибудь в прозе отметить, – говорит молодой, неопытный сотрудник.
На него испуганно кричат:
– Вы с ума сошли! В такой день и вдруг без стихов!
– Кому заказать? Безыменский уехал. Жаров после юбилея стал какой-то гордый, Психович отказался… Кто же нам напишет? Тем более что нам нужен стих одновременно и юбилейный и чтоб была проблема увеличения яйценоскости кур. Эх! Некрасова нет!..
А Молокович уже стоит в коридоре. И в руках у Молоковича стих. И в стихе есть все: и октябрьская годовщина, и потребная проблема, и сверх программы – мотивы международной солидарности, и достойная отповедь румынским боярам, и производительность труда, и даже совершенно свежий вопрос – снижение цен на тридцать процентов. Когда только поэт успел, – понять невозможно. Лишь сегодня утром вышел декрет, а он уже отобразил его в художественной литературе.
Невероятный человек! Птица Сирин! Гений! Король-солнце!
Ну, как его не обласкать?
В предпраздничные дни Молокович мечется по городу, вручая редакциям свои сочинения. Так в дореволюционное время по квартирам ходили трубочисты и вручали стихотворение, напечатанное на отдельном листке бумаги и украшенное эмблемами дымоходного дела: лестницей, ложкой, гирей и гусиным крылом.
Стихи у трубочистов были незамысловатые:
Мы, трубочисты, поздравляем
Вас с новым годом, господа,
И с новым счастием, желаем
Отдохновенья вам всегда.
Трубочистам отвечали в прозе: «И вас также» – и давали полтинник.
Так бы надо поступать и с Молоковичем. Когда он является в редакцию и подает свое произведение, смысл которого, в общем, сводится к одному:
Я, Молокович, поздравляю
Вас с новым годом Октября,
Отдохновенья вам желаю
На дивном поприще труда, —
ему нужно отвечать: «И вас также». Полтинника при этом давать не нужно. Стихов тоже не нужно печатать.
И погибнет навеки король-солнце, невероятный человек, автор бесчисленных юбилейных песнопений – быстроногий Молокович.
В борьбе с халтурой, будничной и праздничной, установилась традиция – ругать только халтурщиков, совершенно забывая при этом о редакторах.
Это несправедливо.
С необыкновенным упорством цепляется цирк за свои стародавние традиции. В этом смысле он может сравниться разве только с английским парламентом.
Как уже сотни лет заведено, парламентский спикер носит длинный парик и сидит на мешке с шерстью. Так принято! И до сих пор шпрехшталмейстер выходит на арену в визитке и произносит свои реплики неестественным насморочным голосом. Так полагается!
Приезжая в парламент, король троекратно стучит в дверь и просит позволения войти, а члены палаты общин делают вид, что очень заняты и не имеют времени для разговора с королем. Так тоже принято! Клоун в цирке, закончив свой номер, устраивает эффектный уход с арены – ползет на четвереньках, оглушительно стреляя из наиболее возвышенной в эту минуту части тела. Так тоже полагается!
Вообще задавать цирковым деятелям вопросы, почему делается так, а не иначе, – бессмысленно.
Делается потому, что полагается. А почему полагается? Очень просто! Так принято. А вот почему принято – этого уже никто не знает.
И течет традиционная цирковая жизнь.
С сумерками зажигаются у входа электрические лампы, освещая огромный плакат. Здесь нарисован бледный красавец с черными усиками, который держит в вывернутой руке бич. Чудные лошади с русалочьими гривами пляшут перед ним на задних ногах. Это называется «Табло 30 лошадей».
Когда лошадиное табло под звуки туша предстает перед зрителем, все знающие счет могут засвидетельствовать, что лошадей всего лишь восемь.
Однако тут нет никакого жульничества. Просто так принято. На афише пишется тридцать, а на арену выводится восемь. И если бы появились внезапно все тридцать лошадей, то это было бы прямым нарушением традиций.
По этой же цирковой арифметике сорок пожилых львов называются: «100 львов», а пятнадцать крокодилят именуются: «60 нильских крокодилов, кайманов и аллигаторов».
Когда же на афише возвещается: «48 дрессированных попугаев. Чудо психотехники!» – то всем вперед известно, что будет только один дрессированный попугай, который умеет говорить два слова: «люблю» и «фининспектор». Остальные четыре попугая будут сидеть на металлической этажерочке с блестящими шариками, изредка переворачиваясь вниз головой для собственного удовольствия.
В антракте шпрехшталмейстер напыщенно сообщает публике, что желающие могут сходить в конюшню посмотреть зверей. За вход двадцать копеек. Дети бесплатно.
Почему надо платить еще по двадцати копеек, когда за билеты уже заплачено сполна, – неизвестно. Дирекция и сама этого не знает. Ей двугривенные, собственно, не так уж и нужны. Но традиция! Приходится брать. С детей, например, не берут. В традициях цирка – дружить с детьми.
В цирке есть некий военно-морской чин. Это капитан. Далеко не каждый может назваться капитаном. Акробаты, жонглеры, клоуны, наездники или роликобежцы никогда не бывают капитанами.
О, капитан – это тонкая штучка! Капитан – это укротитель львов, или тигров, или крокодилов. Но это еще не главный капитан.
Главный капитан совершает полет смерти.
Уже в начале представления зрители замечают какие-то новые, невиданные до сих пор приспособления: подвешенные к куполу рельсовые пути, решетчатые башенки и загадочный предмет, завернутый в брезент, который обычно висит над оркестром.
В антрактах капитан в розовом купальном халате ходит по балкону, собственноручно проверяя крепость тросов и других снастей. Капитан никому не доверяет. Капитан надеется только на самого себя.
К его номеру готовятся целый час. Стучат молотки, слышится иногда треск мотора, наконец появляется жена капитана, его братья и другие родственники. Моторы гудят еще сильнее, дается полный свет, и капитан мужественно выходит на арену.
На нем кожаный костюм, авиационный шлем и страшные мотоциклетные очки. Тут начинается прощанье. Так полагается.
Капитан целует жену. Жена сдерживает рыданья и жестами (по-русски говорить она не умеет) показывает, что она против этого смертельного номера. Она предчувствует, что сегодня произойдет несчастье. Капитан трясет руки братьям и родственникам. Братья качают головами. О, если бы они умели говорить по-русски! Они громко крикнули бы, что капитана нужно удержать от его безумного намерения. Даже шпрехшталмейстер подносит к глазам платок. Каждый вечер он наблюдает полет смерти и все же не может удержаться от слез.
Но капитан неумолим. Он делает публике прощальный жест рукой, отталкивает жену и садится в свой снаряд.
В общем, совместными усилиями дирекции и родственников капитана на публику нагоняют такой ужас, что многие бегут из цирка, чтобы не быть очевидцами гибели славнейшего из капитанов.
Самый номер занимает шесть секунд и в сравнении с подготовительными душераздирающими сценами кажется не таким уже страшным. Полет, конечно, трудный и опасный, но можно было бы обойтись и без пугания зрителя. Однако это не в традициях цирка.
Разговорный жанр оказался наиболее слабым местом в цирковых твердынях. Под напором худполитсоветов, печати и месткома традиция дала трещину. В репертуар просочилась современность. Музыкальные сатирики приобщились к эпохе.
Но здесь произошло нечто весьма недоброе. Одна плохая традиция сменилась другой плохой традицией. Цирку почему-то достались объедки со стола сатиры и юмора, и без того не блещущего обилием блюд.
И когда в программе появляется извещение о том, что выступят «авторы-юмористы и певцы-сатирики в современном репертуаре», то сомневаться не приходится – рефрен будет старый, так сказать, «доходящий» до публики, а куплеты некоторым образом идеологически выдержанные.
Все это делается по заведенному порядку.
Сначала на колесиках выезжает пианино, а за ним в блестках и муке выходят певцы-сатирики и начинают громить различные неполадки.
Первый сатирик:
Вчера зашел я в Лигу наций,
Там звали всех разоружаться…
Второй сатирик:
А ты не видел? У Бриана
Торчали пушки из кармана!
Публика печально слушает. Тогда сатирики выкладывают второй куплет, непосредственно относящийся к внутреннему положению.
Первый сатирик:
Вчера зашел я к нам в сберкассу
И видел там народа массу…
Второй сатирик:
А ты бы к Мейерхольду побежал,
Там публики ты б не застал.
В цирке очень любят обличать Мейерхольда. Там всегда про него поют обидные вещи.
Отдав долю современности и послужив кое-как отечеству, сатирики громко и радостно запевают, аккомпанируя себе на бычьих пузырях:
Первый сатирик:
Были ноги, как полено,
Стали юбки до колена…
Второй сатирик:
Теперь другой фасон взяли —
Носят юбки до земли.
Из-за этого куплета у певцов-сатириков были большие стычки с общественностью. Общественность требовала уничтожения этих строк ввиду отсутствия в них идейной направленности. Но сатирики стали на колени и со слезами заявили, что без куплетов о коварности наших дам они не берутся рассмешить зрителя и ни за что не выйдут на арену. Такие уж они люди – сатирики. Пришлось разрешить в порядке эксперимента.
Среди закулисных историй пользуется успехом такой анекдот. Знаменитому оперному артисту сказали:
– Послушайте, N., ведь вы форменный идиот.
– А голос? – ответил оперный артист.
И все развели руками. Возражать было нечего. Голос действительно был прекрасный.
Теперь, когда цирковым руководителям говорят:
– Послушайте, почему вы так вяло перестраиваетесь? Ведь это же форменный скандал!
– А доходы? – отвечают они.
И наиболее слабохарактерные люди разводят руками.
Доходы действительно большие.
В театрах готовятся премьеры. В полутемных залах за столиками сидят режиссеры. Артисты вполголоса бормочут свои роли. В фойе шьются костюмы и новый занавес. Месяц стоит декабрь. Идет сотая репетиция. А премьеры все нет, и афиши по-прежнему приглашают организованного и неорганизованного зрителя на «Садко», «Воскресение», «Сенсацию» и «Джонни наигрывает».
И покуда актеры по системе Станиславского, Мейерхольда, Таирова и другим системам, хорошим и подозрительным, вживаются в текст, покуда режиссеры чиркают карандашами под зелеными абажурами, а драматург добавляет новую сцену, где сознательный племянник перевоспитывает дядю, колеблющегося мракобеса из люмпен-ннтеллигенции, покуда все это происходит, по улицам мчатся в такси теаадминистраторы и устроители сборных концертов.
У них нет никакой системы. И не за системой они гонятся, а за помещением.
И даже к помещению они не предъявляют особенных требований. Оно должно быть большое и по возможности с колоннами.
– Публика любит, чтобы было с колоннами, – говорят они. – А мы публику знаем, будьте покойны.
Закончив хлопотливые и сложные дела с помещением, электричеством, билетами и буфетом, устроители приступают к составлению программы.
Программа одна и та же вот уже десять лет, и составить ее совсем не трудно. Знать необходимо только одно – какого актера нужно поставить в афише с именем-отчеством, какого с одними только серенькими инициалами, а какого назвать просто по фамилии без инициалов, без имени и без отчества.
Просто – у рояля Левиафьян.
Это нужно знать твердо, как таблицу умножения. Иначе неприятностей не оберешься.
Поставишь неполный титул оперного певца, и все пропало. Он обидится и вместо «Несчестьалмазоввкаменных» будет петь романсы Шумана. А этого публика ужас как не любит.
– Она любит «Не счесть алмазов в каменных», – говорят администраторы, задыхаясь. – Мы публику знаем.
И действительно, на всех сборных концертах поют песню индийского гостя. Даже если это вечер норвежской музыки. Даже если это спектакль, посвященный памяти Достоевского. Все равно. Администратор хватает толстенького тенора за атласную ревьеру и шепчет:
– Знаете, идеология и психология это, конечно, хорошо, но уж вы, пожалуйста, спойте им «вкаменных».
К арии добавляется художественное чтение актера с именем-отчеством, песни народностей в исполнении тоже имени-отчества, опереточный дуэт (инициалы), а для затравки – квартет имени такого-то. Иногда добавляется арфа, иногда – художественный свист.
Получается очень мило, а если помещение удалось выцыганить с колоннами, то к несомненному художественному успеху прибавляется также успех материальный.
Однако помпезность сборных гала-концертов, несомненно, падает. Нет в них прежней блистательности и красоты. Фантазия иссякла.
Была, правда, идея устроить грандиозный спектакль на стадионе «Динамо», с полетами смерти, чудесами пиротехники, столкновением поездов и с одновременным исполнением сразу двадцатью тенорами во фраках знаменитой арии «Несчестьалмазоввкаменных».
Чудесная была идея, но увяла где-то в коридорах ГОМЭЦ. Мельчает жизнь, мельчает сборное дело!
А ведь еще так недавно в 1 Госцирке был вечер шахматной мысли, так называемые живые шахматы.
Было так.
В двух ложах друг против друга сидели два шахматных маэстро в залатанных пиджачках. На арене в своих квадратиках стояли живые шахматы (сплошь имена-отчества, цвет человечества). Королями, королевами и ладьями были народные артисты. В конях и слонах состояли заслуженные. И даже пешки – и те были знаменитые балерины и месереры. По гениальной мысли устроителя вечера, съеденная фигура должна была исполнять свой номер.
Шахматные маэстро приняли все дело всерьез и затеяли затяжную сицилианскую партию. К удивлению администратора, оказалось, что в шахматах фигуры выбывают из строя крайне медленно. Номера исполнялись с большими промежутками, и публика начала стучать ногами.
Поэтому уже через десять минут после начала партии в ложу маэстро ворвался администратор, крича:
– Идите с2.
– Что вы, – сказал маэстро, подымая затуманенную голову. – Гроссмейстер Акиба Рубинштейн в таких случаях советует с5.
– А я вам говорю, ставьте эту штуку на с2, – завизжал устроитель. – Сейчас Дмитрий Николаевич должен петь «вкаменных».
– Но я тогда открываю пешечный фланг.
– Ну и открывайте. Подумаешь, Капабланка! Сбор шестнадцать тысяч, а вы…
И он побежал к другому маэстро, чтобы убедить его подставить как можно скорее под удар своего короля (художественное чтение).
Замечательный был вечер. Шахматная мысль так и кипела. Маэстро махнули на все рукой, и вместо них доигрывали сицилианскую партию пом. администратора с кассиром, летал фейерверк, народная артистка выезжала на ученом ослике, месереры лихо отплясывали – вообще хорошо было, теперь такого уж нет. Иссякла фантазия.
А ведь есть великие возможности.
Можно в цирке поставить «Аиду». Партия Рамзеса исполняется в клетке со львами. Партию Аиды поет ученая зебра. В оперу можно вмонтировать лекцию проф. Канабиха «Проблема единственного ребенка», беседу писателя Б. Пильняка с читателями о том, как он жил в нью-йоркской гостинице, сцены из «Красного мака» и пьесы «Ярость» и, конечно, арию индийского гостя в исполнении математика Араго.
И если все это залить, как полагается в цирке, тремя миллионами литров воды так, чтобы профессор плавал в купальном костюме, то все было бы очень хорошо.
Администраторы говорят, что публика это очень любит.
Когда по радио передавали «Прекрасную Елену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил:
– Внимание, товарищи, передаем список действующих лиц:
1. Елена – женщина, под прекрасной внешностью которой скрывается полная душевная опустошенность.
2. Менелай – под внешностью царя искусно скрывающий дряблые инстинкты мелкого собственника и крупного феодала.
3. Парис – под личиной красавца скрывающий свою шкурную сущность.
4. Агамемнон – под внешностью героя скрывающий свою трусость.
5. Три богини – глупый миф.
6. Аяксы – два брата-ренегата.
Удивительный это был список действующих лиц. Все что-то скрывали под своей внешностью.
Радиослушатели насторожились. А руководитель музыкальных трансляций продолжал:
– Музыка оперетты написана Оффенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала.
Распаленные радиослушатели уже готовы были броситься с дрекольем на всех этих лицемеров, чуть было не просочившихся в советское радиовещание, а заодно выразить свою благодарность руководителю музыкальных трансляций, столь своевременно разоблачившему менелаев, парисов и аяксов, когда тот же бархатный голос возвестил:
– Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через две-три минуты зал будет включен без предупреждения.
И действительно, через две-три минуты зал был включен без всякого предупреждения. И послышалась музыка, судя по вступительному слову диктора:
а) никому не нужная,
б) душевно опустошенная,
в) что-то скрывающая.
Удивлению простодушного радиолюбителя не было конца.
Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей.
Когда от радио он переходит к книге, то и здесь ждут его неприятности. Налюбовавшись досыта цветной суперобложкой, золотым переплетом и надписью «Памятники театрального и общественного быта – мемуары пехотного капитана и актера-любителя А. М. Сноп-Ненемецкого», читатель открывает книгу и сразу же сталкивается с большим предисловием.
Здесь он узнает, что А. М. Сноп-Ненемецкий:
а) никогда не отличался глубиной таланта;
б) постоянно скользил по поверхности;
в) мемуары написал неряшливые, глупые и весьма подозрительные по вранью;
г) мемуары написал не он, Сноп-Ненемецкий, а бездарный журналист, мракобес и жулик Танталлов;
д) что самое существование Сноп-Ненемецкого вызывает сомнение (может, такого Снопа никогда и не существовало) и
е) что книга тем не менее представляет крупный интерес, так как ярко и выпукло рисует нравы дореволюционного актерского мещанства, колеблющегося между крупным феодализмом и мелким собственничеством.
Вслед за этим идет изящная гравюра на пальмовом дереве, изображающая двух целующихся кентавров, а за кентаврами следует восемьсот страниц текста, подозрительных по вранью, но тем не менее что-то ярко рисующих.
Читатель растерянно отодвигает книгу и бормочет:
– Говорили, говорили и – на тебе – опять включили зал без предупреждения!
Постепенно образовалась особая каста сочинителей предисловий, покуда еще не оформленная в профессиональный союз, но выработавшая два стандартных ордера.
По первому ордеру произведение хулится по возможности с пеной на губах, а в постскриптуме книжка рекомендуется вниманию советского читателя.
По второму ордеру автора театральных или каких-либо иных мемуаров грубо гримируют марксистом и, подведя таким образом идеологическую базу под какую-нибудь елизаветинскую старушку, тоже рекомендуют ее труды вниманию читателя.
К этой же странной касте примыкают бойкие руководители трансляций и конферансье, разоблачающие перед сеансом таинственные фокусы престидижитаторов, жрецов и факиров.
И потребитель художественного товара с подозрением косится на книгу. Сноп-Ненемецкий разоблачен и уже не может вызвать интереса, а в елизаветинскую старушку, бодро поспешающую под знамя марксизма, поверить трудно.
И потребитель со вздохом ставит книжку на полку. Пусть стоит. Все-таки, как-никак, золотой переплет.
Человек внезапно просыпается ночью. Душа его томится. За окном качаются уличные лампы, сотрясая землю, проходит грузовик; за стеной сосед во сне вскрикивает: «Сходите? Сходите? А впереди сходят?» – и опять все тихо, торжественно.
Уже человек лежит, раскрыв очи, уже вспоминается ему, что молодость прошла, что за квартиру давно не плачено, что любимые девушки вышли замуж за других, как вдруг он слышит вольный, очень далекий голос паровоза.
И такой это голос, что у человека начинает биться сердце. А паровозы ревут, переговариваются, ночь наполняется их криками – и мысли человека переворачиваются.
Не кажется ему уже, что молодость ушла безвозвратно. Вся жизнь впереди. Он готов поехать сейчас же, завернувшись в одно только тканьевое одеяло. Поехать куда попало, в Сухиничи, в Севастополь, во Владивосток, в Рузаевку, на Байкал, на озеро Гохчу, в Жмеринку.
Сидя на кровати, он улыбается. Он полон решимости, он смел и предприимчив, сейчас ему сам черт не брат. Пассажир – это звучит гордо и необыкновенно!
А посмотреть на него месяца через два, когда он трусливой рысью пересекает Каланчевскую площадь, стремясь к Рязанскому вокзалу. Тот ли это гордый орел, которому сам черт не брат!
Он до тошноты осторожен.
На вокзал пассажир прибегает за два часа до отхода поезда, хотя в мировой практике не было случая, чтобы поезд ушел раньше времени. (Позже – это бывает.)
К отъезду он начинает готовиться за три дня. Все это время в доме не обедают, потому что посуду пассажир замуровал в камышовую дорожную корзину. Семья ведет бивуачную жизнь наполеоновских солдат. Везде валяются узлы, обрывки газетной бумаги, веревки. Спит пассажир без подушки, которая тоже упрятана в чемодан-гармонию и заперта на замок. Она будет вынута только в вагоне.
На вокзале он ко всем относится с предубеждением. Железнодорожного начальства он боится, а остальной люд подозревает. Он убежден, что кассир дал ему неправильный билет, что носильщик убежит с вещами, что станционные часы врут и что его самого спутают с поездным вором и перед самым отъездом задержат.
Вообще он не верит в железную дорогу и до сих пор к ней не привык.
Железнодорожные строгости пассажир поругивает, но в душе уважает, и, попав в поезд, сам не прочь навести порядок.
Иной раз в вагоне на верхней полке обнаруживается великий паникер.
– Почему вы поете? – говорит он, свешивая голову вниз. – В вагоне петь нельзя. Есть такое правило.
– Да я не пою. Я напеваю, – оправдывается пассажир.
– Напевать тоже нельзя, – отвечает паникер. – И вообще, если хотите знать, то к пению приравнивается даже громкий разговор.
Через пять минут снова раздается голос паникера.
– Если открыть тормоз Вестингауза, то за это двадцать пять рублей штрафа и, кроме того, показательный суд.
– Но ведь я не собираюсь открывать тормоз! – пугается девушка, отворачиваясь от змеиного взгляда паникера.
– Не собираетесь, а все-таки убрали бы локоть подальше. Сорвется пломба, тут вам и конец. Да и весь вагон по головке не погладит, такое правило.
Этот же голос спустя минуту:
– Нет, нет, гражданин, раму спускать нельзя. С завтрашнего дня вступает в силу осеннее расписание.
– Но ведь погода замечательная. Двадцать два градуса тепла.
– Тепло теплом, а расписание своим порядком.
– Позвольте, но ведь вы сами говорите, что новое расписание только завтра начнет действовать!
– А мы его сегодня применим. На всякий случай. Закройте, закройте! Не задохнетесь!
Через два часа в вагоне говорят уже только шепотом, сидят, выпрямив плечи и сложив руки на коленях.
А с верхней полки раздается равномерное ворчанье.
– Не курить, не плевать, не собирать в житницы! Есть такое правило! Уборную свыше трех минут не занимать, в тамбурах не стоять, в Девятый вал не играть! Есть такое правило!
Но какой реванш берут пассажиры, когда паникер, побежав за кипятком, опаздывает на поезд и гонится за ним, размахивая чайником. Пассажиры радостно опускают рамы и кричат несчастному:
– Ходить по шпалам строго воспрещается! Есть такое правило!
Но больше всего правил на вокзалах.
Правила были придуманы на все случаи жизни, но применялись они как-то странно.
Пассажира уговаривали не пить сырой воды, но не предлагали кипяченой. Запрещали сорить на пол, но не указывали, куда бросать мусор.
И когда вокзалы превратились в грязные сараи, долго жаловались на пассажиров:
– Вот людоеды! Сидят на полу, когда рядом висит правило: «Сидеть на полу строго воспрещается».
Положение коренным образом изменилось, когда чудное правило сняли, а вместо него поставили длинные деревянные диваны. И странно – никто уже не сидел на полу, хотя правило исчезло.
Все прочие повелительные изречения заменили предметами материальной культуры, и дикий, казалось, пассажир превратился в чистенького кроткого ягненка с розовым галстуком на шее.
Удивительное превращение!
И теперь ночью, заслыша паровозный гудок и воображая себе блеск и грохот высокого вокзала, видишь не взбудораженные толпы мечущихся по перрону людей, а чинно шествующих людей, которых познакомили наконец с самым важным и нужным правилом:
ПЛОХО ОТНОСИТЬСЯ К ПАССАЖИРАМ
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ
1932
Вы никогда не задумывались над тем, кто первый провозгласил поражающее своей краткостью и довольно-таки грубоватое изречение:
«Не курить, не плевать»
Кто выдумал все эти категорические, повелительные надписи:
«Вход воспрещается»
«Без дела не входить»
«Спускай за собой воду»
Откуда все это? Что это? Народная мудрость? Или беззаветная любовь к порядку? Или попросту полезное административное мероприятие?
Однако все приведенные тексты и заповеди, несомненно, вызваны необходимостью и не нуждаются в подкреплении доказательствами. В самом деле, если бы в московском трамвае курили бы! Да еще плевали бы! – совсем бы скучная была езда! Или, положим, входит в учреждение человек, а зачем пришел и сам не знает, без дела. Такого не грех пугнуть надписью. Или – вошел, сделал свое дело и не уходит. Сидит как проклятый. И, наконец, есть такие вурдалаки, которые стараются увильнуть от заповеди насчет опускания воды. Как быть с ними?
Нет. Положительно все эти надписи нужны. И интересует нас не их содержание, а самый стиль. У кого это так счастливо отлилась столь молодецкая безапелляционная форма? Кто он, создатель комхозовских афоризмов?
Сейчас, кажется, все сомнения разрешены.
Путем длительного и всестороннего исследования нам удалось найти автора, проследить его литературный путь и ознакомиться с его последними произведениями.
Обеспечив нашу страну изречениями, кои вывешиваются в местах общего пользования, и создав на прощание такие шедевры стиля как «Соблюдай очередь» и «Не задавай кассиру вопросов», автор увидел, что создал все потребное в этой области, и быстро переключился на работу критика-искусствоведа.
Он не изменил себе. Он по-прежнему краток, сохранил трамвайную категоричность и административную безапелляционность. И по-прежнему считает излишним подкреплять свои молодецкие афоризмы доказательствами.
Местом своей деятельности он избрал журнал «Бригада художников» и тотчас же (в № 5—6) разрешил все вопросы советской архитектуры. Сделано это в подписях к снимкам новых зданий.
Итак, фотография.
Подпись: «Клуб «Красный пролетарий». Производит впечатление приморского ресторана. Специфичность рабочего клуба не выявлена совсем».
Это все о здании клуба «Красный пролетарий». Больше ничего не сказано.
Никаких доказательств! «Производит» и «не выявлено». А почему? Неизвестно! Просто: «Не курить, не плевать».
Еще фотография. Еще подпись: «К. Мельников. Клуб «Свобода». Очередной трюк «отца» советского формализма – цистерна, зажатая между пилонами».
Ну, хорошо. Отец так отец. Очередной трюк? Верим на слово! (Кстати, по фотографии судить нельзя, показан не весь клуб, а только его часть.) Давайте же бороться с «отцом» советского формализма! Но хотелось бы получить хоть какое-нибудь обоснование для предстоящей тяжелой борьбы с «отцом». Но обоснования нет. Критик, очевидно, не имеет никаких мыслей по этому поводу. Иначе, если бы они шевелились в его голове, он бы их высказал, вместо того чтобы безобразно и повелительно орать:
– Вход воспрещается!
Дальше изображен Дом правительства в Москве, сфотографированный так, что на переднем плане оказался фонарь с площадки бывшего храма Христа.
Подпись: «Дом Правительства на Берсеневской набережной. Фонарь в стиле «ампир» хорошо гармонирует с домом, показывая неприемлемость данного объекта для искусства СССР».
Точка. Объект неприемлем. Обвинение тяжелое. Мы готовы даже допустить, что справедливое, предварительно узнав, в чем дело. Но положение безнадежное. «Не задавай кассиру вопросов».
После такой лаконичной и беспардонной критики обхаянному архитектору остается одно – снять лиловые подтяжки и повеситься на том самом фонаре в стиле «ампир», который «так хорошо гармонирует с домом». Хорошо, что фонарь снесли уже вместе с храмом, и жизнь архитектора покуда в безопасности.
Иногда, очень редко, критик хвалит. Но хвалит он как-то противно и бездоказательно, по той же форме № 1 – «Соблюдай очередь».
«Дом Стройкома на Гоголевском бульваре. Фасад с переулка. Стеклянные стаканчики приятно акцентируют высокий фасад, лишая его элементов корбюзианизма».
Зная тяжелый характер критика, не будем задавать ему надоедливых вопросов – «почему да почему», почему «приятно», почему «лишают»? От него толку не добьешься.
Обратимся прямо к редакции.
– Товарищи редколлегия, дорогие товарищи (по алфавиту) Вильямс, Вязьменский, Дейнека, Кондраков, Малкин, Моор, Мордвинов, Новицкий, Перельман, Соколов-Скаля и Точилкин! Не считаете ли вы, что критик уже сделал свое дело и ему давно пора уйти из журнала? Не бойтесь! Вперед! Ведь вас много (если считать по алфавиту), а он один. Его очень легко взять врасплох. Подстерегите его, когда он будет сочинять очередные трамвайно-архитектурные выпады, схватите его (вас так много!) и унесите из редакции.
И, главное, не забудьте проследить, чтобы он обязательно спустил за собой воду. Так теперь принято в новых домах, будь они со стеклянными стаканчиками или в виде цистерны, сжатой между пилонами.
Человек, пробиравшийся по учрежденскому коридору, не был похож на обыкновенного посетителя. И взгляд у него был не робкий, и одежда была какая-то не совсем обыкновенная – пальто с желтым кожаным воротником, каракулевая кепка и голубоватые футбольные бутсы, однако без шипов.
Высокомерно расталкивая секретарей, он без доклада вошел в кабинет главы учреждения. Вошел как раз в ту минуту, когда там происходило летучее совещание.
Все недовольно повернули головы, а глава учреждения даже издал некий гневный звук – не то «пошел вон», не то «прошу садиться».
– Может быть, я помешал? – спросил человек в бутсах.
– У нас летучка, – грубо заметил глава.
– Тогда я могу уйти.
– Хорошо. Идите.
Человек поправил на голове каракулевую кепку и, грозно улыбаясь, молвил:
– Я ухожу. Но, уж будьте любезны, всю ответственность берите на себя. Возлагаю ее на вас.
Это было сказано так торжественно, словно незнакомец собирался возложить на главу учреждения жестяной могильный венок с муаровыми лентами.
Глава испугался. Он терпеть не мог ответственности, а потому торопливо сказал:
– В чем же дело? Садитесь, товарищ.
Человек выбрал стул получше и начал:
– Как, по-вашему? Нужно проводить технику в массы?
– Нужно.
– Может быть, не нужно? Вы скажите откровенно. Тогда я уйду.
– Почему же не нужно! Я ведь с вами согласился сразу.
– Нет, – сказал незнакомец. – Я вижу, что вы против технической пропаганды. На словах вы все за, а на деле… Положительно придется возложить ответственность на вас.
Он подумал и прибавил:
– А также на летучее совещание. Я ухожу.
И тут всем сидевшим в кабинете явственно представился страшный могильный венок. Так было хорошо, все тихо сидели, обменивались мнениями, пили чай, никому не причиняли зла – и вдруг пришел ужасный незнакомец.
– Честное слово, – сказал глава, – мы всей душой…
– Всем сердцем, – беспокойно подтвердили члены летучего совещания.
Однако незнакомец с кожаными отворотами долго еще капризничал и ломался.
– Нужно организовать театр технической пропаганды, – сказал он наконец. – Понимаете?
Никто ничего не понял, но пришелец быстро все растолковал.
Это будет театр, построенный на совершенно новых началах. Пьеса уже есть. То есть не совсем еще есть, но скоро будет. Замечательная пьеса о моторах. Пишет ее он сам, человек в бутсах. Актеров не будет. Декораций тоже не будет. Вообще ничего не будет, и поэтому беспокоиться совершенно не о чем. Нужно только помещение и немного денег, тридцать тысяч. Всю ответственность он, человек в каракулевой кепке, берет на себя. (Вздох облегчения.)
– Одно меня только смущает, – сказал глава, – где взять помещение и тридцать тысяч?
– Нет, вижу, мне придется уйти, – сухо молвил незнакомец. – У меня не может быть ничего общего с людьми, которые смазывают важнейший вопрос о технической пропаганде. А ответственность возлага…
Все бросились за незнакомцем, лепеча различные жалкие слова. Сразу нашлось и помещение, и тридцать тысяч, и еще какие-то четыре тысячи для выдачи аванса артели гардеробщиков при будущем театре. В панике забыли даже узнать фамилию незнакомца. Долгое время считали, что его фамилия Лютиков, но потом оказалось, что вовсе не Лютиков, а Коперник, только не тот, а совершенно неизвестно кто.
Лютиков-Коперник в течение трех месяцев приходил к главе, садился на его стол и, покачивая ножками, обутыми уже не в бутсы, а в штиблеты на каучуковом ходу, требовал денег.
– Скоро премьеру покажем, – говорил он. – Будет замечательно. Декораций нет, актеров нет, ничего нет. Спектакль идет без суфлера.
– Как же это без суфлера? – страдальчески вопрошал глава.
– Нет, Яков, недооцениваешь ты технической пропаганды, – отвечал Коперник. – Что-то ты смазываешь.
– А пьеса как называется?
– Без названия. В этом весь трюк. Названия не будет, реквизита не будет, ни черта не будет. Замечательно будет. Первый такой театр в мире. Гордись, Яков. Тебя театральная общественность на руках носить будет. Тебя сам Литовский заметит.
– А ответственность?
– Беру на себя.
Постановка немножко затянулась против поставленных сроков, но все же через семь месяцев от начала великой борьбы за новое начинание в области техпропагаыды Лютиков-Коперник объявил премьеру.
Пригласительные билеты он принес лично. На этот раз он был в розовом пальто с кенгуровым воротником и почему-то держал в руке чемоданчик.
Премьера началась ровно в восемь часов вечера.
Занавеса не было. Реквизита не было. Декораций не было. Актеров не было. На пустой, грязноватой сцене стояло деревянное веретено.
– Скоро начнем, – объявил Лютиков. – Вы тут посидите, товарищи, а я сейчас приду.
Поглядев минут десять на веретено, глава учреждения зажмурился и вспомнил, что этот прибор он видел недавно в опере «Фауст», музыка Гуно. Тогда за этим веретеном сидела Гретхен, а где-то неподалеку трепался Фауст. Теперь к веретену никто не подходил.
Внезапно на сцену вышла старушка в очках и сказала:
– Итак, ребята, это веретено употреблялось в феодальную эпоху и является прообразом современного ткацкого станка. Сейчас, ребята, мы пойдем в фойе и посмотрим чертежи этого прообраза нынешней техники.
Кашляя и сморкаясь, все учреждение повалило в коридор и уставилось на чертеж ручной швейной машинки. Но старушка, вместо того чтобы продолжать объяснения, подошла к главе и, заливаясь слезами, объявила, что ей еще ни разу не платили жалованья и замучили репетициями.
– А как же Лютиков? – оторопело спросил глава. – Где он?
Организатора неслыханного театра бросились искать. Глава учреждения вдруг вспомнил, что последние дни Лютиков не расставался с чемоданом. От страха глава даже покачнулся.
– Может, поискать его среди декораций? – спросил секретарь.
– Найдешь его теперь! Ведь декораций нет.
А Лютиков-Коперник уже стоял в здравотдельском кабинете и говорил:
– Медицину в массы. Путем театрального воздействия. Понимаете? Актеров нет, суфлера нет, гардероба нет. Театр инфекции и фармакологии. Можно сокращенно назвать «Тиф». Нужно только помещение и немного денег. Что? Тогда я уйду. Но уж ответственность…
Заведующий ошалело слушал и таращил добрые глаза.
Есть неумирающие темы, вечные, всегда волнующие человечество.
Например, наем дачи или обмен получулана без удобств в Черкизове на отдельную квартиру из трех комнат с газом в кольце «А» (телефон обязательно), или, скажем, проблема взаимоотношений главы семейства со свояченицей, или покупка головки для примуса.
И никак нельзя разрешить все эти важные проблемы. Дачник всем сердцем стремится на Клязьму, поближе к электропоезду, а дачный трест грубо посылает его на реку Пахру, в бревенчатую избушку, добраться до которой труднее, чем до Харькова. Горемычный хозяин получулана никак не может сговориться с обитателем отдельной квартиры в кольце «А», хотя переговоры с необыкновенным упрямством ведутся через «Вечернюю Москву». Что касается свояченицы, то половые разногласия здесь настолько велики, что их не удается разрешить даже отдельным представителям ВАПП15. А головка для примуса – это вообще глупая фантазия домашней хозяйки, которой кооперация дает вежливый, но чрезвычайно холодный отпор.
Несколько лет назад к даче, получулану, свояченице и примусным частям прибавилась новая неразрешимая проблема – кинохроника.
Это была странная проблема. Вокруг нее было много шума. Но никогда она не вызывала споров. Напротив, трудно найти проблему, по поводу которой существовало бы столь редкое единодушие.
Все были за кинохронику.
«Давно пора», – писала пресса.
– О, – говорили председатели киноправлений, – кинохроника!
– Жизнь отдам за кинохронику, – обещал директор фабрики.
Консультанты тоже были за и даже без оговорок, что с их стороны нельзя не признать большой жертвой.
Об операторах и говорить нечего. Они рвались в бой.
Зрители же вели себя выше всяких похвал. Они требовали хронику. Они стучали ногами, свистели, писали письма в редакции газет, посылали делегации.
Одно время казалось, что в результате всех этих усилий стране грозит опасность наводнения хроникой. Боялись даже, что кинохроника вытеснит все остальные жанры киноискусства.
Однако обнаружилось, что эти жанры благополучно существуют. Афиши бесперебойно объявляли о новых художественно-показательных боевиках с минаретами, медвежьими свадьбами, боярышнями и хромыми барами.
А хроники не было. А годы шли.
Стали искать врага хроники. Раздавались голоса, что не худо бы дать кой-кому по рукам. Впопыхах дали по рукам какому-то кинодеятелю в расписной заграничной жилетке, случайно проходившему по коридору Союзкино. Но тут же выяснилось, что это страшная ошибка, что человек в жилетке всей душой за хронику, в доказательство чего он представил пятнадцать собственных статей и еще большее количество протоколов на папиросной бумаге.
Тогда набросились на администрацию кинотеатров. Ее обвинили в том, что из вредного коммерческого расчета она тормозит дело показа кинохроники.
Но администраторы в тот же день доказали, что именно они и являлись главными борцами за кинохронику и даже застрельщиками всего этого дела.
– Ничего не понимаю, – сказал новый председатель правления. – И мой предшественник, и я, мы оба всегда были горячими защитниками хроники. А ее нет.
– Ведь я жизнь обещал отдать за кинохронику, – удивлялся директор фабрики, – и вот на тебе!
Правда, это был не тот директор, а пятый по счету, но он уже в день приема дел обещал отдать жизнь.
– По линии хроники, – печально говорили консультанты, – у нас большое отставание. Но мы не виноваты. Мы всегда были за.
И они привезли на трех извозчиках такую кучу оправдательных документов, что правление ахнуло и с перепугу перевело этих консультантов в высший разряд тарифной сетки.
Даже те отдельные работники кинематографии, которых судебные органы на некоторое время изолировали от общества за различные плутни, – и те из своих жилищ, снабженных на всякий случай решетками, слали письма:
«Что было, то было. Но чего не было, того не было. Мы всегда были горой за хронику».
Все стало как-то так непонятно и удивительно, что о хронике на время даже перестали говорить. Иногда вдруг на экране проскакивали кусочки хроники. А потом и это прекратилось.
И так как все были за, то оказалось, что бороться не с кем и можно перейти к очередным делам. Остались только горячие доклады и протоколы на папиросной бумаге.
Сейчас в кинопрессе снова раздался трезвый голос:
– Товарищи, где же все-таки кинохроника? И мы уже знаем, что будет. Начнется суета, пойдут клятвы, обнаружится полное единодушие, и все это закончится тем, что хроники никто не увидит.
А работу надо поставить так: бросить разговоры о хронике и начать ее делать. Это, конечно, странно, непривычно и, может быть, на первый взгляд даже диковато.
Но другого средства нет.
Если же продолжать систему болтовни вхолостую, то хроника по-прежнему останется в ряду «вечных проблем», вроде найма дачи или обмена плохой квартиры на хорошую, с уплатой какой-то подозрительной задолженности и с согласием идти на какие угодно варианты.
Спокойно и величаво жила в своей квартире стандартная дореволюционная бабушка. Дверь квартиры была обита войлоком и блестящей зеленой клеенкой. Была на двери еще большая гербовая бляха с надписью: «Горю – и не сгораю». Застраховано от огня в об-ве «Саламандра». Больше всего в жизни бабушка боялась, что ее мебель сгорит. Бабушка уважала свою мебель.
Здесь царил буфет, огромный дубовый буфет с зеркальными иллюминаторами, с остроконечными шпилями-башенками, нишами, с барельефными изображениями битой дичи, виноградных гроздьев и лилий. Цоколь буфета был рассчитан на такую неимоверную тяжесть, что на нем без опасения можно было бы установить конный памятник какому-нибудь Скобелеву. Буфет походил на военный собор, какие обычно строили при кадетских корпусах и юнкерских училищах, и был разукрашен цветными пупырчатыми стеклами. Грандиозен был буфет, и тем не менее его полки и ящики были так малы, что вмещали только чайный сервиз. Остальная посуда стояла на буфетной крыше, за шпилями и башенками, и покрывалась пылью.
На большом столе лежала парадная бархатная скатерть с бомбошками по углам. Вообще у бабушки все было с бомбошками. Драпри с бомбошками, гардины с бомбошками, пуфы с бомбошками. Эти разноцветные плюшевые шарики приводили котов в ярость. Они постоянно их подстерегали, хватали когтями и раскачивали. Стол был так же величествен и бесполезен, как буфет. За него никак нельзя было сесть. Коленки постоянно сталкивались с какими-то острыми дубовыми украшениями, и смельчак, пытавшийся было использовать стол по его прямому назначению, тотчас же отскакивал от него, яростно растирая ладонью ушибленное место.
Был еще стол – малый, бамбуковый – зыбкое сооружение, предназначенное для семейного альбома с толстой плюшевой крышкой и медными застежками величиной в складские засовы. Но достаточно было сдвинуть альбом хотя бы на миллиметр вправо или влево от геометрического центра, как равновесие нарушалось, и столик валился на атласную козетку.
Бабушке очень нравилась козетка, нравилась главным образом красотой форм, так сказать гармоничностью линий. Странная это была штука! Для лежания она не годилась – была слишком коротка. Не годилась она и для сидения. Сидеть мешали главным образом гармоничность линий и красота форм. Мастер предназначил ее для полулежания, совершенно не учтя, что такое небрежно-аристократическое положение тела допустимо только в великосветских романах и в жизни не встречается. Так что на козетке обычно лежала кошка, да и то только в те редкие минуты, когда бомбошки не раскачивались.
Повсюду стояли длинные, вытянутые в высоту, и узкие вазочки для цветов с толстой стеклянной пяткой. Они походили на берцовую кость человека и вмещали только по одному цветку. Цветки были бумажные. Висели картинки неизвестных старателей-акварелистов в рамках в виде спасательных кругов, в рамках из ракушек, бамбуковых палочек или из багета с золотыми листочками. На шатких этажерках могли помещаться только фарфоровые слоны, мал-мала меньше.
Удивительная это была мебель! Она не только не приносила пользы человеку, но даже ставила его в подчиненное, унизительное положение. В своих резных выступах, углах, барельефах и загогулинах она собирала чертову уйму пыли я паутины. Постоянно надо было за мебелью ухаживать, просить гостей на нее не садиться. Кроме того, ее надо было страховать от огня. Не ровен час – сгорит!
– Никогда я не буду жить, как моя бабушка! – восклицал иной внук, больно ударяясь о стол большой или опрокидывая стол малый. – Вырасту – заведу совсем другую мебель, удобную, простую, а эта дрянь – хорошо, если бы сгорела.
И она действительно сгорела. Случилось то, чего бабушка боялась больше всего на свете.
В восемнадцатом и девятнадцатом и даже в двадцатом году внук обогревался бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в «буржуйку». Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму. Все пригодилось: и башенки, и шпили, и разные бекасы, а в особенности многопудовый цоколь. Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, кои якобы приносят счастье, дурацкие лаковые полочки, украшенные металлопластикой, и прочая дребедень, которую внук для краткости называл «гаргара» или «бандура».
С тех пор ушли годы, внук вырос, сделался сперва молодым, а потом уж и не очень молодым человеком, обзавелся комнатой в новом доме и наконец решил приобрести мебель, о которой мечтал в детстве, – удобную и простую.
Он стоял перед огромной мебельной витриной универмага Мосторга, по замыслу заведующего изображавшей, как видно, идеальную домашнюю обстановку благонамеренного советского гражданина.
Если бы внук не сжег в свое время бабушкину мебель собственными руками, то подумал бы, что это именно она и стоит за зеркальной стеной магазина.
Здесь царил буфет, коренастый буфет, с вырезанными на филёнках декадентскими дамскими ликами, с дрянными замочками и жидкими латунными украшениями. Были на нем, конечно, и иллюминаторы, и ниши, и колонки. А на самом верху, куда человек не смог бы дотянуться, даже став на стул, неизвестно для чего помещалось сухаревское волнистое зеркало. Перпендикулярно буфету стояла кровать, сложное сооружение из толстых металлических труб, весьма затейливо изогнутых, выкрашенных под карельскую березу и увенчанных никелированными бомбошками. (Бабушка была бы очень довольна, – она так любила всякие бомбошки!)
Кровать была застлана стеганым одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы. Оно сразу превращало кровать, эту суровую постромку из дефицитного металла, в какое-то ложе наслаждений.
Был здесь и диванчик для аристократического полулежания, в чем, несомненно, можно было бы усмотреть особенную заботу о потребителе. Был и адвокатский диван «радость клопа» со множеством удобных щелей и складок, с трясущейся полочкой, на которой лежал томик Карла Маркса (дань времени!), и этажерка на курьих ножках, и стол, под который никак нельзя подсунуть ноги.
Была бы жива бабушка, она сейчас же с радостным визгом поселилась бы в этой витрине. Так здесь было хорошо и старорежимно. Все как прежде. Вот только Маркс! Впрочем, Маркса можно заковать в плюшевый переплет с медными засовами и показывать гостям вместо семейного альбома.
– А это вот Маркс! Видите! Тут он еще молодой, даже без усов. А вот тут – уже в более зрелых годах.
– Смотрите, довольно прилично одевался. А это что за старичок?
– Это один его знакомый. Энгельс по фамилии.
– Ничего, тоже приличный господин.
И текла бы за мосторговской витриной тихая, величавая бабушкина жизнь.
С поразительным упорством работает наша мебельная промышленность на ветхозаветную дуру бабушку! На рынок с непостижимой методичностью выбрасывается мебель того нудного, неопределенного, крохоборческого стиля, который можно назвать банковским ампиром, – вещи громоздкие, неудобные и чрезвычайно дорогие.
Из существующих в мире тысяч моделей шкафов древтресты облюбовали самую тоскливую, так называемый «славянский шкаф». Заходящие в магазины «советские славяне», а именно: древляне, поляне, кривичи и дреговичи, а также представители нацменьшинств, советские половцы, печенеги, хозары и чудь белоглазая, первым долгом тревожно спрашивают:
– Скажите, а других шкафов у вас нету?
– Других не работаем, – равнодушно отвечает древтрестовский витязь. – А что, разве плохо? Типа «гей, славяне!» Все равно возьмете. Ведь выбора нету.
Выбора действительно нет. Потребитель вынужден уродовать новое жилье безобразной мебелью. Он покупает низкорослые ширмы, которые ничего не заслоняют, но зато ежеминутно падают. Он везет на извозчике гадкий, рассыхающийся уже по дороге комодик с жестяными ручками. Письменные столы изготовляются или только канцелярские, сверхъестественно скучные, или крохотные дамские, больше всего пригодные для маникюрши. Обыкновенных полок для книг достать нельзя. Их не делают. Но зато есть полочки, предназначенные для предметов, которые должны украшать жилье.
Вот, кстати, эти предметы искусства:
1. Гипсовая статуэтка «Купающаяся трактористка» (при бабушке эта штука называлась «Утренняя нега»).
2. Толстолицый немецкий пастушок, вымазанный линючими красками. Гипс.
3. Кудреватый молодой человек с хулиганской физиономией играет на гармонике. Гипс.
4. Пепельница с фигурками (луженный чугун):
а) охотник, стреляющий уток;
б) бегущая собака;
в) лошадиная морда.
5. Чернильный прибор, могучий агрегат, сооруженный из уральского камня, гранитов, хрусталя, меди, никеля и высококачественных сталей. Имеет название: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Лучший подарок уезжающему начальнику. Цена – 625 рублей 75 копеек.
И когда слышатся робкие протестующие голоса, начальники древтрестов и командующие статуэтками и чернильными приборами отчаянно вопят:
– Вы не знаете потребителя! Вы не знаете условий рынка! Рынок этого требует!
А кричат они потому, что привыкли работать на стандартную дореволюционную старуху, законодательницу сухаревских вкусов и мод.
И в силу этой пошлейшей инерции новому человеку приходится жить среди свежепостроенных бабушкиных мебелей и украшений.
Когда восходит луна, из зарослей выходят шакалы.
Ежедневно собиралось летучее совещание, и ежедневно Самецкий прибегал на него позже всех.
Когда он, застенчиво усмехаясь, пробирался к свободному стулу, собравшиеся обычно обсуждали уже третий пункт повестки. Но никто не бросал на опоздавшего негодующих взглядов, никто не сердился на Самецкого.
– Он у нас крепкий, – говорили начальники отделов, их заместители и верные секретари. – Крепкий общественник.
С летучего совещания Самецкий уходил раньше всех. К дверям он шел на цыпочках. Краги его сияли. На лице выражалась тревога.
Его никто не останавливал. Лишь верные секретари шептали своим начальникам:
– Самецкий пошел делать стеннуху. Третий день с Ягуар Петровичем в подвале клеят.
– Очень, очень крепкий работник, – рассеянно говорили начальники.
Между тем Самецкий озабоченно спускался вниз.
Здесь он отвоевал комнату, между кухней и месткомом, специально для общественной работы. Для этого пришлось выселить архив, и так как другого свободного помещения не нашли, то архив устроился в коридоре. А работника архива, старика Пчеловзводова, просто уволили, чтоб не путался под ногами.
– Ну, как стенновочка? – спрашивал Самецкий, входя в комнату.
Ягуар Петрович и две девушки ползали по полу, расклеивая стенгазету, большую, как артиллерийская мишень.
– Ничего стеннушка, – сообщал Ягуар Петрович, поднимая бледное отекшее лицо.
– Стеннуля что надо, – замечал и Самецкий, полюбовавшись работой.
– Теперь мы пойдем, – говорили девушки, – а то нас и так ругают, что мы из-за стенгазеты совсем запустили работу.
– Кто это вас ругает? – кипятился Самецкий. – Я рассматриваю это как выпад. Мы их продернем. Мы поднимем вопрос.
Через десять минут на третьем этаже слышался голос Самецкого:
– Я рассматриваю этот возмутительный факт не как выпад против меня, а как выпад против всей нашей советской общественности и прессы. Что? В служебное время нужно заниматься делом? Ага. Значит, общественная работа, по-вашему, не дело? Товарищи, ну как это можно иначе квалифицировать, как не антиобщественный поступок!
Со всех этажей сбегались сотрудники и посетители.
Кончалось это тем, что товарищ, совершивший выпад, плачущим голосом заверял всех, что его не поняли, что он вообще не против и что сам всегда готов. Тем не менее справедливый Самецкий в следующем номере стенгазеты помещал карикатуру, где смутьян был изображен в самом гадком виде – с большой головой, собачьим туловищем и надписью, шедшей изо рта: «Гав, гав, гав!»
И такая принципиальная непримиримость еще больше укрепляла за Самецким репутацию крепкого работника.
Всех, правда, удивляло, что Самецкий уходил домой ровно в четыре. Но он приводил такой довод, с которым нельзя было не согласиться.
– Я не железный, товарищи, – говорил он с горькой усмешкой, из которой, впрочем, явствовало, что он все-таки железный, – надо же и Самецкому отдохнуть.
Из дома отдыха, где измученный общественник проводил свой отпуск, всегда приходили трогательнейшие открытки:
«Как наша стеннушечка? Скучаю без нее мучительно. Повел бы общественную работу здесь, но врачи категорически запретили. Всей душой стремлюсь назад».
Но, несмотря на эти благородные порывы души, тело Самецкого регулярно каждый год опаздывало из отпуска на две недели.
Зато по возвращении Самецкий с новым жаром вовлекал сотрудников в работу.
Теперь не было прохода никому. Самецкий хватал людей чуть ли не за ноги.
– Вы слабо нагружены! Вас надо малость подгрузить! Что? У вас партийная нагрузка, учеба и семинар на заводе? Вот, вот! С партийного больше и спрашивается. Пожалуйте, пожалуйте в кружок балалаечников. Его давно надо укрепить, там очень слабая прослойка.
Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого.
Есть такая игра. Называется она «нагружать корабль». Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять.
– Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На «М» мы вчера грузили. Давайте сегодня на «Л». Каждый говорит по очереди, только без остановок.
И начинается галиматья.
– Грузим корабль лампами, – возглашает хозяин.
– Ламбрекенами! – подхватывает первый гость.
– Лисицами!
– Лилипутами!
– Лобзиками!
– Локомотивами!
– Ликерами!
– Лапуасцами!
– Лихорадками!
– Лоханками!
Первые минуты нагрузка корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начинают тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить:
– Люмпен-пролетариями!
– Лимитрофами!
– Лезгинками!
– Ладаном!
Кто-то пытается загрузить корабль Лифшицами. И на этом игре конец. Возникает дурацкий спор: можно ли грузить корабль собственными именами?
Самецкий испытывал трудности подобного же рода.
Им были организованы все мыслимые на нашей планете самодеятельные кружки. Помимо обыкновенных, вроде кружка профзнаний, хорового пения или внешней политики, числились еще в отчетах:
Кружок по воспитанию советской матери.
Кружок по переподготовке советского младенца.
Кружок – «Изучим Арктику на практике».
Кружок балетных критиков.
Достигнув таких общественных высот, Самецкий напрягся и неожиданно сделал еще один шаг к солнцу. Он организовал ночную дежурку под названием: «Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с двенадцати часов ночи до шести часов утра».
Диковинная дежурка помещалась в том же подвале, где обычно клеили стенгазету.
Здесь дежурили по ночам заметно осунувшиеся, поблекшие девушки и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович совсем сошел на нет. Щек у него уже почти не было.
В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно.
Все-таки неугомонный Самецкий сделал попытку нагрузить корабль еще больше.
Самецкий изобрел карманную стенгазету, которую ласкательно назвал «Стеннушка-карманушка».
– Понимаете, я должен довести газету до каждого сотрудника. Она должна быть величиной в визитную карточку. Она будет роздана всем. Вынул газету из жилетного кармана, прочел, отреагировал и пошел дальше. Представляете себе реагаж!..
Вся трудность заключалась в том, как уместить на крошечном листке бумаги полагающийся материал: и статью о международном положении, и о внутриучрежденской жизни, и карикатуру на одного служащего, который сделал выпад, одним словом – все.
Спасти положение мог только главный бухгалтер, обладавший бисерным почерком.
Но главный бухгалтер отказался, упирая на то, что он занят составлением годового баланса.
– Ну, мы это еще посмотрим, – сказал Самецкий, – я это рассматриваю как выпад.
Но здесь выяснилось, что Самецкий перегрузил свой корабль.
– Чем он, собственно, занимается? – спросили вдруг на летучем совещании.
– Ну, как же! Крепкий общественник. Все знают.
– Да, но какую работу он выполняет?
– Позвольте, но ведь он организовал этот… ну, ночной колумбарий, скорая помощь, своего рода профсоюзный Склифасовский… И потом вот… переподготовка младенцев. Даже в «Вечерке» отмечали…
– А должность, какую он занимает должность?
Этого как раз никто не знал. Кинулись к ведомости на зарплату. Там было весьма кратко и неопределенно:
«Самецкий – 360 рублей».
– Туманно, туманно, – сказал начальник, – ах, как все туманно! Конечно, Склифасовский Склифасовским, но для государства это не подходит. Я платить не буду.
И судьба Самецкого решилась.
Он перегрузил свой корабль. И корабль пошел ко дну.
Заказчик хочет быть красивым.
От портного он требует, чтобы брюки ниспадали широкими мягкими трубами. От парикмахера он добивается такой распланировки волос, чтобы лысина как бы вовсе не существовала в природе. От писателя он ждет жизненной правды в разрезе здорового оптимизма.
Таков заказчик.
Ему очень хочется быть красивым. Он мучится.
– Кто отобразит сахароварение в художественной литературе? – задумчиво говорит сахарный командующий. – О цементе есть роман, о чугуне пишут без конца, даже о судаках есть какая-то пьеса в разрезе здорового оптимизма, а о сахароварении, кроме специальных брошюр, – ни слова. Пора, пора включить писателей в сахароваренческие проблемы.
Секретарю поручают подработать вопрос и в двадцать четыре часа (иногда в сорок восемь) мобилизовать писательскую общественность.
– Я полагаю, – сообщает секретарь, – что нам надо идти по линии товарищеского ужина. Форма обычная. Дорогой товарищ… то да се… ваше присутствие необходимо.
Решают пойти именно по этой линии, тем более что сахар свой, а остальные элементы ужина можно добыть при помощи натурального обмена с другими учреждениями.
Список приглашенных составляется тут же.
– Значит, так: Алексей Толстой, Гладков, Сейфуллина, потом на Л… ну, который «Сотьсаранчуки»… да, Леонов. Еще Олеша, он это здорово умеет. Парочку из пролетарских поглавнее, Фадеева и Афиногенова на предмет пьесы. Для смеха можно Зощенко, пусть сочинит чего-нибудь вроде «Аристократки», но в разрезе сахарной свеклы. Хорошо бы еще критика вовлечь. Они пусть пишут, а он их пусть тут на месте критикует.
– И подводит базу.
– Да, и, конечно, базу. Пишите какого-нибудь критика. Явка обязательна.
И вот плетется курьерша с брезентовой разносной книгой. И солнце светит ей в стриженый затылок. И весна на дворе. И все хорошо.
Еще немножко – и загадочный процесс сахароварения будет наконец отображен в художественной литературе.
Но на земле нет счастья. Вечером выясняется, что произошел тяжелый, непонятный прорыв.
Стоит длинный стол, на столе – тарелочки, вокзальные графинчики, бутерброды, незаконно добытые при помощи натурального обмена, семейные котлеты и пирожные.
Все есть. А писателей нет. Не пришли. Подло обманули. Дезертировали с фронта сахароварения.
Секретарь корчится под уничтожающими взглядами начальства. Мерцают бутерброды с засохшим сыром. Ах, как плохо!
– Кто ж так делает? – неожиданно говорит заведующий хозяйством. – Кто ж так мобилизует творческий актив? Вы сколько человек пригласили? Тридцать? И никто не пришел? Значит, нужно пригласить триста. И придет человек десять. Как раз то, что нам нужно. А бутерброды можно спрыснуть кипятком. Будут как живые.
– Позвольте, откуда же взять триста? Разве есть так много… художников слова?
– Ого! Вы не знаете, что делается! Один горком писателей может выставить три тысячи сабель! А Всеросскомдрам? А малые формы? Это же Золотая орда! Нашествие Батыя! А Дом самодеятельности имени Крупской? Это же неиссякаемый источник творческой энергии! Они вам все чисто отобразят. Идите прямо в Дом Герцена и кройте приглашения по алфавиту. А о бутербродах не беспокоитесь. Подадим как новенькие.
Так и делают. Искусство требует жертв.
На этот раз в уютном конференц-зале сахарного заведения становится довольно людно. Правда, Алексей Толстой, Фадеев и многие другие опять подло обманули, но все-таки кое-кто пришел. Имен что-то не видно, но все-таки имеется здоровяк в капитанской форме с золотыми шевронами. Да и другие как-то вызывают доверие. Они еще не очень знаменитые, но среди них есть один в пенсне, – как видно, писатель чеховского толка.
В общем, можно начинать прения.
– Вот вы тут сидите и ни черта не делаете, – сразу начинает здоровяк в капитанской форме, – а между тем происходят события огромной важности. Мейерхольд сползает в мелкобуржуазное болото! Если я человек живой, так сказать, сделанный из мяса, я этого так не оставлю.
Он говорит долго и убедительно. Главным образом о Мейерхольде. Ему аплодируют.
– А сахароварение? – робко спрашивает секретарь.
– Какое к черту сахароварение, – сердится писатель, – когда, с моей точки зрения, сейчас главное – это маринизацня литературы!
И он уходит, злой, коренастый и симпатичный. Как-то незаметно ускользают и другие. Остаются только трое, в том числе писатель в пенсне, чеховского толка.
Их мало, но зато это не люди, а клад.
Они со всем соглашаются. Да. Их интересует сахароварение. Да. Они уже давно мечтали включиться. Мало того. Они желают сейчас же, немедленно приступить к разрешению практических вопросов.
Например:
а) куда ехать (хорошо бы поюжнее);
б) сколько за это дадут (вы понимаете, специфика вопроса);
в) можно ли получить натурой (сахаром, патокой и малясом).
Это чудные, отзывчивые люди. Уж эти отобразят. Непонятно только, зачем им сахар. Впрочем, – может быть, они хотят получше изучить самую, так сказать, продукцию. Это интересно. Пусть изучают.
Писатель чеховского толка требует еще сапоги, теплые кальсоны и пятьсот штук папирос «Норд». Это уже труднее, но завхоз обещает устроить.
Они очаровательные люди – Ж. Н. Подпругин, Ал. Благословенный и Самуил Децембер (Новембер).
Тихо смеясь, они покидают банкетный зал. И в то время как добрые сахаровары обмениваются впечатлениями, хвалят литературу и толкуют об идеалах, Подпругин, Благословенный и Децембер (Новембер) катят в трамвае. Держась за ремни и раскачиваясь, они кричат друг другу:
– Знатная малина!
– Мировая кормушка!
– Ну! Кормушка не кормушка, а лежбище глупых тюленей. Только и знай, что ходи и глуши их гарпуном!
– Ах, какого маху дал! Можно было сорвать еще бобриковое пальто «реглан ВЦСПС». Ах, забыл! Ах, дурак! Они бы дали!
– Глубинный лов я уже отобразил. Отображу и сахарный песок. А роман можно назвать «Герои рафинада».
И все трое смеются журчащим русалочьим смехом. Они все понимают. Это промышленники, зверобои, гарпунщики.
Пусть другие кипятятся, говорят о мировоззрении, о методе, о метафоре, даже о знаках препинания. Гарпунщику все равно. Он сидит на очередном товарищеском ужине в очередном учреждении и, достойно улыбаясь, помешивает ложечкой чай. Пусть литературные капитаны говорят высокие слова. Это размагниченные интеллигенты. Гарпунщик знает их хорошо. Они поговорят и уйдут. А он останется. И, оставшись, сразу приступит к практическому разрешению вопроса. Уж на этот раз он возьмет «реглан типа ВЦСПС» и еще кое-что возьмет. Не дадут маху ни Децембер (Новембер), ни Ж. Н. Подпругин, ни Ал. Благословенный.
Осенью они разносят по учреждениям свой литературный товар. Больше всего тут очерков («Герои водопровода», «В боях за булку», «Стальное корыто», «Социалистическая кварта»). Однако попадаются и крупные полотна: «Любовь в штреке» (роман, отображающий что-то антрацитное, а может быть, и не антрацитное), «Соя спасла» (драматическое действо в пяти актах. Собственность Института сои), «Веселый колумбарий» (малая форма. По заказу кладбищенского подотдела).
Чудную, тихую жизнь ведут гарпунщики. Печатают они свой товар в таких недосягаемых для общественности местах, в таких потаенных бюллетенях, журналах и балансовых отчетах, что никому никогда не докопаться до «Веселого колумбария» или «Стального корыта».
Но есть у гарпунщика слабое место. Сквозь продранный носок видна его Ахиллесова пята. Ежегодно возникает страшный слух, что из горкома писателей будут вычищать всех, кто не напечатался отдельной книгой. Тогда не будут приглашать на товарищеские ужины, тогда будет плохо.
Тут гарпунщик собирает свои разнокалиберные опусы, склеивает их воедино и, дав общее незатейливое название, везет рукопись на извозчике в ГИХЛ.
Вокруг рукописи начинается возня. Ее читают, перетаскивают из комнаты в комнату, над ней кряхтят.
– Ну что?
– Ах, – говорит утомленный редактор, – Исбах далеко не Бальзак, но этот Подпругин такой уже не Бальзак!
– Что ж, забракуем?
– Наоборот. Напечатаем. Отображены актуальнейщие темы. Язык суконноватый, рабочие схематичны, но настроение бодрое, книга зовет. Потом вот в конце ясно написано: «Это есть наш последний».
– «И решительный» написано?
– «И решительный».
– Тогда надо печатать. Книжка, конечно, – заунывный бред, но зато не доставит нам никакого беспокойства. Никто не придерется.
Это – роковая ошибка.
Как только книга гарпунщика появляется в свет и ведомственная литература предстает глазам всех, подымается ужасный крик.
Критика не стесняется в выражениях. Автора называют пиратом, жуликом, крысой, забравшейся в литературный амбар, шарлатаном. Редактора книги снимают с занимаемой должности и бросают в город Кологрив для ведения культработы среди местных бондарей. «Веселый колумбарий» изымают из продажи и сжигают в кухне Дома Герцена (после чего котлеты долго еще имеют препротивный вкус). Разнос происходит страшнейший.
В то же утро бледный, серьезный гарпунщик хватает чемодан, жену и еще одну девушку и уезжает в Суук-Су. Оттуда он возвращается через три месяца, отдохнувший, покрытый колониальным загаром, в полном расцвете творческих сил. О нем уже все забыли.
И в первый же вечер он отправляется на товарищеский варенец, имеющий быть в конференц-зале Москоопклоопкустсоюза.
Жизнь продолжается.
Заказчиков много. Все хотят, чтобы их отобразили в плане здорового оптимизма.
Все хотят быть красивыми.
Обыкновенный мир. Смоленский рынок. Аптека (молочные банки с красными крестами, зубные щетки, телефон-автомат). Тесная булочная. Лоточники. Милиционер на маленькой трибуне поворачивает рычажок светофора. Все в порядке. Ничто особенно не поражает.
Но в пяти шагах от всего этого, у начала Плющихи, тесно сомкнувшись, стоит кучка людей из другого мира. Они ждут автобуса № 7.
Какие странные разговоры ведут они между собой!
– Да. Ему вырвали двенадцать зубов. Так надо было по режиссерской экспликации. Вставили новые. Фабрике это стоило массу денег, потому что в гослечебнице заявили, что здоровых зубов они не рвут. А частник… Можете себе представить, сколько взял частник?..
– Ну как, обсуждали вчера короткометражку «Чресла недр»?
– Провалили.
– А в чем дело?
– Подача материала при объективно правильном замысле субъективно враждебна. И потом там тридцать процентов нейтрального смеха и процентов двенадцать с половиной не нашего.
– В АРРКе16 не любят нейтрального смеха. Там за нейтральный смех убивают.
– В общем, Виктору Борисовичу поручили «Чресла» доработать.
– Ну вот, приходит он с новыми зубами в павильон сниматься. Ничего. Начали. Пошли. Улыбнитесь. Улыбнулся. И тут – стоп! Отставить! Не понравилась улыбка.
– Ай-яй-яй!
– Да, да. Говорят – не та улыбка. Не чисто пролетарская. Есть, говорят, в этой улыбке процентов двадцать восемь нейтральности и даже какого-то неверия. Со старыми зубами у вас, говорят, выходило как-то лучше. А где их теперь взять, старые зубы?
– А я знаю случай…
– Подождите. Я же еще не сказал самого интересного. По поводу этих самых «Чресл недр» завязался принципиальный спор. Стали обсуждать творческий метод режиссера Славься-Славского. А зима между тем проходит, а по сценарию надо снимать снег, а промфинплан весьма и весьма недовыполнен. Тут Иван Васильевич не выдержал: «Раз так, то ваш творческий метод мы будем обсуждать в народном суде».
– А зубы?
– При чем тут зубы? Зубы – это по фильму «И дух наш молод».
Какие странные разговоры!
Расхлестывая весеннюю воду, подходит автобус, и в поднявшемся шуме теряются горькие фразы о чреслах, зубах и прочих кинематографических новостях.
Ехать надо далеко.
По элегантному замыслу строителей московская кинофабрика воздвигалась с таким расчетом, чтобы до нее было как можно труднее добраться. Нужно прямо сказать, что замысел этот блестяще осуществлен.
Автобус доставляет киноработников и посетителей к мосту Окружной железной дороги и, бросив их посреди обширной тундры, уезжает обратно в город.
Киноработники, размахивая руками и продолжая интересную беседу о «Чреслах», совершают дальнейший путь пешком и вскоре скрываются между избами деревни Потылихи. Они долго идут по деревне, сопровождаемые пеньем петухов, лаем собак и прочими сельскими звуками, берут крутой подъем, проходят рощу, бредут по проселку, и очень-очень нескоро открываются перед ними величественные здания кинофабрики, обнесенные тройным рядом колючей проволоки. Впечатление таково, будто фабрика Союзкино ожидает неожиданного ночного нападения Межрабпомфильма и приготовилась дать достойный отпор.
Мимо павильона-сторожки, по фасаду которого выведена большая гранитная надпись «Выдача пропусков», все проходят не останавливаясь, так как пропусков здесь не выдают. Выдают их в другой сторожке, на полкилометра дальше, где, однако, о пропусках ничего не сказано. Нет ни гранитной надписи, ни даже извещения, нацарапанного химическим карандашом.
В вестибюле равнодушный швейцар предлагает снять калоши. Посетители с неудовольствием выполняют это требование, но калоши внизу не оставляют, а с независимым видом несут их в руках, чтобы за первым же лестничным поворотом снова их надеть. Так, в калошах, они и бродят весь день по фабрике. Почему они так любят свои калоши? Почему обманывают бедного швейцара и не сдают калоши в гардероб – непонятно. Впрочем, многое странно на кинофабрике.
В коридоре, куда выходит много дверей, стоит, согнувшись, пожилой почтенный человек и смотрит в замочную скважину. Ему хорошо известно, что подглядывать стыдно, но другого выхода у него нет. На двери, над его головой трепещет бумажонка:
ЗДЕСЬ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ.
НЕ СТУЧИ! НЕ МЕШАЙ!
Войти в комнату нельзя, а в ответ на стук раздается недовольный рев. Как же узнать, здесь ли находится нужный работник, из-за которого почтенный посетитель долго ехал в автобусе № 7, шел по деревне, пересекал тундру, останавливался на подъеме, чтобы схватиться за сердце, нес в руках калоши и обманывал бедного швейцара? И стоит он, прильнув к замочной скважине, далеко отставив зад, как водевильный герой, в шубе и шапке. И кашне ниспадает с шеи до самого пола. И все проходящие с проклятиями натыкаются на него.
В коридоре тоже идет своеобразное заседание. Сюда, в коридор, люди приходят с утра и уходят отсюда только вечером.
Здесь любят и умеют поговорить. Высказываются смелые суждения, критикуются начинания, кого-то ругают, что-то хвалят, без конца обсуждают неудобства географического положения фабрики.
– Говорят, что паводок в этом году будет что надо!
– Опять нас отрежет от города.
– Вот увидите, как только пойдет можайский лед и нас отрежет, бухгалтерия объявит выплату гонорара. Они хитрые. Знают, что никто за ним не сможет приехать из города.
– Ну, я вплавь доберусь!
– Скажите, что же наконец произошло с «Чреслами недр»?
– Очень просто. Автора законсультировали.
– Что это значит?
– Одним словом, залечили.
– Не понимаю.
– Сразу видно, что в кино вас перебросили недавно. Ну, заболевает человек ангиной, а его лечат от тифа. Не помогает. Ставят банки. Не помогает. Делают операцию аппендицита. Плохо. Тогда вскрывают череп. Как будто лучше. Но больной вдруг умирает. Так и с «Чреслами недр». Законсультировали.
– Между нами говоря…
В коридоре неожиданно наступает тишина. Все начинают шептаться. И что же в конце концов произошло с «Чреслами», так и остается невыясненным.
Стены коридора дрожат от слухов и киноанекдотов. Иногда кажется даже, что заседание за закрытой дверью будет продолжаться вечно и что человек в шубе и кашне никогда в жизни не найдет нужного ему работника.
Но есть на фабрике другие коридоры, где никто не толчется, где в комнатах постановочных групп идет работа. Есть огромные павильоны. Там деловой воздух. Он очищен от коридорного бреда. Там не шепчутся, не стоят в сторонке, саркастически обсуждая, справится ли новое руководство с прорывом или не справится.
Там хотят, чтобы прорыва не было. Замысел обрастает декорациями, идет проба актеров, фильм начинает жить.
И когда, выходя оттуда, снова попадаешь в порочный коридор, уже без особенного испуга слушаешь неустанную трескотню неудачников, склочников, маломощных гениев и разобиженных авторов актуального сценария, где изобретатель что-то изобрел, у него это что-то кто-то украл и что из этого вышло.
День кончается.
В полутьме коридора ослепительно сверкает чья-то улыбка. Надо полагать, что улыбается тот самый актер, которому вставили казенные зубы.
Черт возьми! Как будто улыбка в самом деле не на все сто. Есть в ней действительно какой-то небольшой процент нейтральности.
Но это не важно, не страшно. Важно миновать болтовню в коридоре и начать работать.
Как говорят на киноязыке: «Начали, пошли».
Вот это – самое главное.
Вечер и ветер. У всех подъездов прощаются влюбленные. Они прощаются бесконечно долго, молчаливо, нежно. Это весна. И когда влюбленные наконец расстаются, она подымается к себе в бедную комнату (так принято по литературной традиции), а он, поправив на голове фуражечку с лакированным козырьком, бредет домой, и губы его по забавной инерции все еще сложены для поцелуя (это уже новость! Как говорит Олеша, распад романной формы).
На мокрых садовых скамейках, где перочинным ножом вырезаны сердца, пробитые аэропланными стрелами, сидят окаменевшие парочки. Как их много! Они сидят на ступеньках музеев, на гранитных бортах тротуаров, в трамвайных павильонах. И в тишине по всему городу слышится мерное причмокивание, как будто бесчисленные извозчики подгоняют своих лошадок.
И в эти весенние минуты особенно горько думать о детской литературе.
Что ожидает детей, которые, надо полагать, родятся в результате таких вот законных действий населения?
Что они будут читать? Как они начнут познавать мир? Что предложит им чадолюбивый Огиз?
Сейчас папа сажает на колени дошкольное чадо (пусть знают холостые редакторы и авторы, что дошкольное чадо – очень маленькое чадо) и говорит:
– Ну, пигмей, я купил тебе книжку про пожарных. Интересно. Правда? Пламя, факелы, каски. Слушай.
И он, сюсюкая, начинает:
– «Пожарное дело в СССР резко отличается от постановки пожарного дела в царской России…» Ай, кажется, я совсем не то купил. Почему же в магазине мне говорили, что это для пятилетнего возраста?
Родитель ошеломленно смотрит на обложку. Он ожидает увидеть марку Учтехиздата, фирмы солидной, известной изданием специальных трудов. Но нет. «Молодая гвардия». Да и по картинкам видно, что книжка для детей. Пожарные нарисованы в виде каких-то палочек, а из окон горящего здания высовывается желтое пламя, имеющее форму дыни.
Между тем чадо ждет. Оно хочет познать мир.
И, странно улыбаясь, папа откладывает книжку в сторону и быстро произносит старое, проверенное веками заклинание:
– Жилбылубабушкисеренькийкозлик.
Услышав про козлика, дитя смеется каким-то вредным биологическим смехом и машет пухлыми ручонками (не сердитесь на пухлые ручонки – литературная традиция).
Папа чувствует, что творит какое-то темное дело, что воспитывает не в том плане. Он начинает исправлять сказочку кустарным образом:
– Видишь ли, пигмейчик, эта бабушка не простая. Она колхозница. И козлик тоже не простой, а обобществленный.
Однако в душе папа знает, что козлик старорежимный, может быть даже с погонами. Но что делать? Не читать же сыну тяжеловесный доклад о пожарном деле.
– Теперь про котика, – неожиданно требует чадо.
Тут папа шалеет. Что это еще за котик? Какими словами говорить о котике? Обобществленный котик? Это уже левый загиб. Просто котик? Беспредметно. Бесхребетно. Непедагогично.
Ужасно трудно! Ужасно!
Или попадется вдруг весело раскрашенная книжонка, где большими детскими буквами напечатано:
Не шалите, ребятишки,
Уважайте тракторишки.
Трактор ходит на врага,
Обрабатывает га,
га, га.
Га, га, га!
Вот так штука,
Ха, ха, ха!
Так как будто все хорошо. Современная тематика. Призыв беречь механизмы («уважайте тракторишки»). Указание на соотношение сил в деревне («трактор ходит на врага»). Новая терминология («обрабатывает га», а не десятину). Есть даже элементы направленного детского веселья («вот так штука, ха-ха-ха»). Не к чему придраться.
А все же почему так совестно читать это ребенку вслух? И если даже прочтешь, почему ребенок из всего стишка запоминает только «га, га, га, га», что и выкликает, как гусь, несколько дней подряд?
Конечно, стихотворная техника шагнула вперед, например: «врага» и «га». Раньше бывало хуже.
Жил когда-то в Одессе цензор Сергей Плаксин, который по совместительству баловался стихами. Печатался он по табельным дням в газете «Ведомости одесского градоначальства» и на правах цензора писал совсем уже просто:
Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас?
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс.
Он рифмовал «папаша» и «мамаша». Кто ему мог запретить эту шалость пера, если сам автор был цензор, редактор – представитель отдельного корпуса жандармов, читатели – сплошь городовые, а стихи посвящены трехсотлетию дома Романовых?
А как поступать, когда читаешь изданную в 1931 году книгу для детей, где автор рифмует «мосты» и «холмы», «спешит» и «кипи»? Это хуже, чем «папаша» и «мамаша». Это уже разбойное нападение на детей, подпадающее под действие 2-го пункта 184-й статьи Уголовного кодекса: нападение, сопряженное с физическим или психическим насилием.
Это насилие психическое. А «га, га, га» – даже физическое.
Кому подсовывают все эти художественные произведения? Детям или взрослым? Сначала кажется, что детям, а потом видишь, что взрослым. Ведь у нас в издательствах дети не работают. Уж будьте покойны, заведующий отделом «Хороводов у костра» не маленький, не дитя. Да и начальница младенческого журнала «Догонялочка-перегонялочка» (бывшая «Палочка-выручалочка») – тоже не грудной ребенок.
Как же все это произошло? Несомненно, что когда создавался детский питательный продукт – «Пожарное дело в СССР резко отличается от…», то позаботились обо всем: чтоб не было мистики, чтоб не было биологии, взятой изолированно от прочих факторов, чтоб не было голого техницизма, упадочничества, шулятиковщины, упрощенства. Учли положительно все, кроме возраста читателя.
И получилось произведение, которое можно прочесть разве только на конгрессе теоретиков пожарного дела. Да и то старые брандмейстеры покачают обгоревшими головами и скажут:
– Установка правильная, но уж слишком как-то учено. Для нас, огнеработников, надо бы попроще.
Иногда же заведующий «Хороводами у костра» вспоминает, с кем, собственно говоря, имеет дело. Может быть, он уступил в трамвае место женщине с ребенком и сам растрогался, а может быть, просто получил какую-нибудь бумажку с печатью, где указывалось, напоминалось и даже предлагалось. Одним словом, он вспоминает о детях.
И тогда начинается громчайшее «га, га, га», будто бы на современную тематику. Впопыхах проскакивает и голый техницизм, и фетишизирование вещей, и проклятая биология, взятая изолированно.
Между тем на бульварах, которые являются главными детскими магистралями, галдят и смеются маленькие читатели. Их много и становится все больше (пора уже ставить для них специальные детские светофоры). Они роют в песке каналы, катаются на верблюде, на боку которого написано «ГОМЭЦ», играют в «учреждение» и прыгают через веревочку.
Они хорошие. Их не надо обижать.
Употребим очень осторожные слова:
– Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях изданных отдельными издательствами! Любите детей! Уважайте их! Ничего, что они маленькие. Они заслуживают хорошего обращения. Любите, не бойтесь, тут нет биологии!
Путь из Винницы в Ленинград лежит через Витебск.
Но Иосиф Евгеньевич Ауэ всегда, то есть один раз в четыре года, ездил в Ленинград через Москву.
Этот путь был дольше, мучительней и дороже. Однако не заехать в Москву товарищ Ауэ не мог. Там были друзья и любимая женщина.
– Когда-то и я был Ромео, – говорил Иосиф Евгеньевич. – Когда-то и у меня была Джульетта. Теперь она замужем. Ее фамилия Протопопуло. Все было. Она стояла на балконе. Я стоял под балконом. На мне были диагоналевые брюки. Ах, вся моя молодость прошла в Москве!
Теперь понятно, почему Ауэ ездил в Ленинград кружным путем.
– Как же мне не посмотреть на нее – на нашу дорогую матушку Москву! А друзья! Иван Сундукевич, монстр, грубиян, но замечательный человек! Имею я право раз в четыре года бросить взгляд на Ваньку Сундукевича? Имею я право перекинуться двумя-тремя словами с Левиафьяном? Это мой друг, доктор Левиафьян, болезни уха, горла и носа. Мы так его и звали в институте – Ухогорлонос. Потом есть у меня еще два дружка, два брата – Савич и Авич. Могу я их обнять на правах старой дружбы?!
И вот на регулярный конгресс работников по культуре бобовых растений Иосиф Евгеньевич Ауэ ехал через Москву.
Времени было очень мало, от поезда до поезда – четыре часа. За этот короткий срок надо было повидаться со всеми: и с Джульеттой Протопопуло, и с друзьями детства мужского пола. Кроме того, хотелось посмотреть и самую Москву.
План, по которому Ауэ действовал каждое четырехлетие, был прост, удобен и проверен на опыте. Друзьям посылались открытки («дорогой», «дорогая»), где Иосиф Евгеньевич назначал свидания в излюбленных местах («были когда-то и мы москвичами») и строго требовал пунктуальности («будем американцами!»).
И его никогда не обманывали. Все любили своего трогательного провинциального друга. Даже грубиян Сундукевич не обманывал. Он бросал все дела и бежал куда-нибудь к памятнику Гоголя или к часам на Садово-Каретной, где знатоку бобовых приходило в голову назначить очередную встречу. О Джульетте же и говорить нечего. Уже за день до приезда Ромео она сидела в парикмахерской, где ей железными приборами завинчивали локоны.
Все празднично шумело на Иосифе Евгеньевиче, когда он вышел на вокзальную площадь Москвы. Шумел резиновый плащ, шумел люстриновый пиджак (откуда только берутся на пожилых научных работниках эти люстриновые пиджаки?).
Открытки были посланы давно. Места встреч были точно обозначены. Время было распределено самым идеальным образом.
Ауэ прибыл на Красную площадь минута в минуту. Здесь, у памятника Минину и Пожарскому, его должен был поджидать специалист по уху, горлу и носу, нежный доктор Левиафьян.
Новая, слегка выпуклая гранитная мостовая площади очень понравилась товарищу Ауэ. Не надо было смотреть под ноги, спотыкаться о проклятый булыжник. Можно было двигаться, гордо задрав голову. И, гордо задрав голову, Иосиф Евгеньевич двинулся вперед и тут же увидел, что место свидания исчезло.
Исчез памятник Минину и Пожарскому, который воздвигла им благодарная Россия. Ауэ повертелся.
Да. Место было совершенно гладкое, как и вся площадь, – ровные диабазовые кубики.
Постоять на месте памятника и поразмыслить, что же произошло, не представлялось возможным, потому что по мостовой с шорохом пробегали грузовики.
На расспросы прохожих о судьбе гражданина Минина и князя Пожарского ушло порядочно времени. Наконец выяснилось, что монумент находится в полной исправности, но стоит сейчас в ограде Василия Блаженного. Оказалось, что Россия благодарна по-прежнему, но памятник перетащила подальше с дороги.
– Чтоб не мешал заниматься! – сказал прохожий.
Когда Ауэ прибыл к подножию гражданина и князя, которые, кстати сказать, указывали своими зелеными ручищами уже не на Кремль, а на далекий магазин Мостропа по Тверской, то доброго Ухогорлоноса уже не было. Конечно, он не дождался и побежал к своим больным вырезать им полипы в носах.
Горевать было некогда. Нужно было спешить к Иверской, на свидание с Ваней Сундукевичем. Ауэ двинулся стрелковым маршем. Сундукевич человек занятой и долго ждать не будет.
Три обстоятельства поразили Иосифа Евгеньевича, когда он прибыл на рандеву, причем все эти три обстоятельства вытекали одно из другого, а равно и вливались одно в другое, создавая таким образом какой-то порочный круг.
Сундукевича не было.
Очевидно, его не было потому, что не было никакой Иверской и поджидать ему было негде.
А Иверской не могло быть по той причине, что раньше она была прислонена к воротам, а ворот-то и не существовало. Их снесли.
Ничего не было. Был широкий проезд, по которому двигались колонны пешеходов и опять-таки зловредные грузовики. Были и гранитные кубики, только на этот раз выложенные дугами.
– Клейнпфлястер, – объяснил прохожий, – усовершенствованная мостовая.
Про Иверскую Ауэ даже не спросил. Стало совестно.
Некоторое время он мыкался в толпе, крича: «Сундукевич, Сундукевич!», – потом, взглянув на часы и ахнув, заторопился в Охотный ряд, где в левом углу, у магазина старинной советской фирмы «Пух и перо» так приятно будет увидеться с двумя друзьями, братьями – тт. Савичем и Авичем.
Здесь было уже черт знает что!
Во-первых, асфальт, во‐вторых, молодые деревья, в‐третьих, справа – грандиозная постройка и, в‐четвертых, слева – полное отсутствие того самого угла, где у магазина «Пух и перо» должны были, взявшись за ручки, поджидать Ауэ два брата – Авич и Савич.
Вполне возможно даже, что аккуратные братья ждали его там, но проникнуть к ним было невозможно. Угол был обшит высоким забором, на котором имелись надписи: «Постройка метрополитена», «Вход посторонним лицам воспрещается» и «Предъявляй пропуск, не ожидая требования».
Оставалась любимая женщина – Джульетта Протопопуло. Свидание предполагалось на Лубянской площади, у фонтана, где бронзовые бамбино держат в пухлых ручонках виноградные гроздья.
– Посмотрим, посмотрим, – шептал Ауэ, с трудом подымаясь по Театральному проезду, – может быть, уже и площади нету.
Нет! Площадь была (новая диабазовая мостовая).
Но фонтана не было.
Через то место, где он стоял, проходили трамваи, стуча на пересечении путей. И там, где должна была стоять трепетная Джульетта с подвинченными локонами, стоял милиционер.
Помимо всего этого, по площади ходить воспрещалось во избежание несчастных случаев.
Где-то по городу, может быть даже совсем близко, в десяти шагах, бродили друзья и любимая женщина, и все они были недосягаемы.
А во всем был виноват Ауэ, любвеобильный, хороший Ауэ. Он думал, что знает Москву, но он знал не ту Москву.
Что же будет через четыре года, когда Иосиф Евгеньевич Ауэ снова устремится на конгресс работников по культуре бобовых растений?
Маленькое добавление. Когда автор настоящего труда явился в редакцию «Крокодила», чтобы сдать рукопись, сотрудники стояли в шляпах, а курьеры, кряхтя, уносили столы на тумбах, пишущие машинки и прочую утварь.
– Идем отсюда скорее, – сказал редактор, – наш дом сносят. Здесь будет гостиница Моссовета на тысячу номеров.
И действительно, дом уже обносили забором.
Недавно в литературном мире произошло чрезвычайно крупное событие.
Нет, нет! Совсем не то, о котором вы думаете.
Это было другое событие, случай, если хотите. Но весьма важный случай. Между тем никто не обратил на него внимания. Мы вообще как-то равнодушны, многого не замечаем, привыкли. В ГИХЛе черт знает сколько месяцев висело над кассой печатное сообщение:
А НА СБЕРКНИЖКЕ
ОСТАВЛЯЙ ИЗЛИШКИ НЕ В ПИВНОЙ
И ничего. Писатели не обижались, хотя намек был более чем прозрачный. Если принять в расчет, что в этой кассе получают гонорар только литераторы, а также то, что ГИХЛ является почти единственным издателем изящной литературы, то в беспробудном пьянстве подозревались все наличные кадры беллетристов, поэтов и критиков. И все-таки претензий не поступило. Прочли, но не осознали, не почувствовали всей обидности намека, как-то недопереварили и побежали по своим делам в соседний коридор, – скажем, в «Редакцию поэзии» (тоже странное название, а все молчат, привыкли).
Итак, событие.
В литературное учреждение, – есть такие учреждения, – пришел писатель Алексей Самообложенский, получивший известность выдержанной повестью «Пни и колдобины» из жизни мороженщиков. В руках он держал бумагу, на которой с боевой краткостью было написано:
РАПОРТ
Ввиду перегрузки общественной работой лишен возможности мобилизовать себя для написания давно задуманного романа-двулогии, выпуск которого я хочу приурочить к пуску первой очереди московского метрополитена.
Настоящим прошу предоставить мне четырехмесячный творческий отпуск.
Основание: Необходимость сочинения указанной выше двулогии.
Приложение: Без приложений.
Подпись: Алексей Самообложенский.
Эту бумагу он показал другим писателям, которые судачили, сидя в коридоре на подоконниках.
И опять никто не удивился. Никто не спросил, почему бумага озаглавлена «рапорт» и при чем тут метрополитен. А главное, никто даже не подумал о странности и ненатуральности требования отпуска на предмет исполнения основных писательских обязанностей. Ведь почтальон не уходит в специальный отпуск, чтобы разнести по квартирам письма и телеграммы. Вагоновожатый тоже занимается своим делом, не испрашивая на это особой резолюции.
Вообще действия Самообложенского показались всем естественными. Ему даже сказали:
– Сильно написано, Алеша. В особенности насчет метрополитена. Очень убедительно. Тебе обязательно дадут отпуск.
– Конечно, дадут, – радовался Самообложенский. – Буду писать. Знаешь, подлежащее, сказуемое, какая-нибудь идея, какая-нибудь метафора. Прелесть!
– А ты кому, собственно, собираешься подать сей рапорт?
– Да уж подам. Где-нибудь здесь, в Доме Герцена. В Союз писателей.
– А ты подай копию в РЖСКТ17 «Советский писатель». Смотри, Алешенька, уедешь в творческий, а они как раз тебе квартиры и не дадут.
– Да, да, – забеспокоился Самообложенский, – копия в РЖСКТ, копия в столовую.
И вдруг обнаружился скептик. Он сказал:
– Почему же рапорт нужно подавать в Союз писателей? При чем тут Союз? Они скажут: «Пожалуйста, пишите. Ваше дело. А отпусков мы не даем. У нас никто не состоит на службе». А вместе с этим отпадут и копии.
Самообложенский очень испугался.
– Кому же подавать? Может, в ГИХЛ? Или в Наркомпрос?
– Да садись просто за стол и пиши себе на здоровье.
– Нет, просто за стол я не могу. Тут есть какая-то индивидуалистическая, антиобщественная нотка. Какой-то анархизм чувствуется, бесплановость. Знаете, я, кажется, попрошу мой отпуск в Главлите.
– Как сказать! Это, правда, тоже не их дело, но они, понимаешь, могут не разрешить. Ты уж лучше в Главлит не подавай.
– Тогда в Литературную энциклопедию? Все-таки солидное учреждение. Я у них скоро выйду на букву «С». Они не посмеют мне отказать. А копии можно будет в Большую советскую энциклопедию, в Малую, в Техническую, в Медицинскую. Ну, и на всякий случай копию московскому прокурору. А?
– Что ж, это идея.
И бедный Самообложенский побрел по коридору, насыщенному бензиновым запахом супов, свинобобов, старых пальто и канцелярских чернил.
Как дошел Самообложенский до такого странного состояния? Что привело его к составлению трагического документа?
Это было три года назад. Он был молод и наивен, писал свои «Пни и колдобины» и вдруг совершенно случайно, – кажется, затем, чтобы попросить спичку, вошел в одну из комнат Дома Герцена. Там сидели четыре человека. Прикурить они ему не дали, а вместо того, зловеще посмеиваясь, избрали вице-президентом комиссии по установлению единого образца писательской членской книжки.
Самообложенский не знал еще того правила, что нельзя входить в комнату, где собралось больше четырех писателей. Обязательно куда-нибудь выберут. Новый вице-президент стал ходить по комнатам, чтобы все-таки у кого-нибудь прикурить, и к концу дня состоял уже в пятнадцати комиссиях. В иные он был избран единогласно, в другие – кооптирован, тоже единогласно. (Вот, дети, весь вред курения! Никогда не курите, дети!).
И началась для Алексея Самообложенского новая, не то чтоб счастливая, но необыкновенно кипучая жизнь. Он стал известен, гораздо более известен, чем когда сочинял свою повесть. Имя его постоянно упоминалось в газетах. Он много заседал и помогал выносить полезные решения.
Но писать он перестал. Его пишущая машинка заржавела, а стопа бумаги, полученная в ГИХЛе для творческих надобностей, незаметно разошлась на протоколы.
И замечательная молодость ушла на создание всяческих «слушали – постановили». «Слушали вопрос о перекраске забора в экономический зеленый цвет. Постановили забор перекрасить в зеленый экономический цвет, а вопрос об олифе проработать т. Самообложенскому совместно с т. Сексопилыциковым из киносекции». «Слушали об организации междугородной переклички писателей с талдомскими кустарями. Постановили перекличку организовать, поручив т. Самообложенскому подготовить материалы».
И через три года такой гордой жизни появился невероятный на первый взгляд рапорт о желании получить творческий отпуск.
Ему дали отпуск. На рапорте появилась чья-то резолюция. Может быть, действительно сжалился прокурор, а может быть, разрешило домоуправление (по месту жительства).
Говоря коротко, Алексей Самообложенский, писатель, сел за письменный стол. Все было прекрасно. Чернильница была полна. На столе лежала новая стопа гихловской бумаги. Верный друг, отремонтированная пишущая машинка сияла белыми кнопками и велосипедным звонком.
Вдохновение пришло не сразу. Роман-двулогия не сразу обозначился на бумаге.
Название – «Первая любовь». Зачеркнуто. «Вторая молодость». Зачеркнуто. «Третий звонок». Зачеркнуто. «Четвертый этаж». Зачеркнуто. «Пятое колесо». Тут что-то есть. Итак, «Пятое колесо».
И здесь застопорило на два дня. Не пролилась ни одна капля чернил. Двулогия не вязалась. Не подбирался нужный тон. Вообще никакого тона не было. Писатель не мог извлечь из себя ни одной ноты. Он забыл, как это делается.
– Может быть, ты, Алешенька, пошел бы в какую-нибудь комиссию, рассеялся бы, – посоветовала жена.
– Да, да, комиссия! Комиссия – это хорошо. Тут что-то есть. Напрашивается какая-то новая форма, какое-то новое слово в литературе.
Писатель вспомнил. Да, да, листки папиросной бумаги, лиловый шрифт, зеленый забор, олифа, звучная перекличка с кустарями.
И рука сама погнала давно задуманных героев по дороге, пробитой заседателями, по великому канцелярскому шляху.
ПЯТОЕ КОЛЕСО
Роман-двулогия
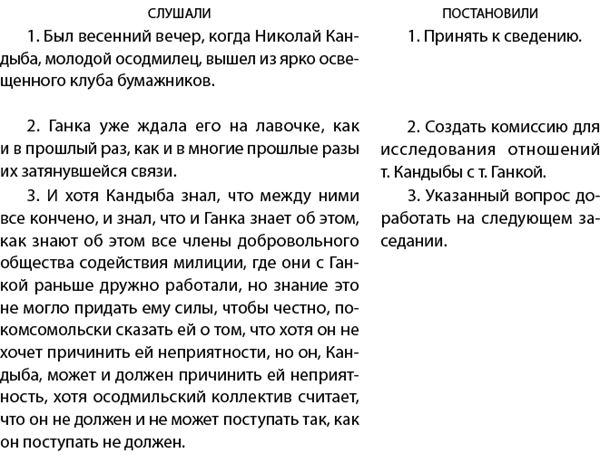
Новая, блестящая форма была найдена. Двулогия писалась легко. Она вязалась.
Уже задолго до истечения творческого отпуска Алексей Самообложенский доставил готовую рукопись в издательство. Для большей, так сказать, впечатляемости она была отпечатана на папиросной бумаге.
Через две недели явился за ответом.
– Прекрасно, – сказал заведующий издательством. – Ваша двулогия – великолепный творческий документ, говорящий за то, что вы смогли бы занять у нас должность начальника канцелярии. Какой слог! Какая форма! Хотите? А? Тем более что бумаги у нас все равно мало.
Под давлением жены Самообложенский согласился.
Сейчас он служит и считается дельным работником. Правда, в составляемых им отношениях проскальзывает иногда излишняя писательская легкость, ненужная метафоричность, но его непосредственное начальство убеждено, что со временем это пройдет бесследно.
Зима окончилась. Дни становились все прекраснее, но вечерняя газета продолжала запальчиво информировать читателя, что Москва по-прежнему обеспечена топливом и калошами. А весна уже вкралась в последние дни апреля, незаметно и проворно, как вкрадывается увлекательная опечатка в газетную передовицу. И уже не о калошах нужно беспокоиться, но о каком-нибудь дедушкином квасе.
В общем, вместе с зимой окончился сезон.
Между тем авторы что-то помалкивают. За лето быстрые халтуртрегеры напечатали множество индустриальных тропарей, житий ударников, спасокооперативных романов и прочей изящной словесности, а отмежевываться от всего этого даже еще не начали. Это тем более удивительно, что в прошлом году в это же время сладкая пора литотмежеваннй была уже в полном разгаре. Неповоротливость, какая-то негибкость халтуртрегеров в этом отношении просто непонятна.
Именно сейчас, когда май-чародей веет свежим своим опахалом и лучезарны вечера в залах Комакадемии, самое время начинать отмежевываться. Об этом забывать нельзя. Надо торопиться.
Необходимо помнить, что на сочинителей, не отмежевавшихся своевременно, начисляется идеологическая пеня из расчета 0,2 (ноль целых две десятых) ругательной статьи на печатный лист художественной прозы.
У всех перед глазами должен стоять ужасный пример автора мелкобуржуазного романа «Жена предместкома». Преисполненный гордыни, он не пожелал отмежеваться вовремя от своего литературно-художественного произведения. И что же? Сейчас наступает юбилейная дата. Исполняется два года с тех пор, как мелкобуржуазный автор все отмежевывается, все отмежевывается и все недостаточно, все недостаточно.
А почему? Пропущено было золотое время, наросла пеня.
Необходимость отказа от ошибок застигла его врасплох, и отмежевываться он начал беспорядочно и вульгарно, теряя запятые, метафоры и даже целые придаточные предложения. Он бежал с поля битвы, как румынский полковник, тряся животом и размазывая по лицу грязные слезы.
Ужасен этот пример, и давно уже пришло время внести стройность и порядок в литотмежевательное дело. Халтуртрегерам необходимо беспрестанно помышлять о спасении. Нужны некие нормы. Необходимо расставить вехи на этом нелегком пути.
Конечно, приходится начинать не на голом месте. Кое-что сделано уже и сейчас. Отдельные сочинители накануне выхода в свет своего нового произведения письмом в редакцию извещают гр. гр. критиков о том, что автор сам знает недостатки своей книги, что имеющиеся в книге идеологические бреши, спешно заделываются для второго издания и что ввиду этих обстоятельств подвергать книгу разбору несвоевременно.
Как ни странно, но такая простейшая прививка часто помогает. Однако дело отмежевания от литературных грехов и срывов нельзя оставить во власти подобного самотека.
Отмежевание никоим образом нельзя отделять от самого произведения. Оно должно составлять как бы часть самой книги.
Между последней фразой сочинения и тем местом, где издательство обычно печатает патетический возглас: «Читатель! Пришли свой отзыв об этой книге в ГИХЛ, Никольская, 10», должно быть помещено краткое отмежевание автора по стандартной форме «А»:
«Считаю мой роман «Отрыжка прошлого» реакционным как по содержанию, так и по форме и представляющим собой развернутый документ узколобого кретинизма и мещанской пошлости. Сейчас я нахожусь в развернутой стадии перестройки и работаю над идеологически выдержанным романом «Апатиты» (название условное), с каковой целью выезжаю на месторождения этого полевого шпата. Валерьян Молокович».
Однако эта в общем удовлетворительная форма – еще не все. Хорошо бы пойти дальше и включить литотмежевание в издательский типовой договор на будущую книгу.
«Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Государственное издательство художественной литературы, именуемое в дальнейшем «Издательство», в, с другой стороны, Валерьян Молокович, именуемый в дальнейшем «Автор», заключили настоящий договор в том, что… (идут обычные пункты договора).
… § 18. Автор признает свой роман «Апатиты» (название условное), который он должен сдать не позднее 1 августа 1933 года, грубой, приспособленческой халтурой, где убогость формы достойно сочетается с узколобым кретинизмом содержания, беззастенчивой лакировкой, ячеством и преклонением перед голой техникой.
§ 19. Издательство, со своей стороны, признает свою ошибку, выразившуюся в издании десятитысячным тиражом книжонки некоего Молоковича под зазывно-кинематографическим названием «Апатиты» (название условное), в то время как бумажные ресу…»
От тех литературных старателей, кои не озаботились помещением отмежевания ни в договор, ни в книгу, запоздалых писем в редакцию принимать не следует, чтобы не загромождать газет.
Всякого рода литотмежевкой и посыпания главы пеплом и мусором следует помещать за плату по нормальному тарифу в отделе объявлений, между извещениями: «Пропала сука» и «Я, такой-то, порвал связь с родителями с 18 часов 14 минут 24 мая 1926 года».
По условиям места отмежевка должна занимать не больше трех строк нонпарели.
«Счит. ром. «Шестеренки и четверенки» разверн. документ, узколоб. кретин. и мещ. пошл. Пр. крит. считать наход. стад. перестр. Там же прод. нов. дуб. письменный стол и дамский велосипед. Спросить Валерьяна Молоковича».
В области театра обыкновенное отмежевание можно сделать зрелищно занимательным, насыщенным и достигающим большой художественной впечатляемости.
Пользуясь принципами comedia dell’arte, можно ввести авторское отмежевание в пьесу в виде злободневной интермедии.
Автор и режиссер появляются перед занавесом и, взявшись за руки, под музыкальное сопровождение доказывают публике, что настоящий спектакль – это пройденный этап и что они со дня общественного просмотра неустанно перестраиваются. Здесь возможен эффектный конец: автор и режиссер проваливаются в люк, из которого бьют серный дым и пламя.
В цирке и мюзик-холле отмежевание можно заканчивать «табло 30 лошадей» или «чудесами пиротехники».
Авторы малых форм, где существует обезличка и неизвестно, кто что написал, должны приводиться к отмежеванию все скопом не реже одного раза в месяц в помещении Всеросскомдрама по окончании служебного дня.
Что касается поэтов, то пора уже покончить с их попытками ублаготворить общественность отмежеваниями в прозаической форме. Нет, и еще раз нет! Раз нашкодил в стихах, то в стихах и отмежевывайся!
ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «КОТЛЫ И ТРУБЫ»
Спешу признать с улыбкой
хмурой
Мой
сборничек
«Котлы и трубы»
Приспособленческой халтурой,
Отлакированной
и грубой.
И как приятно, проделав своевременно все потребные манипуляции, сидеть на балконе, среди фикусов и уважающих твой талант родственников, взирать на перестраивающуюся по случаю весны природу и сознавать, что где-то, задыхаясь и разрывая на себе толстовки, бегут рвачи-энтузиасты, халтуртрегеры и золотоискатели, просрочившие все сроки.
Они бегут, а пеня все растет, растет.
Задание было дано серьезное. Нужно было создать киносценарий на индустриальную тему. Трудно, трудно писать сценарий на такую тему. Но главная трудность заключалась в том, что герой обязательно должен быть положительным.
Сценарий создавали восемь человек: Патушинский, Учетов и Самозвонский, два Попова, Анна-Луиза Кошкина, Семен Агентов и Голенищев-Кутузов 2-й.
Для успешности работы к сценарной группе были приданы два отдельных эскадрона консультантов.
Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й. Он был главный, он и открыл заседание.
– По линии наименьшего сопротивления, – сказал он, – у нас все обстоит благополучно. Отрицательные типы нам удаются. Пора создать положительный тип нашего времени.
– Верно, – сказал Самозвонский, – положительный тип – это вам не отрицательный.
И все с жаром заговорили о том, как легко работать над созданием отрицательных персонажей.
– Кадры так и льются, – со вздохом сказала Анна-Луиза Кошкина, – так и льются.
– Положительный тип должен быть с бородой, – ни к селу ни к городу заметил один из консультантов. – Так убедительнее.
Патушинский и Учетов подняли ужасный крик. Они решительно не понимали, при чем тут борода. Она не казалась им убедительной. Почему борода? Не пахнет ли это отрыжкой допетровской Руси? При этом оба сценариста кричали, словно их резали.
– А впрочем, – неожиданно сказал Патушинский, – можно и с бородой. В бороде чувствуется какая-то связь с деревней.
За Патушинским приутих и Учетов.
– Значит, с бородой, – подвел итог председатель. – Пойдем дальше.
Но дальше пойти не удалось. Посыпались протесты. Говорили, что фильм до некоторой степени все-таки должен быть молодежный. И уместен ли будет главный персонаж с бородой? Снова поднялся крик. Одни говорили, что уместен, другие убеждали, что неуместен. Рассказывали, что пятнадцатилетний юноша с бородой – далеко не единичный случай. Пошли разговоры о чудесах природы, о двухголовых телятах, даже о русалках. Кто-то сообщил, что своими глазами видел женщину с бородой.
– Кстати, – задумчиво сказал Семен Агентов, – не сделать ли нам женщину с бородой центральной положительной фигурой нашего фильма? Но уже, конечно, не в героическом плане, а в разрезе бытовой комедии. А? Что вы скажете, товарищи?
– Надо обсудить, – молвили братья Поповы (Борис и Глеб).
Тут взял слово двенадцатилетний консультант-вундеркинд, выученик Академии пространственных искусств при Мостропе.
– Женщина с бородой может иметь место, – возвестил он, – только надо избежать комикования, чтобы не вышло, как у Чарли Чаплина.
– Ты, мальчик, не бойся, – рассудительно заявил Голенищев-Кутузов 2-й, – как у Чаплина не выйдет. За это можно поручиться.
– С ума вы посходили! – закричала вдруг Кошкина. – Кто вам разрешит женщину с бородой? Репертком ни за что на это не пойдет. Репертком почему-то не любит феноменов.
– К делу, к делу, к делу! – сказал председатель. – Каким же должен быть положительный персонаж?
И все принялись думать тяжкую думу. Консультанты беззвучно шевелили губами. Сценаристы рассеянно рисовали в блокнотах фигурки карликов и женщин с бородами.
– Знаете что? – решительно сказал Самозвонский. – Я нашел выход. В конце концов положительный тип – это есть антипод отрицательного. Они – два полюса. Поэтому давайте подходить к положительному от отрицательного. Например, отрицательный тип пьет. Положительный – не пьет. Отрицательный – лодырничает, положительный – ударно работает…
Новая установка Самозвонского произвела большое впечатление.
– Затем, – продолжал он, – отрицательный – курит, положительный – не курит, отрицательный – некрасивый, положительный – красивый. Один обедает, другой не обедает.
– Как? Совсем не обедает?
– Нет. Он обедает. Но, скажем, не ест мяса. Положительный должен быть вегетарьянцем.
– Позвольте, раз вегетарьянец, значит – толстовец.
– Ну что вы навалились, товарищи! – заныл Самозвонский. – Дайте кончить. Он, конечно, ест мясо, но где-нибудь за кулисами, не на экране. Чтобы не было этого физиологизма, всех этих биологических штучек.
– Правильно, – сообщил консультант-вундеркинд, – главное, чтобы не было, как у Довженко или Пудовкина.
– Что ты, мальчик, волнуешься? – рассудительно заметил Голенищев. – Не будет, как у Довженко. И как у Пудовкина не будет. Но достаточно ли положительных признаков у нашего героя?
– Мало! мало! – закричали консультанты. – Еще давай!
И после длительных прений решено было наградить героя еще следующими достоинствами:
а) Он должен быть членом всех добровольных обществ, работу коих было бы, кстати, не плохо отразить в фильме.
б) Он одинок, так как семейная жизнь может совратить его с правильного пути.
в) Посещает ли он заседания месткома? – Безусловно.
г) Борода, конечно, утверждается (связь с деревней).
д) Утром он работает. А вечером? – Учится. А ночью? – Читает газеты, чем расширяет свой кругозор. А по дороге с завода домой? – Борется с плохой кооперацией.
е) Борется ли он с прочими бытовыми неполадками? – Да. А как это показать? – Пустяки. Для этого есть надписи.
– Ну что, кажется, можно начинать? – бодро спросил Самозвонский. – Тип ясен? Кое-что доработаем по ходу сценария. Анна Мартыновна, возьмите листок бумаги и карандаш. Значит, так…
И на бумаге появилась первая запись:
1. Волнующе-призывно звучит заводской гудок…
2. Из помещения ячейки общества «Друг детей» выходит Никаноров, держа под мышкой «Анти-Дюринг»…
Эта картина, по всей вероятности, уже готова, и мы скоро увидим на экране сверхположительного героя, которому не хватает только крыльев, чтобы стать заправским ангелом, играющим на цимбалах в райских кущах.
Стоит только недосмотреть за каким-нибудь незначительным явлением жизни, как оно сразу превращается в проблему и уже в качестве таковой начинает волновать умы.
Так родилась проблема бритья и стрижки.
В старину человечество уделяло непомерно много внимания борьбе с лысиной. В газетных объявлениях главное место обычно занимала радостная исповедь пехотного майора французской службы, господина Адольфа Шантажу о том, как он, пехотный майор, натирая свою лысую, как детский горшок, голову пастой «Анти-Лысотикон», в два дня добился поразительных результатов.
На его голове со свистом и грохотом выросла густая и красивая шевелюра.
Счастливая судьба не существующего в природе господина Шантажу вызывала суматоху среди лысых. И они тоже втирали в свои плеши различные «Анти-Лысотиконы», «Вырастатели» и прочие волшебные средства, рекомендованные капитанами и тамбурмажорами преимущественно французской службы. В общем, все хотели быть волосатыми.
Сейчас парикмахерская проблема повернулась другой стороной.
Граждане хотят избавиться от своих волос. И это почти так же трудно, как вырастить их на голом месте по способу Адольфа Шантажу.
Московские парикмахерские превратились в читальни. Где-то в глубине салона, перед голубоватым зеркалом, трудится мастер в полубелом фельдшерском халате. Но его почти не видно. Он затерт толпой ожидающих клиентов. Самые молодые и неопытные коротают время, перечитывая по двадцать раз единственный номер детского журнала «Козявка», который от частого употребления готов рассыпаться в порошок. Тоскливо шевеля губами, они моментально заучивают наизусть слова задушевного детского стишка:
Толя, Коля и Машутка
Закричали: «Вот так шутка!
После разных неудач
Стал папаша наш избач.
Динь-бом,
Динь-динь-бом!
Свет несет в деревню он».
Совсем не так поступает опытный клиент. Опытному клиенту точно известно, сколько часов придется прождать в парикмахерской очереди. Потому он и является с соответствующей по тоннажу книгой. Чаще всего это бывает «Граф Монте-Кристо», роман в шести частях с прологом и с эпилогами, или современная эпохальная трилогия в шестьсот страниц текста и вступительной статьей, отмечающей ошибки автора. Этого хватает в обрез. Приглашение мастера занять место совпадает с благополучной концовкой романа.
Но тут начинается новое мученье – пытка роскошью.
– Голову рекомендую мыть хной, – тихо говорит мастер.
Клиент бросает косой взгляд на прейскурант (мытье головы хной – 2 р. 50 к.) и начинает врать, что он недавно был в бане.
– Перхоти много, – угрожающе говорит мастер, – может, помоем «Пиксапо»?
Но клиент отказывается и от «Пиксапо» (1р. 50 к.). Тогда на лице мастера появляется выражение, которое нужно понимать так: «Что ж, а ля гер, ком а ля гер, – на войне как на войне. Бывают раненые, бывают убитые».
Вслед за сим обездоленный мастер начинает бритье, стараясь вместе с волосяными покровами снять также и кожные.
Уже в середине операции клиент сознает, какую гибельную ошибку он совершил, и говорит дрожащим голосом:
– А может быть, в самом деле помоем голову «Пиксапо»?
– Помоем хной, – сурово отвечает мастер.
Клиент готов на все. И пытка роскошью начинается. Клиенту моют голову дорогой персидской жижей и сушат волосы электрической машинкой, потом снова поливают, на этот раз хинной водой, и снова сушат салфеткой. Дальше в ход идут бриолин, горячий компресс на щеки, сухой пресс на голову, одеколон «Сирень», цветочная вода Фармзавода № 8, причесывание бровей специальной щеточкой и, сверх прейскуранта, насильственное выщипывание волос из носа и из ушей хирургическими клещами.
Счет достигает пяти рублей, и когда клиент направляется к двери, шатаясь от горя, его неожиданно по спине бьет веником швейцар с преданными и льстивыми, как у сеттера, глазами. Он отбирает последние, припасенные на трамвай десять копеек и, по старинному обычаю, низко кланяется.
Домой страдалец идет пешком, бессмысленно лепеча: «Динь-бом, динь-динь-бом», и размышляет о самовластии парикмахеров.
Самовластие это безгранично. В поселке Клязьма, под Москвой, есть парикмахерская, где под обыкновенным кличем: «Одеколон – не роскошь, а гигиеническое средство» – висит сообщение хозяина:
КРЕПКИЕ, ЖЕСТКИЕ ГОЛОВЫ И БОРОДЫ Я НЕ БРЕЮ
А так как на Клязьме скопилось много зимогоров с крепкими и жесткими головами и бородами, то бриться они ездят поездом в Пушкино, где их подвергают пытке роскошью.
В Надеждинске на семьдесят тысяч рабочего населения есть только три парикмахерские. Проблема бритья и стрижки достигла там предельной остроты. Если бы Большой театр решил вдруг выехать в Надеждинск на гастроли, особенным успехом пользовался бы там «Севильский цирюльник», а то место, где Фигаро без всякой очереди бреет Бартоло, несомненно вызвало бы громовые аплодисменты, бурю рукоплесканий, овацию.
Раньше, когда человек вдруг начинал отращивать бороду, было ясно, что это киноактер, готовящийся сниматься в роли опричника в фильме «Приключения Иоанна Грозного». Теперь свежая и длинная борода показывает, что собственник ее устал бороться с парикмахерскими очередями, что ему надоело читать «Графа Монте-Кристо» и что, наконец, ему невмоготу посвящать своему подбородку выходные дни, мудро предназначенные для отдыха.
Нужно торопиться.
Надо либо пригласить в консультанты легендарного майора Адольфа Шантажу, мастера на все руки, который, вероятно, имеет в запасе какой-нибудь «Анти-Волосатин», вызывающий молниеносную потерю волос, либо открыть много хороших парикмахерских (без пытки роскошью), изжив, таким образом, разросшуюся проблему бритья и стрижки и сведя ее до размеров обыкновенного жизненного явления.
Когда отменили букву ять, учитель очаковской казенной прогимназии И. Ф. Канторский сошел с ума. Он поджег двухэтажное здание благотворительного о-ва «Капля молока» и бежал в степь. Поймали его только через три дня силами пожарной команды и роты бывших потешных указанной прогимназии. Любопытно отметить, что, когда г. Канторского вели по улице, он громко выкрикивал: «Звѣзды, сѣдла, цвѣл, приобрѣл».
Вначале в общем шуме ничего нельзя было разобрать.
Писатели говорили все разом.
Вполне возможно, что они лили воду на чью-то мельницу. Но чья это была мельница, никто точно сказать не мог, потому что РАПП уже закрылась и некому было провернуть этот животрепещущий вопрос.
В конце концов выяснилось, что говорили главным образом о критиках. И надо прямо сказать, что суждения художников слова отличались некоторой пристрастностью. Высказывались, например, в том смысле, что критиков хорошо бы вешать на цветущих акациях. Это было слишком поэтично и чуть-чуть бессердечно. Придумывались еще худшие казни. Предлагали поймать известного младокритика и отобрать у него литературный инструмент (кавычки, многоточия, sic, восклицательные знаки и «курсив мой»).
Очень, очень жесткие слова говорили. И, конечно, несправедливые слова.
Критики должны иметь место. Без них не может быть полного счастья.
Пусть только не будут первыми учениками, зубрилами с вытаращенными от усердия глазами.
Кто их не помнит, гимназистов, в синих фуражках с белым кантом и серебряным гербом!
На большой перемене, когда ученики играли в скок-скок-скакуна и в «ушки» или предавались чтению выпусков «Этель Кинг – женщина-сыщик», зубрила сидел на подоконнике и горестно бормотал:
Бѣло-сѣрый бѣдный бѣс
Убѣжал, бѣдняга, в лѣс,
Лѣшим по лѣсу он бѣгал,
Рѣдькой с хрѣном пообѣдал
И за горький тот обѣд
Дал обѣт не дѣлать бѣд.
И форма и содержание этого стиха говорят за то, что писал его не Пушкин, не Александр Сергеевич. Как-то не очаровывал этот стих. Не дул от него ветер вдохновенья. Но зато таились в нем волшебные свойства. В стихотворение входили только слова с ятями. Это было специальное педагогическое произведение, которое в популярной художественной форме вбивало в мозги учеников столь необходимый «ять».
Зубрила никогда не пытался проникнуть в глубь грамматического вопроса. Он не допытывался, почему вдруг бес бегает по лесу и жрет хрен. Он знал только, что нужно ответить без запинки. Тогда все будет хорошо. И родителей не вызовут для объяснений, и в кондуитном журнале не будет о нем гадких, компрометирующих записей.
А главное, не надо было думать. Выпалил заученное, получил пятерку и пошел прочь. Завтра выпалил то же самое. Послезавтра – опять то же самое.
Хорошо быть первым учеником, критическим зубрилой литературной прогимназии!
Автор ночью сидит за столом. И чай леденеет в стакане. И мысль не дается в руки. И язык получается непрозрачный, а так хочется, чтобы был прозрачный. В общем – множество дел.
И покуда автор волнуется и скачет, тут же, за перегородкой, в писательском доме монотонно бормочет свои критические вирши первый ученик:
Бойтесь, дети, гуманизма,Бойтесь ячества, друзья.
Формализма, схематизма
Опасайтесь, как огня.
Страшен, дети, техницизм,
Биология вредна —
Есть в ней скрытый мистицизм,
лефовщнна, феодализм, механицизм,
непреодоленный ремаркизм,
непреодоленный ревматизм,
а также шулятиковщина в ней видна.
Разделяйте все моменты
На шаги и на проценты.
Шаг вперед,
Два назад,
Автор плачет, критик рад.
Задавим «Новый мир»
И др. и др.
Зазубрив такой стих, примерный ученик без лишних дум и сомнений приступает к написанию критической статьи. Он уже овладел техникой. Он знает все слова на ять. Основа статьи имеется.
Остальное – мелочь. Но и для мелочей хранятся заголовки.
Для названия статьи употребляется так называемая формула сомнения. Если рецензируемая книга называется «Жили два товарища», статья о ней первого ученика имеет заголовок «Жили ЛИ два товарища?».
Произведение носит название «Трагедийная ночь». Рецензия – «Трагедийная ночь ли?».
Это хорошо. Это удобно. Автор сразу берется под сомнение. По заголовку статьи сразу видно, что писал ее первый ученик, а не какой-нибудь второй. Тут стесняться нечего. Формула заголовков удобная.
«СПИСОК ЛИ БЛАГОДЕЯНИЙ ЛИ?»
«НАСЛЕДНИК ЛИ?» ИЛИ «ЧЕЙ НАСЛЕДНИК?»
«ПОСЛЕДНИЙ ЛИ ИЗ УДЭГЕ ЛИ?»
«СЕВАСТОПОЛЬ ЛИ?»
Почему он все время сомневается? Неужели он думает, что автор пытался всучить рабочему-читателю Симферополь вместо Севастополя или, скажем, Серпухов?
Да нет, ни о чем он не думает. Просто формула готова, а менять ее для какого-то попутчика не хочется. Некогда.
Начиная свою статью, первый ученик никогда не скажет: «Автор изобразил», «Автор нарисовал». Тут есть более осторожная фраза: «Автор пытался изобразить», «Автор сделал попытку нарисовать».
Привычка настолько велика, что даже о Шекспире стали писать: «В пьесе „Отелло“ автор попытался изобразить ревность». Кстати, и статья называется «Мавр ли?». И читатель в полной растерянности. Может быть, действительно не мавр, а еврей? Шейлок? Тогда при чем тут Дездемона? Ничего нельзя понять!
Если писатель, не дай бог, сочинил что-нибудь веселое, так сказать, в плане сатиры и юмора, то ему немедленно вдеваются в бледные уши две критические серьги – по линии сатиры: «Автор не поднялся до высоты подлинной сатиры, а работает вхолостую»; по линии юмора: «Беззубое зубоскальство». Кроме того, автор обвиняется в ползучем эмпиризме. А это очень обидно, товарищи, – ползучий эмпиризм! Вроде стригущего лишая.
Особенно не любит первый ученик произведений, где герои объясняются в любви, женятся и так далее. Он заостряет вопрос, он ставит его ребром: нужно ли в наши дни отображать это чувство в художественной литературе? Никакой любви нет. Позвольте! Откуда же берутся дети? Чепуха! Пожилого советского читателя не трудно убедить в том, что детей приносят аисты.
Под ударами первого ученика писатель клонится все ниже и ниже. А зубрила, бормоча (чтобы не позабыть): «Есть в нем скрытый мистицизм, биологья в нем видна», принимается за самую ответственную операцию (нечто вроде трепанации черепа) – вскрывание писательского лица. Тут он беспощаден и в выражениях совершенно не стесняется. Формула требует энергичного сравнения. Поэтому берутся наиболее страшные. Советского автора называют вдруг агентом британского империализма, отождествляют его с П. Н. Милюковым, печатно извещают, что он не кто иной, как объективный Булак-Булахович, Пуанкаре или Мазепа, иногда сравнивают даже с извозчиком Комаровым.
Все эти страшные обвинения набираются курсивом и неуклонно (такова традиция) снабжаются замечанием: «Курсив мой».
Курсив мой! Курсив мой! Мой! Мой!
Это его курсив. Курсив первого ученика.
И эти придирчивые притязания хорошо бы наконец удовлетворить.
– Не мучьте ученика, отдайте ему его вещи, пусть возьмет свой курсив и чуть-чуть поразмыслит над ним. Пусть опомнится от зубрежки.
«Держите его».
В кругах, близких к дому Герцена, разговаривали о появлении крупного дарования. И если кто-либо выражал по этому поводу сомнение, то оскорбленное дарование тут же извлекало из кармана и предъявляло маловеру бумагу примерно такого содержания:
«Дано сие т. Лутфею Гумирову в том, что он в самом деле является крупным татарским писателем.
Действительно по 1 июля 1932 года.
Видом на жительство служить не может».
Имелась, конечно, на бумаге и нежная сиреневая печать и легкомысленная подпись какого-то заответственного секретаря. Таких бумажек у братского писателя было много – из БАПП, МАПП, АзАПП и ТАПП18. Все эти организации, как видно, заботились больше о том, чтобы братский писатель не использовал их удостоверений в качестве вида на жительство. Остальное беспокоило их гораздо меньше. Крупный так крупный. Могучий так могучий. Не страшно.
У нас, к сожалению, до сих пор очень плохо себе представляют великую разрушительную силу бумажки, снабженной печатью. Обладая таким удостоверением, человек с покосившимися моральными устоями может в очень короткий срок (еще до 1 июля 1932 года) разорить большую страну. Он может пройти по ней, как Аттила, оставляя позади себя дым пожаров, обуглившиеся останки журнальных редакций, пепел и мусор на месте некогда величественных переукрупненных издательств.
Но Лутфей Гумиров оказался человеком без особенно широких горизонтов. Он не сообразил, что в руках у него находится волшебная лампа Алладина и что теперь он может все.
Он разменялся на мелочи. В Баку он хватал деньги в АзАПП и Азпрофсовете. В Москве он бережно передавал себя на попечение Литфонда. А Литфонд в человека не верит. Литфонд верит в бумагу. Братскому писателю давали деньги, а когда он переутомлялся (человек – не железо), ему предоставляли (сердце – не камень) бесплатные путевки в южные дома отдыха.
Только однажды бедовый Лутфей в своем творчестве поднялся на высоту подлинного искусства – заключил с ГИХЛом договор от имени МАПП, получил тысячу рублей, мапповцам предъявил кукиш, а тысячу взял себе (человек – не железо, сердце – не камень). И все-таки это был не такой уж большой взлет индивидуальности. При помощи бумажки с печатью можно было совершить и более квалифицированные деяния. Например, издать полное собрание опечаток из полного собрания сочинений Андрея Безлошадного (Лошадецкого) в дерматиновом переплете, с суперобложкой и с портретом автора на фоне колес и труб.
Так неужели же Гумиров не оправдал чина крупного дарования, так легко выданного ему разнообразными АПП?
Нет. Оправдал. Так оправдал, что разнообразные АПП спохватились и выкинули интригана из своих железных рядов. Но было уже поздно. Бумаги с печатями остались при братском писателе, а он бежал из родной страны в дружественную РСФСР.
Вскоре в толстых и полутолстых журналах появились переводы с татарского из сочинений Лутфея Гумирова. Замечательны они были тем, что прозаический отрывок из романа «Бурай» («Огонек», № 12) до боли напоминал поэтический отрывок из поэмы «Таныб» («Новый мир», № 2) и стихотворение «В ауле» («Прожектор», № 18). Строго говоря, все это было одно и то же, с небольшими вариациями.
В ауле (стихотворение)
На серых ладонях
Аул Бурай…
Бурай (роман)
Бурай – большое село. Тысяча дворов мигает на серых ладонях… ветром с той стороны Таныба доносились песни салчелар – рабочих-сплавщиков: «Барадганай тургач бер утыр-дым. Лякларым бегряк талганга…»
Таныб (поэма)
Старый Давли,
сплавщик Давли
Нищую песню поет:
«Барадагнай тургач
бер утырдым.
Лякларым бегряк
талганга.
Лутфей не баловал читателя разнообразием. Сноска к стихотворению «В ауле» сообщает: «Бурай – село, где я родился. Автор», сноска к поэме «Таныб»: «Таныб – река, идущая мимо моего аула, в котором я батрачил… Автор».
Но, чтобы потребитель совсем уж не затосковал, Гумиров вводил в свои произведения оптимистическую ноту:
«Пятилетки боится седой капитал. Смерть свою чует седой капитал. Интервентов, вредителей шлет капитал. Готовит войну капитал».
Стихи казались странными, но успокаивали политическая выдержанность автора и то обстоятельство, что произведение переведено с татарского языка.
Тут начинается самое главное.
Лутфей Гумиров не пишет стихов ни по-татарски, ни по-русски. Он сочиняет подстрочный перевод со своих несуществующих произведений и поручает русским поэтам привести его в стихотворный вид.
Так как в подстрочнике есть экзотические слова – Гюльсюм, аллах, муэдзин, то переводчику ничего не стоит слепить восточный стих. В покупателях недостатка тоже нет. Их удовлетворяет обилие идеологии (капитал, капитал, капитал, капитал).
А если кто и подымал голову, то всесильное удостоверение живо сбивало с него спесь.
Так наскреб себе славу в Москве (в культурные татарские центры он показываться боялся) крупный писатель-национал Лутфей Гумиров.
А что, если по такому рецепту станет жить Холодный философ? Довольно легкая у него получится жизнь, у Холодного. Тут и Литфонд, тут и южные берега, и сикоморы, и пальмы, и мертвый час, и горячий песок. А по дороге из Алушты в Гурзуф можно написать поэму из китайской жизни, сделаться, так сказать, кит-поэтом.
Известно, как китайцы живут.
Сперва подстрочный перевод:
«Маленькая Ху-Ху, у которой тростниковая талия, одиноко шла по иностранному сеттльменту, злой белый человек отобрал у нее два таэля, которые дал маленькой Ху-Ху старый изможденный кули Ли Хунчанг. И на все это злой капиталист дал ей две горсти риса, две маленькие, как сердце шанхайского голубя, горсточки риса».
Из жадности кит-поэт никому не дает обработать свой перевод. Сам обработает:
У маленькой Ху-Ху
Талия, что бамбук.
Такая у нее талия.
Не ходи, Ху-Ху, по сеттльменту,
Нехорошие люди в сеттльменте,
Такой это сеттльмент,
Но пошла Ху-Ху по сеттльменту.
И грубо взял у нее два таэля
Злой и белый джентльмент.
И заплакал шанхайский голубь
Из-за одной горстки риса.
Из-за полгорстки риса.
Стихи получились страшные. Но если их подкрепить удостоверением, напечатать их нетрудно.
В таких случаях главное – это удостоверение. «Дано сие тому-сему в том, что он является тем-сем и пишет стихи о том, о сем».
Разве, когда печатали литературные плутни Лутфея Гумирова, в редакциях не знали, что все это – галиматья? Даже если бы стихи были действительно переведены с татарского?
Но там читали не стихи. Там больше интересовались удостоверениями.
А если так, то нужно было печатать в журнале самое удостоверение.
И короче. И яснее. И читателю не так противно.
Позвольте омрачить праздник.
Позвольте явиться на чудные именины советской сатиры не в парадной толстовке, ниспадающей на визиточные брюки, и не с благополучным приветствием, выведенным пером «рондо» на куске рисовальной бумаги. Разрешите прибыть в деловых тапочках, выцветшей голубой майке и замечательных полутеннисных брюках, переделанных из кальсон.
Конечно, легче всего было бы ограничиться шумными аплодисментами, переходящими в овацию, но все же разрешите в гром похвал внести любимую сатирическую ноту.
Дело в следующем. Не очень давно в редакцию явился довольно обыкновенный человек и предложил свое сотрудничество.
– Я, – сказал он, – в общем, не писатель. В общем, я интеллигент умственного труда, бывший гимназист, ныне служащий. Но я, видите, женился, и теперь, вы сами понимаете, мне нужна квартира. А чтобы купить квартиру, мне нужно укрепить свою материальную базу. Вот я и решился взять на себя литературную нагрузку: сочинять что-нибудь.
– Это бывает, – заметил редактор, – как раз Гете так и начинал свою литературную деятельность. Ему нужно было внести пай в РЖСКТ «Веймарский квартирник-жилищник», а денег не было. Пришлось ему написать «Фауста».
Посетитель не понял горечи этой реплики. Он даже обрадовался.
– Тем лучше, – сказал он. – Вот и я сочинил несколько юморесок, афоризмов и анекдотов для укрепления своей материальной базы.
Редактор прочел сочинения бывшего гимназиста и сказал, что все это очень плохо. Но бедовый гимназист и тут не смутился.
– Я и сам знаю, что плохо.
– Зачем же вы принесли свой товар?
– А почему же не принести? Ведь у вас в журнале известный процент плохих вещей есть?
– Есть.
– Так вот я решил поставлять вам этот процент.
После такого откровенного заявления отставного гимназиста прогнали. А случай с процентами забылся, и о нем никто не упоминал.
Между тем хорошо было бы о нем вспомнить сейчас, в юбилейную декаду, потому что это не маленький, видно, процент плохих произведений, если человек собирался построить на него квартиру.
Неизвестно, как это произошло, но в сатирико-юмористическом хозяйстве слишком рано появились традиции. Лучше бы их вовсе не было. Кто-то уже слишком проворно разложил по полочкам все явления жизни и выработал краткие стандарты, при помощи коих эти явления нужно бичевать.
Как-то незаметно проник в веселую сатирико-юмористическую семью злодей-халтуртрегер. Он все знает и все умеет. Он может написать что угодно. У него есть полный набор литературных отмычек.
Когда-то на железных дорогах существовал трогательный обычай. На вокзалах вывешивались портреты (анфас и в профиль) особо знаменитых поездных воров. Таким образом, пассажир вперед знал, с кем ему придется столкнуться на тернистом железнодорожном пути. И всю дорогу пассажир не выпускал из рук чемодана, тревожно изучал профили и фасы своих соседей. Он был предупрежден.
О читателе нужно заботиться не меньше, чем о пассажире. Его нужно предостеречь.
Именно с этой целью здесь дается литературная фотография (анфас и в профиль) поставщика юмористической трухи и сатирического мусора.
Работа у него несложная. У него есть верный станок-автомат, который бесперебойно выбрасывает фельетоны, стихи и мелочишки, все одной формы и одного качества.
А. СТИХОТВОРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН
НА ВНУТРЕННЮЮ ТЕМУ
Басенка о коопголовотяпах и метрической системе
Сплошь и рядом наблюдается, что в единичных случаях отдельные заведующие кооплавками, невзирая на указания районных планирующих организаций и неоднократные выступления общественности и лавочных комиссий, частенько делают попытки плохого обращения с отдельными потребителями, что выражается в невывешивании прейскурантов розничных цен на видном месте и нанесении ряда ударов метрическими гирями по голове единичных членов-пайщиков, внесших полностью до срока новый дифпай. Пора ударить по таким настроениям, имеющим место среди отдельных коопголовотяпов.
ИЗ ГАЗЕТ
Нет места в кооперативном мире
Головотяпским сим делам.
Не для того создали гири,
Чтоб ими бить по головам.
Б. МЕЛОЧИ (ШУТКИ)
– Солнце село.
– На сколько лет?
– Вечер наступил.
– На кого?
– Отчего у тебя пиджак порван? За гвоздь зацепился?
– Нет. В кооперативе купил.
В. АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ
Если римский папа сказал «а», то Лига Наций говорит «б».
Не всякий заведующий имеет казенный автомобиль.
Жить с личной секретаршей – это еще не значит жить в мире с подчиненными.
Какая разница между казенной лошадью и казенным автомобилем? Никакой. И та и другой частенько в единичных случаях привозят отдельных заведующих на скамью подсудимых.
Вот все, что есть у владельца литературных отмычек. Вот все его мысли, его шутки, его сатира на кооперативные дела, его представление о международных проблемах.
Больше почти ничего у него и нет. Разве только так называемые юмористические фамилии. Их штук шесть. Дудочкин (совслужащий), Обиралкин (подкулачник), Добывалкин (плохой кооператор), Помадочкина (несчастная, затравленная машинистка), Канцеляркин (бюрократ и головотяп), Никишин (положительный тип, появляется в конце фельетона).
Кажется, профиль обозначился полностью. Да и фас виден довольно отчетливо. Читатель предупрежден.
А теперь, когда в гром похвал внесена родимая сатирическая нота, можно уже надеть визиточные брюки, нарядиться в парадную толстовку и бархатным голосом зачитать теплое приветствие, написанное пером «рондо» на куске рисовальной бумаги.
Внезапно заговорили о пробке. Пробка!
На время это обыкновенное и, так сказать, второстепенное слово стало главным. Его склоняли во всех шести падежах, произносили всюду, где только возможно, и весьма часто ни к селу ни к городу.
Как же такое в общем мизерное слово выскочило вперед и сделало головокружительную карьеру?
О, это началось просто. Появилась в газете заметка:
МИЛЛИОНЫ НА СМЕТНИКЕ
Заголовок серьезный, но не самый свежий. В газетах часто можно найти такие заголовки: «Миллионы ржавеют», «Миллионы под ногами», «Миллионы на ветер». Заметка «Миллионы на сметнике» без журналистской нарядности и щегольства ставила простенький вопрос – использованная пробка не должна пропадать, ее снова можно пустить в дело, и таким образом миллионы избегнут печальной необходимости валяться где-то в мусорных ящиках.
Предложение имело успех. Один видный хозяйственник высказался в том смысле, что пробку действительно не худо бы собирать. С этим согласились все.
Тут-то и надо было начать сбор пробки, сухо, по-деловому, не сопровождая свои действия вызывающими возгласами, извлечь миллионы из сметника и вернуть их на производство.
Но произошло совсем не то.
Первой откликнулась киноорганизация. Там зорко следят за прессой и торопятся все что ни на есть немедленно отобразить в художественных произведениях. Вскоре было обнародовано сообщение, что сценарист Мурузи приступил к работе над сценарием (название еще не установлено), в котором ставятся вопросы сбора пробки в свете перерождения психики отсталого старьевщика-единоличника. Через два дня последовало новое сообщение. Оказывается, Мурузи сценарий уже окончил (условное название – «На последней меже»), создана крепкая съемочная группа и составлена смета на девяносто четыре тысячи ориентировочных рублей.
И все закипело.
В отделе «Над чем работает писатель» можно было прочесть, что писатель Валерьян Молокович заканчивает повесть, трактующую вопросы сбора пробки, однако уже не в свете перерождения психики какого-то жалкого старьевщика, а гораздо шире и глубже – в свете преодоления индивидуалистических навыков мелкого кустаря, подсознательно тянущегося в артель.
Главы из своей новой повести Молокович уже читал на районном слете управдомов. Управдомы нашли, что повесть заслуживает пристального внимания, но что автору не мешает еще больше углубить свое мировоззрение. Автор обещал слету мировоззрение подвинтить в декадный срок.
Решительно пробка захватывала все большие участки жизни.
Странные колебания эфира показали, что радиообщественность тоже не дремлет. Были отменены утренние концерты. Вместо них исполнялась оратория. Дружно гремели хор и оркестр:
Мы были пробкой не богаты,
Богаты пробкой станем мы.
Смелей, дружней вперед, ребяты,
Штурмуйте сметников холмы!
На всякий случай отменили и дневные концерты, чтобы размагничивающей музыкой Шопена не портить впечатления от оратории.
Жару поддала газетная статья, напечатанная, как потом выяснилось, по недосмотру редакции.
Статья была смелая. В ней горизонт необыкновенно расширялся. Уже и речи не было о простом использовании старой пробки. Заварена была совершенно новая каша. Автор статьи утверждал, что обыкновенная пробка есть не только затычка для закупоривания бутылей, банок и бочек, не только материал, идущий на спасательные пояса, изоляционные плиты и тропические головные уборы, но нечто гораздо более важное и значительное. Ставился вопрос не голо практически, но принципиально, а именно – о применении в сборе пробки диалектико-материалистического метода. Автор всячески клеймил работников, не применявших до сих пор этого метода в борьбе за пробку. В качестве примера недиалектического подхода к пробке приводился киносценарий, сочиненный торопливым Мурузи.
Мурузи ужаснулся, и картину стали переделывать на ходу. Заодно увеличили смету (сто шестьдесят три тысячи ориентировочных рублей).
Юмористы пустили в ход старый каламбур насчет пробки бутылочной и пробки трамвайной.
Вообще трескотня шла необыкновенная. Взору уже рисовались большие прохладные склады, наполненные пахучими пробками, как вдруг произошел ужасный случай.
Жил на свете мальчик, чудесный мальчик с синими глазами. Его звали Котя.
Котя прочел самую первую заметку «Миллионы на сметнике», и пока в эфире бушевала оратория, пока Молокович подвинчивал мировоззрение и кто-то вел титаническую борьбу за внедрение диалектического метода в пробочное дело, – умный мальчик собирал пробки. Он собрал четыреста шестьдесят восемь пробок больших и триста шестьдесят пять пробок малого калибра.
Но сдать этот товар было некуда. Вопрос о пробках успели поднять на такую принципиальную высоту, что забыли открыть склады.
Такой чепухой никто не хотел заниматься. Хотелось болтать, рассуждать о высоких материях, искать метода, закапываться в глубь вопроса.
Некоторое отрезвление внесла лишь новая заметка. Правда, называлась она так же, как и старая, – «Миллионы на сметнике», но содержание ее было другое. Имелись в виду ориентировочные рубли, потраченные на художественный фильм о переломе в душе старьевщика-единоличника, на многократное колебание эфира музыкальной фразой: «Богаты пробкой станем мы», печатанье боевой повести Валерьяна Молоковича, – на что угодно, кроме пробки.
И на тему этой заметки почему-то не было сотворено ни одного художественного произведения.
Жарко. По летнему времени трудно сочинить нечто массивное, многословное, высокохудожественное, вроде «Соти». Тянет написать что-нибудь полегче, менее великое, вроде «Мадам Бовари».
Такая жара, что противно вкладывать персты в язвы литературы. Не хочется придираться, допускать сатирические вольности и обобщения.
Хочется посмеяться. И, верите ли, смеяться хочется почему-то так называемым утробным смехом. Тем более это уже разрешено вполне официально и, есть слух, даже поощряется.
Хочется, а с другой стороны – колется. Вдруг не выйдет! Как-никак, а молодость прошла, нет уж того порыва. «И одинокий тонкий волос блестит на праздной голове» (кажется, Тютчев).
В ужасных препирательствах прошла молодость. Мы спорили без конца. Враги говорили, что юмор – это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах его можно давать передовому читателю. Лились блестящие детские слезы. Кто-то учился на своих ошибках (орфографических). Кого-то куда-то бросили.
Теперь все хорошо.
К тому же лето, жарко, съезд писателей соберется не скоро, и литературный трамвай ещё не вошел в прохладное депо.
Последняя посадка была 23 апреля.
И опять кто-то в давке не успел попасть в вагон и гонится за трамваем, задыхаясь и жалуясь:
– Я был первым в очереди. Меня рапповцы замалчивали. И вот такая несправедливость!
Как всегда в трамвае, пассажиры сначала радуются своему маленькому счастью. Идет размен впечатлений. Потом потихоньку начинается дифференциация.
– Чуть Габрилович не остался. Спасибо, Славин подсадил. Буквально в последнюю минуту. Написал о нем статью в «Вечёрке».
– Смотрите, нонпарель, а подействовала.
– Хоть бы обо мне кто-нибудь нонпарелью.
– Читали Никулина?
– «Время, пространство, движение»? Читал. Мне нравится. Совсем как Герцен стал писать. Просто «Былое и думы».
– Да, с тем только различием, что былое налицо, а дум пока никаких не обнаружено. Потом у него в мае месяце арбуз на столе истекает соком. А в окно смотрит белая ночь. А арбузы вызревают в августе. Герцен!
– Не люблю застольных речей. Опять Олеша не то сказал. Сказал о Грине, что умер последний фабулист. Не понимаю, что это значит – последний фабулист. Последний флибустьер – это еще бывает. Не то, не то сказал.
– Сходите?
– С ума вы сошли! Только влез.
– А впереди сходят?
– У выхода рапповцы пробку образовали. Ни за что не хотят сходить. А один товарищ, тот даже лег поперек двери. Ни за что, говорит, не сойду. А его билет уже давно кончился.
– Какое безобразие! Задерживают вагон на повороте!
– А о Зощенко опять ничего не пишут.
– Граждане, осторожнее. Среди нас оказался малоформист. Покуда вы тут спорили и толкались, он успел сочинить на ходу приспособленческий лозунг взамен старого: «Не курить, не плевать». Слушайте. Вот что он написал: «В ответ на запрещение плевания и курения ответим займом социалистического наступления».
– Товарищ Кирпотин, остановите на минутку вагон. Тут одного типа надо высадить.
– Сойдите, гражданин. Ничего, ничего! До ГОМЭЦа пешком дойдете!
– А о Зощенко опять ничего не пишут.
– Кондуктор, дайте остановку по требованию у ГИХЛа.
– Удивительно! Что писателю могло в ГИХЛе понадобиться? Ведь там денег за принятые произведения не платят.
– Но платят за потерянные. Там даже висит особое извещение: «Выплата гонорара за утерянные рукописи производится по четным числам».
– А-а-а!
– Только он выпустил первую книжку, как стали его спрашивать:
– Вы марксист?
– Нет.
– Кто же вы такой?
– Я эклектик.
Уже так было и хотели записать. Но тут раздались трезвые голоса:
– За что губите человека?
Ну, снова стали спрашивать:
– Значит, вы эклектик?
– Эклектик я.
– И вы считаете, что эклектизм – это хорошо?
– Да уж что хорошего!
Тогда записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».
– Это все-таки прошлые времена. Теперь, в свете решений…
– А про Зощенко все еще ничего не пишут. Как раньше не писали, так и сейчас. Как будто и вовсе его на свете нет.
– Да. И знаете, – похоже на то, что этот ленинградский автор уже немножко стыдится своего замечательного таланта. Он даже обижается, когда ему говорят, что он опять написал смешное. Ему теперь надо говорить так: «Вы, Михаил Михайлович, по своему трагическому дарованию просто Великий Инквизитор». Только тут он слегка отходит, и на его узких губах появляется осмысленно-интеллигентная улыбка. Приучили человека к тому, что юмор – жанр низкий, недостойный великой русской литературы. А разве он Великий Инквизитор? Писатель он, а не инквизитор…
Такие и еще другие разговоры ведутся в литературном трамвае. Кто-то упрямо сидит, делая вид, что любуется асфальтированной мостовой, а сам только и думает о том, как бы не уступить место женщине с ребенком (лобовой перенос понятия – здесь, конечно, имеется в виду писательница, робко держащая на руках свое первое произведение).
Кто-то роется в своем кармане, выгребая оттуда вместе с крошками хлеба завалявшиеся запятые. Кто-то в свете решений требует к себе неслыханного внимания. О ком-то, конечно, опять забыли.
Жара.
Но хорошо, что трамвай движется, что идет обмен впечатлениями и что походная трамвайная дифференциация, с обычной для нас перебранкой и толкотней, готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства.
Все говорили, что это мистика.
И что же это, в самом деле? Стоит квартира о трех комнатах со всеми удобствами (как пишется в объявлениях; «Ц. о.19, солн. стор., 2-й эт., возможен вариант»), и никто ее не занимает. И не стремится занять. Голая мистика! Не что иное!
Может, квартира недостаточно роскошная?
Да нет же, повторяем: «Ц. о., все уд., изол., собств. тел.»
Может быть, из окон открывается непривлекательный вид, например, голая стена или выжженная солнцем пустыня? Нет! И вид хорош. Окна на Петровку. Потоки автобусов, потоки пешеходов, воздушные потоки, наконец.
Может быть, квартира запечатана, может быть, из-за нее идет судебный процесс и закон в задумчивости: кому бы ее присудить – отдельному лицу или какой-нибудь организации?
И это не то. Просто пустует квартира и, удивительное дело, никто не рискует туда въехать. По московским квартирным условиям событие, конечно, мистическое, что бы там Главлит ни говорил.
А если кто и въезжал, то больше двух дней в квартире не удерживался, живо сматывался на периферию и долго еще отдыхал где-нибудь на птицезаготовках, с дрожью вспоминая о страшной квартире.
Нужно прямо сказать, в квартире, на 42 метрах полезной площади обитало привидение.
Мы знаем, со стороны как организаций, так и отдельных лиц поступят звуки протеста. Откуда привидение? Не подло ли пичкать потребителя изящной словесности такими баснями?
Но вы спросите дворника того дома. Дворник все знает и всему свидетель. Вся история пошла от дворника.
– Въехал тут один. Не обрадовался. В первую же ночь с него привидение толстовку сорвало. Жилец – в домоуправление. Просит принять меры против такого хулиганства. А какие могут быть меры? Нет мер насчет привидения! Что там во вторую ночь вышло, не знаю, только наутро смельчак выбыл отдыхать в неизвестном направлении. Даже фикус любимый бросил. Сейчас фикус в домовом клубе стоит, согласно постановлению соцбыткомиссии. А квартира опять пустая.
Особенно любил дворник рассказывать про какого-то отчаянного жильца, который польстился на кубатуру.
– С такими удобствами, говорит, можно потерпеть. Еще, говорит, неизвестно, что ужаснее – призрак или вредные соседи. На худой конец подружусь, говорит, с этим внематериальным телом, постараюсь найти ним общий язык, модус, говорит, вивенди. Был там модус или не было, однако ж, чуть стемнело, подошло к нему привидение и стало его членские книжки читать. Восемнадцать книжек. Всю ночь шуршало книжками и хохотало. Что оно там нашло смешного – неизвестно. В общем, приходит жилец в домоуправление и тихо умоляет: «У меня, говорит, небольшой нервный шок случился, так что покорнейше прошу выписать меня из домовой книги. Теперь, говорит, мне всю жизнь надо лечиться электризацией и слабыми токами». Вот тебе и вивенди!
Прав был дворник или неправ, но в квартире, действительно, никто не мог удержаться. Мешали потусторонние силы. Но все же этому безобразному явлению был положен конец.
Появился новый кандидат на квартиру – некто Борджиев. На него дворник даже смотреть не хотел.
– Этот и до рассвета не продержится. И не таких привидение обламывало.
Дворник до сих пор неспокоен, когда вспоминает про Борджиева.
– Такой с виду отрицательный тип, а смотрите, что наделал. Главное, мягкой мебели у него было много, всяких пуфиков и козеток. Целый день возил. Вот дурак, думаю, завтра же все назад повезет. Утром – жду. Нет, не везет. И еще сам стоит в окне, прихорашивается, Подтяжки подстегивает. «Как, спрашиваю, спали? Не собираетесь ли куда на периферию отдохнуть?» Отвечает, что спал, спасибо, хорошо. «Явлений, спрашиваю, никаких не было?» Не, говорит, спасибо, не наблюдалось.
В этом месте дворник обязательно начинает волноваться.
– И чем взял, главное! Мягкой мебелью!
Потом все стало известно. Борджиев впоследствии похвалялся на общем собрании членов жакта. От меня, говорит, не то что призраки, от меня вся семья ушла. Я хоть кого могу выжить.
Выяснилось, что едва привидение присело на пуфик, чтобы начать свои хамские манипуляции, как вдруг что-то его укусило. Так укусило, что привидение чуть не заплакало. Так, во всяком случае, уверял дворник.
– В общем, дело известное – клопы! Терзали они привидение всю ночь. А Борджиев спит, сны смотрит, человек привычный, не призрак какой-нибудь.
По сообщению дворника, вторая ночь для привидения была решающей. События приняли такой стремительный характер, что привидение выскочило на площадку и стало биться в соседские двери, вымаливая скипидар. Ему еще в прежней, материальной жизни говорили, что скипидар помогает.
И такое оно стало жалкое, что никто его не испугался, даже приняли его за нищего и бессердечно отказали.
В словах дворника слышалось некое сочувствие к бедному внематериальному телу.
– Так и погибло привидение. Назад к Борджиеву – не рискнуло. Никаких нервов не хватило бы против борджиевских клопов. Надо полагать, сгинуло наше привидение где-нибудь под забором. Так что санитария и гигиена – это одно, а без клопов по-настоящему все-таки спокойно не проживешь.
Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина.
Беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен.
В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей, – горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге.
Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему: 13 сентября покинуть Москву, чтобы через два дня прибыть в Ейск на целительные купанья в Азовском море. Все устроилось хорошо: путевка, отпуск, семейные дела. Но вот – железная дорога. До отъезда оставалось только два месяца, а билета еще не было.
«Пора принимать экстренные меры, – решил Посиделкин. – На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет, нет, билет надо доставать иначе».
Это самое «иначе» отняло указанные уже два месяца.
– Если вы меня любите, – говорил Посиделкин каждому своему знакомому, – достаньте мне билет в Ейск. Жесткое место. Для лежания.
– А для стояния не хотите? – легкомысленно отвечали знакомые.
– Бросьте эти шутки, – огорчался Посиделкин, – человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы… Так не забудьте. На тринадцатое сентября. Наверное же у вас есть знакомые, которые все могут. Да нет! Вы не просто обещайте – запишите в книжечку. Если вы меня любите!
Но все эти действия не успокаивали, – так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами.
«Худо, худо, – думал Посиделкин, – надо действовать решительнее. Нужна система».
Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин – глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа.
На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере сотни людей: кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики:
«Брунелевский. Безусловно может».
«Никифоров. Может, но вряд ли захочет».
«Мальцев-Пальцев. Захочет, но вряд ли сможет».
«Бумагин. Не хочет и не может».
«Кошковладельцев. Может, но сволочь».
И все это сводилось к одному – достать жесткое место для лежания.
«Где-нибудь да клюнет, – мечтал Посиделкин, – главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели. Обещают, а потом ничего не сделают».
Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него. Но он преследовал их неутомимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами.
– Можно товарища Мальцева? Да, Пальцева, Да, да, Мальцева-Пальцева. Кто спрашивает? Скажите – Леля. Товарищ Мальцев? Здравствуйте, товарищ Пальцев. Нет, это не Леля. Это я, Посиделкин. Товарищ Мальцев, вы же мне обещали. Ну да, в Ейск, для лежанья. Почему некогда? Тогда я за вами заеду на такси. Не нужно? А вы действительно меня не обманете? Ну, простите великодушно.
Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза, и бледнели шоферы.
– Значит, не забудете, – втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой, – в Ейск, для лежания. Одно жесткое.
Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет.
– Вы – милиция, вы все можете, – говорил он жалобно.
И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой («Может, но неустойчив») появлялась в страшной схеме.
За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица (стольких людей он просил о билете, что упомнить их всех было решительно невозможно).
В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой.
«Придется один билет продать на вокзале», – решил он.
Ax, напрасно, напрасно Посиделкин не верил в человечество!
Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой.
За день до отъезда Посиделкин оказался держателем тридцати восьми билетов (жестких, для лежанья). В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и шестьдесят семь копеек бонами на Торгсин.
Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом!
А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до сорока четырех.
За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрашивал прохожих:
– Купите билетик в Ейск! Целебное место – Ейск! Не пожалеете!
Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагия и Кошковладельцев. Они привезли билеты.
Ехать Посиделкину было скучно.
В вагоне он был один.
И, главное, беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило – покупать билеты в кассе – почему-то было забыто.
Шли годы. Никто не спрашивал нас о том, что мы думаем о мещанстве, о внутрирапповских попутчиках, о роли критики в литературе. Никто не задавал нам вопросов, какие принято задавать писателям раза два в год.
И произошло ужасное. Мы не научились плавно высказываться. Нет в нас того огня и пыла, которые нужны на этом ответственном участке литературной работы.
Собранные здесь отрывочные суждения и мысли упакованы нами в маленькую анкету и дают ответ на вопросы, с которыми к нам часто обращаются отдельные лица и небольшие организации.
– Как вы пишете вдвоем?
– О, это очень просто! Значит, так: стол, ну, естественно, чернильница, бумага, и мы двое. Посмотреть со стороны – так совсем не интересно. Никаких особенных писательских странностей! Озабоченные, встревоженные лица (такие бывают у людей, которым обещали комнату с газом и вдруг не дали), взаимные попреки, оскорбления и, наконец, начало романа: «Белоснежный пароход рассекал своим острым носом голубые волны Средиземного моря». Разве это хорошо, такое начало? Может быть, написать как-нибудь иначе, лучше? Тревожно на душе, тревожно!
– Почему вы печатались в полутолстых «Тридцати днях», а не в каком-нибудь совсем уже толстом журнале?
– О, это очень сложно! В толстый журнал нас приглашали только затем, чтобы предложить завести «уголок юмора» – шутки, экспромты, блестки, юморески (редакционные панычи очень любят слово «юмореска»). Заодно предлагали делать шарады, логогрифы, ребусы и шашечные этюды. В общем, все то, что раньше называлось «Смесь», а сейчас «Рабочая смекалка». И выражали удивление, когда мы надменно отказывались. «Ведь вы же юмористы, – говорили в толстом журнале. – Что вам стоит?»
– Правда ли, что ваш смех это не наш смех, а их смех?
– Не будьте идиотом! (Ответ заимствован у Б. Шоу)
– Как относятся в редакциях к вашим творческим исканиям?
– Чрезвычайно однообразно. Всегда просят вычеркнуть из рукописи две строчки и дописать полторы страницы. С течением времени мы приобрели опыт и, сдавая рукопись, заявляем, что две строчки вычеркнуты, а полторы страницы дописали еще в процессе работы. Но даже эта профилактическая мера не помогает.
– Что вам больше всего понравилось в «Литературной газете» за тысяча девятьсот тридцать второй год?
– Постановление ЦК партии от двадцать третьего апреля.
– Ваш любимый писатель?
– Сейчас Дос-Пассос. Может быть, всем теперь он нравится и любовь к этому писателю не оригинальна, но такова ситуация на текущий квартал.
– Ваш любимый читатель?
– Трамвайный пассажир. Ему тесно, больно, его толкают в спину, а он все-таки читает. О, это совсем не то, что железнодорожный пассажир. В поезде читают потому, что скучно, в трамвае – потому что интересно.
– Ваш любимый редактор?
– Тут сложнее. Не успеваешь полюбить какого-нибудь редактора всей душою, как его уже снимают.
– Как же вы все-таки пишете вдвоем?
– Так вот все-таки и пишем, препираясь друг с другом по поводу каждой мысли, слова и даже расстановки знаков препинания. И самое обидное, что, когда мы будем сдавать эту рукопись в редакцию, нас обязательно попросят вычеркнуть две строчки и дописать полторы страницы. А сделать это очень трудно, потому что, как уж было сообщено, мы не научились плавно высказываться.
Богатые врачи или бывшие присяжные поверенные любят искусство.
Не думайте, что это вредное обобщение. Здесь нет желания произвести выпад, бросить тень или, скажем, лить воду на чью-то мельницу. Это просто невинное наблюдение.
Врачи (и бывшие присяжные поверенные) двигают искусство вперед. Да, да, и обижаться тут нечего!
Было бы смешно, если бы все женщины вдруг обиделись, узнав, что в немецкой научной книге «Уголовная тактика» имеется следующая формула: «Женщины никогда не сознаются».
Конечно, обидно читать такое решительное утверждение, но уголовная практика показала, что женщина, совершившая какой-нибудь антиобщественный поступок (кража, хипес, притонодержательство), действительно никогда не сознается на допросе.
Так что иногда можно делать обобщения, если они подкрепляются многолетним опытом.
Итак, еще раз. Врачи обожают искусство. Главным образом врачи-гинекологи. И главным образом живопись. Она им необходима для себя, для приемной, для пациентов.
«Пока живы врачи-гинекологи, живопись не умрет».
Этот блестящий афоризм сказан был одним екатеринославским, ныне днепропетровским художником, который, собственно, не художник, а такой, что ли, своеобразный переводчик. Он делает «юберзецен». Он переводит. Одним словом, он изготовляет фальшивых Рубенсов, Айвазовских, Куинджи и других мастеров кисти. Написать какой-нибудь морской вид, пир полубогов или ядовитый натюрморт с рябчиком ему не трудно. Потребитель, в общем, больше разбирается в медицине, чем в живописи. Трудно придать полотну старинный вид. Но и эта задача в наши дни значительно упростилась.
Просохшая картина сворачивается в трубу. Рубенс-Айвазовский вскакивает в трамвай, и уже через полчаса шумной трамвайной жизни полотно приобретает все необходимые следы памятника искусства XVI или XVII веков – трещины, пятна, оборванные края.
И долго потом врач стоит среди своей плюшевой бамбучьей мебели, смотрит сквозь кулак на новое приобретение и шепчет:
– Наконец-то, наконец у меня есть настоящий Веронезе. Ах, как я люблю именно Веронезе! Сколько воздуха!
За свои деньги эстет требует, чтобы в картине было очень много воздуха. И екатеринославский, ныне днепропетровский художник знает это. Он дает столько озона, сколько врачу нужно, даже больше, чем дал бы сам Веронезе.
Вообще наклонность к изящному немножко ослепляет эстета. Главным образом его магнетизирует великая подпись на картине, выведенная шкодливой рукой днепропетровского живописца.
Ведь так хочется жить среди статуэток, золотого багета, книжных переплетов, среди перламутра и металлопластики.
И эстет реконструктивного периода делает, как говорят французские коммерсанты, усилие. Он покупает в антикварном магазине четыре рюмки и одну перечницу с баронскими гербами.
На этом путешествие в прекрасное, однако, не кончается. Полумесячное жалованье уходит на большую компотницу эпохи Манасевича-Мануйлова и специальную вилку для омаров, коими кооперативы, как известно, не торгуют. Таким образом, вилка доставляет только лишь моральное удовлетворение и вызывает аппетит к новым покупкам.
На стенах появляются акварельные портретики различных красавиц из созвездия Наталии Гончаровой и другие миниатюры времен, так сказать, Дантеса и Аллигиери.
Тогда меняются и обои. Появляются новые, синие – стиль декабрист. А на синих обоях как-то сам по себе возникает портрет чужого прадедушки, генерала с отчаянными баками и с кутузовским бельмом на глазу.
Риск ужасный! Чужого дедушку могут посчитать за родного и вычистить примазавшегося внука со службы. Но эстет идет на все. Он обожает искусство.
Вслед за баронской перечницей, компотницей, Наташей Гончаровой, вилкой и портретом неизвестного солдата неизбежно приходит первый томик издательства «Preludium» (ферлаг «Прелюдиум»).
Это пир роскоши и тонкого вкуса.
Что бы в книге ни было напечатано (воспоминания ли крепостного кларнетиста, антология ли испанских сегидилий и хабанер, стихи ли древнегреческой поэтессы Антилопы Кастраки) – все равно сатиновый переплет, сделанный из толстовки заведующего производственным отделом издательства, украшен золотыми королевскими лилиями.
Покупатель очень доволен. Настоящие бурбонские лилии! Не какие-нибудь пчелы узурпатора Бонапарта, а настоящие лилии Людовика-Солнца (того самого – «после меня хоть делюж – потоп»).
Ах, однажды в Версале! Ах, Тюильри! Ах, мадам Рекамье на бамбуковой скамье!
Ах, если бы Маркса издавали с такими лилиями, в суперобложке художника Лошадецкого, с фронтисписом XVIII века, с виньетками, где пожилые девушки склоняют головы на гробовые урны, с гравюрами на дереве, на меди, на линолеуме, на велосипедных шинах! Стоило бы купить!
Роскошь магнетизирует. Золото и серебро тиснения. ослепляют. Так хочется иметь под рукой предметы красоты, что советский виконт охотно принимает толстовочную обложку за атласную, не замечает, что стихи Антилопы Кастраки отпечатаны на селедочной бумаге, из которой торчат какие-то соломинки и древесная труха, что самые лилии осыпают свое золото уже на третий день, что никакой роскоши нет, а есть гинекологический ампир второй сорт, попытка выдать ситро за шампанское.
– Есть у тебя друг блондин, только он тебе не друг блондин, а сволочь.
Лето прошло в невинных удовольствиях.
Писатели собирали разноцветные камушки в Коктебеле, бродили ночью по Нащокинскому переулку, алчно поглядывая на строящийся дом РЖСКТ «Советский писатель», подписывали договоры на радиооратории и звуковые кинофеерии (летом даже ягнята ходят по тропинке хищников), клохча высиживали большие романы, ругали ГИХЛ, хвалили «Федерацию». Осип Брик написал оперу. И Эдуард Багрицкий написал оперу. А Михаил Кольцов побывал в норе у зверя, откуда вернулся цел и невредим, не получив даже царапины.
Некоторым образом все шло правильно. День есть день, ночь есть ночь, а лето есть лето, то есть такое время года, когда допускаются различные шалости.
Все же можно подбить итоги двум истекшим творческим кварталам.
Странное дело, в литературных кругах почему-то воцарился великопостный дух смиренномудрия, терпения и любве. Подчеркиваем, люб-ве.
Такие все стали вежливые, добрые, голубоглазые, что вот-вот снимутся с насиженных мест и переедут на постоянное жительство в Ясную Поляну, громко проповедуя по дороге вегетарьянство, воздержание и опять-таки великое чувство любве к посредственным произведениям.
Со всех сторон доносится какой-то безубойный шепот: «Я никого не ем». Джентльменство, сверхъестественное джентльменство разлито в воздухе. Все время пахнет вежеталем, манной кашей, чувствуется приторная тещина ласка.
Где ж вы, бодрые задиры?
Где вы, мои друзья, мои враги? Ничего нельзя разобрать. Все друзья, все блондины.
А какие были у нас титаны критической мысли! Не успевал человек сочинить первые две главы небольшой сравнительно трилогии, в шестьдесят с гаком печатных листов, как появлялась быстроходная, словно межпланетная ракета, рецензия под заголовком, не оставляющим места благоуханной надежде:
«В мусорный ящик!»
И так становилось страшно, что не хотелось уже думать, кого это в мусорный ящик – книгу ли, автора, а может, обоих вместе, и даже с издателем, а возможно, и с читателем.
Был такой стиль, была такая повадка.
Теперь все поголубело, гораздо стало уважительней. Теперь жарят прямо из «Вишневого сада»: «Дорогой, глубокоуважаемый шкаф».
Лидин – глубокоуважаемый шкаф, и Панферов – шкаф, и Валентин Катаев – глубокоуважаемый, и Афиногенов – дорогой, и Алексей Толстой – «примите и проч.», и Феоктист Березовский – «позвольте в этот знаменательный день», и ужасное дитя салонов и диспутов – неукротимый Вишневский, и маленький, кроткий Лапин – все зачислены в шкафы.
И стоят они в ряд, сияя лаком, зеркальными иллюминаторами, очками, латунными ручками и резными загогулинами.
Впопыхах попал в шкафы даже поэт Миних. И только через три недели пришли литературные возчики и, кряхтя, вынесли его из пантеона великой, многотомной отечественной литературы.
Но за исключением этого факта, который можно отнести не к воспитательной работе, а скорее к области погрузочно-разгрузочных операций, почти во всем остальном наблюдается неуемное джентльменство.
«В основном море спокойно», – как говорил грек Попандопуло.
Между тем хочется ссориться.
Мы уже не дети. Советской литературе пятнадцать лет. Совсем не интересны взаимное ласкательство, медоточивость и всякое там, как мог бы сказать Крученых, хухушка хвалит кекуха.
Мы не однородны, не похожи друг на друга. Есть вкусы, есть взгляды, есть точки зрения.
Высказывайтесь, товарищи, начинайте великий спор. Есть о чем спорить, хотя из Ленинграда и донесся протяжный стон Чумандрина, напоминающий сетования старушки из очереди на тему о том, что все погибло и жизнь уж не красна с 23 апреля сего года.
И вовсе нет надобности ждать съезда писателей или пленума оргкомитета, чтобы потом начать писать всем враз и примерно одно и то же.
Хочется ссориться, и есть, из-за чего.
Лето урожайное по произведениям и весьма засушливое по критическим работам (джентльменство и немотивированное зачисление в шкафы, конечно, в счет не идут).
Вам нравится «Время, вперед!» Катаева?
Вам нравится «Энергия» Гладкова?
Вам нра… «Москва слезам не верит» Эренбурга?
«Время, пространство, движение» Никулина?
«Поднятая целина» Шолохова?
«Сталинабадский архив» Лапина и Хацревина?
«Скутаревский» Леонова?
«Собственность» Зозули?
«Цусима» Новикова-Прибоя?
«Последний из удэге» Фадеева?
«Новые рассказы» Бабеля?
Может быть, не нравятся? Или одно нра, а другое не нра? Если так, то расскажите по возможности внятно и, главное, не скрывая своей литературной приязни или неприязни.
Почему так горячи литераторы за чайным столом, так умны и обаятельны? И почему так сладковаты и безубойны на кафедре? Почему полны смиренномудрия и любве? Откуда это терпениум мобиле?
Мы привыкли к оговоркам. Поэтому специально для муравьедов и сейчас прилагается оговорка.
Здесь нет призыва к избиению литгугенотов, дело не в том, чтобы против некоторых фамилий поставить меловые кресты, а затем учинить Варфоломеевскую ночь с факелами и оргвыводами, нет даже желания, чтобы кого-либо огрели поленом по хребту (в свое время это называлось «ударить по рукам»).
А ведь как давали по рукам! И еще в этом году давали. Чтобы оживить отвращение к такому критиканству, надо каждому сделать настольным третий номер «Иностранной книги» (издание Огиза, тираж 5000 экземпляров, 1932 год).
О, здесь все было просто. Площадь рецензии 2 х 5 сантиметров. Число строк не выше восьми. Трудно было уложиться, но укладывались.
1. Автор не поднимается над уровнем…
2. Автор не выходит из рамок…
3. Книга не представляет интереса…
А об одной книге было состряпано уже сверхрадикальное:
«Описание путешествия автора, французского губернатора Джебель-Друза, по Палестине. Ревностный протестант, автор повсюду ищет подтверждения данных евангелия, уделяет все свое внимание историческим памятникам христианства. Книга не представляет». (Курсив наш! Ага!)
И все. Точка. Не представляет. Что не представляет? Куда именно не представляет? Не представляет – и конец. Отстаньте! Есть еще восемьсот иностранных книг, и обо всех надо написать на трех страничках.
И выходит в свет пять тысяч экземпляров столь веской критической мысли. А потом сразу – глубокоуважаемый шкаф. Прямо из проруби на верхнюю полку мавританских бань. Дистанция!
Хотелось бы иначе. Без ударов палашом по вые («книга не представляет»), но и без поцелуйного обряда, шкафолюбия и довольно-таки скучной любве.
Странный разговор велся в одной из фанерных комнат Изогиза.
Редактор. Дорогой Константин Павлович, я смотрел ваш плакат… Одну минутку, я закрою дверь на ключ, чтобы нас никто не услышал…
Художник (болезненно улыбается).
Редактор. Вы знаете, Константин Павлович, от вас я этого не ожидал. Ну что вы нарисовали? Посмотрите сами!
Художник. Как что? Все соответствует теме «Больше внимания общественному питанию». На фабрике-кухне девушка-официантка подает обед. Может быть, я подпись переврал? (Испуганно декламирует.) «Дома грязь, помои, клоп – здесь борщи и эскалоп. Дома примус, корки, тлен – эскалоп здесь африкен».
Редактор. Да нет… Тут все правильно. А вот это что, вы мне скажите?
Художник. Официантка.
Редактор. Нет, вот это! Вот! (Показывает пальцем.)
Художник. Кофточка.
Редактор (проверяет, хорошо ли закрыта дверь). Вы не виляйте. Вы мне скажите, что под кофточкой?
Художник. Грудь.
Редактор. Вот видите. Хорошо, что я сразу заметил. Эту грудь надо свести на нет.
Художник. Я не понимаю. Почему?
Редактор (застенчиво). Велика. Я бы даже сказал – громадна, товарищ, громадна.
Художник. Совсем не громадная. Маленькая, классическая грудь. Афродита Анадиомена. Вот и у Кановы «Отдыхающая Венера»… Потом возьмите, наконец, известный немецкий труд профессора Андерфакта «Брусте унд бюсте», где с цифрами в руках доказано, что грудь женщины нашего времени значительно больше античной… А я сделал античную.
Редактор. Ну и что из того, что больше? Нельзя отдаваться во власть подобного самотека. Грудь надо организовать. Не забывайте, что плакат будут смотреть женщины и дети. Даже взрослые мужчины.
Художник. Как-то вы смешно говорите. Ведь моя официантка одета. И потом, грудь все-таки маленькая. Если перевести на размер ног, то выйдет никак не больше, чем тридцать третий номер.
Редактор. Значит, нужен мальчиковый размер, номер двадцать восемь. В общем, бросим дискуссию. Все ясно. Грудь – это неприлично.
Художник (утомленно). Какой же величины, по-вашему, должна быть грудь официантки?
Редактор. Как можно меньше.
Художник. Однако я бы уж хотел знать точно.
Редактор (мечтательно). Хорошо, если бы совсем не было.
Художник. Тогда, может быть, нарисовать мужчину?
Редактор. Нет, чистого, стопроцентного мужчину не стоит. Мы все-таки должны агитировать за вовлечение женщин на производство.
Художник (радостно). Старуху!
Редактор. Все же хотелось бы молоденькую. Но без этих… признаков. Ведь это, как-никак, согласитесь сами, двусмысленно.
Художник. А бедра? Бедра можно?
Редактор. Что вы, Константин Павлович! Никоим образом – бедра! Вы бы еще погоны пририсовали. Лампасы! Итак, заметано?
Художник (уходя). Да, как видно, заметано. Если нельзя иначе. До свиданья.
Редактор. До свиданья, дружочек. Одну секунду. Простите, вы женаты?
Художник. Да.
Редактор. Нехорошо. Стыдно. Ну ладно, до свиданья…
И побрел художник домой замазывать классическую грудь непроницаемой гуашью.
И замазал.
Добродетель (ханжество плюс чопорность из штата Массачузетс, плюс кроличья паника) восторжествовала.
Красивых девушек перестали брать на работу в кинематографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:
– Дарование у вас, конечно, есть… Даже талант. Но какая-то вы такая… с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. Ах, черт! «Она была бы в музыке каприччио, в скульптуре статуэтка ренессанс». Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?
– Вы несправедливы, Люцифер Маркович, – говорила актриса, – за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу. Даже седые волосы появились.
– Ну что – морщинки! – досадовал режиссер. – Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!
Актриса заплакала.
– Отчего я такая несчастная? Талантливая – и не кривобокая?
– В семье не без урода, – сухо заметил режиссер. – Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете? Где ассистент? Товарищ Сатанинский, навесьте ей на шею две-три подковы. Нет, не из картины «Шурупчики граненые», а настоящие, железные. Ну как, милуша, вам уже удобнее ходить? Вот и хорошо. Один глаз надо будет завязать черной тряпочкой. Чересчур они у вас симметрично расположены. В таком виде, пожалуй, дам вам эпизод. Почему же вы плачете? Фу, кто его поймет, женское сердце!
Мюзик-холл был взят ханжами в конном строю одним лихим налетом, который, несомненно, войдет в мировую историю кавалерийского дела.
В захваченном здании была произведена рубка лозы. Балету из тридцати девушек выдали:
30 пар чаплинских чоботов… 30
30 штук мужских усов....... 30
30 старьевщицких котелков.. 30
30 пасторских сюртуков..... 30
30 пар брюк............... 30
Штаны были выданы нарочно широчайшие, чтоб никаким образом не обрисовалась бы вдруг волшебная линия ноги.
Организованные зрители очень удивлялись. В программе обещали тридцать герлс, а показали тридцать замордованных существ неизвестного пола и возраста.
Во время танцев со сцены слышались подавленные рыданья фигуранток. Но зрители думали, что это штуки Касьяна Голейзовского – искания, нюансы, взлеты.
Но это были штуки вовсе не Голейзовского.
Это делали и делают маленькие кустарные Савонаролы. Они корректируют великого мастера Мопассана, они выбрасывают оттуда художественные подробности, которые им кажутся безнравственными, они ужасаются, когда герой романа женится. Поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда.
Ах, как они боятся, как им тяжело и страшно жить на свете!
Савонарола? Или хотя бы Саванарыло?
Нет! Просто старая глупая гувернантка, та самая, которая никогда не выходила на улицу, потому что там можно встретить мужчин. А мужчины – это неприлично.
– Что ж тут неприличного? – говорили ей. – Ведь они ходят одетые.
– А под одеждой они все-таки голые! – отвечала гувернантка. – Нет, вы меня не собьете!
В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.
Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.
В конце концов решили заказать роман с продолжением.
Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.
– Вы понимаете, – втолковывал редактор, – это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.
– Робинзон – это можно, – кратко сказал писатель.
– Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
– Какой же еще! Не румынский!
Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.
И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.
Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»
– Очень хорошо, – сказал редактор, – а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.
– Борьба человека с природой, – с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.
– Да, но нет ничего советского.
– А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.
– Попугай – это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?
Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.
– Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?
– Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.
– Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита…
Тут Молдаваицев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.
– А ведь вы правы, – сказал он, подымая палец. – Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.
– И еще два освобожденных члена, – холодно сказал редактор.
– Ой! – пискнул Молдаванцев.
– Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.
– Зачем же еще сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?
– А у Робинзона.
– У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается.
– Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.
– Тогда можно и сборщицу, – покорился Молдаванцев. – Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же Робинзона. Все-таки веселей будет читать.
– Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.
Молдаванцев заерзал на диване.
– Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!
Редактор призадумался.
– Стойте, стойте, – сказал он, – у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи…
– Топор, карабин, бусоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством, – торжественно перечислил писатель.
– Ром вычеркните, – быстро сказал редактор, – и потом, что это за бутылка с противоцинготным средством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.
– Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?
– Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А лавочная комиссия?
– Разве она тоже спаслась? – трусливо спросил Молдаванцев.
– Спаслась.
Наступило молчание.
– Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?! – ехидно спросил автор.
– Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь – это показать массу. Широкие слои трудящихся.
– Волна не может выбросить массу, – заупрямился Молдаванцев. – Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.
– Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха, – вставил редактор, – никогда не помешает.
– Нет! Волна этого не может сделать.
– Почему волна? – удивился вдруг редактор.
– А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!
– Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну, и все.
– А Робинзон? – пролепетал Молдаванцев.
– Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.
– Теперь все понятно, – сказал Молдаванцев гробовым голосом, – завтра будет готово.
– Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну и хорошо. Будьте здоровы!
Оставшись один, редактор радостно засмеялся.
– Наконец-то, – сказал он, – у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.
На бульваре сидели бывшие попутчики, союзники и враги, а ныне писатели, стоящие на советской платформе. Курили, болтали, рассматривали прохожих, по секрету друг от друга записывали метафоры.
– Сельвинский теперь друг ламутского народа20.
– А я что, враг? Честное слово, обидно. Затирают.
– Тогда напишите письмо в «Литгазету», что вы тоже друг. Так сказать, кунак ламутского народа.
– И напишу.
– Бросьте, Флобер не придал бы этому никакого значения.
– Товарищ, есть вещь, которая меня злит. Это литературная обойма.
– Что, что?
– Ну, знаете, как револьверная обойма. Входит семь патронов – и больше ни одного не впихнете. Так и в критических обзорах. Есть несколько фамилий, всегда они стоят в скобках и всегда вместе. Ленинградская обойма – это Тихонов, Слонимский, Федин, Либединский, Московская – Леонов, Шагинян, Панферов, Фадеев.
– Комплектное оборудование критического цеха.
– Толстой, Бабель, Пришвин никогда не входят в обойму. И вообще вся остальная советская литература обозначается значком «И др.».
– Плохая штука «и др.». Об этих «и др.» никогда не пишут.
– До чего же хочется в обойму! Вы себе и представить не можете!
– Стыдитесь. Стендаль не придал бы этому никакого значения.
– Послал я с Кавказа в редакцию очерк. И получаю по телеграфу ответ: «Очерк корзине». Что бы это могло значить? До сих пор не могу понять.
– Отстаньте. Бальзак не придал бы этому никакого значения.
– Хорошо было Бальзаку. Он, наверное, не получал таких загадочных телеграмм.
– Можно рассказать одну историю?
– Новелла?
– Эпопея. Два человека перевели на венгерский язык повесть Новикова-Прибоя «Подводники». Повесть очень известная, издавалась множество раз. Свой перевод они предложили венгерской секции Издательства иностранных рабочих в СССР. Через некоторое время повесть им с негодованием возвратили, сопроводив ее жизнерадостной рецензией. Я оглашу этот документ.
– Оглашайте!
– Вот что написали о книге уважаемого Алексея Силыча: «Обывательское сочинительство с любовью и подводными приключениями без какого-либо классового содержания. Ни слова не сказано о движении, которое превратило империалистическую войну в гражданскую, и это сделано двумя русскими писателями».
– Почему двумя?
– Не перебивайте. Дайте дочитать «… двумя русскими писателями. Не только слепота, но преступно намеренная слепота. Матросы Новикова и Прибоя…»
– Что за чушь!
– Слушайте, слушайте!
– «…Матросы Новикова и Прибоя бессознательно идут на войну…» Ну, дальше чистая материнская ласка: «… все это теряется в тошнотворном запахе каналов лирики… Матросы не знают марксизма-ленинизма. Этот роман из-за своего содержания даже не достоин обсуждения».
– Кто это написал?
– Чья чугунная лапа?
– Фамилию!
– Автора рецензии зовут Шарло Шандор.
– Надо сообщить в МОРП.
– Да не в МОРП, а в МУР надо сообщить. Это уже невежество со взломом.
– А мне кажется, что Свифт не придал бы этому никакого значения.
– Ну, вы не знаете Свифта. Свифт снял бы парик, засучил бы рукава коверкотового камзола и разбил бы в этом издательстве все чернильницы. Уж я знаю Свифта. Он хулиганов не любил.
– Братья, меня раздирают противоречия великой стройки.
– Десятый год они тебя уже раздирают. И ничего, потолстел. Стал похож на председателя велосипедно-атлетического общества.
– А все-таки они меня раздирают, и я этим горжусь. Тя-я-я-жко мне! Подымите мне веки! Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир. Или нет, не подымайте! Тя-я-я…
– В самом деле, человек как будто страдает.
– Да нет. Просто выпал из обоймы и очень хочется обратно. А в обойме уже лежит другой писатель, гладенький, полированный в новом галстуке.
– Скажите, о чем автор думает в ночь перед премьерой своей первой пьесы?
– О славе, которая его ожидает.
– О кладбищенских венках, которые вдруг могут поднести нетактичные родственники.
– А может быть, он думает о позоре, о кашляющем зале, о непроницаемых лицах знакомых.
– Вернее всего, думается ему о том, как он, потный, трусливый и неопытный, вылезет на сцену, чтоб раскланиваться с публикой. И лицо у него будет, как у нищего. И всем будет за него совестно, и какая-нибудь девушка в зрительном зале даже заплачет от жалости.
– То ли дело вторая или третья пьеса. Выходишь напудренный, томный Вертинский, кланяешься одной головой. А на премьере первой пьесы сгибаешь все туловище.
– Мольер не придавал этому никакого значения.
– Читал я дневник Софьи Андреевны Толстой.
– Только не рассказывайте содержания. Все читали.
– Нет, я к тому, что моя жена тоже… вроде Софьи Андреевны… описывает мою жизнь.
– Воображаю, какие там интересные подробности. «Сегодня мой Левочка очень сердился на вегетарьянский завтрак, требовал мяса. До самого обеда ничего не писал. В обед съел много мяса. Катался в трамвае, чтобы освежиться. Не писал уже до вечера. Потом приходили люди из провинции, спрашивали, в чем цель жизни. Сказал, что не знает. Ужинал с аппетитом». Вот и вся ваша жизнь, как на блюдечке.
– Что это за шутки? Что за интеллигентский нигилизм.
– Бросьте. Фукидид не обратил бы на это никакого внимания.
– Дид Фукидид, он же запорожец за Дунаем.
– Шпильгаген не сказал бы такой глупости.
– Ну, не знаете вы Шпильгагена.
Выслуга лет нужна не только для получения пенсии. Она требуется и для славы. Прошло то волшебное время, когда о писателе говорили: «Он лег спать никому не известным, а проснулся знаменитым». Теперь бывает скорее обратное – писатель ложится в постель знаменитым, а утром, еще сонный, читает газету, где о нем написано, что писатель он, в сущности, гадкий (омерзительный), и весь предыдущий трехлетний фимиам был роковой ошибкой критики.
Пяти лет какой бы то ни было работы в литературе достаточно, чтобы создать автору маленькую домашнюю славу. Одноколесная фортуна осыпает его повестками, приглашениями на заседания, диспуты и товарищеские чаи («непринужденная беседа затянулась далеко за»). В общем, его впускают в вагон. Теперь ему хорошо.
Писатель Полуэксов отбарабанил установленный срок и получил положенную по штату зауряд-известность. Жизнь его была всем хороша. Утром он писал для души, днем для славы, а вечером для Радиоцентра.
И вдруг ровная приличная жизнь окончилась.
Его спросили:
– Почему вы не напишете пьесы?
Он не ответил, не обратил внимания. Мало ли о чем спрашивают писателя: почему вы не пишете для детей? почему бы вам не писать водяную пантомиму с чудесами пиротехники или монолог с пением и чечеткой для разъездного агитфургона?
Но фургон фургоном, а вопрос о пьесе стал повторяться все чаще. Спрашивали в редакциях, на улицах останавливали приятели. Один раз оконфузили Полуэксова даже в трамвае.
– Филипп Семеныч! – закричал страшным голосом через весь вагон мало знакомый гражданин в каракулевом пирожке. – Это уже свинство, Филипп Семеныч. Хамство. Почему ты не напишешь пьесы?
И все пассажиры посмотрели на Полуэксова с гадливостью. Он замешался и в смущении соскочил на ходу с задней площадки, за что и был оштрафован на три рубля.
«Ну, – подумал он, – меня уже начинают штрафовать за то, что я не пишу пьесы».
Дома приставали родственники. Кольцо сжималось. Наконец в квартиру ворвался человек весь в желтой коже и бросил на письменный стол договор.
– Подписывайте, подписывайте, – сказал он быстро и повелительно, – вот здесь, внизу.
– А вверху что? – спросил растерявшийся писатель.
– А вверху известно что, – отвечала кожа, – с одной стороны Филипп Семеныч Полуэксов, именуемый в дальнейшем автором, и передвижной стационар драм-комедий, именуемый с другой стороны… Но это не важно. Подписывайте.
– Но тут у вас обозначено, что я обязан представить пьесу из быта ИТР и прочей интеллигенции, объединившейся вокруг ВАРНИТСО? Тема мне, так сказать, мало знакома…
– Тема условная, голубчик, – ласково ответила кожа.
– Но тут уже и название проставлено – «Зразы».
– Н… название условное. Все условное.
– Как, неужели все условное?
– Абсолютно все. Подписывайте скорей. Иначе я сам подпишу за вас.
Тогда человек, именуемый в дальнейшем «автор», подписал.
Что он мог еще сделать? Сопротивляться было нелепо. К тому же все условно и, может быть, обойдется мирно.
Пришлось, однако, отложить работу для души, славы и Радиоцентра и заняться обдумыванием пьесы.
Знакомство с шедеврами мировой драматургии принесло Полуэксову первые крупицы знания в этом новом для него деле.
Выяснилось, что герой пьесы совершает обычно нижеследующие поступки:
а) Входит.
б) Уходит.
в) Снова входит.
г) Смеется.
д) Застреливается.
Писателю стало легче.
Усадив жену и свояченицу за подсчет реплик в пьесах Мольера и Бомарше, Полуэксов принялся разрабатывать сюжет.
Главное действующее лицо ВХОДИТ в свою комнату и видит, что жена изменяет ему с не менее важным действующим лицом. Пораженный этим фактом, он УХОДИТ. Затем СНОВА ВХОДИТ с револьвером в руке. СМЕЕТСЯ и, произнеся горький монолог, ЗАСТРЕЛИВАЕТСЯ.
Выходило очень неплохо. Свежо.
Но тут в квартиру вломился человек в брезентовом костюме и сурово сказал:
– Редакция газеты «Искусство не для искусства» поручила мне узнать, что вы собираетесь отобразить в пьесе «Зразы»?
И, знаете, у Полуэксова не повернулся язык сказать, что «Зразы» – это чистая условность и что он собирается писать о любовном треугольнике (входит, уходит, смеется, застреливается). Он постыдно соврал. Сказал, что будет писать о борьбе двух миров.
Теперь отступления не было. Будущее рисовалось уже менее ясно, потому что у Бомарше о борьбе двух миров не было сказано ни слова, и вся семейная работа по освоению наследия классиков могла свестись на нет.
Пришлось изворачиваться. В пределах, конечно, классических ремарок.
– Значит так, вредитель ВХОДИТ и, пользуясь тем, что честный специалист УХОДИТ, делает свое грязное дело. Но тут честный специалист СНОВА ВХОДИТ и разоблачительно смеется. А вредитель ЗАСТРЕЛИВАЕТСЯ. Это не Бомарше, но для передвижного стационара сойдет. К тому же человек в желтой коже совершенно ясно говорил, что абсолютно все должно быть условно.
Дальше пошла, как говорится, техника дела. Режиссер Кошкин-Эриванский дописывал пьесу, так как, по его словам, не хватало целого акта. Полуэксов обижался, но Кошкин говорил… что все это условно, на сцене будет иначе и очень хорошо. Вообще условностей было многое множество. Состоялась премьера, автора вызывали свояченица с мужем, возникла горячая дискуссия, в газетах прогремели публичные диспуты, где автора условно называли талантливым.
Одна лишь публика почему-то приняла пьесу всерьез и перестала на нее ходить после первого же представления.
Полуэксов сначала волновался, но потом увидел, что мнение зрителей в конце концов вещь условная.
Человек в желтой коже был прав – все оказалось условным, кроме послужного списка.
А вот в послужной список легло новое, ничем не запятнанное художественное произведение. Для выслуги лет в искусстве это очень важно.
Была совершена глупость, граничащая с головотяпством и еще чем-то.
Для цирковой программы выписали немецкий аттракцион – неустрашимого капитана Мазуччио с его говорящей собакой Брунгильдой (заметьте, цирковые капитаны всегда бывают неустрашимые).
Собаку выписал коммерческий директор, грубая, нечуткая натура, чуждая веяниям современности. А цирковая общественность проспала этот вопиющий факт.
Опомнились только тогда, когда капитан Мазуччио высадился на Белорусско-Балтийском вокзале.
Носильщик повез в тележкё клетку с черным пуделем, стриженным под Людовика XIV, и чемодан, в котором хранилась капитанская пелерина на белой подкладке из сатина-либерти и сияющий цилиндр.
В тот же день художественный совет смотрел собаку на репетиции.
Неустрашимый капитан часто снимал цилиндр и кланялся. Он задавал Брунгильде вопросы.
– Вифиль? – спрашивал он.
– Таузенд, – неустрашимо отвечала собака.
Капитан гладил пуделя по черной каракулевой шерсти и одобрительно вздыхал: «О моя добрая собака!»
Потом собака с большими перерывами произнесла слова: «абер», «унзер» и «брудер». Затем она повалилась боком на песок, долго думала и наконец сказала:
– Их штербе.
Необходимо заметить, что в этом месте обычно раздавались аплодисменты. Собака к ним привыкла и вместе с хозяином отвешивала поклоны. Но художественный совет сурово молчал.
И капитан Мазуччио, беспокойно оглянувшись, приступил к последнему, самому ответственному номеру программы. Он взял в руки скрипку. Брунгильда присела на задние лапы и, выдержав несколько тактов, трусливо, громко и невнятно запела:
– Их бин фон копф бис фусс ауф либе ангештельт…
– Что, что их бин? – спросил председатель худсовета.
– Их бин фон копф бис фусс, – пробормотал коммерческий директор.
– Переведите.
– С головы до ног я создан для любви.
– Для любви? – переспросил, председатель, бледнея. – Такой собаке надо дать по рукам. Этот номер не может быть допущен.
Тут пришла очередь бледнеть коммерческому директору.
– Почему? За что же по рукам? Знаменитая говорящая собака в своем репертуаре. Европейский успех. Что тут плохого!
– Плохо то, что именно в своем репертуаре, в архибуржуазном, мещанском, лишенном воспитательного значения.
– Да, но мы уже затратили валюту. И потом эта собака со своим Бокаччио живет в «Метрополе» и жрет кавьяр. Капитан говорит, что без икры она не может играть. Это государству тоже стоит денег.
– Одним словом, – раздельно сказал председатель, – в таком виде номер пройти не может. Собаке нужно дать наш созвучный, куда-то зовущий репертуар, а не этот… демобилизующий. Вы только вдумайтесь! «Их штербе». «Их либе». Да ведь это же проблема любви и смерти! Искусство для искусства! Гуманизм! Перевальский рецедив. Отсюда один шаг до некритического освоения наследия классиков. Нет, нет, номер нужно коренным образом переработать.
– Я, как коммерческий директор, – грустно молвил коммерческий директор, – идеологии не касаюсь. Но скажу вам как старый идейный работник на фронте циркового искусства: не режьте курицу, которая несет золотые яйца.
Но предложение о написании для собаки нового репертуара уже голосовалось. Единогласно решили заказать таковой репертуар местной сквозной бригаде малых форм в составе Усышкина-Вертера и трех его братьев: Усышкина-Вагранки, Усышкина-Овича и Усышкина-деда Мурзилки.
Ничего не понявшего капитана увели в «Метрополь» и предложили покуда отдохнуть.
Шестая сквозная нисколько не удивилась предложению сделать репертуар для собаки. Братья в такт закивали головами и даже не переглянулись. При этом вид у них был такой, будто они всю жизнь писали для собак, кошек или дрессированных прусаков. Вообще они закалились в литературных боях и умели писать с цирковой идеологией – самой строгой, самой пуританской.
Трудолюбивый род Усышкиных, не медля, уселся за работу.
– Может быть, используем то, что мы писали для женщины-паука? – предложил дед Мурзилка. – Был такой саратовский аттракцион, который нужно было оформить в плане политизации цирка. Помните? Женщина-паук олицетворяла финансовый капитал, проникающий в колонии и доминионы. Хороший был номер.
– Нет, вы же слышали. Они не хотят голого смехачества. Собаку нужно разрешать в плане героики сегодняшнего дня! – возразил Ович. – Во-первых, нужно писать в стихах.
– А она может стихами?
– Какое нам дело! Пусть перестроится. У нее для этого есть целая неделя.
– Обязательно в стихах. Куплеты, значит, героические – про блюминги или эти… как они называются… банкаброши. А рефрен можно полегче, специально для собаки с юмористическим уклоном. Например… сейчас… сейчас… та-ра, та-ра, та-ра… Ага… Вот:
Побольше штреков, шахт и лав.
Гав-гав,
Гав-гав,
Гав-гав.
– Ты дурак, Бука! – закричал Вертер. – Так тебе худсовет и позволит, чтоб собака говорила «гав-гав». Они против этого. За собакой нельзя забывать живого человека!
– Надо переделать… Ту-ру, ту-ру, ту-ру… Так. Готово:
Побольше штреков, шахт и лав.
Ура! Да здравствует Моснав!
– А это не мелко для собаки?
– Глупое замечание. Моснав – это общество спасения на водах. Там, где мелко, они не спасают.
– Давайте вообще бросим стихи. Стихи всегда толкают на ошибки, на вульгаризаторство. Стесняют размер, метр. Только хочешь высказать правильную критическую мысль, мешает цензура или рифмы нет.
– Может, дать собаке разговорный жанр? Монолог? Фельетон?
– Не стоит. В этом тоже таятся опасности. Того не отразишь, этого не отобразишь. Надо все иначе.
Репертуар для говорящей собаки Брунгильды был доставлен в условленный срок.
Под сумеречным куполом цирка собрались все – и худсовет в полном составе, и несколько опухший Мазуччио, что надо приписать неумеренному употреблению кавьяра, и размагнитившаяся от безделья Брунгильда.
Читку вёл Вертер. Он же давал объяснения.
Шпрехшталмейстер объявляет выход говорящей собаки. Выносят маленький стол, накрытый сукном. На столе графин и колокольчик. Появляется Брунгильда. Конечно, все эти буржуазные штуки – бубенчики, бантики и локоны – долой. Скромная толстовка и брезентовый портфель. Костюм рядового общественника. И Брунгильда читает небольшой, двенадцать страниц на машинке, творческий документ.
И Вертер уже открыл розовую пасть, чтобы огласить речь Брунгильды, как вдруг капитан Мазуччио сделал шаг вперед.
– Вифиль? – спросил он. – Сколько страниц?
– На машинке двенадцать, – ответил дед Мурзилка.
– Абер, – сказал капитан, – их штербе: я умираю. Ведь это все-таки собака. Так сказать, хунд. Она не может двенадцать страниц на машинке. Я буду жаловаться.
– Это что же вроде как бы самокритика получается? – усмехнувшись, спросил председатель. – Нет, теперь я ясно вижу, что этой собаке нужно дать по рукам. И крепко дать.
– Брудер, – умоляюще сказал Мазуччио, – это еще юная хунд. Она еще не все знает. Она хочет. Но она не может.
– Некогда, некогда, – молвил председатель, – обойдемся без собаки. Будет одним номером меньше. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.
Здесь побледнел даже неустрашимый капитан. Он подозвал Брунгильду и вышел из цирка, размахивая руками и бормоча: «Это все-таки хунд. Она не может все сразу».
Следы говорящей собаки потерялись. Одни утверждают, что собака опустилась, разучилась говорить свои унзер, брудер и абер, что она превратилась в обыкновенную дворнягу и что теперь ее зовут Полкан.
Но это нытики-одиночки, комнатные скептики.
Другие говорят иное. Они заявляют, что сведения у них самые свежие, что Брунгильда здорова, выступает и имеет успех. Говорят даже, что, кроме старых слов, она освоила несколько новых. Конечно, это не двенадцать страниц на машинке, но все-таки кое-что.
Вернемся к лету.
Было такое нежное время в текущем бюджетном году. Был такой волшебный квартал – июнь, июль, август, когда косили траву на московских бульварах, летал перинный тополевый пух и в чистом вечернем небе резались наперегонки ласточки.
И, ах, как плохо был проведен этот поэтический отрезок времени!
В одном из столичных парков, где деревья бросали пышную тень на трескучий песок аллей, целое лето висел большой плакат:
«ВСЕ НА БОРЬБУ ЗА ЗДОРОВОЕ ГУЛЯНЬЕ!»
Но никто здесь не гулял. Деревья праздно бросали свою тень, и ничья пролетарская пята не отпечаталась на отборном аллейном песке.
Здесь не гуляли. Здесь только боролись. Боролись за здоровое гулянье.
Борьба за этот весьма полезный и, очевидно, еще недостаточно освоенный вид отдыха происходила так. С утра идеологи отдыхательного дела залезали в фанерный павильон и, плотно закрыв окна, до самого вечера обсуждали, каким образом следует гулять. Курили при этом, конечно, немыслимо много. И если на лужайке появлялась робкая фигура гуляющего, его тотчас же кооптировали в президиум собрания как представителя от фланирующих масс.
И с тех пор он уже не гулял. Он включался в борьбу.
По поводу здорового гулянья велись болезненно страстные дебаты.
– Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теорийкам о том, что гулять можно просто так, вообще. Надо наконец осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. Просто так, вообще, гуляют коровы (смех), собаки (громкий смех), кошки (смех всего зала). Мы должны, мы обязаны дать нагрузку каждой человеко-гуляющей единице. И эта единица должна, товарищи, не гулять, а, товарищи, должна проводить огромную прогулочную работу. (Голос с места: «Правильно!») Кое-какие попытки в этом направлении имеются. Вот проект товарища Горилло. Что предлагает товарищ Горилло? Товарищ Горилло предлагает навесить на спину каждого человеко-гуляющего художественно выполненный плакат на какую-нибудь актуальную тему – другдитевскую или госстраховскую. Например: «Пока ты здесь гуляешь, у тебя, может быть, горит квартира. Скорей застрахуй свое движимое имущество в Госстрахе». И прочее. Но, товарищи, как сделать так, чтобы человеко-единицы ни на минуту не упускали из виду плакатов и чтобы действие таковых было, так сказать, непрерывным и стопроцентным. Этого товарищ Горилло не учел, слона-то он и не приметил. (Смех.) А это можно сделать. Нужно добиться, чтобы гуляющие шли гуськом, в затылок друг другу, тогда обязательно перед глазами будет какой-нибудь плакат. В таком здоровом отдыхе можно провести часа два-три. (Голос с места: «Не много ли?») Да, товарищи, два-три часа. А если нужно, то и четыре и пять, товарищи. Ну-с, после короткого пятиминутного политперерыва устраивается веселая массовая игра под названием «Утиль-Уленшпигель». Всем единице-гуляющим выдаются художественно выполненные мусорны ящички и портативные крючья. Под гармошку затейники все ходят по парку, смотрят себе под ноги, и чуть кто заметит на земле тряпочку, старую калошу или бутылку из-под водки, то сейчас же хватает этот полезный предмет крючком и кладет в художественно выполненный мусорный ящичек. При этом он выкрикивает начало злободневного лозунга, а остальные хором подхватывают окончание. Кроме того, счастливчик получает право участия в танцевальной игре «Узники капитала». (Голос с места: «А если играющие не будут смотреть под ноги, тогда что?») Не волнуйтесь, товарищ! (Смех.) Они будут смотреть под ноги. По правилам игры каждому участвующему навешивается на шею небольшая агитгирька, двадцать кило весу. Таким образом, воленсневоленс он будет смотреть под ноги, и игра, так сказать, не потеряет здоровой увлекательности. Таков суммарно, в общих чертах, план товарища Горилло.
– А вот мне, товарищи, хотелось бы сказать два слова насчет плана товарища Горилло. Не слишком ли беспредметно такого рода гулянье? Нет ли тут голого смехачества, развлеченчества и увеселенчества! Нужно серьезней, товарищи. Для пожилого рабочего, которого мы хотим вовлечь в парк, это все слишком легкомысленно. Ему после работы хочется чего-нибудь более. Его прогулочные отправления должны происходить в трудовой атмосфере. Он, товарищи, вырос вширь и вглубь. Мы должны создать ему родную производственную обстановку. Вот, например, прекрасный летний аттракцион. Надо в нашем парке вырыть шахту глубиной в тридцать метров и спустить туда в бадье отдыхающего пожилого рабочего. И представляете себе его радость: на дне шахты он находит подземный политпрофилакторий, где всегда может получить нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая. Тут вносят поправку, что хорошо бы там, в шахте, продавать нарзан. Я против, товарищи. Это в корне неверно, это отвлечет пожилую единицу от работы в профилактории. Лучше уж вместо нарзана продавать нашу брошюру: «Доведем до общего сознанья вопросы здорового гулянья».
И вот что получилось. Государство отвело чудную рощу, ассигновало деньги и сказало: «Гуляйте! Дышите воздухом! Веселитесь!» И вместо того чтобы все это проделать (гулять, дышать, веселиться!), стали мучительно думать: «Как гулять? С кем гулять? По какому способу дышать воздухом? По какому методу веселиться?»
Ужасно скучное заварили дело. Так вдруг стало панихидно, что самый воздух, так сказать, эфир и зефир, не лезет в рот гуляющим единицам.
Могут не поверить тому, что здесь было рассказано, могут посчитать это безумным враньем, потребовать подкрепленья фактами, может быть, даже попросят предъявить живого товарища Горилло с его сверхъестественным планом культурного отдыха.
Между тем все это чрезвычайно близко к истине. В любом парке можно найти следы титанической борьбы за здоровое гулянье при блистательном отсутствии самого гулянья.
Великолепна, например, идея организации Центрального парка культуры и отдыха для московских пролетариев. Превосходна территория, отведенная под этот парк. Велики траты на его содержание.
Но почему на иных мероприятиях парка лежит печать робости, преувеличенной осторожности, а главное – самой обыкновенной вагонной скуки?
Не хочется умалять заслуг огромного штата работников парка, который, несомненно, безостановочно стремится к созданию подлинного Магнитостроя отдыха, но надо сказать прямо, что в парке господствует второй сорт культуры и второй сорт отдыха.
А что касается развлечений, то тут дело уже не в сорте. Их нет, этих развлечений.
– Как нет? – заголосит весь огромный штат. – А наш родимый спиральный спуск, краса и гордость увеселенческого сектора? Чего вам еще надо! А популярное перекидное колесо? А… а…
Но вслед за этим «а» не последует никакого «б», потому что больше ничего нет. В лучшем и самом большом парке нашей страны, куда приходят сотни тысяч людей, есть два аттракциона: ярмарочное перекидное колесо и сенсация XIX века – спиральный спуск. Впрочем, если хорошо разобраться, то не очень он уж спиральный и вовсе не какой-нибудь особенный спуск. В сооружении его сказалась та робость, которая так свойственна парковым затеям. Спирали спуска сделаны такими отлогими, что вместо милой юношескому сердцу головокружительной поездки на коврике (в XIX веке это называлось сильными ощущениями), веселящаяся единица, кряхтя и отпихиваясь от бортов ногами, ползет вниз и прибывает к старту вся в поту. И только крупный разговор с начальником спуска дает те сильные ощущения, которые должен был принести самый спуск.
Аттракционов в парке меньше, чем было в год его открытия. Куда, кстати, девалась «чертова комната»? То есть не чертова (черта нет, администрация парка это учла сразу, – раз бога нет, то и черта нет), а «таинственная комната»?
Комната была не ахти какая, она не являлась пределом человеческой изобретательности. Но все же оттуда несся смех и бодрый визг посетителей. Она всем нравилась. А ее уничтожили.
Почему же уничтожили эту чертову, то есть, извините, таинственную комнату?
Воображению рисуются страшные подробности.
Надо полагать, что смущение, внесенное этим аттракционом в сердца работников отдыхательного дела, было велико.
– Что это за комната такая? Стены вертятся, люди смеются, черт знает что! Абсолютно бесхребетный, беспринципный аттракцион. Надо этой комнате дать смысловую нагрузку.
Дали.
Как у нас дается смысловая нагрузка? Повесили на стены плакаты – и все. Но тут выяснилось новое обстоятельство. Смысловая нагрузка не доходит. А не доходит потому, что стены все-таки вертятся и нельзя прочесть плакаты.
– Надо, товарищи, остановить стены. Ничего не поделаешь.
– Но тогда не будет аттракциона!
– Почему же не будет? Будет чудный, вполне советский аттракцион. Человеко-гуляющий платит десять копеек и получает право просидеть в комнате пять минут, читая плакаты и расширяя таким образом свой кругозор.
– Но ведь тут не будет ничего таинственного и вообще завлекательного!
– И не надо ничего таинственного. И аттракцион надо назвать не вульгарно – вроде «комнаты чудес», а по-простому, по-нашему – «комната № 1». Очень заманчивое название. Увидите, как будет хорошо. Сразу исчезнет этот дурацкий, ничем не нагруженный смех.
Было это так или несколько иначе – не важно. Главное было достигнуто. Таинственная комната исчезла, а вместе с ней исчезло и процентов сорок того смеха, который слышался в парке.
Парковая администрация отыгрывается на всевозможных надписях, таблицах, диаграммах, призывах и аншлагах. Но вызывают большое сомнение эти картонные и фанерные методы работы. Особенно когда натыкаешься на огромную стеклянную заповедь, утвержденную в центре парка:
ПРЕВРАТИМ ПАРК В КУЗНИЦУ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
Превратим парк в кузницу!
Что может быть печальней такой перспективы! Как это нелучезарно! Какое надо иметь превратное понятие об отдыхе, чтобы воображать его себе в виде кузницы. Хотя бы даже кузницы выполнения решений.
Иной из работников отдыхательного дела взовьется на дыбы.
– Вот вы кто такие! Вы против выполнения решений!
Нет, мы за выполнение решений. Мы только против превращения парка в кузницу канцелярских лозунгов и принадлежностей. И самым лучшим делом было бы не только призывать к выполнению решений, а выполнять эти решения. Превратить парк в место настоящего пролетарского отдыха, а не в городское четырехклассное училище для детей недостаточных мороженщиков, на которое парк очень сейчас походит.
Естественно, что все живое устремляется на реку, каковую еще не успели перегородить картонной плотиной с надписью:
ПРЕВРАТИМ РЕКУ В НЕЗЫБЛЕМУЮ ГРАНИТНУЮ
ЦИТАДЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА
Между тем, невзирая на усилия отдыхательных идеологов, в парке сквозь «левый» культзагиб слышится радостный смех. Но парк тут ни при чем.
Посетители смеются сами по себе. Они молоды. Им семнадцать лет. Молодость всегда смеется. Однако если не остановить борьбы за «превращение парка в кузницу», если не прекратить отчаянной свалки по поводу методов «борьбы за здоровое гулянье», то вскоре перестанут смеяться даже они – семнадцатилетние.
Вот о чем необходимо столковаться зимой, чтобы опять не увидеть этого будущим летом.
В том, что здесь будет рассказано, главное – это случай, происшедший на рассвете.
Дело вот в чем.
Молодые люди полюбили друг друга, поженились, говоря высокопарно – сочетались браком. Надо заметить, что свадьбы – вообще нередкое явление в нашей стране. Сплошь и рядом наблюдается, что люди вступают в брак, и дружеский обмен мнений, а равно звон стопочек на свадьбах затягиваются далеко за полночь.
В изящной литературе эти факты почему-то замалчиваются. Будущий исследователь, может быть, никогда и не узнает, как объяснялись в любви в 1932 году. Было ли это как при царском режиме («шепот, робкое дыханье, трели соловья») или как-нибудь иначе, без соловья и вообще без участия пернатых. Нет о любви сведений ни в суперпроблемных романах, написанных, как видно, специально для потомства, ибо современники читать их не могут, ни в эстрадных номерах, сочиненных по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа.
Разговор о любви возвращает нас к случаю на рассвете.
В семье художника ожидали ребенка. Роды начались немного раньше, чем предсказывали акушеры. Это бывает почти всегда. Начались они в самое неудобное время – в конце ночи. Это тоже бывает всегда. Все шло стремительно. Родовые схватки возникали через каждые десять минут. Жену надо было немедленно везти в родильный дом. Первая мысль была о такси.
А телефона в квартире не было. Свою биографию художник мог бы начать фразой, полной глубокого содержания: «Я родился в 1901 году. Телефона у меня до сих пор нет». Эта спартанская краткость дает возможность пропустить длительные описания того, как художник подавал заявления в абонементное бюро, подговаривал знакомых, интриговал и ничего не добился.
Итак, на рассвете он ворвался в чужую квартиру и припал к телефонной трубке. Он много читал о ночных такси, которые являются по первому зову желающего, а номер гаража – 42—21 – художник знал на память уже три месяца. Он был предусмотрителен. Он учел все.
Но из гаража мягко ответили, что машин нет. Ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали.
– Но у меня жена, роды…
– С девяти часов, гражданин.
А было семь.
«Скорая помощь» на такие случаи не выезжает. Художник это знал. Он все знал. И тем не менее ему было очень плохо. Он побежал на улицу.
Натурально, никаких приборов для передвижения в этот час утра столица предоставить не могла. Трамваи еще только вытягивались из депо (к тому же трамвай никак сейчас не годился), а извозчиков просто не было. Где-то они, вероятно, толпились у вокзалов, размахивая ручищами и пугая приезжих сообщениями о цене на овес.
Художник оторопел.
И вдруг – радость сверх меры, счастье без конца – машина, и в ней два добрых шофера. Они благожелательно выслушали лепет художника и согласились отвезти его жену в родильный дом.
С великими предосторожностями роженицу свели с четвертого этажа вниз и усадили в машину. Художник очень радовался. В памяти помимо воли всплывали какие-то пошлые прописи: «Свет не без добрых людей», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» и, совсем уже не известно почему: «Терпенье и труд все перетрут». Машина тронулась. Теперь все должно было пойти хорошо. Но все пошло плохо.
Автомобиль пробежал десять метров и остановился. Заглох мотор.
И такое дьявольское невезение! До родильного дома всего только пять минут езды. Но было видно по шоферам, которые начинали злиться, что они потеряли власть над машиной, что она пойдет не скоро. А у жены схватки возникали уже через каждые две минуты. Ждать было бессмысленно. Художник выскочил из автомобиля и снова побежал. От Кропоткинских ворот он бежал до самого Арбата. Извозчиков он не встретил, но по Арбату машины проходили довольно часто.
Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь. Событие это настолько мрачное и прискорбное, что не нуждается ни в подчеркивании, ни в выделении курсивом. Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице.
Сначала художник стеснялся. Он бежал рядом с машиной, объяснял на ходу свое горе, но его даже не слушали, не останавливались, хотя видели, что человек чем-то чрезвычайно взволнован.
Тогда он стал действовать решительней. Ведь уходило время. Он сошел на мостовую и загородил дорогу зеленому «форду». Сидел в нем человек довольно обыкновенный и даже не со злым лицом. Он выслушал художника и сказал:
– Не имею права. Как это я вдруг повезу частное лицо? Тратить казенный бензин на частное лицо!
Художник стал что-то бормотать о деньгах. Человек с незлым лицом рассердился и уехал.
Бежало по улице полуразвалившееся такси. Шофер попытался обогнуть бросившегося навстречу художника, но художник вскочил на подножку, и весь последовавший затем разговор велся на ходу.
В такси ехала веселая компания. Людей там было много – четверо с девушкой в купе (один – на чужих коленях), а шестой рядом с шофером (он-то и оказался потом главная сволочь). На молодых долдонах были толстые, как валенки, мягкие шляпы. Девушка, болтушка-лепетушка, часто, не затягиваясь, дымила папироской. Им было очень весело, но как только они услышали просьбу художника, все сразу поскучнели и отвечали противными трамвайными голосами. Но от просителя было нелегко отделаться.
– Ну что вам стоит, – говорил он, – ведь вы не очень торопитесь! Ведь такой случай.
– То есть как – что нам стоит? – возражали из машины. – Почему ж это мы не торопимся?
– Но ведь вам не на вокзал. Пожалуйста!
– Вам пожалуйста, другому пожалуйста, а мы два часа такси искали.
– На десять минут! Через десять минут я вам доставлю машину назад.
Долдоны упорно говорили, что они никак не могут и что лучше их даже не просить.
– Подумайте, она каждую минуту может родить!
– Ей-богу, он нас считает за пижонов! Что это такое, в самом деле? Уже в такси толкаться начинают!
– В конце концов я могу требовать! – настаивал художник.
– Ну, это уже нахальство, – заметила болтушка-лепетушка.
Тогда обернулся молчавший до сих пор шестой, тот, который сидел рядом с шофером. Он задрожал от гнева.
– Хулиган! – завизжал он на всю улицу. – Сойдите с подножки, я вам говорю. Он еще будет требовать, мерзавец!
И он высунулся из машины, чтобы сбросить художника на ходу.
Машина завернула на Смоленский рынок, грозя завести художника черт знает куда, и он соскочил.
Ах, как хотелось драться, поносить долдонов различными благородными словами! Но было некогда.
Он увидел машину, остановившуюся у обочины. Счастливый отец высаживал на тротуар жену и двоих детей. Художник бросился к нему.
Надо сказать, что по природе своей он был человек не застенчивый, скорее даже натура драматическая. Он умел убеждать и волновать. И сейчас он без стеснения заговорил так называемыми жалкими словами, которые вызывают слезы в театре и которыми так стыдно пользоваться в быту.
– Вы – отец, – говорил он, – вы меня поймете. У вас у самого маленькие дети. Вы счастливы, помогите мне!
В театре счастливый отец заплакал бы. Но здесь поблизости не было занавеса с белой чайкой, не было седых капельдинеров. И он ответил:
– Товарищ, мне некогда. Я опоздаю на службу.
– Я заклинаю вас, – молил художник, – понимаете, заклинаю! Во имя…
– Товарищ, я все понимаю, но у меня нет ни одной минуты свободного времени. Позвольте мне войти в машину.
– Ну, хорошо, – сказал несчастный, перейдя почему-то на шепот: – Ну, если река и тонет человек, что вы сделаете?
– Товарищ, я так занят, что два года не был в кино, даже «Путевки в жизнь» не видел, а вы… буквально нет ни одной минуты.
Художник опять остался один. Снова он бежал за кем-то, прижимая руки к груди и бормоча:
– Русским языком заклинаю вас!
Снова он вскакивал на подножки автомобилей, упрашивал, предлагал деньги, произносил речи, грозил или плакал, и – вы знаете – это не подействовало. Оказалось, что все очень заняты делами, не терпящими отлагательства. И машины катились одна за другой, и не было в эту минуту силы, которая могла бы их свернуть с предначертанного пути.
Ленин, погруженный в работу, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут не только его ближайшие товарищи, но и люди, которых он видел мельком, несколько лет назад, – не нужно ли им чего-нибудь, здоровы ли они, не мешает ли им кто-нибудь работать и жить.
А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность члена коллектива и гражданина Советского Союза – броситься на помощь.
Это не изящный вымысел писателя, а история, происшедшая этим летом в Москве.
Как жалко, что номера машин остались неизвестными, что нельзя уже собрать всех этих безумно занятых людей, собрать в Колонном зале Дома Союзов, чтобы судить их всей страной с прожекторами, микрофонами-усилителями, с громовой речью прокурора, судить как отчаянных врагов социалистического общества за великое преступление – равнодушие21.
О, равнодушие! С ним всегда встречаешься неожиданно. Созидательный порыв, которым охвачена Советская страна, заслоняет его. Равнодушие тонет в большой океанской волне социалистического творчества. Равнодушие – явление маленькое, но подлое. И оно кусается.
Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.
Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками – производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.
Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером «рондо», обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иголкой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.
Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.
А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером «рондо», и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком – продуктом полного равнодушия.
Чья равнодушная рука забросила в ялтинские книжные магазины одни лишь медицинские труды, так что на благовонных крымских берегах духовная пища состоит исключительно из сумрачного изложения основ гистологии, детального описания суставного ревматизма, золотухи, язвы желудка и стригущего лишая?
Иногда в трамвае, пересекающем Свердловскую площадь, остолбенелому взору потомственного почетного горожанина предстоит отечески увещевающий картонный плакат:
Коль свинью ты вдруг забил,
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!
В проникновенном куплете, изготовленном по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа, вам, московские трамвайные пассажиры, предлагают сдавать свиные шкуры.
Хорошо, посмотрим. В вагоне двадцать восемь мест для сиденья, шесть мест на задней площадке, разговаривать с вагоновожатым воспрещается, пройдите вперед, там совсем свободно, – итого, следовательно, двести сорок пять человек в различных прихотливых позах. Кто ж из них мог бы вдруг забить свинью?
Вот этот, в парадной толстовке, читающий журнал «Рабис»? Или маляр с кистью, закутанной в газетную бумагу? Или две девочки, напуганные отчаянно пихающимися взрослыми дядями и тетями? Или сами дяди и тети, уже начавшие извечную склоку насчет того, кто ходит в шляпе, кто «дурак» и кто «сама дура»?
Товарищи, друзья и братья! Разве похож московский трамвайный пассажир на свинодержателя или поросятовладельца? Не относится ли плакат скорее к деревне? Чья же равнодушная лапа наводнила им шумную столицу?
Это все тот же человек из ведомости, безразличный ко всему на свете, пугающийся даже мысли о том, что можно потратить пол-литра казенного бензина, чтобы спасти женщину, рожающую на улице. Его кислая одышка слышится рядом с молодым дыханием людей, строящих мир заново.
Так открывается вдруг цепочка унылых людей, работающих только для видимости, комариная прослойка граждан, связанных с коллективом исключительно ведомостью на жалованье.
Человек из ведомости хитер. Если спросить его, почему он так равнодушен ко всему на свете, он сейчас же подведет под свое равнодушие каменную идеологическую базу. Он скажет преданным голосом:
– Это все мелочи – замочки, детки, всякая ерунда. Надо смотреть шире, глубже, дальше, принципиальнее. Я люблю класс, весь класс в целом, а не каждого его представителя в отдельности. Интересы отдельных единиц не поколеблют весов истории.
Вот маска человека из комариной прослойки. На деле он любит только самого себя (и ближайших родственников – не дальше второго колена).
По своей толстовочной внешности и подозрительно новеньким документам он – строитель социализма (хоть сейчас к фотографу!), а по внутренней сущности – мещанин, себялюбец и собственник.
– Не могу. Остановитесь на минутку. Если я сейчас же не узнаю, что означает эта вывеска, я заболею. Я умру от какой-нибудь загадочной болезни. Двадцатый раз прохожу мимо и ничего не могу понять.
Два человека остановились против подъезда, над которым золотом и лазурью было выведено:
КЛООП
– Не понимаю, что вас волнует. Клооп и Клооп. Прием пакетов с часу до трех. Обыкновенное учреждение. Идем дальше.
– Нет, вы поймите! Клооп! Это меня мучит второй год. Чем могут заниматься люди в учреждении под таким вызывающим названием? Что они делают? Заготовляют что-нибудь? Или, напротив, что-то распределяют?
– Да бросьте. Вы просто зевака. Сидят себе люди, работают, никого не трогают, а вы пристаете – почему, почему? Пошли.
– Нет, не пошли. Вы лентяй. Я этого так оставить не могу.
В длинной машине, стоявшей у подъезда, за зеркальным стеклом сидел шофер.
– Скажите, товарищ, – спросил зевака, – что за учреждение Клооп? Чем тут занимаются?
– Кто его знает, чем занимаются, – ответил шофер. – Клооп и Клооп. Учреждение как всюду.
– Вы что ж, из чужого гаража?
– Зачем из чужого! Наш гараж, клооповский. Я в Клоопе со дня основания работаю.
Не добившись толку от водителя машины, приятели посовещались и вошли в подъезд. Зевака двигался впереди, а лентяй с недовольным лицом несколько сзади.
Действительно, никак нельзя было понять придирчивости зеваки. Вестибюль Клоопа ничем не отличался от тысячи других учрежденских вестибюлей. Бегали курьерши в серых сиротских балахончиках, завязанных на затылке черными ботиночными шнурками. У входа сидела женщина в чесанках и большом окопном тулупе. Видом своим она очень напоминала трамвайную стрелочницу, хотя была швейцарихой (прием и выдача калош). На лифте висела вывесочка «Кепи и гетры», а в самом лифте вертелся кустарь с весьма двусмысленным выражением лица. Он тут же на месте кроил свой модный и великосветский товар. (Клооп вел с ним отчаянную борьбу, потому что жакт нагло, без согласования, пустил кустаря в ведомственный лифт.)
– Чем же они могли бы тут заниматься? – начал снова зевака.
Но ему не удалось продолжить своих размышлений в парадном подъезде. Прямо на него налетел скатившийся откуда-то сверху седовласый служащий и с криком «брынза, брынза!» нырнул под лестницу. За ним пробежали три девушки, одна – курьерша, а другие две – ничего себе – в холодной завивке.
Упоминание о брынзе произвело на швейцариху потрясающее впечатление. На секунду она замерла, а потом перевалилась через гардеробный барьер и, позабыв о вверенных ей калошах, бросилась за сослуживцами.
– Теперь все ясно, – сказал лентяй, – можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиетических продуктов.
– А почему оно называется Клооп? – придирчиво спросил зевака.
На это лентяй ответить не смог. Друзья хотели было расспросить обо всем швейцариху, но, не дождавшись ее, пошли наверх.
Стены лестничной клетки были почти сплошь заклеены рукописными, рисованными и напечатанными на машинке объявлениями, приказами, выписками из протоколов, а также различного рода призывами и заклинаниями, неизменно начинавшимися словом «Стой!»
– Здесь мы все узнаем, – с облегчением сказал лентяй. – Не может быть, чтобы из сотни бумажек мы не выяснили, какую работу ведет Клооп.
И он стал читать объявления, постепенно передвигаясь вдоль стены.
– «Стой! Есть билеты на «Ярость». Получить у товарища Чернобривцевой». «Стой! Кружок шашистов выезжает на матч в Кунцево. Шашистам предоставляются проезд и суточные из расчета центрального тарифного пояса. Сбор в комнате товарища Мур-Муравейского». «Стой! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать первого у Кати Полотенцевой».
Зевака начал смеяться. Лентяй недовольно оглянулся на него и подвинулся еще немножко дальше вдоль стены.
– Сейчас, сейчас. Не может быть, чтоб… Вот, вот! – бормотал он. – «Приказ по Клоопу № 1891—35. Товарищу Кардонкль с сего числа присваивается фамилия Корзинкль». Что за чепуха! «Стой! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в коопсекторе».
– Наконец-то! – оживился зевака. – Как вы говорили? Молочнодиетический пищевой трест? Разработка вопросов брынзы в порядке живой очереди? Здорово!
Лентяй смущенно пропустил объявление о вылазке на лыжах за капустой по среднекоммерческим ценам и уставился в производственный плакат, в полупламенных выражениях призывавший клооповцев ликвидировать отставание.
Теперь уже забеспокоился и он.
– Какое же отставание? Как бы все-таки узнать, от чего они отстают? Тогда стало бы ясно, чем они занимаются.
Но даже двухметровая стенгазета не рассеяла тумана, сгустившегося вокруг непонятного слова «Клооп».
Это была зауряднейшая стенгазетина, болтливая, невеселая, с портретами, картинками и статьями, получаемыми, как видно, по подписке из какого-то центрального газетного бюро. Она могла бы висеть и в аптекоуправлении, и на черноморском пароходе, ив конторе на золотых приисках, и вообще где угодно. О Клоопе там упоминалось только раз, да и то в чрезвычайно неясной форме: «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!»
– Какую же работу? – возмущенно спросил зевака. – Придется узнавать у служащих. Неудобно, конечно, но придется. Слушайте, товарищ…
С внезапной ловкостью, с какой пластун выхватывает из неприятельских рядов языка, зевака схватил за талию бежавшего по коридору служащего и стал его выспрашивать. К удивлению приятелей, служащий задумался и вдруг покраснел.
– Что ж, – сказал он после глубокого размышления, – я в конце концов не оперативный работник. У меня свои функции. А Клооп что же? Клооп есть Клооп.
И он побежал так быстро, что гнаться за ним было бы бессмысленно.
Хотя и нельзя еще было понять, что такое Клооп, но по некоторым признакам замечалось, что учреждение это любит новшества и здоровый прогресс. Например, бухгалтерия называлась здесь счетным цехом, а касса – платежным цехом. Но картину этого конторского просперити портила дрянная бумажка: «Сегодня платежа не будет». Очевидно, наряду с прогрессом имелось и отставание.
В большой комнате за овальным карточным столом сидело шесть человек. Они говорили негромкими, плаксивыми голосами.
Кстати, почему на заседаниях по культработе всегда говорят плаксивыми голосами?
Это, как видно, происходит из жалости культактива к самому себе. Жертвуешь всем для общества, устраиваешь вылазки, семейные вечера, идеологическое лото с разумными выигрышами, распределяешь брынзу, джемпера и лопаты – в общем, отдаешь лучшие годы жизни, – и все это безвозмездно, бесплатно, из одних лишь идейных соображений, но почему-то в урочное время. Очень себя жалко!
Друзья остановились и начали прислушиваться, надеясь почерпнуть из разговоров нужные сведения.
– Надо прямо сказать, товарищи, – замогильным голосом молвила пожилая клооповка, – по социально-бытовому сектору работа проводилась недостаточно. Не было достаточного охвата. Недостаточно, не полностью, не целиком раскачались, размахнулись и развернулись. Лыжная вылазка проведена недостаточно. А почему, товарищи? Потому, что Зоя Идоловна проявила недостаточную гибкость.
– Как? Это я недостаточно гибкая? – завопила ужаленная в самое сердце Зоя.
– Да, вы недостаточно гибкая, товарищ!
– Почему же я, товарищ, недостаточно гибкая?
– А потому, что вы совершенно, товарищ, негибкая.
– Извините, я чересчур, товарищ, гибкая.
– Откуда же вы можете быть гибкая, товарищ?
Здесь в разговор вкрался зевака.
– Простите, – сказал он нетерпеливо, – что такое Клооп? И чем он занимается?
Прерванная на самом интересном месте шестерка посмотрела на дерзких помраченными глазами. Минуту длилось молчание.
– Не знаю! – решительно ответила Зоя Идоловна. – Не мешайте работать, – и, обернувшись к сопернице по общественной работе, сказала рыдающим голосом: – Значит, я недостаточно гибкая? Так, так! А вы – гибкая?
Друзья отступили в коридор и принялись совещаться. Лентяй был испуган и предложил уйти. Но зевака не склонился под ударами судьбы.
– До самого Калинина дойду! – завизжал он неожиданно. – Я этого так не оставлю.
Он гневно открыл дверь с надписью: «Заместитель председателя». Заместителя в комнате не было, а находившийся там человек в барашковой шапке отнесся к пришельцам джентльменски холодно. Что такое Клооп, он тоже не знал, а про заместителя сообщил, что его давно бросили в шахту.
– Куда? – спросил лентяй, начиная дрожать.
– В шахту, – повторила барашковая шапка. – На профработу. Да вы идите к самому председателю. Он парень крепкий, не бюрократ, не головотяп. Он вам все разъяснит.
По пути к председателю друзья познакомились с новым объявлением: «Стой! Срочно получи в месткоме картофельные талоны. Промедление грозит аннулированием».
– Промедление грозит аннулированием. Аннулирование грозит промедлением, – бормотал лентяй в забытьи.
– Ах, скорей бы узнать, к чему вся эта кипучая деятельность?
Было по дороге еще одно приключение. Какой-то человек потребовал с них дифпай. При этом он грозил аннулированием членских книжек.
– Пустите! – закричал зевака. – Мы не служим здесь.
– А кто вас знает, – сказал незнакомец, остывая, – тут четыреста человек работает. Всех не запомнишь. Тогда дайте по двадцать копеек в «Друг чего-то». Дайте! Ну, дайте!
– Мы уже давали, – пищал лентяй.
– Ну и мне дайте! – стенал незнакомец. – Да дайте! Всего по двадцать копеек.
Пришлось дать.
Про Клооп незнакомец ничего не знал.
Председатель, опираясь ладонями о стол, поднялся навстречу посетителям.
– Вы, пожалуйста, извините, что мы непосредственно к вам, – начал зевака, – но, как это ни странно, только вы, очевидно, и можете ответить на наш вопрос.
– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал председатель.
– Видите ли, дело в том. Ну, как бы вам сказать. Не можете ли вы сообщить нам, – только не примите за глупое любопытство, – что такое Клооп?
– Клооп? – спросил председатель.
– Да, Клооп.
– Клооп? – повторил председатель звучно.
– Да, очень было бы интересно.
Уже готова была раздернуться завеса. Уже тайне приходил конец, как вдруг председатель сказал:
– Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем, я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать…
– Но все-таки, в общих чертах?..
– Да и в общих чертах тоже…
– Может быть, Клооп заготовляет лес?
– Нет, лес нет. Это я наверно знаю.
– Молоко?
– Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.
– Шурупы?
– М-м-м… Думаю, что скорее нет. Скорее, что-то другое.
В это время в комнату внесли лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежал зеленый джемпер. Эти припасы положили на стол, взяли у председателя расписку и ушли.
– Может, попробуем сначала расшифровать самое название по буквам? – предложил лентяй.
– Это идея, – поддержал председатель.
– В самом деле, давайте по буквам. Клооп. Кооперативно-лесо… Нет, лес нет… Попробуем иначе. Кооперативно-лакокрасочное общество… А второе «о» почему? Сейчас, подождите… Кооперативно-лихоимочное…
– Или кустарное?
– Да, кустарно-лихоимочное… Впрочем, позвольте, получается какая-то чушь. Давайте начнем систематически. Одну минуточку.
Председатель вызвал человека в барашковой шапке и приказал никого не пускать.
Через полчаса в кабинете было накурено, как в станционной уборной.
– По буквам – это механический путь, – кричал председатель. – Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос. Какая это организация? Кооперативная или государственная? Вот что вы мне скажите.
– А я считаю, что нужно гадать по буквам, – отбивался лентяй.
– Нет, вы мне скажите принципиально…
Уже покои Клоопа пустели, когда приятели покинули дымящийся кабинет. Уборщица подметала коридор, а из дальней комнаты слышались плаксивые голоса:
– Я, товарищ, чересчур гибкая!
– Какая ж вы гибкая, товарищ?
Внизу приятелей нагнал седовласый служащий. Он нес в вытянутых руках мокрый пакет с брынзой. Оттуда капал саламур.
Зевака бросил на служащего замороченный взгляд и смущенно прошептал:
– Чем же они все-таки здесь занимаются?
Во всех местах Советского Союза уважают американцев, и только в одном месте Союза это здоровое чувство внезапно потускнело.
Началом всей истории послужило объявление в «Известиях»:
Американский гражданин
АРЧИБАЛД СПИВАК
разыскивает своих родственников.
Он просит их откликнуться по адресу:
Нью-Йорк, 68-я авеню, 136
Кого не взволнуют слова: американский гражданин, Нью-Йорк и авеню! В городке, где жили советские Спиваки (их было много, 200 Спиваков на 2000 человек жителей), этот номер «Известий» продавался по три рубля за экземпляр. Спиваки плевались, но платили. Им хотелось своими глазами прочесть призыв американского родича.
Сомнений не было. Надвигалось что-то очень хорошее.
Чудесные мечты охватили советских Спиваков, политический уровень которых был весьма невысок. Читая на ходу волшебное объявление, они плелись по улицам, сослепу сталкивались друг с другом, и идиотские улыбки возникали на их лицах.
Вдруг им захотелось за океан, захотелось какого-то анархического стихийного счастья и родственных объятий Арчибалда. Захотелось им еще разок пожить в капиталистическом обществе. Делались догадки, предположения, вспоминали всех Спиваков, уехавших когда-либо за границу. И наконец, вспомнили. Нашлась даже фотография. Даже две фотографии. На одной Арчибалд был представлен младенцем, и золотая подпись с росчерком «Рембранд» указывала на то, что снимок был сделан еще в России. На другой американской, Арчибалд был заснят в таком виде: на голове котелок, а в руках мягкая шляпа, что одно уже указывало на сказочное богатство родственника.
– Это тот Спивак! – значительно сказал инкассатор Спивак, делая ударение на слове «тот». – Продусер! Коммерсант! Видное лицо в деловом мире.
Другой Спивак, милиционер, снял войлочную каску, обмахнулся ситцевым платком и гордо добавил:
– В деловом мире. На Уолл-стрит.
И тут все поняли, что надвигается действительно что-то очень хорошее.
Забытый старинный ветер коммерции подул на них вдруг из нью-йоркских ущелий, где обитал их великий родственник.
Единое чувство владело всеми Спиваками, чувство любви к родимому капиталистическому хищнику. Мерещился им торгсин, какие-то вещевые посылки и, кто знает, может быть, приглашение переехать на жительство в Нью-Йорк, на 68-ю авеню. Замечательное слово – авеню!
Вечером Спиваки писали письма. И хотя делали они это тайком один от другого все письма начинались одинаково: «Здравствуйте, наконец, дорогой Арчибалд». Так писал и Спивак-милиционер, и Спивак-инкассатор, и Спивак – курортный агент, и Спивак-фуражечник и кепочник, и Спивак – бывший прапорщик выпуска Керенского, и даже Спивак-марксист. Была такая фигура в колонне Спиваков – марксист, но не большевик, бесплотная надклассовая тень без определенных занятий.
Все они заверяли Арчибалда в любви и сообщали свои адреса.
Два месяца длилось молчание, ни звука не доносилось из Соединенных Штатов. Казалось, Арчибалд внезапно охладел к своей советской родне. А может быть, напортил марксист, написав ему что-нибудь оскорбительное про прибавочную стоимость. А может быть, родственник был занят пропихиванием Рузвельта в президенты. А может быть, Арчибалда и самого выбрали в конгресс, и до него теперь рукой не дотянешься.
Вдруг пришла телеграмма на имя Спивака-курагента. Потрясающее известие! Арчибалд извещал о приезде.
– Лично, персонально, в собственные руки! – в бессмысленном восторге бормотал курагент.
Ему завидовали. Считали, что он возвысился, что какими-то неведомыми путями завоевал особенную любовь американского гражданина. Курагент и сам понимал, что отныне он «счастья баловень безродный, полудержавный властелин».
– Там, – говорил он, наклоняя голову в сторону Североамериканских Соединенных Штатов, – там курагенты тоже нужны.
Велико было скопление Спиваков на станции в день приезда Арчибалда. Ожидали крушения поезда. Потому что начальник станции тоже был Спивак и так волновался, что мог бы в ажиотаже принять состав на занятый путь. Спиваки все время угрожающе шикали на него, напоминая ему о суровой железнодорожной действительности.
Последние два часа все молчали, подавленные ожиданием, и только марксист, которому стало совестно, что он встречает капиталистического магната, болтал, что пришел из любопытства, но и он присмирел, когда высокий поезд вошел на станцию.
Арчибалда узнали сразу. Он сиял, как жар-птица. На нем был мохнатый пиджачный костюм, шляпа и вечный воротничок «дакота», который можно мыть под краном холодной водой, чем устраняется необходимость покупать и стирать воротнички. Но Спиваки не знали тайн капиталистического быта, и воротничок «дакота» показался им верхом мыслимого на земле благополучия и просперити. Спиваки ничего не знали.
Бледный марксист, прижавшись к стене, глядел на блистательного представителя иной системы. Старый фуражечник-кепочник раскрыл объятия и двинулся навстречу дорогому гостю. Подойдя к Арчибалду вплотную, он, внезапно пощупав тремя пальцами материал его пиджака, остолбенело молвил: «Настоящая полушерсть» – и заплакал. И это были самые сладкие слезы на земле. Если бы их можно было собрать в графин, то уже через полчаса они бы засахарились.
Бывший прапорщик-рубака, со словами «Гелло, Арчибалд!», ударил родственника по мохнатой костистой спине. Родственник также радостно хлопнул по спине рубаку. И долго они били друг друга по спинам, восклицая «Гелло, гелло!», в то время как остальные Спиваки стояли вокруг и одобрительно качали головами. И только почувствовав ломоту в спине, бывший прапорщик уступил место другим.
Спивак-милиционер расцеловался с родственником, предварительно взяв под козырек. Курагент, в карманах которого уже шелестели воображаемые доллары, раздвинул толпу и с боярским поклоном провозгласил:
– Добро пожаловать, чем бог послал!
Инкассатор, державший на руках девочку, ловко отпихнул боярина и протянул ребенка американцу.
И тут произошло то, чего не ждал никто из Спиваков, произошло невероятное. Арчибалд поцеловал девочку и растерянно посмотрел на родичей. Его маленькое лицо покривилось и он тихо сказал:
– Я не имею на жизнь!
– Гелло! – крикнул не расслышавший дурак-прапорщик. – Гелло, старина!
– Тише! – закричали перепуганные Спиваки. – Что он сказал?
– Я не имею на жизнь, джентльмены! – грустно повторил американец. – И вот я приехал к вам.
На этот раз расслышали все, даже старина-прапорщик.
– Приехали к нам? – спросил курагент, заметно волнуясь. – Жить?
– Жить, – подтвердил Арчибалд.
Тут инкассатор пугливо перенял девочку к себе на руки. А курагент, который был по совместительству еще и гостиничным агентом, с привычным бессердечием вскричал:
– Свободных номеров нет!
И, расталкивая родственников, он побежал с вокзала, крича, что загружен и не имеет времени на пустые разговоры с разными отрицательными типами. Лицо Арчибалда еще больше затуманилось, и он закрыл его руками.
С удивлением и страхом смотрели отечественные Спиваки на Спивака заокеанского. Родственное кольцо, сомкнутое вокруг американца, стало разжиматься.
Творилось непонятное дело. Плакал человек в чудном полушерстяном костюме, барской шляпе и вековом воротничке «дакота».
– Мы имеем тут налицо, – сказал вдруг милиционер тоном пророка-докладчика, – типичный результат анархии производства и нездоровой конкуренции. Мы имеем перед собой на сегодняшнее число дитя кризиса.
Когда Арчибалд отвел руки от лица, на перроне уже никого не было.
Пять дней он кочевал по городу, переходя от одного родственника к другому и возбуждая своим аппетитом и чистеньким видом отвращение к капиталистической системе. Особую гадливость вызывало то, что великий Арчибалд умел только торговать. Спиваки уже забыли, как жадно внюхивались они недавно в старинный колониальный воздух коммерции. А на шестой день отрицательный тип был отправлен назад, в Североамериканские Соединенные Штаты. Билет до границы обошелся Спивакам в шестьсот три рубля ноль восемь копеек, и эта рана зияет до сих пор. Если же напомнить добрым Спивакам тот страшный день, когда они платили по три рубля за номер «Известий», они начинают мычать, словно им сверлят зубы бормашиной.
Что же касается капиталистической системы, то о ней больше нет разговоров.
Доверие к Америке подорвано навсегда.
Что мы называем славой, товарищи? Славой, товарищи, мы называем яркую заплату, каковая имеется на ветхом рубище певца. <Пушкин, «Разговор книгопродавца с поэтом»>
По некоторым признакам можно было судить, что надвигаются события. Выражаясь языком оборонной литературы, в воздухе пахло порохом (сделаем уступку забияке Вишневскому – пахло бездымным порохом). Выражаясь совсем уж точно – пахло скандалом. В общем, добром это кончиться не могло. Жертва созрела. Все это знали, но никто не решался первым занести над ней пылающий меч здоровой критики.
Был, правда, случай. Инцидент. На каком-то товарищеском чае какой-то писатель выкрикнул какую-то фразу. Но этому не придали значения, притворились, что ничего не произошло. Кстати, еретик немедленно после этого заснул, положив голову на плечо тамады из Оргкомитета.
Между тем слава писателя Оловянского росла. Девушки прогуливались в садах, шепча его имя. Издатели тоже любили его.
А что может быть упоительней первой любви издателя! Ничего, милостивые государыни, не может быть упоительней. Тут все – и массовое издание, и не массовое издание, и супердешевое издание, и, напротив, супердорогое, в суперобложке и специальном картонном ларце с перламутровыми пуговицами и вензелями. Одним словом, не жизнь, а бывшая масленица. Критики ничем не попрекали Оловянского. Им все нравилось в его сочинениях, и об этом они говорили часто, скучно и громко.
Итак, Оловянский находился на вершине славы. Он упирался головою в солнце. И неизвестно, сколько еще времени продолжалось бы это сидение на высотах, если бы не послышалось ворчанье из литературного коридора.
Надо объяснить, что такое коридорное мнение. Коридор – всюду. И на улице, и дома, и в редакциях – везде, где встречаются и разговаривают между собой писатели.
Мы любим гимназические трафареты и до сих пор считаем, что коридорная болтовня – это что-то нехорошее, мещанское, сплетни, враки, что если говорить, то уж обязательно речь, и обязательно большую, и обязательно с кафедры, и обязательно с последующей правкой стенограммы («Уважаемый товарищ редактор. Некий горе-критик удосужился выхватить из моей; неправленной стеногра… это возмути… я протесту…»). Это надоело, и это неверно. Нельзя из-за каждого слова взгромождаться на эстраду или возить за собой на извозчике кафедру-передвижку, чтобы вовремя предоставлять ее писателю, желающему высказать какое-нибудь суждение.
Так парадно жили только римские консулы. Советским писателям неудобно так жить. К тому же в коридорных разговорах нет никакой литературной нелегальщины. Коридор справедлив и строг. В поисках истины он иногда обгоняет кафедру. И покуда на кафедре длится вальпургиев юбилей в честь чьих-то шестилетних трудов на изящной ниве литературы, в коридоре уже все известно – и юбилея не надо было, и труды не бог весть какие, и юбиляру самое время начать изучение языка, каковой у него наравне с содержанием весьма и весьма хромает.
К коридору надо прислушиваться. В коридоре дует сильный ветер. Там, как самолеты в аэродинамической трубе ЦАГИ, испытываются писатели, проверяется их стиль, идейность, дарование. Уж если тут воздушным потоком оторвало крыло, ничто не поможет, – этот писатель летать не будет. Ему надо менять конструкцию. Он не выдержал испытания. Жить он будет, но петь – никогда, как говорят в народе.
Итак, девушки прогуливались в садах, нежно цитируя произведения Оловянского. А в это время в литературный коридор вышел бледный и встревоженный человек.
– Что с вами, молодой стилист? – спросили его писатели.
– Я всю ночь читал Оловянского.
– И что же?
– Плохо.
– Нет. Вам нельзя верить. Вы у себя в хедере имени Марселя Пруста считаете, что все плохо пишут.
– Да нет, уверяю вас. Это очень слабо. Просто скверно написано. Убого.
– Быть этого не может. Оловянский – знаменитый писатель. Его все хвалят и гладят.
– А вы его читали? Ну, так прочтите. Тогда и будете говорить.
Оловянского прочли. До сих пор не читали, верили на слово, что у него все в порядке. Лучше бы уж молодой человек из хедера имени Марселя Пруста никогда не приходил в коридор. Оловянского втянуло в испытательную аэродинамическую трубу. И сразу же лопнули его сюжетные тяги, разъехались композиционные скрепления, посыпались к черту части, детали, метафоры и кавычки. И все увидели, что эта машина летать не может.
Кафедра еще серенадила по инерции под балконом прозаика, но вскоре в расстройстве замолчала. Умолкли критические бандуры и мандолины, после чего в наступившей тишине литературная общественность явственно услышала тонкий, леденящий душу свист. Это летела первая ласточка. В клюве она несла статью, где творчество Оловянского подвергалось всестороннему и чрезвычайно обидному рассмотрению. За ласточкой с отчаянным гулом летели трехмоторные критические кондоры. И каждый кондор держал в клюве статью, и все статьи были ужас какие справедливые и обидные.
Оловянский заметался. Он привык к славе и совсем забыл про откровенный, прямолинейный коридор. Он ничего не понимал. Еще несколько дней назад кондоры и ласточки любовно парили над ним, сбрасывая на его голову экспортные тюльпаны и даже цельные венки. Ах, лавровый запах славы, запах супа и маринованной рыбы!
Гром похвал утих так неожиданно, что захотелось кричать «караул», захотелось побежать в милицию жаловаться, захотелось биться за свою мягкую койку на Парнасе.
«Нет, тут какая-то ошибка, – думал поверженный автор, – они не имеют права. Я буду судиться».
Он почему-то считал, что против него ведется тайная интрига, и обращался к организациям и отдельным лицам с просьбой оказать ему законное содействие, – в общем, пытался восстановить славу по знакомству.
– Это что ж такое? – говорил он негодующе. – Безобразие. Сегодня обо мне сказали, что я написал посредственную книгу, а завтра и до кого угодно доберутся. Таких критиков надо просто снимать.
– Как это снимать? – удивилось отдельное лицо.
– Ну, я не знаю… С занимаемых должностей, что ли.
– Да, но ведь тут, так сказать, критическая мысль… Человеку не нравится, – что я могу сделать?
– Вы все можете сделать. Честное слово. Телефон вы мне в два дня поставили, а какого-то критика не можете снять. Снимите! Ну пожалуйста!
– А вдруг ваша книга действительно… не совсем?
– Нет, именно совсем. Девушки прогуливались в садах, шепча мое имя.
– Девушек легко обмануть. Чьи только имена, скороспело вошедшие в школьные программы, они не шептали! К тому же теперь в школе строго, пятибальная система. Поневоле зашепчешь.
– Может быть, все-таки хоть какие-нибудь репрессии. Хоть немножко. А? Для порядка.
– Нет, товарищ, – грустно сказало отдельное лицо. – Лучше я вам еще один телефончик поставлю.
– А может, все-таки лучше репрессии?
– Нет, лучше телефончик.
От Оловянского отвернулись даже знакомые. А критические кондоры перешли на бреющий полет и полосовали его длиннющими и злющими статьями.
И уж где-то на диспуте Оловянского стали добивать в порядке регламента: докладчику на побиение автора камнями и цитатами – полчаса, выступающим в прениях на осыпание автора мусором и утильсырьем – по пяти минут на человека.
Начинался перегиб.
Что же после этого, товарищи, мы условно назовем славой?
Не будем, товарищи, преувеличивать. Славой, товарищи, мы назовем яркую, так сказать, заплату на ветхом рубище певца, товарищи. Не больше. Так сказал, так сказать, Пушкин. И это все о славе. Не будем преувеличивать.
Один гражданин пожелал купить электрическую лампочку. В магазине лампочки были, но все не те – в пятьдесят, двадцать пять и даже пятнадцать свечей. А гражданин обязательно хотел сто свечей. Такая это была капризная и утонченная натура.
Казалось бы, происшествие ничем не замечательное. Но надо же было случиться тому, что опечаленный гражданин столкнулся на улице со старым своим другом.
Друг был рыжий, веселый, напудренный и держал под мышкой большого битого гуся.
(Здесь опускается описание довольно продолжительных приветствий и объятий, во время которых гусь несколько раз падал на тротуар, а рыжий живо поднимал его за лиловатую мерзлую ножку.)
– Да, Миша! – воскликнул вдруг гражданин. – Где можно купить стосвечовую лампочку?
– Нигде, конечно, – загадочно ответил рыжий.
– Что же мне делать?
– Очень просто. Достать по блату.
Неудачливый покупатель не понял своего веселого друга. Он впервые слышал такое странное выражение. Задумчиво он повторил его вслух и долго бы еще растерянно топтался посреди тротуара, мешая пешеходному движению, если бы рыжий не набросился на него, размахивая гусем:
– Чего ты не можешь понять? Да, по блату! Не слышал?
И, многократно повторяя это неизящное воровское слово, Миша пихал гуся под нос другу. Друг отгибал голову назад и испуганно закрывал глаза.
– Вот! – возбужденно вскричал рыжий. – Этого гуся я получил по блату. За тридцать копеек. Одного жиру тут на пятьдесят рублей. А пальто? Видел? Инснабовское маренго. Двенадцать рублей. Одна подкладка теперь на базаре… Да ты погоди… Он положил гуся на землю и, не сводя с него глаз, расстегнул пальто, чтобы показать костюм. Костюм действительно был неплохой. Такие костюмы снятся пижонам в длинные зимние ночи.
– Сколько, по-твоему, стоит?
– Рублей шестьсот? – нетвердо сказал искатель лампочки.
– А двадцать два дуба не хочешь? Шито по фигурке. Мировой блат!
Это слово, которое скрытно жила в малинах и употреблялось исключительно в интимных беседах между ширмачами и скупщиками краденого (каинами), выскочило наружу. А рыжий веселый друг все подпрыгивал и радовался. Наконец он наклонился к уху собеседника и, оглянувшись, зашептал:
– Надо понимать. Блат – великая вещь.
Искатель лампочки тоже оглянулся. Но он уже вошел во вкус нового слова и застенчиво спросил:
– Что же это все-таки значит… по блату?
– По блату – это по знакомству. Тебе нужна лампочка? Сейчас… Кто у меня есть по электричеству? Ах, жалко. Бешенский в отпуску. Но, знаешь, все-таки пойдем. Может, что-нибудь достанем.
К вечеру искатель стосвечовой лампочки вернулся домой. Двусмысленно улыбаясь, он поставил на стол черный экспортный патефон и восьмидюймовую банку с медом. Веселый друг оказался прав. Бешенский еще не вернулся. К счастью, на улице встретился директор объединения «Мембрана», и беспокойный Миша сразу выпросил у него записку на патефон по сверхтвердой цене и со скидкой в тридцать процентов, так что почти ничего платить не пришлось. Что же касается банки с медом, то отчаянный друг с такой ловкостью выхватил ее из какого-то ГОРТа22, что искатель лампочки даже не успел заметить, какой это был ГОРТ.
Весь вечер он ел мед и слушал пластинки. И в диких выкриках гомэцовской хоровой капеллы чудилась ему дивная, почти сказочная жизнь, по каким-то чужим броням, почему-то вне всяких очередей и даже с правом посылать семейные телеграммы с надписью «посевная».
Утром, на свежую голову, он стал вспоминать и записывать в книжечку фамилии и телефоны своих знакомых. Оказалось, что многие полезны, из них особенно:
кассиров железнодорожных – 1,
привратников ЗРК23 – 3,
хозяйственников – 2,
управляющих финансовыми секторами – 1,
председателей РЖСКТ – 1.
А он, дурак, с иными пил чай, с другими играл в карты и даже в фанты, с третьими жил в одной квартире, приглашал их на вечеринки и сам бывал у них на вечеринках – и никогда ни о чем их не просил. Это было какое-то непонятное затмение.
Теперь ясно, что надо делать. Надо просить!
Просить все: бесплатный билет в Сочи, свинобобы по твердым ценам, письменный стол за счет какого-нибудь учреждения, скидку на что-то, преимущества в чем-то, одним словом – все.
Через год человек, искавший когда-то лампочку, оглянулся на пройденный путь. Это был путь человека с вечно протянутой за подаянием рукой.
Теперь он часто без дела разъезжал в поездах, занимая мягкие места, а на пароходах его иной раз даже даром кормили.
Среди пассажиров по томному блеску глаз и по умению держать проводников в страхе он узнавал тех, кто тоже устраивался по блату.
Если эти люди ехали с женами, то чудилось, что даже женились они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди, – такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучше, чем у других.
И когда они переговариваются между собой, кажется, что они беспрерывно твердят некое загадочное спряжение:
я – тебе,
ты – мне,
он, она, оно – мне, тебе, ему,
мы – вам,
вы – нам,
они, оне – нам, вам, им.
Теперь понятно выражение «по блату». Просто оно оказалось наиболее точно обозначающим бурную деятельность некоторого количества людей, думающих, что если они и не ангелы, то уж во всяком случае хорошие ребята и крепкие парни.
Но их выдает уже самое выражение «по блату». Оно вышло, как бы сказать, из официально воровского мира и пришло в мир воров неофициальных, растаскивающих советское имущество по карманам толстовок, по плетенкам. Это еще более предприимчивые и наглые расхитители социалистической собственности, чем те, кто ночью где-нибудь на товарном дворе взламывают вагоны, за что и судятся по соответствующей статье.
Тут есть все, предусмотренное уголовным кодексом: и гортовская кража со взломом по записке, и строительный бандитизм по протекции, и похищение чужой квартиры среди бела дня и вне всякой очереди.
Рыжие молодцы не всегда ходят с битым гусем под мышкой.
Иногда они хватают чужие вагоны с алебастром или мандаринами, морожеными судаками или табуретками. Они рвут. Оказывается, им все нужно.
– Сегодня отхватил пять тысяч штук кирпича! Мировой блат! По твердой. А на рынке, знаете, сколько?.. Пусть полежит. Когда-нибудь пригодится. Мы тут наметили года через два начать строить авгиевы коттеджи.
И наверно же у нас есть домики, выстроенные по блату, против плана, вопреки прямому запрещению государственных органов, выстроенные только потому, что какой-то очень энергичный человек обманным путем, в ущерб государству, в ущерб новому жилью для рабочих, ученых или специалистов вырвал где-то все элементы своего гнездышка: и цемент, и крышу, и унитазы, и рамы, и паркет, и газовые плиты, и драгоценный телефонный кабель. Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм.
Товарищи, еще одна важная новость! Но помните – это секрет! Никому ни слова!
Тише!
У нас есть писатели по блату! (Немного, но есть.)
Композиторы по блату! (Бывают.)
Художники, Поэты, Драматурги, Кинорежиссеры по блату. (Имеется некоторый процент.)
Это тонкая штука. И это очень сложная штука. В искусстве все очень сложно. И это большое искусство – проскочить в литературу или музыку без очереди.
Все эти люди – и веселый приобретатель с протянутой рукой, и строительный разбойник, с кистенем в руках отбивающий магнитогорский вагон с пиленым лесом, и идеологический карманник с чужой славой на озабоченном челе, – все эти «ятебетымне» думают, что но блату можно сделать все, что нет такого барьера, который нельзя было бы взять с помощью семейственности, что по блату, по записке можно примазаться и к социалистическому строительству. Но это им не удастся. Столь любимый ими «блат» приведет их в те же самые камеры, откуда вышло это воровское, циничное, антисоветское выражение.
Каждый год по Москве распространялся слух о том, что скоро, может быть, даже через несколько дней, всех управдомов переименуют в дворники. В «Известиях административного отдела Моссовета» этот оскорбительный слух обычно получал полное подтверждение. Между заметкой о собрании всадников конного резерва милиции и требованием незамедлительной очистки дворов от мусора управдомы с ужасом читали строки, посвященные их профессии. Там коротко и сухо сообщалось, что страна не настолько богата, чтобы содержать армию управдомов, и что на службе будут оставлены только те из них, которые согласятся возложить на себя обязанности и звание дворника.
Управдомам были понятны трудности, переживаемые страной. Эти интеллигентные люди, многие из которых носили пенсне, ходили в театры и были женаты на толстых женщинах с поддельными жемчужными шариками в ушах, были согласны подметать дворы, ходить в милицию с домовой книгой и по ночам сидеть в тулупе возле ворот. Обязанности они принимали, но от титула категорически отказывались. То есть, собственно говоря, они соглашались и на титул, потому что, как люди интеллигентные, стояли выше предрассудков. Но жены управдомов не хотели быть дворничихами. Их тянуло в мелкобуржуазное болото. Они любили танцевать на вечеринках блек-ботом, и домой их провожали элегантнейшие молодые люди столицы. Все это совершенно не вязалось с мужем в бараньем кожухе.
К концу января гонение на управдомов обычно затихало, сменяясь какой-нибудь новой сенсацией в области коммунального хозяйства. Но все же почти целый месяц управдомы невыразимо страдали.
Страдал и товарищ Человецкий. В доме, которым он третий день управлял, еще не было жильцов, о чем свидетельствовала совершенно свободная от антенн крыша и жадные взгляды прохожих, обращенные на новую постройку.
Новый дом был построен жилищно-строительным кооперативным товариществом «Жилец и бетон». Пятьсот пайщиков, прошедших через все испытания гражданской войны и службы в различных учреждениях, собирались ныне получить в новом доме по отдельной квартире. Некоторым пайщикам рисовались три небольшие светлые комнаты с ванной, обложенной больничными кафелями, и газовой кухней. Некоторым рисовались даже четыре светлые комнаты – разумеется, с ванной и другими удобствами. А иных, живущих особенно плохо, стремление к цивилизации разгорячало до такой степени, что им представлялась даже некая газовая уборная. Что сулит такая уборная, они не знали, но душою чувствовали, что это – нечто чрезвычайно приятное и необходимое в новом быту. Между тем, в доме было только двадцать четыре квартиры.
В голове претендентов на жилплощадь шел молодой управдом Человецкий. Он не был членом кооператива «Жилец и бетон» У него было никаких прав на площадь. Но он уже облюбовал квартиру втором этаже и боялся только одного: что управдомов разжалуют в дворники и тогда ему придется поселиться в дворницкой, которая, по неизвестно кем установленной традиции, помещалась в подвале.
В воскресенье, 7 января, пайщикам впервые было разрешено осмотреть новое здание. Это событие совпало с сильнейшим двадцатипятиградусным морозом.
Первыми в дом явились супруги Сенкевич.
Управдом принял их в бревенчатой сторожке, где помещалась его контора.
– Пришли? – высокомерно спросил Человецкий, проверяя пропуск супругов.
Гражданин Сенкевич ничего не ответил. Он подобрался к чугунной цилиндрической печке и, жалобно стеная, стал отламывать сосульки со своих опущенных книзу усов.
– Мы пришли, товарищ, – быстро и просительно ответила мадам Сенкевич. – Скажите, вы не можете устроить так, чтобы нам скорее дали квартиру? Мы не можем больше ждать! Мы сидим как на вулкане. Мы живем в ужасной комнате. Грязь. Никаких удобств. Соседи – рабочие!
Сенкевич-муж встревожился.
– Лика, – прошептал он, хватая жену за руку. – Ты меня погубишь.
У Человецкого сделалось такое выражение лица, как будто бы партийный и услышал то, чего партийному слышать не следует.
В бревенчатой сторожке воцарилось неловкое молчание. Слышен был только рев чугунной печки. Минуты две молодой управдом терзал чету Сенкевич строгим молчанием, боязливому Сенкевичу-мужу уже казалось, что не миновать ему нападок в стенгазете, которая, несомненно, будет издаваться в новом доме. Как вдруг управдом сочувственно молвил:
– Да-а. Рабочие, скажу я вам, соседи неважные.
– В конце концов она же не против рабочего класса, – примиряюще сказал Сенкевич.
– Что там говорить, – заключил управдом, – все мы люди.
И повеселевшая чета, чувствуя легкое волнение, отправилась осматривать постройку.
Тем временем к дому с разных концов города стали прибывать пайщики. Их подмороженные лица отражали самые разнообразные чувства. Одни, подобно чете Сенкевич, были говорливы и держались довольно мирно. Другие предъявляли свои пропуска с видом независимым, словно бы желали сказать: «Нам все известно. И в свое время мы сообщим кому нужно обо всех темных делах, которые творятся здесь, в кооперативе “Жилец и бетон”. Но пока мы молчим. И просим помнить, что нас вокруг пальца не обведешь». Иным же казалось, что все происходящее в Советской стране, – дело случая, а случаем нужно пользоваться сию же минуту, потому что завтра уже не встретится.
Все эти люди, подгоняемые лучезарной надеждой продирались к дому сквозь снежную бурю, проходили в шубах и валенках через раскрытые настежь квартиры, ласкали пальцами раскаленные батареи парового отопления, собирались в кучки и говорили о полах, дверных приборах и лестничных перилах. Собеседники согревались, распахивали шубы, старались превзойти один другого глубиной познаний в строительном деле.
Пайщики дружелюбно поглядывали друг на друга, хотя для дружеских чувств не было никаких оснований. Все они были соперниками в борьбе за жилплощадь и не ссорились только потому, что еще не знали, с кем надо ссориться и кого надо ненавидеть.
Анжелика Сенкевич, хватаясь за перила, подымалась по лестницам, останавливаясь возле каждой группы и выкладывая историю своих жилбедствий.
– У меня хуже! – неожиданно сказал пайщик в пальто, перешитом из волосатой кавказской бурки.
– Как хуже? – запальчиво спросила Анжелика, которой не понравилось желание пайщика превзойти ее в страданиях.
– У меня вода, – объявил долговязый. – Сколько средств ушло у меня на эту проклятую воду. Потолок протекает в двадцати местах. По комнате пройти нельзя. Все заставлено ведрами, лоханками, тазами и кастрюлями. Когда я перееду сюда, я смогу открыть посудохозяйственный магазин.
И пайщик в пальто из бурки услужливо сообщил, что на днях он сможет продать желающим два таза медных для варенья, лоханку – одну, эмалированных кастрюль синих – три, пестрых – две и прочих – одну. Кроме того, пайщик, который по профессии был судебным исполнителем и привык к точности, выставлял на продажу: бадью – одну, кадушек из-под огурцов – две, кувшинов глиняных с глазурью – один, корыт крестьянских – одно, и вёдер оцинкованных простых – шесть.
– А у меня совсем нет комнаты, – сказал, улыбаясь, молодой человек в технической фуражке. – Я, вероятно, получу комнату в первую очередь.
Этим заявлением молодой человек привлек к себе такое пристальное внимание, что смущенно отодвинулся к стене, на которой уже висел плакат:
УВАЖАЙТЕ ТРУД УБОРЩИЦ
СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ
Пайщики двинулись за молодым человеком.
– Где ж вы живете?
– Ночую на Курском вокзале.
Внешний вид молодого человека подтверждал его слова. Пальто было смято, как скомканный и потом расправленный кусок бумаги. Слежавшийся узел вязаного бумажного галстука будил подозрение, что галстук этот не развязывался месяца два. От молодого человека пахло железной дорогой, как от кондуктора.
– А есть у вас справка о неимении жилплощади?
– Разве нужно? – спросил молодой человек.
– Обязательно! – сказал Сенкевич-муж. – От домоуправления.
– Я не подлежу никакому домоуправлению. Я нигде не живу.
– Это еще нужно доказать, – поднял голос владелец кувшинов глиняных с глазурью. – А может быть, у вас квартира из пяти комнат, с ванной и отдельной уборной. Почем мы знаем! Дайте справку. Кто знает, может у вас собственный домик?
Молодой человек, которого в течение пяти минут возвели сначала в квартиронаниматели, а потом домовладельцы, совсем растерялся.
– Это все-таки безобразие! – донесся из соседней группы голос Сенкевича. – Гражданин имеет замечательную квартиру из пяти комнат с ванной во втором этаже, а сам притворяется, что живет на вокзале. Так, конечно, комнат не хватит.
– Но ведь я же в порядке неимения жилплощади, – прошептал молодой человек. – Граждане!
Но граждане уже покинули бедняка с Курского вокзала. Они двинусь навстречу Сенкевич-жене, которая подымалась по лестнице с криком: «Заперли! Заперли!» От быстрых движений ее черная шелковая шуба издавала разбойничий повист. Фетровый котелок, украшенный спереди стеклянным полумесяцем, молодецки съехал на левое ухо. Седеющий чуб падал на лоб. В эту минуту мадам Сенкевич походила на только что спрыгнувшего с коня кубанского казака. Удаль и отчаяние светились в ее угольных глазках. Задыхаясь и клокоча, она поведала обществу новость.
– У нас всегда так, – крикнула она – одна подлость! Будьте уверены, что квартира номер три распределяться не будет. Ее уже распределили без нас!
Когда Сенкевич увидел свою жену в таком гневе, он задрожал. Он знал привычку Анжелики в волнении называть своих собеседников не товарищами и не гражданами, а господами. И он всегда боялся, что это может повредить ему по службе. Он раскрыл рот, чтобы издать предупреждающий возглас. Но уже было поздно.
– Господа! – закричала Анжелика. – Квартиру номер три получит производитель работ товарищ Маляриков, у которого на получение площади нет никаких прав.
При этих словах пайщики болезненно застонали.
– Квартира заперта, господа, – закричала Анжелика, – потому что товарищ производитель работ боится, что мы наследим в его новом гнездышке.
– Не может этого быть без общего собрания, – сказал усатый мужчина, державший на руке ребеночка с вытаращенными глазами. – Мы здесь хозяева!
Но произнес он свои слова тоном, каким обычно хозяева не говорят.
– Пока вы дожидаетесь общего собрания, все квартиры расхватают! Идемте, идемте, товарищ хозяин! Идемте, господа! Я вам покажу!
И мадам Сенкевич устремилась вниз по лестнице. Стеклянный ятаган на ее шляпе сверкал. За ней нестройной толпой побежали разозленные пайщики.
У двери квартиры № 3 они остановились.
– Ну, хозяин, – радостно сказала Сенкевич-жена, – войдите в вашу квартиру. Смелее, смелее!
Усач для удобства переложил ребеночка на другую руку и осторожно, словно ожидая, что его ударит электрический ток, прикоснулся к дверной ручке. Квартира действительно была заперта.
Обомлев, усач отошел в сторону.
Его место занял Сенкевич-муж. Он расстегнул пальто, взялся за дверь обеими руками и потянул ее с силой. Но дверь не открылась. Жалко улыбаясь, Сенкевич быстро застегнулся и уступил место кастрюльному гражданину.
Один за другим подходили пайщики к железной ручке и пробовали силу с таким надменным видом, с каким в душистый воскресный вечер гуляющие на бульваре тянут руку силомера «Мускулатор».
Когда последний пайщик, рабочий с фабрики военнопоходных кроватей, познал тщету своих усилий, толпа раздвинулась и пропустила дворника, подталкиваемого проворной Анжеликой.
– Надеюсь, господа, вы мне теперь поверите, – молвила она. – У кого ключ, Афанасий? Ну! Скажите им то, что вы говорили мне на дворе.
Дворник, которому еще никогда не доводилось выступать перед такой большой аудиторией, снял шапку и долго молчал. А потом сообщил, что квартиру № 3 уже давно захватил производитель работ и специально для себя отделал ее роскошнейшим образом.
– Целый месяц для себя паркетины отбирал, – заключил дворник, усмехаясь.
Сообщение дворника привело пайщиков в полнейшее уныние. Оцепенела даже Анжелика, столь энергично действовавшая до сих пор.
Толпа молча стояла на лестнице, невольно прислушиваясь к шуму, который производил ветер, хозяйничавший в пустых комнатах. Снег залетал в открытые окна лестничной клетки. Шероховатые, покрытые инеем розовые стены казались сделанными из мармелада.
Погруженным в глубокое раздумье пайщикам квартира производителя работ представлялась необыкновенно прекрасной. Каков там, должно быть, замечательный отборный паркет. Каждая паркетина сухая и гладкая, как английская галета. Какая там электрическая проводка! Каждый шнур как венчальная свеча. Какая там ванна, толстая, скользкая, сделанная из лучшего фаянса. Как хороши там краны, шпингалеты и замки. Все это, вероятно, высокосортные изделия, какие могут быть только на военном корабле!
– Мерзавцы! – визгливо закричал вдруг молодой человек в технической фуражке. – Мерзавцы! Негодяи! Почему это так? К чертовой матери! Я ночую на Курском вокзале! На Курском! Четыре месяца я сплю на каменной скамье! А они… Почему заперли?!
Вокруг молодого человека внезапно образовалось пустое пространство. Теперь он был хорошо виден всем. Лицо его сразу переменило свет, сделалось лиловатым, анилиновым, и все увидели, что молодой человек нищ, несчастен, плохо выбрит и что у него грязные уши.
Он стоял посреди площадки в своем изжеванном пальто и жестикулировал. Он хотел много говорить, бичевать, требовать, но ему не хватало дыхания. Тогда он подскочил к двери и стал теребить ее за ручку, бормоча:
– Почему заперли?
Может быть, иная дверь и поддалась бы натиску, вызванному беспредельным отчаянием. Но дверь квартиры № 3, построенная под особым наблюдением производителя работ, была крепка, как дверь стального банковского подвала.
Молодой человек принялся лягать ее ногами. Он боролся с дверью так, словно именно она была виновницей всех его несчастий. Не оглядываясь на пайщиков, которые ошалело отодвинулись в сторону, молодой человек ударял по двери кулаками. Но дверь только слегка вздрагивала и отвечала тонким спокойным звоном.
Потеряв силы, он сел под дверью и заплакал.
– Что же, господа, – сказала Анжелика Сенкевич, – ему дурно. Мужчины, принесите хоть стакан воды.
Пока молодого человека приводили в чувство, среди пайщиков поднялся ропот. Кричали, что этого оставить нельзя, что нужно писать коллективное заявление, куда-то жаловаться, выбрать делегацию. Неведомо откуда пошел слух, что квартиры уже давно распределены между членами правления и их прихвостнями и что общее собрание будет только ширмой. Приводились примеры, рассказывались случаи.
В ту минуту, когда разговоры приобрели страстность, какая бывает в разгаре диспута на тему «Существовал ли Христос», и отдельных слов уже нельзя было разобрать в общей трескотне, на лестнице показался производитель работ товарищ Маляриков. Появление Христа на антирелигиозном диспуте не могло бы произвести большего впечатления.
Смятение было настолько велико, что даже молодой человек пришел в себя, подобрал валявшуюся под дверью фуражку с зелеными кантами и притаился в арьергарде пайщиков. Крамольные речи застыли на устах. Гневные морщины разгладились, и на свет божий выползли нафталиновые улыбки, приводя в движение усы, щеки и уши членов-пайщиков.
Товарищ Маляриков бросил на толпу блудливый взгляд и вежливо поздоровался. В ответ раздался хор сердечных голосов. В этом хоре угадывалось приветствие, похожее на «здравия желаем» и «премного благодарны».
Пайщики сразу же повели себя нехорошо. Народные трибуны, Стеньки Разины и Мараты, еще минуту назад призывавшие к бунту охваченную кооперацией массу, сплотились вокруг производителя работ с самым дружественным видом.
Они боялись Малярикова. Они боялись всех членов правления, управдома и даже дворника. Они были убеждены, что каждый из этих людей может сделать все: может дать комнату и может ее отобрать. Во всех они видели начальство. Даже Человецкий, которого каждую минуту могли сдать в дворники, казался им значительной персоной. Они и представить себе не могли, что Маляриков не меньше ихнего боится проворонить квартиру, которую он действительно отделал с большой любовью, и с трепетом ждет общего собрания, где должна была решиться его судьба.
– Ей-богу, – сказал Сенкевич-муж, в котором раболепные чувства пробудились стремительнее, чем у других, – прекрасный дом. Стекло и бетон. Вам, вероятно, будет приятно здесь жить.
– Да мне еще могут и не дать квартиры, – ответил Маляриков, беспокойно улыбаясь.
– Что вы! – раздались воодушевленные крики. – Это вам-то! Своими руками строили, и вдруг не дадут! Быть этого не может.
И пайщики в единодушном порыве заявили, что если только на земле существует справедливость, то в первую очередь квартиру должен получить товарищ Маляриков.
Производитель работ выслушал это верноподданническое заявление с достоинством и, повеселев, пошел на склад за розетками для квартиры № 3. Молодой человек в технической фуражке, долгое время крепившийся, послал вдогонку ему жалобную фразу:
– В порядке неимения жилплощади…
Он с большим трудом удержал себя от желания пасть на колени.
Едва Маляриков скрылся, чувства пайщиков снова переменились.
– Видали? – спросил помалкивавший до сих пор бывший австрийский военнопленный.
Вслед за этим народные трибуны, Мараты и Стеньки Разины, подняли невообразимый шум. Малярикова называли подлецом. Особенно досталось организатору кооператива. Еще не знали, чем он провинился, но не сомневались в том, что он виноват.
– Я его знаю, – воскликнула Сенкевич-жена, – он весь этот кооператив выдумал, чтобы получить комнату.
Но это был уже последний пароксизм. Истомленные переживаниями пайщики группами вывалили на улицу, где ледяной ветер заткнул им глотки.
А новый дом погрузился в тишину, ожидая своих жильцов, судьба которых должна была определиться в решительном бою на общем собрании.
Теперь уже окончательно выяснилось, что юмор – это не ведущий жанр. Так что можно наконец поговорить серьезно, величаво. Кстати, давно хочется застегнуться на все пуговицы и создать что-нибудь нетленное.
Не сразу, конечно.
Здесь покуда приводятся только черновые записи, суждения, слова, подхваченные на лету, некоторым образом еще не отшлифованные алмазы.
Самый страшный персонаж в плохой современной пьесе – это так называемый пожилой рабочий.
Зрители трепеща ждут его появления. И вот он выходит на сцену. И вот, под громовой кашель публики, начинает вырисовываться его характер.
О, это сложная фигура, рядом с которой шекспировский венецианский купец кажется неизящной провинциальной схемой.
Разумеется, пожилой рабочий уж не молод (56 лет). Обязательно носит сапоги на высоких скороходовских каблучках. Разумеется, на нем стальные калининские очки, сатиновая косоворотка под пиджаком, и усы, о которых прейскуранты театральных парикмахерских сообщают кратко и нагло: «Усы колхозные – 80 коп.».
Пожилой рабочий всегда и неукоснительно зовется по имени-отчеству: Иван Тимофеевич, Кузьма Егорыч, Василий Фомич.
Пожилой рабочий – беспартийный, но обладает сверхъестественным классовым чутьем, хотя до некоторой степени находится в тисках прошлого (икону сбрасывает со стены только в третьем действии). Как правило, пожилой рабочий обожает свой станок. Пожилой рабочий часто ворчит и жалуется на кооперацию, но этим он никого не обманет – под грубой оболочкой ворчуна скрывается верное сердце.
Никаких отступлений от этого художественного образа драматурги себе не позволяют. И едва только под огнем рампы сверкнут стальные очки пожилого – суфлер спокойно может идти из своей пыльной будки в буфет, – публика сама подскажет Кузьме Егорычу его реплику, если он ее забудет.
Таков старожил советской сцены, чудно вычерченный в литературных канцеляриях.
– Все хотят писать пьесу на конкурс.
– А как писать?
– Ну, это просто. Чтобы было значительно и в трех актах.
– И подымут на щит?
– Могут поднять.
– Интересно, должно быть, на щите, а?
– О-о-о!
– Завидую Шолохову.
– А вы напишите хороший роман, вас тоже подымут на щит.
– Что роман! Вы сначала подымите, а я потом напишу.
– Вы, однако, не глупый.
– О, я далеко не глупый. Там и буду писать. На щите. Свободно, просторно, никто не мешает.
Почему население так не любит критиков? Надо полагать, причины есть. Не стоит об этом распространяться.
Но во всяком деле, даже в таком интересном, как травля критиков, надо сохранять меру, такт, наконец профсоюзную дисциплину.
Между тем с недавнего времени в этой области наблюдается известное излишество, граничащее с заезжательством, заушательством и заштукатуриваньем собственных недочетов, коих ох как много, наряду с достижениями. Завелись грубые чикагские манеры, какой-то такой аль-капонизм в действии, начались похищения среди бела дня.
Стоит критику неблагоприятно отозваться то ли о выставке картин, то ли о новой пьесе, как заинтересованная сторона увозит его к себе на заседание и там начинает пытать повесткой дня:
1. О подлом, хамском, мерзком, дерзком выпаде критика N.
2. Дача отпора указанной газетно-журнальной шавке N.
3. Разное.
И сидит бедная шавка среди разъяренных творцов, с ужасом ожидая пункта третьего. Он не ждет добра от «разного». По этому пункту критику забивают под ногти резолюции и канцелярские скрепки, вымогая у него отречение от рецензии.
Травля критиков – дело, конечно, безумно увлекательное, но нельзя же, товарищи, такое Чикаго.
– Слушайте, где здесь подымают на щит?
– Кажется, в двенадцатой комнате.
– Да нет, я там был. Насилу вырвался. Там приносят в жертву.
– Тогда обратитесь в девятую.
– А там очередь. На три года хватит. Нельзя ли как-нибудь сбоку, по блату? Я могу представить удостоверение о болезни.
– Нет, на щит по блату не подымают.
– Черт знает что! Безобразие!
Жил на свете автор. Был он молод, неизвестен, но дьявольски опытен. Вот он и написал пьесу в семи картинах с прологом, под названием «Первые этажи».
Пролог неинтересен, семь картин тоже не разгорячают воображение (мол. инж., изобр., лесопил., комбайн, но вылаз, клас. враг., порт. маш. Раб. выдв., встречи, пл. Варьянт. невозможн.). Отдыхает глаз лишь на списке действующих лиц.
Парфил – раскулаченный. Вредитель под маской ударника.
Силантий – недавно из деревни.
Здесь зал уже может подхватывать рифму. Поскольку наивный Силантий недавно из деревни, он… Ну, угадайте! И зал гремит ликующим хором: «Находится под сильным влиянием Парфила».
Но вот новинка драматургической техники.
Профорганизатор. Одутловат.
Что такое? Почему он одутловат? Это неспроста. Молодой специалист Соколов, тот, например, не одутловат. Напротив, он «энтузиаст». Так написано. Уборщица Власьевна тоже не одутловата, хотя «старушка очень уважает директора. Пуглива». И тут нет никаких горизонтов. Все уборщицы – старушки, все пугливы. Профессор Горбунов – «близорук». Тоже все понятно. Работник умственного труда. Испортил зрение за учебой. В общем – все по Бомарше и Мольеру. Один только профорганизатор мучит, волнует, заставляет сердце тревожно биться. Почему он одутловат?
Добираешься до первой его реплики:
Профорганизатор… Десять минут на шамовку, остальные на храпака…
Так вот оно как! Он одутловат потому, что любит спать! Это сатира (знаете – «местком спит»).
Здесь автор подымается до высот подлинной сатиры, заостряя свое оружие против бездеятельной профорганизации.
Кончаются «Первые этажи» оптимистической ремаркой: «Машина начинает сильнее грохотать». Будто бы она недостаточно грохотала в течение всех семи картин! Ах, как грустно!
Издал книгу ГИХЛ. Тираж – 6000, чтобы поосновательней насытить рынок. Подписана к печати 19 авг. 1932 года. Кого же вы найдете в ГИХЛе в чудном отпускном августе месяце? Безусловно, подписывал книгу к печати дворник дома № 10 по Никольской улице. А не то какая-нибудь гихловская Власьевна (очень уважает пьесы с машинной идеологией, пуглива).
Ужасно грустно!
– Прохожу мимо оргкомитета, слышу какой-то бранный звон. Заглядываю в окно, прямо сердце дрогнуло. Подымают на щит Новикова-Прибоя. До чего стало завидно.
– Почему завидно?
– А за что его подымать? Никогда не высказывается, в прениях не выступает, в анкетах участвует недостаточно регулярно. Так… Написал что-то морское.
– И вы напишите морское.
– Я морского не знаю.
– Ну, сухопутное что-нибудь напишите.
– Сухопутное у меня не выходит, как-то не рождается.
– Что ж вы хотите?
– Хочу на щит. Честное слово, буду жаловаться. У меня все права. Если уж кто щитовик, то это я. Ни одного заседания не пропустил. Одному Цвейгу написал триста писем. Наконец, только недавно публично отрекся от своей мещанской сущности. Подымите меня! Слышите! Я категорически требую. Подымите!
– Что же я могу сделать! Напишите все-таки что-нибудь! Кроме того, сегодня вообще неподъемный день. Приходите после съезда. И не забудьте захватить с собой рукопись, где в художественной форме изобража…
– Вот это самое «изобража» у меня и не изобража…
Очень приятно поговорить серьезно, застегнувшись на все пуговицы.
Необыкновенные страдания директора завода
Просматривая утреннюю почту, директор Горьковского автозавода натолкнулся на письмо, полное оптимизма.
«Дорогие товарищи, – читал он. – Для большевиков нет ничего невозможного, и вот мы решили своим рабочим коллективом в сезон 1933 года выработать сверх плана 10 тонн арбузного цуката не дороже 4 рублей 50 копеек за килограмм, являющегося в нашей кондитерской промышленности прекрасным предметом ширпотреба…»
– Что это такое? Иван Васильевич, зачем вы мне это дали? При чем тут наш завод? Это, наверно, адресовано в какой-нибудь верховный кондитерский трест. Давайте следующее письмо.
«Наша республика – бывшая царская колония… При царизме в Дагестане не было ни одного исследовательского учреждения, теперь – десятки…»
– Хорошо, а при чем тут мы?
«Конкретной задачей нашей Дербентской опытной станции по виноградарству и овощам является доведение дешевого и хорошего качества винограда до рабочего стола…»
– Иван Васильевич, что вы со мной делаете? Я же не против доведения винограда до стола. Пусть производят свои головокружительные опыты. Но какое это имеет отношение к производству автомобилей?
– Вы прочтите до конца. Там дальше есть и про автомобили.
– Где?
– А вот: «… Дагестан по богатству природных условий может быть назван советской Калифорнией…»
– Это какая-то глупая география!
– Они всегда начинают с географии. Вы слушайте: «… Огромным злом является малярия. Единственное спасение от малярии – это выехать ночью, когда появляется комар, из малярийной местности в город, где больше принято профилактических мер…» Видите? Мы уже дошли. Вые-хать! А на чем выехать? На извозчике от быстроходного комара не убежишь. Нужен автомобиль.
– Да, но ведь с малярией борются другими средствами. Что-то я помню, хинизация, нефтевание водоемов…
– Теперь это уже отменено. Директор станции товарищ Улусский считает, что от малярии можно спастись только на автомобиле. Понимаете?
– Не понимаю.
– А между тем все очень просто. Они предлагают нам, хотят, так сказать, довести до нашего стола один вагон ранней капусты, один вагон ранних томатов и один вагон винограда и взамен просят один автомобиль.
– Знаете что, – мрачно сказал директор, – доведите это письмо до мусорной корзинки.
В кабинет вошел курьер и, странно улыбаясь, поставил на стол тяжелый ящик.
– Цукаты, – сообщил секретарь кратко.
– Какие цукаты?
– Арбузные. Вы же только что читали: являются прекрасным предметом ширпотреба. Где первое письмо? Вот видите: «Посылая одновременно вам образцы нашей продукции, просим обсудить наше предложение». А предложение вы знаете. Они – Дубовской арбузопаточный завод-совхоз – нам десять тонн чудного цуката, этого роскошного ширпотреба, а мы мм… шесть автомобилей.
Через час начался прием посетителей.
В дверях сразу же застряли три человека: двое штатских и третий тоже штатский, но с морским уклоном в одежде. На нем был черный пиджак с золотыми торговыми пуговицами. Произошла короткая схватка, в результате которой усеянный пуговицами морской волк был отброшен в переднюю, и перед директором предстали двое просто штатских. Они были возбуждены борьбой и начали, задыхаясь:
– Мы из Ленинграда, – сказал первый штатский.
– От Государственного оптико-механического завода, – сообщил второй.
– Это товарищ Дубно, помощник директора, – представил первый.
– Вот товарищ Цветков, секретарь комитета ВЛКСМ, – представил второй.
– Мы вам два звуковых киноаппарата последней конструкции инженера Шорина для культурного обслуживания рабочих и ИТР, – начал первый.
– А вы нам два автомобильчика, – закончил второй.
– Уходите, – кротко сказал директор.
– Нас прислал треугольник.
– Все равно уходите.
– А автомобильчики?
– Я вам покажу автомобильчики! Знаете что? Поезд в Ленинград отходит ровно в восемь. Не опоздайте.
На пороге кабинета сверкнули золотые пуговицы.
– Я – Гнушевич, – сказал вошедший.
– Что?
– Гну-ше-вич. Из Черноморского управления кораблевождения. Нашему управлению кораблевождения стало известно, что ваш комсостав страдает от отсутствия часов. И вот управление кораблевождения считает своим долгом моряков, хранящих славные традиции управления и кораблевождения, обеспечить весь автозаводской комсостав импортными хронометрическими часами системы Буре. Управление кораблевождения…
– Подождите, у меня головокружение.
– Управление кораблевождения…
– Что вам надо?
– Три машины, – застенчиво прошептал Гнушевич, – три крохотных машинки. Они у вас так здорово получаются.
Директор поднялся и исторг из груди глухой звук, что-то среднее между «брысь» и «пошел ты со своими машинками, знаешь куда!»
– Спокойно, – сказал Гнушевич, выбегая из кабинета, – я не спешу.
На производственном совещании директора постиг новый удар. Во время рассмотрения вопроса о работе малого конвейера в комнату ворвался молодой энтузиаст из завкома. Щеки его пылали. В руке он держал письмо.
– Товарищи, необыкновенно приятное известие! Севастопольский институт физических методов лечения хочет изучить наши организмы. Да, да. Он проявляет исключительный интерес к исследованию физического состояния рабочих автомобильного производства. Так они пишут. Именно автомобильного. Они хотят установить систематическое наблюдение за изменениями, происходящими в организмах наших ударников. Ура! И вы знаете, они отводят нам у себя в санатории пять постоянных коек. Совершенно бесплатно! Ура!
– А автомобили они просят?
– Нет.
– А ты посмотри хорошенько там, внизу…
– Да, просят, – пробормотал энтузиаст. – Две штуки.
– Нас не любят бескорыстно, – промолвил директор со слезами на глазах, – нас любят только по расчету.
Когда он проходил по коридору, к нему подошел неизвестный гражданин и, таинственно шевеля усами, спросил:
– Вам не треба ширпотреба?
Директор молча пихнул его локтем и прошел дальше.
Он уже садился в автомобиль, чтобы ехать домой, как ему подали телеграмму и маленький розовый конвертик. Телеграмма была такая:
«Вперед светлому будущему шлите одну машину расчет возможности пятьдесят процентов продуктами Алма-Ата Райпартком».
Директор уронил телеграмму и бессильно повалился на сиденье автомобиля. Только через несколько минут он вспомнил про конвертик. Там была записка. Она благоухала.
«Я люблю вас. Вы такой интересный, непохожий на других директоров. Буду ждать у почтамта в шесть часов. В зубах у меня будет красная роза. Придете? Приходите! Ваша Женевьева».
А было как раз шесть часов. А путь как раз пролегал мимо почтамта. А чужая душа – потемки. А сердце – не камень. А директора – тоже люди. Так устаешь от бездушного отношения. И мы же, в общем, не монахи, так сказать, не игумены. А тут, кстати, весна, и вскрываются реки, и гремит лед, и дует какой-то бешеный ветер. И директор попросил остановиться у почтамта.
На ступеньках почтамта с красной бумажной розой в перламутровых зубах стоял Гнушевич.
Уносясь в пепельную весеннюю даль, директор долго еще слышал позади топот и страстные крики:
– П-с-с-с-т! Подождите! Полное великих традиций управления и кораблевождения, наше управление кораблевождения…
«И я поверил, – думал директор в тоске. – Тоже. Ария Хозе из оперы Бизе. Так мне и надо».
Вечер прошел сравнительно спокойно. Одна из фабрик Москвошвея дозналась, что рабочие и ИТР автозавода сильно «обносились», и по доброте душевной предлагала шефство, – конечно, не даром, а, так сказать, в обмен на… Кроме того, на кухне поймали представителя Сормовской судоверфи, который за автомобиль предлагал буксирный пароход. Только и всего.
Зато в два часа ночи в директорской спальне со звоном вылетела рама, и на подоконнике контражуром обрисовалась фигура человека.
Директор выхватил из-под подушки револьвер.
– Не надо, – сказала фигура. – Не стреляйте в меня. Выслушайте сначала стихи. Я член горкома писателей.
И он закаркал, как радио в час «рабочего отдыха»:
Шуми, шуми, железный конь.
Пылай в конвейере, огонь!
Лети, мотор, в час по сто миль…
– Я вижу, вам автомобиль? – спросил директор, невольно впадая в размер стиха.
– Да, – удивился поэт. – А что?
– Стреляю, – чопорно ответил директор.
– А вот не надо! – сказал служитель муз, поспешно выпрыгивая на улицу.
Наутро директора посетил кошмар. Привиделись ему тридцать три пожарных и с ними дядька-брандмайор. Они покачивали медными касками и несли совершенную уже чушь:
– Вы нам автомобильчик вне плана, а мы вам пожарчики будем тушить вне плана, вне всякой очереди!
К директору вызвали врача.
– Что с вами такое? – спросил врач.
– Да понимаете, – заволновался директор, – каждый выпущенный автомобиль распределяется в строго централизованном, плановом порядке… А тут всякие типы…
– Не волнуйтесь… А ну-ка вдохните… Так… Теперь выдохните.
– Неужели они никак не могут вбить себе в голову, что автомобили направляются в первую очередь туда, где этого требуют интересы социалистического хозяйства?..
– Нервочки, нервочки… Дайте-ка пульс… Вот у нас, у врачей, то же самое. Ходишь от больного к больному. Устаешь…
– Ведь это же чистая цеховщина, прикрываемая громкими словами об энтузиастах…
– Спокойней, спокойней. Покажите язык. Вот и я говорю, устаешь от этой ходьбы по больным. Если б вы мне автомобильчик, я бы вам… не закрывайте рот!.. Двухмесячный отпуск вне планчика. А?
– Знаете, доктор, – сурово сказал больной, – вас надо лечить.
Мы приносим глубочайшие извинения директору Горьковского автозавода за то, что сделали его невольным участником этой правдивой истории, украшенной лирическими авторскими отступлениями. Мы также выражаем всем руководителям завода свое сочувствие, так как в связи с выпуском легковых машин предложения африканского товарообмена (мы вам бусы, а вы нам слоновую кость), конечно, усилятся, если только не будут приняты свирепые меры.
Дорогой товарищ директор! Вы как выдающийся хозяйственник, разумеется, поймете, что мы своим могучим талантом, так сказать, бичом сатиры, могли бы дать по рукам зарвавшимся товарообменщикам, если, конечно… Вы сами понимаете, как трудно приходится авторам. Ходишь по редакциям, устаешь… Кроме того, нас двое… Но мы не просим два. Один! Один автомобильчик сверх плана. А? Мы вам фельетончик, а вы нам автомобильчик. Вот чудно было бы! А?
Трамвайная остановка в так называемые часы пик не представляет собой ничего привлекательного.
Не услышишь тут от граждан тонких высказываний о том о сем, не увидишь здесь изящных жестов. Напротив, движения граждан порывисты, глаза светятся недобрым огнем, рука сама собой складывается в кулак.
И достаточно только трамваю показаться из-за угла, как ожидающие начинают пританцовывать на месте, словно нервный голкипер в воротах.
Раздаются пошлые крики о том, что впереди свободно, и все прочее, что обычно говорится в таких случаях. О, как скучно садиться в трамвай в часы пик! Гораздо приятнее созерцать небо в часы заката.
Странные разговоры ведутся в толпе, поджидающей трамвай.
– Бернардов, это вы?
– А, здравствуйте, дружочек. Давно в Москве?
– Недавно. А вы?
– Ну, я давно.
– Откуда у вас этот костюм?
– Что, нравится?
– Нравится. Сколько вы за него заплатили в переводе на золото?
– В переводе – не знаю. Купил в распределителе водников. За шестьдесят пять рублей.
– Разве вы теперь водник?
– Нет, я не водник. Я состою в горкоме писателей.
– Это, должно быть, очень интересно, романы, повести… Вы знаете, я сам немножко работаю в области литературы. Но куда мне до вас? Я все больше в стенгазете, а вы художник слова, писатель.
– Нет, я не писатель.
– Вы ж говорили, что писатель.
– Нет, я только считаюсь писателем, я обедаю в писательской столовой.
– Где же вы работаете?
– Вообще я числюсь по Энкапеесу.
– Ах, вы железнодорожник!
– Нет, я не железнодорожник, я только получаю там бесплатный проезд по железной дороге, а основная моя работа в Стройнадзоре.
– Вы строитель? Инженер? Техник? Как я вам завидую. Вы закладываете фундамент новой жизни? Вы планируете города?
– Что вы! Я только получаю там новую квартиру с газом. Больше ничего я для них сделать не могу. Я очень занят. У меня массу времени отнимает автогараж.
– Ах, вы заведуете гаражом?
– Нет, заведует гаражом мой знакомый. Вот я все время и трачу на то, чтобы он бесплатно перевез мою мебель в новую квартиру.
– Значит, вы не работаете по автотранспорту?
– Никоим образом, я вам уже говорил. Вообще-то я ближе всего к пожарному делу.
– Вы тушите пожары?
– Нет, я только получаю там молоко.
– Молоко?
– Да, молоко. Видите ли, пожарная профессия очень вредная для здоровья, и там выдают молоко.
– Молоко?
– Ну да, молоко. Так устаешь каждый день ездить с бидонами за этим молоком в Сущевскую часть. Честное слово, буду требовать, чтоб меня перевели в центр, в Кропоткинское депо. Так устаешь…
– Устаешь?
– Ужасно устаешь от всей этой сутолоки, беготни и криков. Вы не поверите, как приятно после всего этого прийти к себе, в клуб глухонемых, и поужинать.
– Вы глухонемой?.. Позвольте, какой же вы глухонемой?
– А я и не глухонемой. Я только член секции глухонемых. Это очень удобно. Во-первых, у нас, у глухонемых, чудный клуб, ужин из четырех блюд – четырнадцать копеек. Во-вторых, тихо. Вы знаете, что такое глухонемые? Прямо скажу, не ораторы. Весь вечер молчат. А?
– Да нет, я ничего.
– Ну, адье. Мой трамвай.
– Куда же вы с передней площадки? Оштрафуют.
– Меня? Я езжу как член Моссовета.
– Ф-фу, наконец понял. Вы член Моссовета.
– Нет, я не член Моссовета. Я только езжу как член Моссовета. Но, конечно, и это ужасно утомляет. И если бы не отдых в санатории Совнаркома, я бы совсем выбился из сил.
– Вы член правительства?
– Да нет, я не член правительства. Я же вам объяснил – я член горкома писателей по разряду титанов художественной мысли с правом бесплатно лечить зубы.
– Что же вы? Мыслите?
– Пока только лечу зубы.
– Но вы все-таки писатель?
– Да ничего подобного. Полчаса вам объясняю, а вы не можете понять. До свидания!
И трамвай умчался в серо-голубую весеннюю даль.
Ох, уж эти трамваи!..
Для того чтобы построить себе юбилей, достаточно сильно этого пожелать. Хорошо еще иметь произведения, романы, опусы. Но можно без них. Не это главное. Главное – крепко захотеть.
Это так естественно. Проходят годы, выходят книги. Хочется, как бы сказать, оглянуться на пройденный путь, объясниться с читателем, поплакать немного над молодостью, каковая прошла в неизмеримых трудах. И вся жизнь прошла, отдана без остатка, и хочется узнать, в хорошие ли руки она попала. Вот оправдание юбилея. Здесь все естественно, понятно, справедливо.
А если всего этого не было (трудов и годов), тогда достаточно только сильно захотеть. И юбилей будет, образуется. Люди, в общем, не звери, не обидят. И телеграммы пришлют, какие надо («Прикованный постели обнимаю и шлю…»), и зал наймут, какой полагается, и отметят все, что вам нужно.
Тяжко стало от юбилеев. Малость перехватили. Переполнили чашу веселья. Вовлекли в юбилейную работу слишком широкие массы юбиляров. И теперь разволновавшегося писателя трудно водворить в обычные рамки.
Соответствующие учреждения переполнены неукротимыми соискателями юбилярства.
– Здравствуйте. Я писатель.
– Ага.
– Вот все пишу, знаете.
– Ага!
– Создаю разные художественные произведения.
– Да?
– Вот, вот. Увидишь, знаете, что-нибудь значительное, ну и, конечно, отобразишь. Не удержишься.
– Ага!
– И так, знаете, привык, что уже не могу. Все время создаю, вот уже сколько лет.
– А-а!
– А время летит. Двадцать лет творчества – не шутка. Все-таки – дата.
– Да.
– Хотелось бы, знаете, получить какой-нибудь толчок, стимул, а то, знаете, вдохновения уже нет в достаточном количестве.
– Да?
– Такие-то дела.
– Да-а-а!
– Ну, побегу в сектор искусств, оттуда в Наркомпрос, а оттуда в Литературную энциклопедию. Моя буква приближается. До свидания.
– До свидания… Федор Иванович, зачем он приходил? Что-то он тут бормотал, я ничего не понял.
– Юбилей пришел просить.
– А-а! То-то, я смотрю, ему на месте не сиделось. Есть еще кто-нибудь? Пустите.
– Здравствуйте. Ничего, что я к вам?
– Пожалуйста. Вы писатель?
– Да. Вот все пишу, знаете.
– Создаете разные художественные произведения?
– Так точно.
– Отображаете?
– Обязательно. Увижу – отображу. Увижу, знаете, и тут же отображу.
– А время летит?
– Летит. Летит стрелой.
– Двадцать лет занимаетесь творчеством?
– Извините, только пятнадцать. Но все-таки дата, не правда ли?
– Безусловно, дата. Но для юбиляра мало.
– Мало?
– Маловато.
– А если включить службу в госучреждениях?
– М-м-м…
– Тогда можно натянуть и все восемнадцать.
– Все-таки недостаточно.
– Тогда простите. Я, конечно, не смею… Но так хотелось немножко стимулироваться.
– Да, каждому хочется. Ну, до свиданья. Сектор искусств налево по коридору. Федор Иванович, отметьте товарищу пропуск. Есть еще кто-нибудь?
– Какой-то мальчик дожидается.
– Пионер?
– Нет, беспартийный.
– Давайте беспартийного. Здравствуй, мальчик, ты чего пришел?
– Здравствуйте. Я писатель.
– Как писатель? Сколько ж тебе лет?
– Пятнадцать.
– Что-то ты врешь, мальчик. Тебе не больше двенадцати.
– Честное слово, дяденька, пятнадцать. Это я только на вид маленький. А вообще я старый, преклонный.
– Какой бойкий мальчик. Время-то стрелой летит, а?
– Стрелой, дяденька.
– Ну и что же?
– Общественность беспокоится. Хочет дату отметить. Как-никак, десять лет состою в литературе. Надо бы юбилей. Я уже помещение подыскал – кино «Чары».
– Какой там юбилей, мальчик! Сам говоришь, тебе пятнадцать лет. Когда ж ты начал писать? Пяти лет, что ли?
– С четырех-с. Я – вундеркинд, дяденька. Как Яша Хейфец. Только он на скрипке, а я в области пера, песни и мысли.
– Ну, иди, иди к маме!
– Мне к маме нельзя. Я на нее памфлет написал. Мне юбилей надо. Устройте, дяденька!
– Нельзя, мальчик, стыдно плакать. Ты уже большой. Федор Иванович, отведите его в ясли. Сколько там еще дожидается?
– Два музыканта, шестнадцать актеров, восемьдесят один писа…
– Нет, нет, нет! Не могу больше. Пусть обращаются в свои домоуправления. Там стандартные справки, там пусть и юбилеи.
Дошло до того, что в газетных редакциях больше всего стали бояться не злых маньяков со свеженькими перпетуум-мобиле под мышкой, а людей искусства, которые терпеливо домогаются напечатания своих портретов, биографических справок, а равно перечня заслуг как специфически писательских, так и общегражданских (верный член профсоюза, поседевший на общих собраниях, пайщик кооператива, неуемный активист, борец). Некоторые привозят свои бюсты, отлитые по блату из передельного чугуна. В редакции бюсты фотографируют, но стараются не печатать.
Самый юбилей описан не будет. Кто не знает этого странного обряда, находящегося где-то посредине между гражданской панихидой и свадьбой в интеллигентном кругу. Хорошо, если юбиляр человек веселый, вроде Василия Каменского, и факт увенчания его лаврами, ко всеобщему удовольствию, превращает в здоровую шутку. А некоторые принимают юбилейный разворот всерьез, отчего и скучнеют на весь оставшийся им отрезок жизни. Отрезок, надо сказать, не маленький, в особенности если юбилей устраивает себе вундеркинд или автор, у которого есть за душою только один рассказ, да и то это не рассказ, а вступительный взнос в горком (иначе не приняли бы в члены).
Юбилеи бывают с выставкой произведений, бывают и без выставки (это если нет произведений). Но эта ужасающая деталь не мешает торжеству. Произведения произведениями, а юбилей юбилеем.
Если нет произведений, то юбилей принимает, конечно, несколько обидный характер для именинника. Его называют незаметным тружеником, полезным винтиком в большой машине, говорят, что в свое время он подавал надежды, что не худо бы ему опять их подать, – вообще унижают необыкновенно. Но юбиляр этого сорта все стерпит. На худой конец не плохо быть и винтиком. Винтик доволен.
Юбилейные зверства продолжаются. Чаша веселья «растет, ширится и крепнет». Юбилею грозит опасность превратиться в старосветский бенефис или полубенефис, с подношением серебряных мундштуков и подстаканников из белого металла братьев Фраже.
Ну разве приятно будет, товарищи, услышать такие разговоры:
– В этом году покончил на полный бенефис с ценными подношениями.
– Вам хорошо, романистам. А вот мне, автору очерков, дают только четверть бенефиса и ордер на калоши.
Что, приятно будет?
Каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен.
Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки.
Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные, медвежьи слова: «тыка» и «ляпа», мечут окованные медью дубины и в восторге бьют себя по плоским ляжкам. Вид у городошников совсем не спортивный. Длинные черные штаны и развалистая походка делают их похожими на грубиянов-шкиперов из маленькой гавани. Они всем сердцем преданы городошническим идеям. Когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Можно ли, в самом деле, заниматься такими пустяками!
Легкоатлет, делая прыжок с шестом, возносится на высоту третьего этажа, и, конечно же, с такого птичьего полета и теннис, и волейбол, и городки кажутся ему занятиями пигмеев.
Мастера гребного дела мчатся по реке в элегантной восьмерке. Их подбородки прижаты к высоко поднятым голым коленям, легкие вдыхают самый лучший из озонов – речной озон. И когда они смотрят на берег, где в пыли бегут спринтеры, где толстяки, обливаясь потом, подымают двадцатипудовые буферные тарелки на чугунных штангах, – они еще сильнее взмахивают веслами и уносятся в голубую даль. Это люди воды – члены профсоюза и корсары в душе.
И где-то за дачными заборами, положив портфели на зеленые скамейки, люди с серьезными бородками стучат крокетными молотками, выходят в «разбойники» и хватаются за сердце, когда полированный шар застревает в «масле». Эта игра умирает, но есть еще у нее свои почитатели, последние и беззаветные поборники крокетной мысли.
Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен.
Но вот на большом травяном поле, за амфитеатрами стадиона «Динамо», раздается хватающий за душу, томный четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча.
И разом все преображается.
Где ты, гордость теннисиста? Забыв про свои получемберленовские манеры, про любимые белые штаны с неувядаемой складкой, теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он – барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорей же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд!
Что за толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью? Это поспешают на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол!
Толстяки, манипулировавшие буферными тарелками, подымают целые трамваи в стремлении попасть поскорее на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом.
– Инсайт, понимаешь ты, бывает правый и левый, а офсайт, понимаешь, бывает справедливый и несправедливый.
А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости. Но футбол свое возьмет, и через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом:
– Неправильно! Судья мотает!
И возможно даже, что это хрупкое создание вложит два пальца в розовый ротик и издаст протестующий индейский свист.
Вообще болельщики все до одного и всегда считают, что судья выносит неправильные решения, что он нагло покровительствует одной из сторон и что на поле происходят большие неполадки.
Вот если бы судил он, болельщик, тогда все было бы хорошо.
А на асфальтовой дороге к стадиону толпы все густеют. Вытаращив глаза и награждая друг друга радостными пинками, бегут мальчики, самые преданные, самые верные приверженцы футбола.
Из водных станций, натягивая на ходу штаны, выбегают пловцы. Они кидаются в автобус, как в воду, с молниеносной быстротой. Ухватившись за потолочные кольца, они болтаются от автобусной тряски, и долго еще на их ресницах висят чудные полновесные капли воды.
Забыв английские услады крокета, возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе (не тот возраст, да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки), но, оказывается, они тоже не чужды веяниям эпохи, они тоже волнуются и кричат противными городскими голосами: «Корнер! Корнер!», в то время как корнера в помине нет, а судья назначает штрафной одиннадцатиметровый удар. Минута – страшная для просвещенного болельщика.
Игра началась, и судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками.
Трибуны живут полной жизнью.
Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать.
Первым долгом мяч угодит в фотографа, и именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент. Сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче, и это действительно очень смешно.
Затем несколько десятков тысяч человек засмеются потому, что на поле внезапно выбежит собачка. Она несколько секунд носится перед мячом, и (вот ужас!) игра начинает нравиться даже ей. Она взволнованно и радостно лает на игроков и ложится на спину, чтобы ее приласкали. Но собачка получает свое. В нее попадает мяч, и, перекувыркнувшись раз двадцать пять, она с плачевным лаем покидает поле.
В третий раз трибуны смеются над волнениями одного суперболельщика. Забыв все на свете, он подымается с места, кричит: «Ваня, сажай!» – и так как Ваня не сажает, а мажет и мяч ударяется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно. Он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят двадцать тысяч человек.
Наступают последние пятнадцать минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют беспрерывно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп. Трибуны кипят.
Болельщики уже не хохочут, не плачут. Они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки. Они ничего не заметят.
Но вот очищающее влияние футбола! Ни один карманщик не потратит этих последних, потрясающих минут, чтобы предаться своему основному занятию.
Может быть, он и пришел специально за тем; чтобы залезть в чужой карман, но игра увлекла, и он прозевал самые выгодные моменты.
Футбольная трибуна примиряет нежного теннисиста с могучим городошником, пловцы жмутся к тяжелоатлетам, всеми овладевает футбольный дух единства.
Что же касается людей, не занимающихся специально физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм.
Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в нижеследующих областях:
а) бег за трамваем по сильно пересеченной местности,
б) прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона,
в) 17 раундов бокса у ворот стадиона,
г) поднятие тяжестей (переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей),
д) военизированный заплыв (двухчасовое сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем).
И только одного не умеет болельщик – играть в футбол.
Зато он очень его любит.
Полному счастью всегда мешает какая-нибудь мерзкая подробность.
Счастье Северокавказского трактороцентра беспрерывно омрачалось странным, нехорошим, даже возмутительным поведением Новоивановской МТС.
Это была черт знает какая МТС! Никаких черных досок не хватило бы, чтоб занести на них все неприятности, причиненные этой непокорной тракторной станцией своему обожаемому начальству.
Наконец терпение лопнуло, и работники Крайтрактороцентра, пылая гневом, собрались на сверхэкстренную летучку. Негодование собравшихся выливалось главным образом в горьких пословицах. Станцию называли паршивой овцой, каковая портит все беспорочное стадо, ее сравнивали с ложкой дегтя, тонко подчеркивая таким образом, что все мероприятия сидящего тут же начальника представляют собою не что иное, как бочку душистого меда. Перечислялись деяния паршивой овцы и паршивой ложки.
Станции посылали письма. Она не отвечала на письма. Ей посылали телеграммы. Она не отвечала на телеграммы. Ей грозили, – она бесстрашно не обращала внимания. И сейчас летучка гремела:
– Это какое-то государство в государстве!
– Совершенно верно. Какое-то беспринципное нахальство!
– Чистое наплевательство. Ячество на грани рвачества. Мы им отпустили десять тысяч рублей на приспособление усадеб. А они молчат, даже спасибо не скажут.
– Переводит им районное отделение банка три тысячи. Молчат. Переводят еще три тысячи рублей и шестьдесят копеек. Молчат. Еще тысячу и тридцать копеек. Ну, и как вы думаете?
– Неужели молчат?
– Молчат.
– А помните, в конце прошлого года мы им задебетовали сначала три тысячи рублей с полтинником, а потом еще тысячу рублей девяносто копеек. Оперируйте, мол. Организуйтесь. И знаете, что они сделали? Ничего не сделали. Не прислали даже отчета.
Да, мир не видал еще более развращенной МТС! Можно было подумать, что эту тракторную станцию захватили невесть откуда взявшиеся корсары, разбили бочки с горючим, перепились и в пьяном виде сожгли главного бухгалтера вместе с помощником и всей отчетностью. На нервные запросы об обмолоте хлебов, о сдаче зерновых культур, об использовании машин, о подготовке кадров, о ремонте инвентаря и обо всем прочем Новоивановская МТС не ответила ни одной строкой. Положительно, почта и телеграф перестали влиять на зарвавшуюся станцию. Необходимо было личное вмешательство какого-нибудь энергичного краевого представителя.
– Вы мне только развяжите руки, – сказал назначенный для этой цели представитель, – а уж я им покажу! Вы мне только пойдите навстречу, дайте картбланш на предмет применения репрессий, а уж они у меня запрыгают! Они у меня покрутятся!..
Ему пошли навстречу, развязали руки, дали картбланш, дали суточные. И он поехал.
«Ну-с, – думал он, садясь в поезд, – первым долгом выговор директору, а остальных можно созвать на собрание и подкрутить им хвоста. Пусть знают в другой раз, как отмалчиваться!»
В поезде было неудобно. На окнах висели изящные занавески, но уборная была заперта на весь рейс. Там хранились поездные масленки и пакля. Пассажиров туда не пускали, так как считали, что они воры и обязательно что-нибудь украдут. Измученный представитель ворочался с боку на бок и продолжал размышлять.
«Не-ет, простым выговором он у меня не отделается. Строгий выговор с предупреждением! Заместителю – поставить на вид. Бухгалтера – вон, а остальных…»
От железной дороги представитель четыре часа ехал лошадьми. Весна (почки, птички и листочки) не радовала представителя. Взлетая на ухабах и пугливо хватаясь за талию возницы, он думал:
«Я их отделаю! Они у меня наплачутся! Директора – вон! Заместителю – строгий с предупреждением! Бухгалтера – под суд! А остальным поставить на вид! Но на какой вид!!! Но как поставить!!! Чтоб всю жизнь помнили!!!»
В станице Новоивановской на представителя сразу же напали собаки. Он отчаянно хлестал их тяжелым портфелем по мордам и думал:
«Директора – под суд! Заместителя – вон! Всех вон, всех под суд!!!»
Он отбился от псов благодаря счастливому стечению обстоятельств. Его портфель имел окованные металлом углы и содержал в себе большое количество окаменевших от времени протоколов. Это было грозное оружие, от одного удара которым псы падали замертво.
Теперь предстояло расправиться с окаянной МТС, с этим гнездом вредоносных и заносчивых бюрократов.
Представитель остановил первого же колхозника и вступил с ним в беседу. Он хорошо знал деревню по гихловским пьесам для самодеятельного театра и умел поговорить с мужичком.
– Здорово, болезный, – сказал он приветливо.
– Здравствуйте, – ответил колхозник.
– Давай с тобой, дид, погундосим, – с неожиданной горячностью предложил уполномоченный, – так сказать, покарлякаем, побарлякаем. Тоже не лаптем щи хлебаю.
Дид, который, собственно, был полудид, потому что имел от роду никак не больше двадцати лет, шарахнулся в сторону.
– Не замай! – крикнул гость. – Треба помаракуваты.
– Чего тебе надо? – спросил колхозник. Возмущенный бездушностью мужичка, гость перешел на общепринятый язык.
– Где тут директор вашей МТС?
– Не знаю.
– Не знаешь директора МТС?
– Не знаю.
«Вот как оторвались от жизни, проклятые лентяи, – с горечью подумал представитель, – до того дошло, что даже коренное население станицы не знает директора МТС. Репрессии, репрессии, репрессии!»
– А заместителя знаешь?
– И заместителя не знаю.
– Это становится интересным. Может, и бухгалтера не знаешь?
– Не знаю.
– За-ме-ча-тель-но! Но кого-нибудь из МТС ты знаешь?
– Никого не знаю.
– Может быть, ты скажешь, что и МТС здесь нету?
– Нету.
– Как нету? Ты что тут гундосишь? – закричал представитель Трактороцентра, в волнении переходя на язык самодеятельного театра. – Ведь давеча, нонеча, анадысь мы им телеграммы посылали! Это какая станица?
– Новоивановская, Новопокровского района.
– Может, ты спутал, болезный?
Но болезный с поразительным упрямством утверждал, что спутать не мог, так как родился в этой станице и вырос в ней. А что касается МТС, то таковой здесь не имеется. И анадысь не было, и давеча не было, и нонеча нет.
– В таком случае это фантасмагория, – забормотал представитель, – техника на грани фантастики!
В стансовете он нашел все бумаги, отправленные в свое время МТС: и денежные переводы, и отношения, и инструкции, и запросы, и простые телеграммы, и телеграммы-молнии, и даже сообщения о фонде, отпущенном на оплату труда несуществующих работников призрачной МТС, и даже пакет от прокурора, и даже письмо от Ставропольского отделения Крайзернотрактороцентра, где жаждут узнать адрес дорогого товарища директора, которого, вообще-то говоря, не существует в природе.
Но поразительнее всего было сообщение Соцзембанка. Там сообщалось, что из прибылей МТС снято две тысячи рублей различных отчислений. Вот действительно чудо! МТС нету, а прибыль от нее есть. И, вероятно, огромная прибыль, если одних отчислений взято две тысячи.
– Позвольте, – прошептал представитель, – кому же я поставлю на вид? Кому сделаю выговор? Кого отдам под суд? Ведь никого нет! И ничего нет! Одна прибыль! Где же убытки?
И снова собралась летучка в Крайзернотрактороцентре. Со всех сторон сбегались на нее инструкторы, эксперты, консультанты.
Горячий доклад представителя был выслушан в молчании.
– Так-с! – сказал ответственный в краевом масштабе тракторный голос. – Все это очень хорошо. Но вы мне скажите, какой дурак выдумал, что там есть МТС, если ее нету? Какой дурак, я вас спрашиваю?
– Да, действительно какой дурак? – оживилось собрание. – Хорошо бы его поймать и… м-м-м… поставить ему на вид.
– Что там «на вид»! Строгий выговор!
– С предупреждением!
– Выгнать вон!
– Отдать под суд!!!
И собравшиеся, скорбя и негодуя, посмотрели друг на друга. У них были потные, благородные лица, чистые глаза, чудесные лбы.
Здесь дураков, конечно, не было.
Поздно ночью журналист Ошейников сидел за столом и сочинял художественный очерк.
Тут, конечно, удобно было бы порадовать читателя экстренным сообщением о том, что мягкий свет штепсельной лампы бросал причудливые блики на лицо пишущего, что в доме было тихо, и лишь поскрипывали половицы, да где-то (далеко-далеко) брехала собака.
Но к чему все эти красивые литературные детали? Современники все равно не оценят, а потомки проклянут.
В силу этого будем кратки.
Тема попалась Ошейникову суховатая – надо было написать о каком-то юбилейном заседании. Развернуться на таком материале было трудно. Но Ошейников не пал духом, не растерялся.
«Ничего, – думал он, – возьму голой техникой. Я, слава богу, набил руку на очерках».
Первые строчки Ошейников написал не думая. Помогали голая техника и знание вкусов редактора.
«Необъятный зал городского драматического театра, вместимостью в двести пятьдесят человек, кипел морем голов. Представители общественности выплескивались из амфитеатра в партер, наполняя волнами радостного гула наше гигантское театральное вместилище».
Ошейников попросил у жены чаю и продолжал писать:
«Но вот море голов утихает. На эстраде появляется знакомая всем собравшимся могучая, как бы изваянная из чего-то фигура Антона Николаевича Гусилина. Зал разражается океаном бесчисленных аплодисментов».
Еще десять подобных строчек легко выпорхнули из-под пера журналиста. Дальше стало труднее, потому что надо описать новую фигуру – председателя исполкома тов. Чихаева.
Фигура была новая, а выражения только старые. Но и здесь Ошейников, как говорится, выкрутился.
«За столом президиума юбилейного собрания энергичной походкой появляется лицо тов. Чихаева. Зал взрывается рокочущим прибоем несмолкаемых рукоплесканий. Но вот клокочущее море присутствующих, пенясь и клубясь бурливой радостью, входит в берега сосредоточенного внимания».
Ошейников задумался.
«Входит-то оно входит, а дальше что?»
Он встал из-за стола и принялся нервно прогуливаться по комнате. Это иногда помогает, некоторым образом заменяет вдохновение.
«Так, так, – думал он, – этого Чихаева я описал неплохо. И фигура Гусилина тоже получилась у меня довольно яркая. Но вот чувствуется нехватка чисто художественных подробностей».
Мысли Ошейникова разбредались.
«Черт знает что, – размышлял он, – второй год обещают квартиру в новом доме и все не дают. Илюшке Качурину дали, этому бандиту Фиалкину дали, а мне…»
Вдруг лицо Ошейникова озарилось нежной детской улыбкой. Он подошел к столу и быстро написал:
«По правую руку от председателя собрания появилась уверенная, плотная, крепкая бритая фигура нашего заботливого заведующего жилищным отделом Ф.3. Грудастого. Снова вскипает шум аплодисментов».
– Ах, если бы две комнаты дал! – страстно зашептал автор художественного очерка. – Вдруг не даст? Нет, даст. Теперь должен дать.
Для полного душевного спокойствия он все-таки вместо слов «шум аплодисментов» записал «грохот оваций» и щедро добавил:
«Тов. Грудастый спокойным взглядом выдающегося хозяйственника обводит настороженно притихшие лица первых рядов, как бы выражающие общее мнение: “Уж наш т. Грудастый не подкачает, уж он уверенно доведет до конца стройку и справедливо распределит квартиры среди достойнейших”».
Ошейников перечел все написанное. Очерк выглядел недурно, однако художественных подробностей было еще маловато.
И он погрузился в творческое раздумье. Скоро наступит лето, засверкает солнышко, запоют пташки, зашелестит мурава… Ах, природа, вечно юная природа… Лежишь в собственном гамаке на собственной даче…
Ошейников очнулся от грез.
«Эх, и мне бы дачку!» – подумал он жмурясь.
Тут же из-под пера журналиста вылились новые вдохновенные строки:
«Из группы членов президиума выделяется умный, как бы освещенный весенним солнцем, работоспособный профиль руководителя дачного подотдела тов. Куликова, этого неукротимого деятеля, кующего нам летний, здоровый, культурный, бодрый, радостный, ликующий отдых. Невольно думается, что дачное дело – в верных руках».
Муки художественного творчества избороздили лоб Ошейникова глубокими морщинами.
В комнату вошла жена.
– Ты знаешь, – сказала она, – меня беспокоит наш Миша.
– А что такое?
– Да вот все неуды стал из школы приносить. Как бы его не оставили на второй год.
– Стоп, стоп, – неожиданно сказал журналист. – Это очень ценная художественная деталь. Сейчас, сейчас.
И в очерке появился новый абзац.
«Там и сям мелькает в море голов выразительнее лицо и внушающая невольное уважение фигура заведующего отделом народного образования тов. Калачевского. Как-то мысленно соединяешь его фигуру с морем детских личиков, так жадно тянущихся к культуре, к знанию, к свету, к чему-то новому».
– Вот ты сидишь по ночам, – сказала жена, – трудишься, а этот бездельник Фиалкин получил бесплатную каюту на пароходе.
– Не может быть!
– Почему же не может быть? Мне сама Фиалкина говорила. На днях они уезжают. Замечательная прогулка. Туда – неделю, назад – неделю. Их, кажется, даже будут кормить на казенный счет.
– Вот собака! – сказал Ошейников, бледнея. – Когда это он успел? Ну, ладно, не мешай мне со своей чепухой.
Но рука уже сама выводила горячие, солнечные строки:
«А вот нет-нет да мелькнет из-за любимых всеми трудящимися спин руководителей области мужественный и глубоко симпатичный анфас начальника речного госпароходства Каюткина, показывающего неисчерпаемые образцы ударной, подлинно водницкей работы».
– Что-то у меня в последнее время поясница поламывает, – продолжала жена. – Хорошо бы порошки достать, только нигде их сейчас нет.
– Поламывает? – встрепенулся очеркист. – А вот мы сейчас тебе пропишем твои порошки.
Ошейников вытер пот и, чувствуя прилив творческих сил, продолжал писать:
«В толпе зрителей мелькает знаменитое во веем городе пенсне нашего любимого заведующего здравотделом…»
Под утро очерк был готов. Там были упомянуты все – и директор театра, и администратор кино «Голиаф», и начальник милиции, и даже заведующий пожарным отделом («… чей полный отваги взгляд…»). Заведующего очеркист вставил на случай пожара.
– Будет лучше тушить, – сладострастно думал он, – энергичнее, чем у других.
В свое художественное произведение он не вписал только юбиляра.
– Как же без юбиляра? – удивилась жена. – Ведь сорок лет беспорочной деятельности в Ботаническом саду.
– А на черта мне юбиляр? – раздраженно сказал Ошейников. – На черта мне Ботанический сад! Вот если бы это был фруктовый сад, тогда другое дело!
И он посмотрел на жену спокойным, светлым, уничтожающим взглядом.
Авторы вынуждены обнажить перед общественностью некоторые интимные черты своего быта.
Они хотят рассказать, какое письмо пришло к ним на днях.
Принято думать, что писатели завалены любовными секретками от неизвестных поклонниц. «Вчера я увидела вас на трамвайной подножке, и вы пленили бедное сердце. Ждите меня сегодня в пять у ЗРК. № 68, у меня в руках будет рыба (судак). Ида Р.»
Может быть, Зощенко, как жгучий брюнет, и получает такие нежные записки, но мы лишены этой радости. Нам по большей части несут совсем другое – приглашение на товарищеский чай с диспутами или счета за электричество; бывает и просьба явиться на дискуссионный бутерброд, который имеет быть предложен издательством «Проблемы и утехи» по поводу зачтения вслух писателем Хаментицким своей новой повести; бывают и письма читателей, где они предлагают сюжеты или просят указать, в чем смысл жизни.
А совсем недавно взобралась на шестой этаж старуха, маленькая старуха курьерша с розовым носиком и с глазами, полными слез от восхождения на такую высоту, и с полупоклоном вручила письмо.
И опять это не было любовное письмо от неизвестной трудящейся красавицы. Это не было даже приглашение почавкать за чайным столом на литературные темы.
Письмо было гораздо серьезнее. Оно будило, звало куда-то в голубые дали.
«Уважаемый товарищ, шлем вам план (схематический) январского сборника «Весна» (приложение к журналу «Самодеятельное искусство»).
Рассчитываем, товарищ, на ваше участие. Деревня ждет высококачественного репертуара. Отклик остро необходим».
В комнате на шестом этаже стало тихо. Как говорится, ворвалось дыхание чернозема, встала во весь рост проблема решительного поворота к деревне, которая правильно ждет высококачественного репертуара. Одним словом, захотелось включиться.
Уж рисовались перед авторами различные картины их будущей деятельности. Они едут в деревню, изучают быт и сдвиги, следят за ломкой миросозерцаний, наполняют записные книжки материалами, вообще ведут себя, как Флоберы или Иваны Сергеевичи Тургеневы. И наконец, через год или два, произведение написано и сдано в сборник «Весна» (приложение к журналу «Самодеятельное искусство»). Вот как рисовалась авторам их деятельность по освоению деревенской тематики.
Но уж приложенный к письму план сборника одним махом разрушил чудный воздушный замок, возведенный по методу социалистического реализма.
Оказалось, что никуда не надо ехать, что литература совсем не такая сложная штука, как до сих пор предполагали, что Флобер с Тургеневым были какие-то водевильные дурни и делали совсем не то, что нужно; оказалось, что все гораздо проще.
Это ясно было из плана, в котором излагались требования и пожелания редакции:
1. За сжатые сроки сева (монолог).
2. Тягловая сила. Меньше нагруженности зимой, мобилизация кормов (сценка).
3. Тракторы. Заблаговременный ремонт, запасные части, горючее, смазка (обозрение).
4. Семена, зерно, картофель и т. д. (пьеса). Общественное питание, бронь продуктов к севу (куплеты).
На создание всей этой пролетарско-колхозной литературы давался штурмовой срок – пятнадцать дней. Пришлось укладываться, впихиваться в эти тесные рамки. Деревня ждала, надо было торопиться.
– Успеем?
– Очевидно, редакция находит срок достаточным. Им виднее. Они все-таки ближе к земле.
– Что ж нам взять? Меня, например, волнует пункт четвертый. Пьеса. «Семена, зерно, картофель и т. д.». Прекрасная тема.
– Сомневаюсь. Чего-то тут не хватает. Зерно! Картофель! Какая тут может быть коллизия?
– А «и т. д.»? В этом «и т. д.» что-то есть. Тут кое-что можно построить. Если не пьесу, то драматический этюд.
– Но, позвольте, редакция не хочет этюда. В этой теме она видит пьесу. А нам надо с ними считаться. Они все-таки ближе к земле.
– Да, они ближе – это верно.
– Вот пункт второй – это типичная пьеса – «Тягловая сила». Тут чувствуется что-то драматургическое. «Меньше нагруженности зимой, мобилизация кормов». МХАТ! Метерлинк! Пять актов с соевым апофеозом!
– Чувствуется-то оно чувствуется. Но люди просят сценку, а не драму. Ведь они знают, что надо деревне. Они ближе к земле.
– Да. Плохо. Они ближе. А мы дальше.
– Может, напишем обозрение по пункту третьему? Название, как в циркуляре – «Тракторы». Да и акты уже размечены, ничего не надо придумывать. Акт первый – «Заблаговременный ремонт». Акт второй – «Запасные части». Акт третий – «Горючее и смазка».
– А не лучше ли сделать из этого водяную пантомиму? Не придется писать диалоги, не так совестно будет. А? Ей-богу, сделаем водяную!
Незаметно для самих себя авторы (еще полчаса назад честные и голубоглазые) заговорили ужасающим языком халтурщиков. А еще немножко позже, хихикая и радуясь тому, что дело можно будет сварганить не в пятнадцать дней, а в полчаса, они налегли на пункт четвертый, любезно предложенный редакцией «Самодеятельного искусства» – «Общественное питание, бронь продуктов к севу (куплеты)».
Заготовил Митька бронь,
Митька бронь,
Митька бронь,
Будет сыт у Митьки конь,
Митькин конь,
Митькин конь.
– Теперь давай отрицательного типа!
– Вот это правильно. После положительного полагается отрицательный.
– А не наоборот? Кажется, после отрицательного положительный?
– Все равно. Если им понадобится, они переставят. Они ближе к земле.
Не готов Егорка к севу,
Не подвез продуктов к хлеву,
Зацепился за овин —
Бронь рассыпал, сукин сын.
Дело ладилось. Сейчас даже пьеса «Семена, зерно, картофель» не казалась уже такой туманной, как раньше. А «Тягловая сила» так и просилась в сценку.
Авторы на глазах превращались в труху.
Уже почти готов был высококачественный репертуар для деревни, как вдруг они остолбенело уставились друг на друга и, не сговариваясь, изорвали в клочки бронь-куплеты. Потом, также не уславливаясь, потянулись к змей-искусительному плану и снова стали в него вчитываться.
Нет! Все верно. Официальное учреждение в документе, напечатанном на папиросной бумаге, предлагало срочно изготовить халтуру, ибо что же другое можно написать в штурмовой срок на тему: «Годовой производственный план. Производственные совещания между колхозами, реальный документ борьбы за урожай, севооборот и расстановка рабочей силы».
Решительно можно сказать, что на этом месте письмо теряет значение интимной черты из быта авторов. Оно делается гораздо серьезнее. Это сигнал бедствия в литературе.
По всему городу бродят старушки с разносными книгами. Они взбираются на этажи и с полупоклонами вручают литераторам ведомственные циркуляры, долженствующие вызвать расцвет отечественного искусства.
Кто может поручиться, что не сидит уже за колеблющимися фанерными стенками своего кабинета какой-нибудь чемпион – администратор среднего веса и не сочиняет гадкий меморандум:
«Писатель, стоп! Комсомол ждет высококачественного репертуара. Штурмуй молодежную тематику! Срок сдачи материала двадцать четыре часа.
План.
1. За многомиллионный комсомол (балет).
2. Вопросы членства и уплата взносов (опера).
3. Освоение культнаследства прошлого (куплеты).
4. Организационная схема взаимоотношений обкомов ВЛКСМ с райкомами ВЛКСМ (скетч на десять минут)».
И куплет, в котором организованный Лешка усвоил наследие, а недопереварившийся в котле Мотька такового недоусвоил, будет изготовлен в аварийном порядке не в двадцать четыре часа, а в три минуты, потому что этим путем халтура легализуется, поощряется и даже пламенно приветствуется.
И плетутся по городу старушки, кряхтя, поднимаются они на этажи, двери перед ними распахнуты, уже готовы перья и пишущие машинки, и чадные ведомственные розы расцветают в садах советской литературы.
Вот и опять нельзя было достать билет. Опять надо было с удивительными интонациями в голосе вымаливать себе место на трибуне («ну хоть на круглой»), канючить, ныть, в чем-то клясться, уверять даже, что посещение футбольных состязаний строжайше предписано врачом (новые идеи в медицине).
Эти прискорбные факты, конечно, сигнализируют о том, что стадион тесен. Впрочем, тут сигнализируй не сигнализируй, ничего, кажется, не поможет. Построишь стадион на 120 000 человек, захочет прийти полмиллиона, построишь на полмиллиона – пришлют свои заявки 6 миллионов организованных зрителей и биллиончик неорганизованных.
А ведь еще в 1910 году на международный футбольный матч приходило только человек 300. Но даже из них сидело не больше двадцати. Не хватало места.
Так что историю футбола можно начать торжественной фразой: «Стадиона никогда не хватало и не будет хватать».
В силу этого в день матча с турками24 тысячи несчастных скитались под стенами «Динамо». С жалкими улыбками прислушивались они к разнообразным крикам, доносившимся с поля.
О, игра была очень интересна.
Интерес этот подогревался еще радиосообщением о том, что к окончанию матча будет подано 180 вагонов трамвая.
И пока благородные, чистые душой болельщики рукоплескали турецкому центрфорварду Вахобу, дославшему в московские ворота точный и мертвый мяч, пока они окали языками и комментировали это событие на все лады, мерзкие пижоны (бывают такие чудаки на стадионах) беззвучно шевелили губами, деля число зрителей на число трамваев, умножая число мест в одном трамвае на число самих вагонов и вообще самым пошлым образом предаваясь панической ерунде.
От их помраченных заботою взоров скрылось множество деталей, придающих очарование игре. Они не заметили, что в повадках Вахоба виден был всеобщий любимец и баловень. Иногда, недовольный действиями коллеги по нападению, [он] разводил руками, что во всем футбольном мире позволяют себе только избранные игроки.
Турки целовали Вахоба, когда он дал мяч в самый уголок ворот Москвы. И он направился на середину поля развинченной походочкой с легкой, деланной хромотой, что тоже разрешают себе лишь знаменитые футболисты.
Мяч прилипал к его бутсам. Его держали, ему не давали играть. Но если уж Вахоб получал мяч, то вводил его в ворота с такой точностью, как великий хирург вводит свой целительный нож в брюхо больного. Защищаться бесполезно.
По игре он напоминал молодого Злочевского. Тот, кто жил в Одессе, помнит молодого Злочевского. Игра развивалась с перевесом Москвы, и несколько успокоенные болельщики начали лицемерить. Теперь они говорили, что ничего на свете так не желают, как выигрыша турок. А в душе делалось черт знает что, свирепствовал какой-то физкульт-шовинизм, если это выражение подходит. Хотелось им того, что бывает только во сне. Счет 50:0 в пользу Москвы.
Куда только не заводят болельщика его больные грезы.
В прошедшей игре поистине запечатлен был оптимизм московской команды. Заслуживает величайшего уважения ее непоколебимое упорство, ее желание победить.
И это чувство было таким сильным, что захватило даже бездушных пижонов. Они внезапно забыли про любимые свои транспортные средства (трамвай, автобус и др.) и, холодея от счастья, смотрели на чудеса зеленого поля.
Товарищ Сундучанский ожидал прибавления семейства. В последние решающие дни он путался между столами сослуживцев и расслабленным голосом бормотал:
– Мальчик или девочка? Вот что меня интересует, Марья Васильевна! Если будет девочка, как назвать?
Марью Васильевну вопрос о продлении славного рода Сундучанских почти не интересовал.
– Назовите Клотильдой, – хмуро отвечала она, – или как хотите. По общественным делам я принимаю только после занятий.
– А если мальчик? – допытывал Сундучанский.
– Извините, я занята, – говорила Марья Васильевна, – у меня ударное задание.
– Если мальчик, – советовал товарищ Отверстиев, – назовите в мою честь – Колей… И не путайся здесь под ногами, не до тебя. Мне срочно нужно вырешить вопросы тары.
Однажды Сундучаиский прибежал на службу, тяжело дыша.
– А если двойня, тогда как назвать? – крикнул он на весь отдел.
Служащие застонали.
– О черт! Пристал! Называй как хочешь! Ну, Давид и Голиаф.
– Или Брокгауз и Ефрон. Отличные имена.
Насчет Брокгауза сказал Отверстиев. Он был остряк.
– Вы вот шутите, – сказал Сундучанский жалобно, – а я уже отправил жену в родовспомогательное заведение.
Надо правду сказать, никакого впечатления не вызвало сообщение товарища Сундучанского. Был последний месяц хозяйственного года, и все были очень заняты.
Наконец удивительное событие произошло. Род Сундучанских продлился. Счастливый отец отправился на службу. Уши его горели на солнце.
«Я войду, как будто бы ничего не случилось, – думал он, – а когда они набросятся на меня с расспросами, я, может быть, им кое-что расскажу».
Так он и сделал. Вошел, как будто бы ничего не случилось.
– А! Сундучанский! – закричал Отверстиев. – Ну как? Готово?
– Готово, – ответил молодой отец зардевшись.
– Ну, тащи ее сюда.
– В том-то и дело, что не ее, а его. У меня родился мальчик.
– Опять ты со своим мальчиком! Я про таблицу говорю. Готова таблица? Ведь ее нужно в ударном порядке сдать.
И Сундучанский грустно сел за стол дописывать таблицу.
Уходя, он не сдержался и сказал Марье Васильевне:
– Зашли бы все-таки. На сына взглянули бы. Очень на меня похож. Восемь с половиной фунтов весит, бандит.
– Три с четвертью кило, – машинально прикинула Марья Васильевна. – Вы сегодня на собрании будете? Вопросы шефства…
– Слушай, Отверстиев, – сказал Сундучанский, – мальчик у меня – во! Совсем как человек: живот, ножки. А также уши. Конечно, пока довольно маленькие. Может, зашел бы? Жена как будет рада!
– Ну, мне пора, – вздохнул Отверстиев. – Мы тут буксир один организуем. Времени, брат, совершенно нет. Кланяйся своей дочурке. – И убежал.
В этот день Сундучанский так никого и не залучил к себе домой полюбоваться на сына.
А время шло. Сын прибавлял в весе, и родители начали даже распускать слух о том, что он якобы сказал «агу», чего с двухнедельным младенцем обычно никогда не бывает.
Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского.
Тогда горемыка отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку:
БРИГАДА
по обследованию ребенка Сундучанского начинает работу сегодня, в 6 часов, в квартире т. Сундучанского. Явка тт Отверстиева, Кускова, Имянинен, Шакальской и Башмакова
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
В три часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал:
– Слушай, Сундучанский. Я сегодня никак не могу. У меня кружок и потом… жена больна… ей-богу!
– Ничего не поделаешь, – холодно сказал Сундучанский, – все загружены. Я, может, тоже загружен. Нет, брат, в объявлении ясно написано: «Явка обязательна»…
С соответствующим опозданием, то есть часов в семь, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру Сундучанского.
– Надо бы поаккуратнее, – заметил хозяин, – ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем.
И он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский.
– Вот, – сказал Сундучанский-отец. – Можете смотреть.
– А как регламент? – спросила Шакальская. – Сначала смотреть, а потом задавать вопросы? Или можно сначала вопросы?
– Можно вопросы, – сказал отец, подавляя буйную радость.
– Не скажет ли нам докладчик, – спросил Отверстиев привычным голосом, – каковы качественные показатели этого объекта…
– Можно слово к порядку ведения собрания? – перебила, как всегда, активная Шакальская.
– Не замечается ли в ребенке недопотолстения, то есть недоприбавления в весе? – застенчиво спросил Башмаков.
И машинка завертелась.
Счастливый отец не успевал отвечать на вопросы.
…К счастью, известно действительно радикальное средство, которое вконец уничтожит трамвайные болезни, автобусные недуги и душевные раны, нанесенные чутким пассажирам бессердечными извозчиками.
Как только гудящие поезда метро побегут по светлым тоннелям, воспоминания о горестных передвижениях по Москве начнут отодвигаться, бледнеть и скоро совсем исчезнут из памяти людей.
Надо торопиться. Скорей, скорей, надо все записать, иначе мы сами через год или два забудем, как мы безнадежно толпились на трамвайных остановках, как нам сурово кричали: «Вагон только до центра», как мы висели не только на подножках, но даже на каких-то металлических скобках, держась одеревеневшими пальцами за шнурочек от пенсне соседа, как мы слезно молили автобусных кондукторов, как сухо отвергались наши мольбы, как странно и нелепо, по нескольку раз в день, переносились трамвайные остановки, как обижали нас шоферы такси, как грабили нас злые извозчики, – все, все надо вспомнить в чудесный день открытия метрополитена.
Громадную книгу можно было бы написать обо всем этом, чудную книгу с торжественным эпиграфом…
Такая книга будет полна трогательных и смешных историй, происшествий и случаев, это будет рассказ о том, как Москва очищала себя от грязи, накопившейся со времен царя Салтана, Бориса Годунова и даже Евгения Онегина. Помните, глава седьмая, стр. 365, третья строка сверху: «…Вот уж по Тверской возок несется чрез ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах».
Дворцы и бульвары мы оставляем, сеть аптек увеличиваем, купцы, казаки и ухабы – дело прошлое, а с модой не только перестали бороться, а понемногу вводим ее в обиход. Лачужкам пришел последний час, что же касается галок, то этот вопрос действительно встал во всей своей остроте. Галкам не на чем сидеть, придется им, кажется, за отсутствием крестов устраиваться на шариках и вазах новой гостиницы Моссовета.
Итак, воспоминания, переживания, ряд, так сказать, психологических этюдов, жизнь московского пешехода и пассажира дометрополитеновской эры.
По тротуарам и мостовым, в самых различных направлениях, вправо, влево, вперед, назад, вкривь и вкось, налетая друг на друга, бегут люди. Впечатление такое, будто беспрерывно ловят вора. И только присмотревшись, замечаешь, что никто никого не ловит, а все заняты своими делами. Один бежит, увидев приближающийся к остановке вагон трамвая… третий спасается бегством от стремглав проносящегося по улице грузовика, четвертый выскакивает из распределителя, держа над головой свежего судака с померкшими жестяными глазами, пятый убегает от милиционера, который гонится за ним, чтобы взять штраф за неправильный переход улицы, а шестой бежит и сам не зная почему, бежит, потому что все бегут. Мальчишки и домохозяйки тоже бегут. Такова уж их природа. И одни лишь черноусые айсоры, члены коллектива чистильщиков обуви под названием «Трудассиржец», с восточным спокойствием сидят у своих шкафиков, увешанных резиновыми каблуками, стельками и шнурками для ботинок.
В общем, на улице происходит то, что официально называется «часы пик». Великое множество людей, и всем надо немедленно куда-то ехать.
Жизнь не такая простая штука, и надо быть готовым ко всему. Перед тем как выйти на улицу, московский житель принимает меры предосторожности.
Пуговицы пальто пришиваются сапожной дратвой, предварительно натертой канифолью. Так будет крепче.
В калоши набивается бумага. Они должны так плотно держаться на ногах, чтоб в минуту решительной схватки на подножке трамвая их не могла сорвать никакая сила. В крайнем случае, пусть оторвут вместе с ногами.
Шапки надвигаются на брови. Теперь уши пассажира легкомысленно торчат в разные стороны. Это некрасиво, но зато шапка туго сидит на голове. На худой конец пусть лучше оторвут уши.
И вот он идет по улице, то есть не идет, а бежит. Ветер свищет в его оттопыренных ушах. Пуговицы и калоши блистают на солнце.
Зажмурив глаза и невольно шепча себе под нос «давай, давай», он прыгает в вагон. Первые полкилометра он висит на подножке, кренясь и раскачиваясь на поворотах. Сердце холодеет, когда смотришь со стороны на этого пожилого человека. Но ему не страшно. Поглощенный желанием пробраться внутрь, он презирает опасность.
Внутри вагона тесно. Ну, понимаете, тесно. Тесно, потомки! Почему так беден русский язык? Пятьдесят человек в вагоне, сто человек, триста человек, определение одно – тесно. Разве это слово годится, когда в вагоне двести пятьдесят один пассажир, девять милиционеров, семь матерей с детьми и четыре инвалида. Есть еще, правда, метафоры, разные там «как сельди в бочке» или «яблоку негде упасть». Но и это, товарищи, непохоже, слабо, бледно. Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Там какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. Мы не умеем рассказать, как там тесно. Хотели это сделать, но вот не вышло, не хватило таланта. Пусть будущий историк литературы обвинит нас. Да, не хватило изобразительных средств для описания трамвайной тесноты в дометрополитеновскую эру.
Значит, триста человек в принудительных объятиях друг у друга едут по своим делам. Конечно, идет обмен резкими репликами, раздаются крики с мест, слышатся стоны, кряхтенье и, наконец, голос доведенного до отчаяния кондуктора, который вдруг заговорил стихами:
«Двиньтесь, граждане, вперед, станьте между лавочек!»
Просим вспомнить трамвайного кондуктора. Вспомните, что мимо него за день работы проносилась лавина в двадцать тысяч человек и что каждый из этих двадцати тысяч награждал его толчком или раздражительным словечком. И если кондуктора не были ангелами, то вспомните, пожалуйста, что и пассажиры оставляли свои крылья дома.
Нет, грубость в трамвае неудивительна. Скорей даже естественна. Удивительно то, что в этой сердитой каше, где перемешались руки, гривенники, ноги, бидоны, животы, корзины и головы, очень многие молодые люди читают книги. И эти книги называются не «Картуш, атаман разбойников» и не «Дневник горничной», а это «Органическая химия» или «История партии». Либо сидит в своем углу, зажатый донельзя старичок и читает книгу, состоящую только из одних цифр. И такая, видно, удивительная гармония заключена в этих таблицах, что старичок иногда улыбается или даже легко и радостно вскрикивает. И уж конечно, он не замечает, что давно ему оторвали карман драпового пальтишона и что на коленях у него сидит трубочист с лопаткой, перышком и с черным ядром на цепи.
Но вот, наконец, пассажир сходит на землю.
Первое мгновение он растерянно озирается, потом делает глубокий вдох и начинает себя ощупывать. Экстренные мероприятия, проведенные перед выходом из дому, оправдали себя полностью. Пуговицы на месте, калоши на месте, уцелела и шапка. Но зато погибли очки (их сорвало и унесло трамвайным течением), болит колено (очевидно, трубочист зацепил лопаткой), а грудь залита молоком.
Ну что ж, завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки и выйдет на улицу с клеенчатой слюнявкой под бородой. Да, слюнявка – это очень некрасиво, но как иначе уберечь пальто от молока?
И он с надеждой смотрит на заборы и вышки Метростроя.
Выброшенная из тоннелей порода течет по конвейерам и ссыпается в грузовики. Ловко и быстро работают метростроевки в беретиках, брезентовых штанах и резиновых сапогах.
Московский житель смотрит в витрины и видит там красиво иллюминированные проекты подземных станций, вестибюлей, видит разрезы тоннелей и выглядывающие оттуда вагоны приятной обтекаемой формы.
Он раскрывает газету и сразу же ищет заметки и статьи о метро. Он в курсе всех дел, знает, где изготовляют эскалаторы, кто строит вагоны, какой архитектор оформляет станцию «Красные ворота», какая шахта впереди и какая отстает, со вкусом говорит о плывунах, о проходке щитами и о необходимости строить вторую очередь метро исключительно закрытым способом. Ему так хочется поскорее спуститься под землю, что он часто подходит к заборам шахт и смотрит в щелку.
Оторвавшись от этого увлекательного занятия, он видит, как из еще нетронутого, девственного старомосковского переулка выезжает извозчик, мрачное видение прошлого.
Уже через год или два обитатель столицы будет глядеть на извозчика примерно с таким же удивлением, с каким львы, антилопы, носороги и страусы, стоя в очереди к водопою, заметили бы подлетающего к ним доисторического птеродактиля, унылую и страшную птицу с огромным количеством старомодных перепонок из потрескавшейся не то кожи, не то клеенки, с давно не чищенным хвостом, птицу древнюю, да к тому же, кажется, еще и пьяную.
Товарищи, необходимо описать извозчика. Ведь уже их почти нет.
Казалось, царству извозчиков не будет конца.
Их было множество – лихачи на дутиках, просто лихачи, ваньки приличные и ваньки совершенно невозможные, дневные извозчики и извозчики ночные.
Лихачи установили по отношению к седокам тон издевательской сверхпочтительности. Даже в советское время они титуловали седоков.
Лучшим седоком считался пьяный. Лихачи заманивали его радостными криками: «Ваше сиятельство, ваша светлость». Им было все равно. Они могли назвать своего клиента даже «ваше императорское величество».
Седоков похуже, то есть трезвых, но в порядочной одежде и с покупками, называли «ваше благородие». Если же человек носил маленькую полуответственную бородку, то ему давался новый чин:
– Пожалуйста, ваше преосвященство.
Кстати, наиболее жизнерадостные из лихачей никогда не говорили «пожалуйста», они выражались более кратко и энергично:
– Пожа, пожа. Я вас катаю.
А если наивный и неопытный, только что прибывший в Москву рабфаковец с фанерным чемоданчиком в руках по ошибке подступал к роскошным дутикам, лихач совсем без воодушевления выкрикивал:
– Пожалуйте, ваше здоровье. Прокачу на резвой. Восемь рубликов.
И рабфаковец, содержавший себя на двенадцатирублевую пенсию, в страхе падал на скромный чемоданчик.
Особенно же румяны и толстозады бывали лихачи зимой. Они ристали на площадях, описывая круги, чтобы показать горячность своих рысаков, чтобы зеленая сетка, заброшенная на лошадь, затрепетала перед глазами изумленного пешехода, чтобы никакой силы не было отказаться от поездки на крошечных санках в Петровский парк, в особенности если рядом шагает какое-то существо диаметрально противоположного тебе пола.
И вот уже лихая выносится на прямую линию шоссе, бешено стучит о задок саней медвежья голова теплой и жестковатой полости, и резвая лошадка раскидывает копытами молодой снег, под которым лежит асфальт так называемого показательного километра.
Еще несколько лет назад Москва гордилась одним лишь километром усовершенствованной мостовой. На этот километр люди специально ездили кататься, фотографии этого километра печатались в газетах, и кинооператоры снимали в этом месте урбанистические кадры из американской жизни.
Сейчас, когда все московские магистрали, кольца, набережные и множество переулков покрыты асфальтом, эта любовь к показательному километру кажется наивной и трогательной. Но в те времена, когда волнующееся булыжное море заливало громадный город, на этот километр приходили помечтать о том, какой будет Москва через пятьдесят лет, никак не ожидая того, что чудесная дорожная метаморфоза займет всего лишь одно пятилетие.
А тогда на бурных булыжных волнах качались экипажи ванек.
Ваньки вели тревожную жизнь. Они всего боялись: начальства, автомобилей, придирчивого седока, жуликоватых господ, уходящих через проходной двор, не заплатив денег.
Под влиянием всех этих опасностей ваньки часто плакали. Всегда можно было увидеть старого бородатого ваньку, который, путаясь в своей тяжелой синей юбке, с кнутом в руках шел куда-то требовать заработанные деньги.
Ванька и на облучке производил невыгодное впечатление, поодаль от своей вещей каурки облик его, если выполнить сейчас, представляется совсем уже нелепым и ненатуральным.
Зимой и летом он ездил в одном и том же армяке с высочайше утвержденными оборками назади. Над козлами возвышался его важный вид, похожий на очищенный мандарин. Свою лошадку ванька путем долголетних упражнений самым подлым образом приучил к особому аллюру, имеющему все признаки рыси, но не превышающему скорости обыкновенного шага. Двигаясь таким образом, ванька симулировал бешеную езду: чмокал губами, подсвистывал, размахивал кнутом и даже привставал на козлах. Со стороны же нервного седока, торопящегося к поезду, ванька обезопасил себя толстым слоем ваты на спине. Для него были нечувствительны даже удары палкой.
Торгуясь с седоком, ванька держался так, будто дело шло не о том, чтоб съездить с Варварки в Харитоньевский переулок или с Кривоколенного в Кривоарбатский, а так, словно ему предстояло положить голову на плаху. Тон его всегда был жалостно бесшабашный. В его речи было много всяких «эхма», «что жа», «ехать оно, конечно, можно», одним словом, пропадать так пропадать, двум смертям не бывать, а одной не миновать и так далее в том же плаксивом роде.
Торгу с седоком ванька посвящал большую часть своих сил. Когда же все бывало переговорено и улажено, когда седок, терпеливо выслушав от возницы обычные пошлости о вздорожании овса, сена, соломы и половы, с проклятиями усаживался в грязный и кривой экипаж, ванька всегда сворачивал в первый переулок направо. У них была своя география города. Они любили переулки и опасались магистралей. На магистралях милиция, трамвай, автомобили и тому подобные новшества. А в Кривоарбатских и кривоколенных тихо, спокойно, растет трава на мостовой, там хитрый извозчичий аллюр кажется естественным, и там самый злой, нетерпеливый ездок чувствует свою беспомощность, закрывает глаза и вручает ваньке свою судьбу.
Вечером ванька пьет чай на заезжем дворе, в трактире. На нем все тот же армяк, хотя из тридцатиградусного мороза ванька непосредственно попал в тридцатиградусную жару. В трактире пахнет навозом, валенками, потом и сеном. Трактир называется «Париж».
Но вот под давлением времени и обстоятельств рушилась великая держава извозчиков. Сейчас в Москве их почти нет, а те, которые остались, основанием своей профессии положили несчастье человека.
Они выжидают момента, когда с человеком стрясется какая-нибудь беда и он не сможет обойтись без извозчика: больного надо срочно свезти в больницу, а такси под рукой нет и не предвидится, либо приезжий остался на пустынной вокзальной площади с громадным багажом в руках.
Тут извозчик мстит за все: за трамвай, за автобус, за такси, за строящийся метрополитен. На Сивцев Вражек – пятиалтынный, к вокзалу – четвертачок, в больницу – три гривенника. На извозчичьем языке три гривенника – это значит тридцать рублей. Соответственно этому можно расшифровать стоимость пятиалтынного и четвертачка.
И увозимый соловьем-извозчиком в первый переулок направо московский житель снова бросает нежные взгляды на заборы и вышки метрополитена.
Да, чуть не вылетело из памяти. Ведь в Москве совсем еще недавно, году еще в двадцать восьмом, была очень странная на теперешний взгляд отрасль местного транспорта, так называемый «частный прокат».
Это были машины старинных марок – «бенцы», «минервы», «пежо», древние «мерседесы», а также механические экипажи, давно утерявшие свой первоначальный облик, смонтированные черт знает из чего, с высокими сиденьями и байковыми занавесками. Преимущественно это были закрытые машины, ибо цели, для которых они предназначались, требовали некоторой тайны. Вдоль борта они несли на себе широкую желтую полосу, и по этому отличительному знаку население называло их «желтополосыми».
Они старались обходиться без счетчиков. Цена устанавливалась смотря по пассажиру и по обстоятельствам. И если во время торга с ванькой постоянно упоминалась цена на традиционный овес, то «желтополосый» упирал, главным образом, на стеснения, чинимые частной инициативе безжалостными агентами фиска.
Иногда, впрочем, «желтополосый» приколачивал гвоздями к своей машине большой ободранный таксометр, выисканный где-то на Сухаревке. Этот прибор употреблялся «желтополосыми», как видно, исключительно из эстетических соображений, потому что его работа в корне меняла представление об основах арифметики.
Как только машина трогалась, счетчик начинал громко и хрипло стучать и сразу же выскакивала цифра 84, чтобы сейчас же исчезнуть и дать место цифре 13. После этого внутри счетчика что-то всхлипывало, стук усиливался, и в окошечке медленно появлялась леденящая сумма 48 руб. 12 коп. Но не успевал пассажир ахнуть и схватиться за сердце, как из счетчика слышался металлический стон и выплывала новая, чрезвычайно скромная на этот раз цифра – 8 коп. После этого пассажир махал рукой и отдавался во власть судьбы.
Но бывали случаи, когда пассажиры выходили из такси совершенно седыми.
«Желтополосые» стояли на Страстной площади. На каждую машину приходилось два-три хозяина. Они не доверяли друг другу и ездили все вместе, тесно усевшись возле руля. Установка всей компании была, конечно, не на обычного пассажира. Им нужен был седок, обуреваемый, так сказать, низменными страстями.
День у «желтополосых» проходил безрадостно. При дневном свете они не извлекали особых прибылей, зато вечером появлялся настоящий пассажир.
Его можно было узнать издали. Он двигался нервным шагом от ресторана «Ку-ку», держа курс к памятнику Пушкина. К груди он прижимал расстегнутый портфель. За кутилой бежали так называемые марафоны, жуки и стрелки. Стрелок выпрашивал пятерку, марафон звал в казино, а жуки попросту надеялись, что их новый друг выронит деньги, они, жуки, их поднимут и будут счастливы.
Но пижона перехватывали девки в плюшевых саках и стоптанных ботах. Теперь он был полностью готов для поездки, теперь ему до зарезу нужна была машина.
Троица автомобилевладельцев с треском заводила мотор и усаживалась за руль. Опускались байковые занавески с бомбошками, и грохочущий «бенц» медленно совершал свой обычный рейс к Ленинградскому шоссе и обратно, на ту же Страстную, где сумрачные коты, стоя у темных магазинных витрин, о чем-то совещались, где душераздирающе кричали и пели пьяные, деловито разгуливали проститутки, где кого-то вели в милицию и этот кто-то на всю улицу верещал: «Что ты мине рюки крютишь?»
Все это надо вспомнить для того, чтобы яснее понять, какая одержана победа, как удивительно изменилась и похорошела Москва.
Постройка метрополитена могла вначале показаться лишь созданием нового для Москвы вида транспорта. На самом деле она превратилась в целую метрополитеновскую эру. Ее великое содержание не только в том, что прорыты великолепные тоннели под землей, прорублены новые проспекты, возведены и возводятся монументальные здания на земле, а еще и в том, что вместе с булыжной мостовой исчезает и человеческий булыжник. Вместе с городом совершенствуются и люди, которые в нем живут.
И это замечательное превращение есть самое главное, что заложено во всякой советской стройке.
Представьте себе море, шумное Черное море. Сейчас, перед началом отпусков, не трудно вызвать в памяти сладкий образ этого громадного водохранилища. И представьте себе пляж. Теплый и чистый драгоценный песок. Если очень хочется, представьте себе еще и солнце, вообще всю волнующую картину крымско-кавказского купального побережья.
Двое очаровательных трудящихся лежали на пляже. Будем телеграфно кратки. Они были молоды запятая, они были красивы точка. Еще короче. Они были в том возрасте, когда пишут стихи без размера и любят друг друга беспредельно. Черт побери, она была очень красива в своем купальном костюме. И он был, черт побери, не Квазимодо в своих трусиках-плавках на сверкающем теле.
Они познакомились здесь же, на пляже. И кто его знает, что тут подействовало сильнее – обаяние ли самого водохранилища, солнечные ли, так сказать, блики, или еще что-нибудь. Кроме того, мы уже говорили, они были очень красивы. При нынешнем увлечении классическими образцами такие тела заслуживают всемерного уважения и даже стимулирования. Тем более что, будучи классическими по форме, они являются безусловно советскими по содержанию.
Еще короче. К двум часам дня он сказал:
– Если это глупо, скажите мне сразу, но я вас люблю.
Она сказала, что это не так глупо.
Потом он сказал что-то еще, и она тоже сказала что-то. Это было чистосердечно и нежно. Над водохранилищем летали чайки. Вся жизнь была впереди. Она была черт знает как хороша и на днях (узнаю твои записи, загс!) должна была сделаться еще лучше.
Влюбленные быстро стали одеваться.
Он надел брюки, тяжкие москвошвеевские штаны, мрачные, как канализационные трубы, оранжевые утильтапочки, сшитые из кусочков, темно-серую, никогда не пачкающуюся рубашку и жесткий душный пиджак. Плечи пиджака были узкие, а карманы оттопыривались, словно там лежало по кирпичу.
Счастье сияло на лице девушки, когда она обернулась к любимому. Но любимый исчез бесследно. Перед ней стоял кривоногий прощелыга с плоской грудью и широкими, немужскими бедрами. На спине у него был небольшой горб. Стиснутые у подмышек руки бессильно повисли вдоль странного тела. На лице у него было выражение ужаса. Он увидел любимую.
Она была в готовом платье из какого-то ЗРК. Оно вздувалось на животе. Поясок был вшит с таким расчетом, чтобы туловище стало как можно длиннее, а ноги как можно короче. И это удалось.
Платье было того цвета, который дети во время игры в «краски» называют бурдовым. Это не бордовый цвет. Это не благородный цвет вина бордо. Это неизвестно какой цвет. Во всяком случае, солнечный спектр такого цвета не содержит.
На ногах девушки были чулки из вискозы с отделившимися древесными волокнами и бумажной довязкой, начинающейся ниже колен.
В это лето случилось большое несчастье. Какой-то швейный начальник спустил на низовку директиву о том, чтобы платья были с бантиками. И вот между животом и грудью был пришит директивный бантик. Уж лучше бы его не было. Он сделал из девушки даму, фарсовую тещу, навевал подозренья о разных физических недостатках, о старости, о невыносимом характере.
«И я мог полюбить такую жабу?» – подумал он.
«И я могла полюбить такого урода?» – подумала она.
– До свиданья, – сухо сказал он.
– До свиданья, – ответила она ледяным голосом.
Больше никогда в жизни они не встречались.
Ужасно печальная история, правда?
И мы предъявляем счет за разбитые сердца, за грубо остановленное движение души. И не только за это. Счет большой. Будем говорить по порядку. Отложим на минуту сахарное правило: «Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы». Не будем взаимно вежливы.
Итак – магазин готового платья. Прилавки, за прилавками работники прилавка, перед прилавком покупательская масса, а на полках и плечиках – товарная масса.
Больше всего головных уборов, кепок. Просто кепки, соломенные кепки, полотняные кепки, каракулевые кепки, кепки на вате, кепки на красивой розовой подкладке. Делали бы кепки из булыжника, но такой труд был бы под силу одному только Микеланджело, великому скульптору итальянского Возрождения, – сейчас так не могут. К сожалению, все кепки одного фасона. Но не будем придираться. Тем более что среди моря кепок заманчиво сверкают мягкие шляпы, серые шляпы из валяного товара с нежно-сиреневой лентой. Не будем придираться. Это для проезжающих дипломатов и снобов.
Продаются мужские костюмы, фасон один. Мы уже описали его в начале рассказа. А цвета какие? О, огромный выбор цветов! Черный, черно-серый, серо-черный, черновато-серый, серовато-черный, грифельный, аспидный, наждачный, цвет передельного чугуна, коксовый цвет, торфяной, земляной, мусорный, цвет жмыха и тот цвет, который в старину назывался «сон разбойника». В общем, сами понимаете, цвет один, чистый траур на небогатых похоронах.
Пальто и полупальто (официально это называется ватный товар), помимо перечисленных свойств, обладают еще одним – появляться в магазинах только в том квартале года, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом.
Есть еще сверхроссийские овчинные шубы. Обычно в шубах такого покроя волостные старшины представлялись царю в годовщину чудесного спасения императорской семьи на станции Борки. Все это было бородатое, мордатое, увешанное толстыми медалями.
Ну, дальше. Дальше рубашки с вшитой пикейной грудью и пристежные воротнички с дырочками для жестяных штучек, якобы придерживающих галстук.
Если верхняя одежда всегда темного цвета и своим видом нагоняет безмерное таежное уныние, то все, что находится под ней, слепит глаза яркими химическими тонами и по мысли устроителей должно вызывать ликование. Кальсоны фиолетовые, подтяжки зеленые, подвязки красные, носки голубые.
И стоит масса против массы, покупательская против товарной, а между ними прилавок, а за прилавками работники прилавка, и вид у работников самый невинный.
– При чем тут мы? Мы этого не шили, мы этого не ткали. Мы только торговая точка, низовое звено товаропроводящей сети.
Ах, это очень плохо, когда магазин называется точкой! Тут обязательно выйдет какая-нибудь запятая. Вдруг на всю улицу светит электрический призыв к прохожим: «Учитесь культурно торговать». Почему прохожие должны культурно торговать? У них своих дел достаточно. Именно вы должны культурно торговать, а не прохожие. Прохожие должны покупать! И они это делают очень культурно, не волнуйтесь. Запросы у них правильные – одежда хорошая, красивая, даже, представьте себе, элегантная. Не падайте, пожалуйста, в обморок, не считайте это за выпад. Они такие. Трудящиеся богатеют и к лету требуют белые штаны.
Не будем придираться к бедным точкам. Не они ткали, не они шили. Ткали, шили и тачали в Наркомлегпроме. Это там родилось искусство одевать людей в обезличенные коксовые костюмы. Оттуда плавно спускались директивы насчет тещиных бантиков.
Несколько лет назад, когда у нас еще не строили автомобилей, когда еще только выбирали, какие машины строить, нашлись запоздалые ревнители славянства, которые заявили, что стране нашей с ее живописными проселками, диво-дивными бескрайними просторами, поэтическими лучинками и душистыми портянками не нужен автомобиль. Ей нужно нечто более родимое, нужна авто-телега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее. Скукожится он в ней, хряснет по мотору и захардыбачит себе по буеракам. Захрюндится машина, ахнет, пукнет и пойдет помаленьку, все равно спешить некуда.
Один экземпляр телеги внутреннего сгорания даже построили. Телега была как телега. Только внутри ее что-то тихо и печально хрюкало. Или хрюндило, кто его знает! Одним словом, как говорится в изящной литературе, хардыбачило. Скорость была диво-дивная, семь километров в час. Стоит ли напоминать, что этот удивительный предмет был изобретен и построен в то самое время, когда мир уже располагал «роллс-ройсами», «паккардами» и «фордами»? К счастью, братьям славянам сейчас же дали по рукам. Кой-кому попало даже по ногам. Построили, конечно, то, что надо было построить, – быстроходную, сильную современную машину, не авто-телегу, а авто-мобиль.
Почему же швейная промышленность все время строит авто-телегу? Не пиджак, а спинжак, не брюки, а портки, не женское платье, а крепдешиновый мешок с директивными бантиками?
Если бы вдруг завод имени Сталина построил автомобиль, руководствуясь вкусами людей из пиджачной индустрии, то эта машина вызвала бы смех, на нее показывали бы пальцами, за ней с улюлюканием бежали бы дети. Так это было бы отстало, плохо и некрасиво.
На весь Советский Союз есть два бездарных фасона пальто, три тусклых фасона мужских костюмов, четыре пугающих фасона женского платья. Шьются только эти фасоны, и уйти от них некуда. Все мужчины, все женщины вынуждены одеваться по этой единообразной моде.
В Наркомлегпроме хорошо разбираются в модах. Где-то когда-то сиял принц Уэльский, первый джентльмен мира, как о нем говорят в «Таймсе». И от него брели по свету фасоны брюк и пиджаков. И давно он уже сделался королем и давно уже в этом звании умер, почил в бозе, то есть дал дуба, а мода, им установленная, как свет давно угасшей звезды, только сейчас дошла до наших ведомственных закройщиков.
Более свежих образцов получить не успели. Да и не очень старались получить, были заняты рационализацией одежды, делали пиджаки без лацканов и подкладки, экономили на пуговицах, укорачивали брюки, словом – изобретали авто-телегу, в которой якобы советскому человеку вольготнее.
Утвержденный в канцелярии покрой устанавливается самое меньшее на пять лет. Иначе они не могут. Трудно освоить эту сверхсложную модель. Вы только подумайте, масса деталей: карманы, рукава, петли, спинки – ужас! Советская автотракторная и авиационная промышленность как-то ухитряется выпускать каждый год новые, все более совершенные модели. Им как-то удается. Как видно, менее сложен производственный процесс, меньше деталей, только по полторы тысячи на каждую машину. И точность требуется меньшая, всего лишь тысячные доли миллиметра. Вот спинки и лацканы! Попробуйте сделать! Это вам не блок цилиндра, не магнето, не коробка скоростей. Тут, пардон, пардон, большой брак неизбежен!
И, конечно же, еще и еще раз, опять и снова нашили своего «ватного товара» к благоуханному апрелю месяцу. И лежат великие партии теплых пальто с меховыми воротниками, и никто не знает, что с ними делать.
А как в самом деле поступить, если покупательская масса не хочет ходить летом в ватном товаре? С другой же стороны, ватный товар может побить моль, грубая, необразованная моль, которая не желает учитывать глупости и бестолковости швейных начальников.
Хорошо бы увезти этот товар в холодные края, туда, туда, где трещат морозы, в Якутию, на Камчатку. Но пока соберутся, пока довезут, там тоже начнется весна, начнут лопаться какие-то глупые почки. Черт бы ее побрал, эту климатическую неразбериху, это несовершенство земного шара! Трудно, трудно дается Наркомлегпрому борьба со слепыми силами природы. Просто нет выхода. Изнемогают в решительной схватке. Нет, нет, турбогенераторы, крекинги, блюминги и домны гораздо легче строить! Это ясно!
И, конечно же, еще, еще и еще раз, опять и снова не подготовились к лету, не учли этого кошмарного времени года. Обо всем помнили – о распределении отпусков (еще осенью со страшными криками делили июни—июли будущего года, предусмотрительно оставляя августы—сентябри для ответ- и приветработников), помнили о заседаниях, о кружках самодеятельных балалаечников, о юбилеях и проводах, о семейно-товарищеских вечеринках, – только о лете забыли, забыли о светлых, легких, разнообразных одеждах для покупательской массы.
Что это значит, товарищи? Ау! Местком спит? Или нарком спит? В общем, кто спит? А может быть, и тот и другой?
Когда это кончится?
Счет большой. В то время как во всех областях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, во всей жизни страна делает поразительные успехи, показывает всему миру, на что способен пролетариат, в области одежды нет успехов, стоящих на уровне даже теперешних запросов. А ведь надо думать еще о запросах завтрашнего дня. Великолепная заря этого завтра уже сейчас освещает наше бытие. Но даже не видно подлинного, непоказного стремления достичь этого уровня.
Пусть пиджак не будет узок в плечах – его противно носить. Пусть бантики не изобретаются в канцеляриях – канцелярские изобретения не могут украсить девушку. Надо помнить, что если жизнь солнечная, то и цвет одежды не должен быть дождливым. Давайте летом носить хорошо сшитые белые брюки. Это удобно. Покупательская масса заслужила эту товарную массу.
Вот мы горевали, беспокоились о ватном товаре. Не знали, какой выход найдет Наркомлегпром. Есть уже выход, нашелся. Оказывается, не надо гнать маршруты с пальто в Якутию. Устроились проще. Закупили на тридцать миллионов рублей нафталина. Теперь ватный товар спокойно будет лежать под многомиллионным нафталиновым покровом до будущего 1935 года. И моль печально будет кружиться над неприступными базисными складами, с отвращением принюхиваясь к смертоносному запаху омертвленного капитала.
Вот вы писатель. Сидите дома, создаете, по мере сил, разные высокохудожественные произведения, роман или частушку. В общем тихая, трудолюбивая жизнь. Не успеваешь подливать чернила в чернильницу из зеленого бутылочного стекла. Все идет хорошо.
И вдруг приносят бумагу. Спешно, срочно, в собственные руки, с распиской на конверте, с просьбой обязательно ответить.
Письмо из Интуриста. Что нужно этой обширной организации, что там у них наболело?
«Уважаемый товарищ, в начале апреля с. г. исполняется 5 лет существования Интуриста». Очень, очень мило с их стороны поставить в известность. Придется и нам, когда исполнится восьмилетие нашей литературной деятельности, известить эту обширную организацию. Любезность за любезность.
Однако что же дальше?
«Советский Союз посетили десятки тысяч иностранцев… Работа Интуриста, связанная с обслуживанием этой огромной массы иностранцев, находит яркое освещение на страницах периодической печати Европы и Америки».
Ну, не такая уж огромная масса, десятки тысяч за пять лет! Могли бы и сотни тысяч обслужить. Впрочем, ладно.
«…В некоторых странах Интурист больше известен, чем у себя дома. Объясняется это главным образом тем, что наша советская печать почти не уделяет внимания работе Интуриста».
Вот это верно. Наша печать, наряду с достижениями, конечно, имеет недочеты, недостатки и неполадки. Этого отрицать нельзя.
«Для того чтобы дать московским журналистам и писателям возможность ознакомиться с постановкой работы в учреждениях Интуриста, правление приняло решение провести 26 марта с. г. дня представителей прессы туристический день, в течение которого участникам будет продемонстрирована разнообразная программа нашего типичного культурного, политического и материального обслуживания».
Очень, очень интересно! Так сказать, пробный выход колхоза в поле, проверка тягловой силы.
«Примерная программа:
в 9 час. утра – сбор в Красном зале „Метрополя»,
в 9 час. 15 м. – завтрак,
в 10 ч. 30 м. – осмотр гостиниц и подсобных предприятий Интуриста,
в 2—3 часа – ленч,
в 3—6 ч. – объезд города на автокарах,
в б ч. – обед.
Просьба заранее подтвердить ваше согласие по телефону 16—50, доб. 33. Правление».
Какой радостный и типичный для писателей культурный праздник!
Веселый сбор, рога трубят – и сразу же завтрак. Некоторым образом, стимулирование советской печати. Кроме того, не осматривать же гостиницы и подсобные предприятия на пустой желудок. Заскучаешь!
Потом ленч, второй завтрак. Это что же? Опять стимулирование печати котлетами «марешаль»? Опять выправление линии советских газет?
Затем мы достигаем вершин политического, чисто идейного обслуживания: будет объезд писателями города на автокарах. Что они – иностранцы, чтоб объезжать город, в котором живут с детства и знают лучше интуристовских гидов?
Но за этот неблагодарный труд предлагается обед. Начало в шесть часов. Конец обеда не обозначен. Будут есть и чокаться, пока… не изживут все неполадки советской печати.
Наутро, по замыслу организаторов «туристического дня», опохмелятся и отобразят на страницах газет все достижения в работе Интуриста.
Что ж делать? Просили позвонить заранее. Надо, надо, раз просили.
– Алло! Дайте 16—50. Спасибо. Добавочный 33. Здравствуйте. Да, читали. Значит, завтра будет типичный праздник? Обязательно? А может, отложим? А? На неопределенное время, а? Никак нельзя? Уже все готово? Вошли в расходы? Ржавеют типичные котлеты? Очень жаль. А все-таки давайте отложим. Или лучше даже совсем отменим. А недочеты печати изживем как-нибудь сами, домашним способом, без ваших котлет.
Когда говорили о человеке бывалом, тертом, видавшем виды, выражались так:
– Он прошел огонь, воду и медные трубы.
Теперь говорят иначе, менее фигурально, ближе к делу:
– Он прошел испытания трамвая, невзгоды автобуса и ужасы такси.
Один троллейбус пока еще ничем себя не замарал, чистый, незапятнанный троллейбус, радость и утешение москвича.
А что касается трамвая… О! О трамвае надо писать целую книгу. А автобус! Это роман. А такси! Его тоже надо отобразить в художественной литературе. Это будет сборник веселых анекдотов, – как говорят на юге – вагон смеха. Сквозь трамвайные слезы, конечно.
Бывалый, тертый, видавший виды человек утром выходит на улицу. Он заранее все знает и ко всему приготовился. В одном кармане у него лежит никелевый гривенник (не затруднять кондуктора разменом). В другом кармане – второй гривенник (на тот случай, если первый украдут при передаче кондукторше).
Еще в одном кармане лежит желтенький бумажный рубль (может быть, оштрафуют – теперь энергично борются с висунами, а он в душе отчаянный висун). И есть еще один карманчик, самый далекий, самый тайный. Там лежат двадцать рублей (возможно «разбитие» стекла, а висун – человек служащий, не тащиться же в милицию для составления протокола, нельзя опаздывать на работу).
Он вполне готов, он закален в борьбе. Пуговицы пальто пришиты вощеной дратвой, чтоб не отодрали в схватке, ботинки нарочно не чищены – все равно затопчут. Глаза висуна мечут молнии. Это уже не человек, не старший бухгалтер, не обожаемый муж, добрый отец и любимый дедушка. Теперь это укротитель львов, неустрашимый капитан Шнейдер.
И вот он выходит на улицу. И солнце сияет на пришитых дратвой пуговицах. И расплющенные ботинки вызывают невольное уважение своим боевым видом. И голубой гонщик дружелюбно смотрит на него с высокой рекламы Автодора на Страстном монастыре.
Пассажир выходит на середину площади. Здесь его наблюдательный пункт. Отсюда видны все приближающиеся трамваи и автобусы, все номера. Кроме того, здесь стоянка такси. Чудес на свете не бывает, но бывают удача, счастье, везение вдруг набежит свободная машина, самой крайней беде – не одно, так другое: лишь бы не опоздать службу, там сегодня важные дела.
Но мы уже не так молоды. Мы знаем, что жизнь сама по себе, трамвайно-автобусный график – сам по себе. Сначала идут только вагоны тех линий, которые сейчас не нужны. И идут бессмысленно часто. Когда они понадобятся, их не будет полтора часа. Потом, по пятам друг за другом, проходят одни пятнадцатые номера, семь вагонов подряд. Автобусов почему-то нет ни одного уже двадцать минут. И сердце уже горит, а душа требует жалобную книгу. Еще два пятнадцатых номера с вызывающим звоном проносятся мимо. Наконец, на повороте показывается нужный, родимый вагон. Висун бежит через площадь. Еще секунда, и он займется любимым делом, с блаженной улыбкой будет висеть на подножке переполненного трамвая. Но вагон неожиданно полным ходом проскакивает мимо и катится еще метров двести к тому углу, где для него учредили новую остановку. И обманутый висун, причитая, бежит назад.
На бегу он замечает автобус. Он тотчас же меняет направление и, делая огромные прыжки, достигает цели. Он уже пропихнулся в дверь, но кондуктор преграждает ему путь. Висун знает, что кричать нельзя, не действует, надо молить. И он шепчет:
– Ну, я вас прошу. У меня колит. Я опоздаю. Будьте человеком. У меня разные заслуги.
Ему даже хочется сказать: «Я больше никогда не буду», как говорят провинившиеся дети. Но его выкидывают. Автобус берет двадцать восемь человек, а он – двадцать девятый.
Как обидно быть двадцать девятым! Как хочется быть двадцать восьмым! В концов, жизнь проходит, стареешь, приближаешься к маленькой мраморной урне. Ах, как хочется до конца дней быть молодым, веселым, румяным, с безбоязненно начищенными ботинками, с розой в петлице, с пуговицами, пришитыми обыкновенной ниткой, одним словом, – двадцать восьмым!
Этого в трамвайных и автобусных трестах не понимают.
Обожаемый муж, добрый отец или любимый дедушка уже опоздал на час. Он скакал по площади, увертываясь от грузовиков и вглядываясь в асфальтовые дали. Вместе с ним бегали сотни людей, охваченных утренней трамвайной паникой.
Уже сообщалось, что чудес на свете не бывает, но это утро оказалось каким-то особенным, с налетом мистики. Громко бренча, на площадь выехало такси с трясущимся кузовом. Оно было такое грязное, будто его только что вытащили из мусорной ямы. Шофер в черной драповой кепке смотрел холодно и высокомерно. Было видно, что он капризен и привередлив, как дочка американского миллиардера, что он знает себе цену и не соединит свою судьбу с первым встречным.
За спасательный круг, случайно прикатившийся на площадь, сразу ухватилось по крайней мере пятьдесят утопающих пассажиров.
И началось то, что ежедневно происходит на московских перекрестках, то, о чем все знают, к чему привыкли, о чем говорят со злостью, досадой и раздражением, говорят и покоряются, – началось вымогательство.
Не хочется повторять этих унизительных разговоров. Схема обычная и давно осточертела.
На Таганскую площадь шофер не поедет – не по дороге. На Каланчевскую тоже не поедет – тоже не по дороге. И к Яузским воротам не по дороге. В каком направлении пролегает светлый путь шофера-взяточника, никогда не удается установить.
Сесть в такси с пакетом весом в кило нельзя. Это – груз, а перевозить грузы не разрешается. Если совсем не к чему придраться, то шофер заявляет, что не хватит бензина. Между прочим, чтобы возить пьяных, бензина всегда хватает. Шоферы обожают пьяных. Тут можно добре поживиться. Без особого труда они освоили «классическое» наследие извозчиков-лихачей, все грязные повадки холуев дореволюционной купеческой Москвы.
Пешеходы жалки. Они сгибаются под тяжелым взглядом шофера. Напрасно они кричат, чуть ли не разрывают на себе одежды, показывая раны, полученные во время гражданской войны. Ничто не поможет. Поедет тот, кто даст взятку, кто даст на чай. А кто не даст взятки, тот не поедет.
Что же, все шоферы московских такси взяточники? Нет, не все, но многие. И это не просто, это стало явлением, и запускать болезнь нельзя. Но в таксомоторных гаражах, кажется, привыкли к развращенным подонкам, облепившим трудовой шоферский мир.
А висун? Висун все-таки попал в трамвай. Правда, это был не его номер, но по какому-то странному стечению обстоятельств он изменил свой маршрут и повез висуна на службу. Вот уж, действительно, счастье, удача, везение.
Штрафной рубль взяли немедленно. Висун висел. Что ему еще оставалось делать? Но, рассчитавшись с милиционером, он успел догнать вагон и снова повис на ножке, подпихивая впереди стоящих своим натренированным, мускулистым животом.
Первый гривенник, как и следовало ждать, затерялся при передаче. Второй гривенник он вручил лично после чего его стало дрейфовать, то есть прижимать к окнам, сносить в середину потока людей, поворачивать спиной и даже выталкивать вверх, как это бывает с кораблями при сжатии льдов в Арктике.
Трамвай очень изменился в последнее время. Уже исчезло незамысловатое трамвайное веселье, умолкли остроты насчет того, что вагончик не резиновый, никто не отпускает замечаний по поводу гражданина в шляпе, перестали даже кидаться на людей в очках, так называемых четырехглазых. Слышны только мычание и вздохи, как на самой верхней полке в бане.
И в ту минуту, когда вагон трещит под напором сдавливаемых тел, когда все пассажиры слились в какую-то единую, начинающую застывать бетонную массу, визжа открывается дверь передней площадки, и внутрь втискиваются восемь милиционеров в новых касках и с кошелками в руках. Им обязательно надо внутрь, надо впечататься в бетон. Есть новое правило, по которому представителям милиции не разрешается стоять на передней площадке.
В такой вагон боятся входить контролеры. А это – люди в общем бесстрашные, хорошо знающие, что такое электрический трамвай.
Висун сошел на своей остановке. Сошел – это мягко сказано. Из трамвая не выходят, из трамвая вываливаются, вылетают, выдавливаются, – это более подходящие определения.
Ах, что сделали с человеком, видавшим виды, с неустрашимым укротителем трамвайных львов, с пассажиром, который все предусмотрел.
– Ну, что, сынку, помогла тебе твоя вощеная дратва? А ну, поворотись-ка! Что это на тебе за свитка такая?
Нет, не помогла дратва. Отлетели пуговицы. И придется теперь искать новые и пришивать их на этот раз басовой струной от гитары. И чудную свитку придется нести в капитальный ремонт к портному. Да и самому неплохо бы показаться доктору, что-то здоровье за последние полчаса стало пошаливать, А как доберешься к доктору? Опять в трамвай? Нет, уж лучше умереть в постели. И глаза пусть закроет не кондуктор, а любимая жена или обожаемый внук.
Ну, давайте разговаривать без лирики, официально. Если вы любите выражаться в процентах, можно и в процентах. Так вот. Каждый человек в Москве, прежде чем достигнуть места работы, теряет пятьдесят процентов работоспособности на преодоление трамвайных и автобусных Препятствий (не претендуем на точность). Тут и физическое усилие, расстройство нервов, и потеря самообладания.
И на работу он является уже уставшим, раздраженным, злым, как черт. Плохо он работает после транспортной передряги. А если в выходной день он решил съездить семьей в Сокольники, то садится он, так сказать, с иждивенцами, а выползает из него с изможденцами и изнуренцами. И, сидя под деревом, на зеленой траве, семья целый день ругает трамвай, накаляя друг друга мрачными историями из пассажирского быта. Нет, не вдыхают они благовонного воздуха Сокольнической рощи, не прислушиваются к голосам шустрых птичек, им не до того.
Понимают ли в трамвайных трестах и парках, какое важное дело им вручено? Кажется, что не понимают. Похоже на то, что там все надежды возложили на метрополитен, а к своему огромному хозяйству остыли. Признали устаревшим. Как раз к осени доломаем трамвай и автобус, выбросим на помойку последние щепки от такси, а сами в белых парадных толстовках, с венками на освобожденных от всяких забот головах сядем в метро и устремимся в сияющую даль. Зачем же стараться? Образуется и без нас.
Кому не известно, что метрополитен – это коренное решение вопросов московского транспорта! Поэтому он и строится с такой решительностью и удивительной быстротой. Поэтому десятки тысяч пролетариев вместо отдыха идут на субботники – помогать одному из самых замечательных строительств нашего времени. И вот в то время, когда вся Москва переживает небывалый в ее тысячелетней истории жизненный подъем, когда каждый год возводятся сотни зданий, с рекордной быстротой покрываются асфальтом сотни улиц, возникают монументальные гранитные набережные, когда в одно нынешнее лето будет асфальтировано шестьсот километров подмосковных дорог, – московский транспорт работает так плохо, что иногда даже начинает казаться, будто он находится в ведении НКПС, а не трамвайного и автобусного трестов.
Надо сразу отбить у них желание повторить историю трактора и коня, когда под победный гром тулумбасов различные недоучки гуляли под ручки, поджидая тракторов из центра и с презрением поглядывая на нечищеную и некормленую лошадь. Поглядывали и вели «сверхлевые» разговоры:
– Лошадь – это устаревшее, подозрительное по происхождению, явно чуждое нам животное, ихтиозавр.
Даже при полной работе всех линий метро Москве нужен будет трамвай. А сейчас сотни вагонов застревают в депо с пустяковыми поломками и еще сотни возвращаются среди бела дня с линий.
Трамвай и автобус дичают с каждым днем. Они становятся все хитрее, неуловимее и грязнее. В них перестали верить. К вечернему поезду едут с утра, в театр выходят за два часа до начала спектакля. Вечером как можно раньше убегают из клубов, из гостей. Вечером уже полный кавардак: одни вагоны идут до центра, другие чуть ли не пятятся задом. Пассажир всегда находится в состоянии неуверенности. И вечером и днем каждый вагон кажется ему последним, больше вагонов не будет. По этой причине дичает и пассажир. Нерегулярность, неаккуратность движения делают его сверх меры предприимчивым, превращают в отчаянного висуна.
Трамвайно-автобусное начальство думает спасти положение сочинением новых правил и ежедневным переносом остановок с места на место. Правила пишутся, главным образом для собственного успокоения, а новые остановки далеко не все улучшают дело, часто даже мешают ему. А иногда вдруг начинается изучение человеко-пассажира с узко научной точки зрения. По городу рассылаются тысячи статистиков добровольцев. Они робко допрашивают пассажиров, куда они едут, где сели, где полагают совершить пересадку и где удобнее ездится в номере «34» или на линии «А».
На это можно ответить без обследования.
– Неудобно, товарищи. Всюду неудобно. Каждый день неудобно. В каждый час дня неудобно, и становится все неудобнее.
И будет неудобно, пока не начнется настоящая работа, без примеси болтовни, без желания свалить все на метро. (Вот Лазарь Моисеевич его построит и поднесет нам на блюдечке. А мы его примем и навесим красивые таблички, как им пользоваться, где можно курить, а где нельзя.)
Десятки автобусных линий на самом деле – никакие не линии. Если автобуса надо ждать сорок минут, – это уже не движение, а случайность, счастье, удача. А работа нескольких миллионов человек в Москве не может, не должна зависеть от удачи, от везения. Трудящиеся Москвы – не игроки в девятку: придет карта или не придет. Надо в широчайших размерах увеличить автобусное таксомоторное поголовье. Это трудно, но и более трудные вещи делаются у нас, и делаются блестяще.
А трамвайное стадо особенно поправлять не нужно. Вагонов достаточно. Надо только, чтобы они вовремя чинились, все работали, держались в чистоте и ходили регулярно.
Тогда не надо будет пришивать пуговицы гитарными струнами. Струны смогут остаться на самой гитаре. И, захватив ее, мы поедем с иждивенцами в Сокольники, не опасаясь того, что после поездки в руках останется вместо гитары только один гриф с поломанными колками. И на зеленой траве не будут вестись разговоры о злых кондукторах, о лягающихся старушках и о расплющенных ботинках.
Весной приятно поговорить о достижениях. Деревья, почки, мимозы в кооперативных будках – все это располагает. В такие дни не хочется кусать собратьев по перу и чернилам. Их хочется хвалить, прославлять, подымать на щит и в таком виде носить по всему городу.
И – как грустно – приходится говорить о недостатках. А день такой пленительный. Обидно, товарищи. Но весна весной, а плохих книг появилось порядочно – толстых, непроходимых романов, именинных стишков, а также дохлых повестей. Дохлых по форме и дохлых по содержанию.
Чем это объяснить?
Вот некоторые наблюдения.
В издательство входит обыкновенный молодой человек со скоросшивателем в руках. Он смирно дожидается своей очереди и в комнату редактора вступает, вежливо улыбаясь.
– Тут я вам месяц назад подбросил свой романчик…
– Как называется?
– «Гнезда и седла».
– Да… «Гнезда и седла». Я читал. Читал, читал. Знаете, он нам не подойдет.
– Не подойдет?
– К сожалению. Очень примитивно написано. Даже не верится, что автор этого произведения – писатель.
– Позвольте, товарищ. Я – писатель. Вот пожалуйста. У меня тут собраны все бумаги. Членский билет горкома писателей. Потом паспорт. Видите, проставлено: «Профессия – писатель».
– Нет, вы меня не поняли. Я не сомневаюсь. Но дело в том, что такую книгу мог написать только неопытный писатель, неквалифицированный.
– Как неквалифицированный? Меня оставили при последней перерегистрации. Видите, тут отметка: «Продлить по 1 августа 1934 года». А сейчас у нас апрель, удостоверение еще действительно.
– Но это же, в общем, к делу не относится. Ну, подумайте сами, разве можно так строить сюжет? Ведь это наивно, неинтересно, непрофессионально.
– А распределитель?
– Что распределитель?
– Я состою. Вот карточка. Видите? А вы говорите – непрофессионально.
– Не понимаю, при чем тут карточка?
– Не понимаете? И очень печально, товарищ. Раз я в писательском распределителе – значит, я хороший писатель. Кажется, ясно?
– Возможно, возможно. Но это не играет роли. Разве так работают? В первой же строчке вы пишете: «Отрогин испытывал к наладчице Ольге большого, серьезного, всепоглощающего чувства». Что это за язык? Ведь это нечто невозможное!
– Как раз насчет языка вы меня извините. Насчет языка у меня весьма благополучно. Всех ругали за язык, даже Панферова, я все вырезки подобрал. А про меня там ни одного слова нет. Значит, язык у меня в порядке.
– Товарищ, вы отнимаете у меня время. Мы не можем издать книгу, где на каждой странице попадаются такие метафоры: «Трамваи были убраны флагами, как невесты на ярмарке». Что ж, по-вашему, невесты на ярмарках убраны флагами? Просто чепуха.
– Это безответственное заявление, товарищ. У меня есть протокол заседания литкружка при глазной лечебнице, где я зачел свой роман. И вот резолюция… Сию минуточку, я сейчас ее найду. Ага! «Книга «Гнезда и седла» радует своей красочностью и бодрой образностью, а также написана богатым и красивым языком». Шесть подписей. Пожалуйста. Печать. И на этом фронте у меня все благополучно.
– Одним словом, до свидания.
– Нет, не до свидания. У меня к вам еще одна бумажка есть.
– Не надо мне никакой бумажки. Оставьте меня в покое.
– Это записка. Лично вам.
– Все равно.
– От Ягуар Семеныча.
– От Ягуар Семеныча? Дайте-ка ее сюда. Да вы присядьте. Так, так. Угу. М-м-мда. Не знаю. Может быть, я ошибся. Хорошо, дам ваши «Гнезда» прочесть еще Тигриевскому. Пусть посмотрит. В общем, заходите завтра. А примерный договор пока что набросает Марья Степановна. Завтра и подпишем. Хорошее там у вас место есть, в «Седлах»: Отрогин говорит Ольге насчет идейной непримиримости. Отличное место. Ну, кланяйтесь Ягуару.
«Гнезда и седла» появляются на рынке в картонном переплете, десятитысячным тиражом, с портретом автора и длинным списком опечаток. Автор ходит по городу, высматривая в книжных витринах свое творение, а в это время на заседании в издательстве кипятится оратор:
– Надо, товарищи, поднять, заострить, выпятить, широко развернуть и поставить во весь рост вопросы нашей книжной продукции. Она, товарищи, отстает, хромает, не поспевает, не стоит на уровне…
Он еще говорит, а в другом издательстве, перед другим редактором стоит уже другой автор.
Новый автор – в шубе, с круглыми плечами, с громадным галалитовым мундштуком во рту и в бурках до самого паха. Он не тихий, не вкрадчивый. Это бурный, громкий человек, оптимист, баловень судьбы. О таких подсудимых мечтают начинающие прокуроры.
Он не носит с собой удостоверений и справок. Он не бюрократ, не проситель, не нудная старушка из фельетона, пострадавшая от произвола местных властей. Это пружинный замшевый лев, который, расталкивая плечами неповоротливых и мечтательных бегемотов, шумно продирается к водопою.
Его творческий метод прост и удивителен, как проза Мериме.
Он пишет один раз в жизни. У него есть только одно произведение. Он не Гете, не Лопе де Вега, не Сервантес, нечего там особенно расписываться. Есть дела посерьезней. Рукопись ему нужна, как нужен автогенный аппарат опытному шниферу для вскрывания несгораемых касс.
То, что он сочинил, может быть названо бредом сивой кобылы. Но это не смущает сочинителя.
Он грубо предлагает издательству заключить с ним договор. Издательство грубо отказывает. Тогда он грубо спрашивает, не нужна ли издательству бумага по блату. Издательство застенчиво отвечает, что, конечно, нужна. Тогда он вежливо спрашивает, не примет ли издательство его книгу. Издательство грубо отвечает, что, конечно, примет.
Книга выходит очень быстро, в рекордные сроки. Теперь все в порядке. Автогенный аппарат сделал свое дело. Касса вскрыта. Остается только унести ее содержимое.
Сочинитель предъявляет свою книгу в горком писателей, заполняет анкету («под судом не был, в царской армии был дезертиром, в прошлом агент по сбору объявлений, – одним словом, всегда страдал за правду»), принимается в союз, получает живительный паек. Вообще он с головой погружается в самоотверженную работу по улучшению быта писателей. Он не только не Сервантес, он и не Дон-Кихот, и к донкихотству не склонен. Первую же построенную для писателей квартиру он забирает себе. Имея книгу, членство, особый паек, даже автомобиль, он обладает всеми признаками высокохудожественной литературной единицы.
Теперь единицу, оснащенную новейшей техникой, поймать чрезвычайно трудно. Сил одной милиции не хватит: тут нужны комбинированные действия всех карательных органов с участием пожарных команд, штурмовой авиации, прожекторных частей и звукоуловителей.
А оратор в издательстве все еще стоит над своим графином и, освежая горло кипяченой водой, жалуется:
– Что мы имеем, товарищи, в области качества книжной продукции? В области качества книжной продукции мы, товарищи, имеем определенное отставание. Почему, товарищи, мы имеем определенное отставание в области качества книжной продукции? А черт его знает, почему мы имеем в области качества книжной продукции определенное отставание!
Тут вносят чай в пивных стопках, стоящих по шесть штук сразу в глубокой тарелке для борща. И вопросы книжной продукции глохнут до следующего заседания.
Между тем совсем не нужно тратить кубометры кипяченой воды и загружать глубокие тарелки стопками с чаем, чтобы понять сущность дела. Плохих произведений всегда было больше, чем хороших. Всегда в издательства, помимо талантливых вещей, носили, носят и будут носить всяческую чушь и дичь. Дело обычное, ничего страшного в этом нет. Надо только устроить так, чтобы плохая рукопись не превратилась в книгу. Это обязанность редакторов.
А редактора нередко бывают малодушны, иногда некультурны, иногда неквалифицированны, иногда читают записки, не относящиеся к делу, иногда в них просыпается дух торговли – все иногда бывает.
И к свежему голосу растущей советской литературы примешивается глухое бормотание бездарностей, графоманов, искателей выгод и неучей.
А в литературных делах надо проявлять арктическое мужество.
Не надо делать скидок по знакомству, не надо понижать требований, не надо давать льгот, не надо так уж сильно уважать автора за выслугу лет, не подкрепленную значительными трудами.
Читателю нет дела до литературной кухни. Когда к нему попадает плохая книга, ему все равно, чьи групповые интересы состязались в схватке и кто эту книгу с непонятной торопливостью включил в школьные хрестоматии. Он с отвращением листает какие-нибудь «Гнезда» или «Седла», жмурится от ненатуральных похождений диаграммно-схематического Отрогина и на последней странице находит надпись: «Ответственный редактор 3. Тигриевский». Так как записка Ягуар Семеныча к книге не приложена, то никогда читателю не понять тонких психологических нюансов, побудивших товарища Тигриевского пустить «Седла» в печать. И пусть не обманываются редактора таких книг. Читатель редко считает их ответственными, потому что никакой ответственности они, к сожалению, не несут.
Вот какие неприятные слова приходится говорить радостной весной текущего хозяйственного года. Не сладкое это занятие – портить отношения с отдельными собратьями и делать мрачные намеки. Куда приятнее сидеть вдвоем за одним столиком и сочинять комический роман. Ах, как хорошо! Окно открыто, ветер с юга, чернильница полна до краев. А еще лучше поехать с собратьями целой бригадой куда-нибудь подальше, в Кахетию, в Бухару, в Боржом, что-нибудь такое обследовать, установить связи с местной общественностью, дать там какую-нибудь клятву. Не очень, конечно, обязывающую клятву – ну, написать повесть из жизни боржомцев или включиться в соревнование по отображению благоустройства бухарского оазиса. А потом вернуться в Москву и дать о поездке беседу в «Литературную газету», мельком упомянув о собственных достижениях.
Но ссориться, так уж ссориться серьезно.
Кроме появившихся на прилавке плохих книг типа «Седла» и «Гнезда», еще больший урон несет советское искусство оттого, что многие хорошие книги могли бы появиться, могли бы быть написаны, но не были написаны и не появились потому, что помешала суетливая, коммивояжерская гоньба по стране и помпезные заседания с обменом литературными клятвами.
Никогда путешествие не может помешать писателю работать. И нет места в мире, где бы с такой родительской заботливостью старались дать писателю возможность все увидеть, узнать и понять, как это делается у нас.
Но внимание и средства уделяются вовсе не затем, чтоб люди партиями ездили за несколько тысяч километров торжественно и скучно заседать.
Как часто деньги, предназначенные для расширения писательских горизонтов, тратятся на создание протоколов о том, что литература нужна нам великая, что язык нам нужен богатый, что писатель нам нужен умный. И как часто, создав такой протокол, бригада мчится назад, считая, что взят еще один барьер, отделяющий ее от Шекспира.
Чтобы приблизиться к литературным вершинам, достойным нашего времени, вовсе нет надобности обзаводиться фанерными перегородками, учрежденскими штатами, секциями и человеком комендантского типа в сапогах, лихо раздающим железнодорожные билеты, суточные и подъемные.
И оргкомитет имеет сейчас, перед писательским съездом, возможность стряхнуть с себя литературную пыль, выставить из писательской шеренги людей, ничего общего с искусством не имеющих.
Людям, в литературе случайным, писать романы или рассказы – долго, трудно, неинтересно и невыгодно. Кататься легче. А вместо писательского труда можно заняться высказываниями. Это тоже легко. К тому же создается видимость литературной и общественной деятельности. Фамилия такого писателя постоянно мелькает в литературных органах. Он высказывается по любому поводу, всегда у него наготове десять затертых до блеска строк о детской литературе, о кустарной игрушке, о новой морали, об очередном пленуме оргкомитета, о связи искусства с наукой, о мещанстве, о пользе железных дорог, о борьбе с бешенством или о работе среди женщин.
И никогда в этих высказываниях нет знания предмета. И вообще обо всех затронутых вопросах говорится глухо. Идет речь о себе самом и о своей любви к советской власти.
Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти – это не профессия. Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной.
Хороши были бы Каманин и Молоков, если б, вместо того чтобы спасать челюскинцев, они сидели в теплой юрте перед столом, накрытым зеленой скатертью, с походным графинчиком и колокольчиком и посылали бы высказывания о своих сердечных чувствах к правительственной комиссии, ко всем ее членам и председателю.
Летать надо, товарищи, а не ползать. Это давно дал понять Алексей Максимович. Это трудно, ох, как трудно, но без этого обойтись нельзя.
Иначе любовь не будет обоюдной.
«Севильский обольститель» – сочинение Тирсо де Молины в переделке Николая Михайловича Горчакова и Павла Александровича Маркова. Постановщик – Ник. Волконский, Директор ГОМЭЦ – Александр Морисович Данкман. Московский мюзик-холл.
На премьере «Севильского обольстителя» в мюзик-холле было два иностранных гостя – голландец и эстонец.
– Ну, как? – спросили гостей, когда в последний раз опустился шелковый занавес – гордость ГОМЭЦ.
– Плоохо, – ответил голландец.
– Плохоо, – сказал эстонец.
Других русских слов они не знали. Но большего и не надо было для определения художественных достоинств этого спектакля. Плоохо, плохоо и просто плохо.
Ну, что? Кричать, топать ногами, громко заявлять, что мюзик-холл не сумел дать Испанию сегодняшнего дня, что не дал даже Испании вчерашнего или позавчерашнего дня, не вскрыл, не поднял на высоту, не ударил, не трахнул? Стоит ли? Не в этом дело. Мюзик-холл – не Комакадемия.
Но почему-то было скучно, и взгляд все время направлялся к дверям, над которыми сверкали синие фонарики с надписью «Запасный выход».
Пожалуйста, не обижайтесь, – так было. Очень хотелось убежать домой, «нах хаузе». Не пугала даже мысль о том, что придется возвращаться в трамвае. Лучше трамвай, чем красочное испанское действо в постановке Волконского. А городская железная дорога не такое уж приятное развлечение! Но все-таки там интереснее, больше красок, темперамента и веселой возни. Наконец, в трамвае острят удачнее, чем на сцене мюзик-холла. И стоит дешевле. Билет любого ряда – от 10 до 20 коп.
Это – не беспринципная травля передового театра, это – не беспочвенные наскоки, это – простая жалоба зрителя.
Зритель удивлен. Так любить эстраду и быть так обманутым!
Есть такое выражение – «положа руку на сердце». Так вот, положа руку на этот важнейший орган человеческого тела, можно сказать, что так разыграть спектакль, как это сделали в мюзик-холле, может всякий старатель драмкружок.
Это было непрофессионал.
На сцене все занимались не своим делом. Драматический актер Мартинсон пел, танцовщица Чернышева говорила. И также пела. Актер Тенин, который умеет и говорить и петь, главным образом бегал.
В ниспосланных им природой рамках удержались только Лепко и Бугров. Спасибо вам, товарищи, за тактичное поведение!
Даже зрители, зараженные дурным примером, делали не то, что им полагается. Вместо того, чтобы смирно сидеть на своих местах, они подымались и уходили из театра.
Дорогой Мартинсон, вас все любят. Но не пойте. Это комнатное пение. Так поют инженеры, техники, ответработники, портнихи, художники, электромонтеры на своих стремянках, рыболовы у тихих речек, личные секретари, отдельные дворники и все соседи по большой коммунальной квартире.
Дорогая Чернышева, помните, было такое время, вы танцевали? А теперь вы вдруг заговорили. Не отбивайте хлеб у народной артистки Блюменталь-Тамариной. И не пойте, не отбивайте хлеб у народной артистки Неждановой. Танцуйте. Отбивайте, по мере сил, хлеб у народной артистки Гельцер. Вот это действительно будет величественное зрелище.
Глубокоуважаемый и дорогой Тенин, вам, наверно, хотелось играть, говорить смешные слова, но вас заставили бегать. А слов вам не дали, реплики все вычеркнули. Худо вам пришлось. Ох уж этот Волконский. А еще из Малого театра, из дома Щепкина! Он всех заставил бегать в мудром предвидении, что если «Севильский обольститель» и провалится, то уж, во всяком случае, все участники спектакля блестяще сдадут норму на значок ГТО.
Эта беготня и была главным художественным приемом режиссера. Когда артисты убегали со сцены, зритель испытывал неподдельную радость. Но беда в том, что они сейчас же прибегали назад. Кроме того, сцена все время вертелась. Очевидно, только по той причине, что она вертящаяся, – других причин не было.
Стыдно, живя в одном городе с Мейерхольдом и Станиславским, заманивать московского зрителя, приученного к блестящим работам советского театра, на спектакль однообразный, утомительный, неталантливый. В текстильной промышленности изделия такого сорта помещают в витрине брака с унизительными и самобичующими объяснительными надписями.
Кстати, о текстиле. Давно не случалось видеть таких некрасивых, даже уродливых костюмов, как «Севильском обольстителе». Можно подумать, что их шили по эскизам управляющего делами какого-нибудь швейного треста, человека, занятого преимущественно сочинением так называемых цифровых данных и докладных записок. Так что глаз страдал наравне со слухом.
Особенно беспомощным казалось это рядом с точной, полной стремительности и ритма работой Лос-Амбатос на трапециях, работой чистой и профессиональной. А наверно, были покушения со стороны постановщика заставить их петь, декламировать изодранный в клочья текст Тирсо де Молины.
Была сделана попытка приковать к испанскому действу Смирнова-Сокольского. Но ему удалось отбиться. Смирнов-Сокольский вышел на сцену, как ему полагается, в бархатной толстовке и с пышным козьма-прутковским бантом на шее.
Сокольский – весьма популярный представитель эстрадного фельетона, но за ним числится грешок. Он всегда острит насчет того, что писатели получают гонорар.
Николай Павлович, писатели всегда получают гонорар. И будут получать до тех пор, пока не отменят деньги. И ничего ужасного здесь нет. Вы ведь тоже, Николай Павлович, получаете гонорар за работу. И мы не острим по этому поводу. Получайте на здоровье, что тут смешного!
Жалоба кончается.
Артисты и вообще люди, близкие к театру, ужасно любят, когда их называют по имени-отчеству. Ну, просто обожают. Ругай его, вскрывай его корни, делай с ним что угодно, но называй по имени-отчеству. Это как-то смягчает удар, вносит в дело какую-то такую уважительность.
Николай Михайлович! Павел Александрович! Ну зачем вы переделывали Тирсо де Молину для эстрады? Ну что вам сделал Тирсо Федорович? Это, наконец, не в традициях МХАТа. Что скажут Константин Сергеевич с Владимиром Ивановичем? Неудобно! Что подумает Антон Павлович?
Александр Морисович! Вы же – покровитель искусств, старый работник цирка. Неужели долгая совместная работа со львами, тиграми и другими гадами не приучила вас к осторожности? Александр Морисович! Как это у вас театр оказался без актеров? Ах, как вышло нехорошо! Некрасиво вышло!
Оперные артисты – люди по большей части суеверные, чудаковатые, за ними водятся странности.
Итальянский певец в день спектакля с утра бегает по городу, выискивая горбуна. Если он увидит горбуна, это принесет ему счастье, удачу – на спектакле он ни разу не сорвется, не будет накладок, все пройдет благополучно, будет успех.
Это традиционное суеверие. От него не могут отделаться даже знаменитости, даже Карузо, которому насчет голоса и триумфов беспокоиться было нечего. Даже он чувствовал себя несчастным, если до выхода на сцену ему на глаза не попадался горбатый.
Хорошо, если дело происходит на юге, в Неаполе, где горбунов, зобатых и колченогих великое множество. А что делать на севере, где-нибудь в Турине, население коего отличается статностью и пропорциональностью частей тела? Худо там живется какому-нибудь драматическому баритону или меццо-характерному тенору.
На севере приходится прибегать к другим хитростям. В Милане, в галерее Виктора Эммануила, на мраморном полу выложен мозаичный бычок. Если артист себе не враг, он, проходя по галерее, наступает на бычка и поворачивается на каблуке. Это тоже приносит счастье. В музыкальных кругах считается, что бычок даже более верное средство, чем встреча с горбатым.
Каждые несколько лет бычка реставрируют, но неумолимые чудаки снова протирают в нем ямку своими каблуками.
Очень, очень странные люди оперные певцы. Например, один столичный бас перед выступлением справлялся, полный ли сбор и куда администратор спрятал деньги. Без этого условия он петь не хотел, не мог. Такая у него была примета.
Итак, горбун, бычок, кассовая наличность. Все это невинные странности высоко одаренных людей.
Но больше всего чудачеств не в миланской опере, и не в московской, а в киевской. Киевское бельканто сопровождается множеством действий, не предусмотренных ни партитурой, ни авторским текстом, ни правилами внутреннего распорядка.
Поэма Пушкина, музыка Чайковского и указания месткома ясно дают понять, что Евгений Онегин хотя и чуждого нам происхождения (дворянин и помещик), но все же не забулдыга и не алкоголик.
Правда, Онегин иногда заливал за галстук. Но это бывало на холостых пирушках, ну, какое-нибудь там: «Вошел: и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток»; или где-нибудь в ресторане – «Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет». Но к Лариным он ни разу не являлся в пьяном виде. А когда он пришел на свидание с Татьяной, то был чист, как стеклышко, маковой росинки во рту не было. Он был холоден и рассудителен – «Примитете исповедь мою: себя на суд вам отдаю». Такие слова может произнести только совершенно трезвый человек.
А что касается дуэли с Ленским, то тут никаких сомнений быть не может. Пушкин с Чайковским следили за поведением Онегина с утра. Он встал, «глядит – и видит, что пора давно уж ехать со двора». Оделся, француз Гильо «халат и туфли предлагает». Заметьте, водки никто ему не предлагал.
И тем не менее заслуженный артист Зубарев исполняет партию Онегина в пьяном виде, еле держась на ногах. Как он в таком состоянии на поединке попадает не в дирижера, а в Ленского, понять немыслимо.
Такую сверхметкую, снайперскую стрельбу можно объяснить разве только многолетней привычкой Зубарева выступать под мухой.
Хорошо бы узнать, как заслуженный артист трактует партию Демона? Представляем себе эту мрачную картину: «Печальный демон, дух изгнанья», наступая на собственные крылья и на руки суфлера, бродит по сцене и громко икает, заглушая женский хор, который, дрожа от страха, поет – «День и ночь шумит Арагва».
Женщинам киевской оперы вообще работать жутковато. На сцене при полном свете рампы, на глазах У публики, сидящей в зале, они чувствуют себя как в темном переулке «а Подоле. Каждую минуту они ждут нападения хулиганов. На сцене щиплют до синяков и шепчут им слова, не значащиеся в либретто, – всякие непристойности и мерзости.
Главные щипачи, или щипуны или щипатели (даже подходящего названия не подберешь для этого свинского занятия) – певцы Недин и Волковой.
Нет, нет, Собинов и Баттистини иначе начинали свою карьеру!
«День и ночь шумит Арагва», день и ночь шумит Донец.
Но это не река Донец, а народный артист Донец, общепризнанный батько киевского оперного куреня.
Известно, что нет такого баса, который не хотел бы стать вторым Шаляпиным. Это тоже одна из оперных традиций.
На пути в Шаляпины Донец решил овладеть техникой великого собрата, так сказать, собаса. Первым долгом он побил рабочего сцены Левицкого, Потом отправился домой, попробовал голос.
– Нет, еще не звучит. То есть звучит, но не так, как нужно. Нет этого шаляпинского пианиссимо. Черт возьми, нет и фортиссимо. Надо работать, работать и работать.
Пошел и побил артиста Исакова. О певце начала распространяться слава второго Шаляпина, но с пением все еще продолжалась непонятная заминка. Замашки были шаляпинские, а голос и игра были какие-то донцовские. Явно было видно, что только упорным трудом можно было добиться совершенства.
Пора было покончить с кустарщиной и приступить к систематическому освоению шаляпинских методов.
Последним был избит артист Аз-рикан. Донец вложил в это упражнение всю свою душу. Он рычал, грохотал, наносил удары, бесновался, как только мог.
– Ну, вылитый Шаляпин, – с испугом говорили старые, видавшие виды хористы и компримарио.
Вечером Донец сидел окруженный друзьями и жаловался:
– Кажется, все сделал. И куражился, и с оркестром расправлялся, и морду бил кому попало. Почему же лавры выдают в недостаточном количестве, почему публика не понимает, не награждает? Почему я все-таки не Шаляпин?
Действительно, артист сделал все, чтобы стать похожим на Шаляпина. Вот только на колени перед царем не становился.
Странная в Киеве опера. Баритоны после получки бродят по сцене пьяные, тенора щиплют сопрано, басы хлещут баритонов и теноров, хористы прячутся от солистов за фанерные кусты. Идет большая и кипучая музыкальная жизнь, скоро прорвутся через оркестр и станут кидаться на публику. Хорошо, если успеют вовремя спустить железный занавес. А если не успеют?
2-й и последний концерт
ВАСИЛИЯ ДРОВЯННИКОВА
По желанию публики Василий Дровянников
даст 9-го мая в 4 ч. 30 м. дня в зале Гаво
прощальный концерт по новой и исключительной программе
Первый его концерт прошел при переполненной аудитории.
Дирекцией было продано сверх аншлага еще 500 билетов, но и этого оказалось недостаточно, и многие, не получив билетов, разошлись по домам.
Мы знаем заранее, что скажет Дровянников.
– Я – не я, – скажет он, – и лошадь не моя. Объявление это поместил негодяй-администратор!
Почему же вы не протестовали, уважаемый бас? Почему вы не прогнали в шею такого администратора? Почему вы раскаялись только тогда, когда ваш голос был оценен знатоками в три с минусом, а ваше умение петь – в два с плюсом?
Певец Батурин, выступление которого было гораздо скромнее, получил должный отпор. Он начал новую, честную жизнь советского певца на незначительных ролях в Большом театре. И он делает успехи. После года работы ему уже дали партию Дона Базилио в «Севильском цирюльнике». Может быть, лет через десять он и будет вторым Шаляпиным.
Певец Головин без излишней рекламы достиг в Италии большого совершенства и благополучно обходится без киноуслуг. Он ведет честную жизнь честного советского певца.
Дровянникову придется прекратить сенсационные концерты.
Хватит с нас. Деньги обратно!!!
Докладчик. Граждане, наше домоуправление предложило мне прочесть жильцам дома небольшую лекцию о том, как организовать спокойную жизнь. По зрелом размышлении, я согласился.
Многие удивляются, как это я сохраняю спокойствие духа и постоянно нахожусь в удовлетворительном настроении, в то время как вокруг идет такая бурная жизнь и происходит бессмысленная трепка нервов. Хорошо. В порядке обмена опытом я расскажу о всех моих достижениях.
Прошу только соблюдать тишину, в противном случае вынужден буду принять соответствующие решительные меры.
Итак, если человек хочет быть спокойным, он постоянно должен иметь при себе следующие предметы: записную книжку, хорошо очиненный карандаш и свисток. Да, я сказал свисток. Никакое спокойствие немыслимо, если у вас в кармане нет свистка.
Скажем, так. Вы входите в магазин с целью приобретения каких-либо продуктов питания, или ширпотреба, или отдельных предметов роскоши, или канцпринадлежностей. Я не спорю, иногда все проходит гладко – вы быстро налаживаете очередь к прилавку, покупаете нужную вам вещь, налаживаете очередь в кассу, платите и уходите. Но обычно посещение магазина не обходится без инцидента. Покупатель может вас толкнуть, продавец грубо ответить, кассирша заявить, что у нее нет сдачи. В таких случаях всегда начинаются крик, пререкания, волнение, – в общем, то, о чем я уже докладывал, – бессмысленная трепка нервов. Вот этого-то и не надо делать. Не надо повышать голоса.
Скажем, вас толкнули. Хорошо. Полное спокойствие. Вы выясняете, кто вас толкнул. Просите предъявить документы. Виновный, конечно, уверяет, что толкнул нечаянно, и документы предъявить отказывается. Еще лучше. Вы приглашаете заведующего магазином и очень тихо, но твердо требуете от него немедленного удаления хулигана с территории торговой точки. Заведующий, конечно, заявляет, что это не его дело и что вообще нечего подымать шум из-за пустяков. Пустяки? Отлично. Без крика, тихо, спокойно берете карандашик и заносите фамилию бюрократа в записную книжечку. Заведующий говорит, что плевал он на мою книжечку. Ах, плевал! Замечательно! Вы мобилизуете покупательский актив, сплачиваете его и подымаете на борьбу с чиновником, потерявшим чувство действительности.
Покупатели не хотят включиться в борьбу? Не хотят сплачиваться? Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и, сохраняя полнейшее спокойствие, переписываете поголовно всех граждан, находящихся в магазине. Да, да, поголовно всех, с указанием адресов и места службы. В борьбу с этими антиобщественными элементами вы вовлекаете продавцов.
Если продавцы не оказывают вам законного содействия, то тем лучше. Всех их туда же, в книжечку. Кассиршу тоже. Чтоб не смеялась идиотским смехом в ущерб своим прямым обязанностям. Вы мне, конечно, скажете, что виновные могут убежать из магазина, спасаясь, таким образом, от ответственности. В том-то и дело, что не могут. На скандал с улицы лезут любопытные, и в дверях образуется пробка – ни войти, ни выйти.
Дети плачут, взрослые грозятся, какая-то неустойчивая женщина падает в обморок, слышен, так сказать, стук падения тела. Происходит то, о чем я вам докладывал уже дважды, – трепка нервов. Но вы делаете свое дело, продолжаете перепись.
Если в это время вас будут оскорблять разными словами, – очень хорошо! Отнеситесь к факту словесного оскорбления спокойно, зафиксируйте его в книжечке и поставьте против фамилии негодяя-оскорбителя птичку.
Нетерпеливый голос из зала. А если дадут по морде?
Докладчик. Вот этого мне только и надо. Я получаю по морде. Прекрасно. Теперь вся эта объединенная банда покупателей и продавцов в моих руках. Дела идут блестяще. Надо мной намечается суд Линча со стороны недовольных граждан. Уже хватают за толстовку. И тут я вынимаю свисток и громко, торжественно свищу. Никто не уйдет, все ответят: кто за оскорбление действием, кто за подстрекательство к оскорблению действием, кто за неоказание помощи во время оскорбления действием. Приходит милиционер, и вся компания преступников отправляется в милицию. И, заметьте, опять идет бессмысленная трепка нервов. Все волнуются, не хотят идти в отделение, орут, что им надо на службу, к доктору, домой. Один я спокоен.
Спокойным меня делает сознание собственной правоты. Пульс шестьдесят два, прекрасного наполнения. Температура тела тридцать шесть и семь. Зрачки реагируют правильно. Я даже улыбаюсь. По дороге все ужасно нервничают по поводу моего спокойствия, и на глазах у представителя власти мне еще несколько раз дают по морде. Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и хладнокровно записываете в книжечку, кто бил и сколько раз ударил. И ставите птички. Теперь можно быть спокойным – дело дойдет до суда. Вообще, граждане, запомните аксиому: решительно все надо доводить до суда. Иначе не может быть никакой спокойной жизни.
Голос из зала. Решительно все?
Докладчик. Все решительно. Вы были на вечеринке, и кто-то надел ваши калоши. Выясняете, кто это сделал, – и в суд его! И хозяина в суд за то, что недосмотрел. И гостей под суд за пьянство и попустительство. Дело, конечно, не в калошах, не в трех рублях, дело в принципе. Если бы мы все доводили до суда, то кривая нервных заболеваний резко пошла бы вниз.
Голос из зала. Это просто возмутительно! (Общий шум.)
Докладчик. Прошу не нарушать тишины. За нарушение тишины взимается штраф. Кстати, о штрафах. Давно пора уже возбудить вопрос о том, чтобы дать гражданам право штрафовать друг друга. Это сыграло бы огромную воспитательную роль. Я вас штрафую, а вы меня. Вы – меня, а я – вас. Кондуктора – публику, публика – кондукторов. Ведь какая была бы прелесть, какая началась бы спокойная жизнь, без этой трепки нервов. Получил с кого-нибудь пятерку, выдал квитанцию и пошел дальше. Но главное – это все-таки суд. Я все довожу до суда. Сейчас, например, я сужусь с моей невестой по личному вопросу, за нанесение мне ею пощечины во время совместного посещения Художественного театра. Вы скажете, что это дело интимное, что было бы гораздо проще совсем не жениться на ней. Да, было бы проще. Но я это делаю принципиально. И у меня есть свидетели. Я переписал двенадцать человек из второго яруса и трех капельдинеров. Ее бандит-папаша рыщет по всему городу и обещает меня искалечить. Отлично! Спокойно жду хулиганского выпада. Единственное, что меня заботит: как бы будущий, так сказать, тесть не поймал меня без свидетелей. Придется в ближайшие горячие дни водить свидетелей с собой.
Вот, граждане, в общих чертах те методы, которыми я пользуюсь и которые дают мне возможность избегать бессмысленной трепки нервов и неизменно находиться в спокойном состоянии. Повторяю еще раз – ни шагу без суда, ни шагу без свидетелей, все должно быть запротоколировано, все… Кто вредный дурак?! Я вредный дурак? Хорошо! Ах, даже мерзавец? Замечательно! Подлец? Великолепно! Вынимаю книжечку, беру карандашик и записываю… Не размахивайте руками, гражданин Феодалкин, суд все разберет. Кулаками все равно ничего не докажете. Ах, так? Оскорбление действием? Этого мне только и надо было. Нет, не умеете вы жить. Долго еще надо вам совершенствоваться. (Со вздохом вынимает свисток и громко свистит.)
Очень трудно покорить сердце женщины.
А ведь чего только не делаешь для выполнения этой программы! Уж и за руку берешь, и грудным голосом говоришь, и глаз не сводишь.
И ничто не помогает. Ну, не любят тебя, не верят! И опять все надо начинать сначала. Честное слово, каторжный труд при звездах и при луне.
Из Москвы в Одессу приехал отдыхать молодой доктор.
Когда у него впервые в жизни оказались две свободные недели, он внезапно заметил, что мир красив и что население тоже красиво, особенно его женская половина. И он почувствовал, что если сейчас же не примет решительных мер, то уже никогда в жизни не будет счастлив, умрет вонючим холостяком в комнате, где под кроватью валяются старые носки и бутылки.
Через несколько дней молодой медик гулял с девушкой по сильно пересеченной местности на берегу моря.
Он изо всех сил старался понравиться. Конечно, говорил грудным и страстным голосом, конечно, нес всякий вздор, даже врал, что он челюскинец и лучший друг Отто Юльевича Шмидта. Он предложил руку, комнату в Москве, сердце, отдельную кухню и паровое отопление. Девушка подумала и согласилась.
Здесь опускаются восемь страниц художественного описания поездки с любимым существом в жестком вагоне. (Прилагается только афоризм: лучше с любимой в жестком, чем одному в международном.)
А в Москве купили ветку сирени и пошли в загс расписываться в собственном счастье.
Известно, что такое загс. Не очень чисто. Не очень светло. И не так чтобы уж очень весело, потому что браки, смерти и рождения регистрируются в одной комнате. Когда доктор со своей докторшей, расточая улыбки, вступил в загс, то сразу увидел на стене укоризненный плакат:
ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕДАЕТ ИНФЕКЦИЮ
Висели еще на стене адрес похоронного бюро и заманчивая картинка, где были изображены в тысячекратном увеличении бледные спирохеты, бойкие гонококки и палочки Коха. Очаровательный уголок для венчания.
В углу стояла грязная, как портянка, искусственная пальма в зеленой кадушке. Это была дань времени. Так сказать, озеленение цехов. О таких штуках вечерняя газета пишет с еле скрываемым восторгом: «Сухум в Москве. Загсы принарядились».
Служащий загса рассмотрел документы юной пары и неожиданно вернул их назад.
– Вас нельзя зарегистрировать.
– То есть как нельзя? – забеспокоился доктор.
– Нельзя, потому что паспорт вашей гражданки выдан в Одессе. А мы записываем только по московским паспортам.
– Что же мне делать?
– Не знаю, гражданин. По иногородним паспортам не регистрируем.
– Значит, мне нельзя полюбить девушку из другого города?
– Не кричите вы, пожалуйста. Если все будут кричать…
– Я не кричу, но ведь выходит, что я имею право жениться только на москвичке. Какое может быть прикрепление в вопросах любви?
– Мы вопросами любви не занимаемся, гражданин. Мы регистрируем браки.
– Но какое вам дело до того, кто мне нравится? Вы что же, распределитель семейного счастья здесь устроили? Регулируете движения души?
– Потише, гражданин, насчет регулирования движения!
– Вы растаптываете цветы любви! – завизжал доктор.
– А вы не хулиганьте здесь!
– А я вам говорю, что вы растаптываете!
– А вы не нарушайте порядка.
– Я нарушаю порядок? Значит, любовь уже больше не великое чувство, а просто нарушение порядка? Хорошо. Пойдем отсюда, Люся.
Очутившись на улице, незадачливый кандидат в мужья долго не мог успокоиться.
– Разве это люди? Разве это человек? Ведь это баба-яга костяная нога! Что мы теперь будем делать?
Он так волновался, что девушке стало его жалко.
– Знаешь что, – сказала она, – ты меня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа, и я не ханжа. Будем жить так.
Действительно, если вдуматься, то с милым рай и в шалаше.
Стали жить «так».
Но с милым рай в шалаше, товарищи, возможен только в том случае, если милая в шалаше прописана и занесена шалашеуправлением в шалашную книгу. В противном случае возможны довольно мрачные варианты.
Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что они не были зарегистрированы в загсе. А жить в Москве без прописки нельзя. А…
Таким образом, рай в шалаше на другой же день превратился в ад. Люся плакала и при каждом стуке в дверь вздрагивала – вдруг появятся косматые дворники и попросят вон из шалаша. Доктор уже не ходил в свою амбулаторию. «Лучший друг» Отто Юльевича Шмидта представлял собой жалкое зрелище. Он был небрит. Глаза у него светились, как у собаки. Где ты, теплая черноморская ночь, громадная луна и первое счастье?!
Наконец он схватил Люсю за руку и привел ее в милицию.
– Вот, – сказал он, показывая пальцем на жену.
– Что вот? – спросил его делопроизводитель, поправляя на голове войлочную каску.
– Любимое существо.
– Ну, и что же?
– Я обожаю это существо и прошу его прописать на моей площади.
Произошла тяжелая сцена. Она ничего не добавила к тому, что нам уже известно.
– Какие же еще доказательства вам нужны? – надрывался доктор. – Ну, я очень ее люблю. Честное слово, не могу без нее жить. И могу ее поцеловать, если хотите.
Молодые люди, не отводя льстивых взоров от делопроизводителя, поцеловались дрожащими губами. В милиции стало тихо. Делопроизводитель застенчиво отвернулся и сказал:
– А может, у вас фиктивный брак? Просто гражданка хочет устроиться в Москве.
– А может быть, не фиктивный? – застонал «счастливый» муж. – Об этом вы подумали? Вот вы за разбитое стекло берете штраф, а мне кого штрафовать за разбитую жизнь?
В общем, доктор взял высокую ноту и держал ее до тех пор, пока не выяснилось, что счастье еще возможно, что есть выход. Достаточно поехать к месту жительства любимой, снова в Одессу, всего только за тысячу четыреста двенадцать километров, и все образуется. С московским паспортом одесский загс зарегистрирует докторские порывы, и преступная любовь приобретет наконец узаконенные очертания.
Ну что ж, любовь всегда требует жертв. Пришлось пойти на жертвы – занимать деньги на билеты и выпрашивать дополнительный отпуск для устройства семейных дел.
Но доктор еще не знал самого страшного – не знал, что костяная нога сидит не только в загсе, что костяные ноги уже подстерегают его на вокзале.
Здесь опускается шестнадцать страниц драматического описания того, как молодые супруги опоздали на поезд. Что тут, собственно, описывать? Всем известно, что нет ничего легче в Москве, как опоздать куда-нибудь.
Посадив свою горемычную Люсю на чемодан, доктор побежал компостировать билеты. Эта авантюра ему не удалась. НКПС бдительно охранял железнодорожные интересы и отменил компостирование билетов.
– Что же теперь будет? – ахнул доктор.
– Ваши билеты пропали, – сообщила костяная нога. – Такое правило. Раз опоздали на поезд, значит, пропало.
– Что ж, мы нарочно опоздали?
– А кто вас знает? Это не наше дело, нарочно или не нарочно.
– Но ведь всегда компостировали, со дня основания железных дорог.
– А теперь другое правило, гражданин.
– Наконец, у меня нет больше денег. Теперь я не могу поехать.
Костяная нога корректно промолчала.
И человек, который злостно мешал спокойной работе ряда почтенных учреждений, шатаясь, побрел назад и, усевшись рядом со своей Люсей, тяжело задумался. Он перебрал в памяти все свои поступки.
«Ну, что я сделал плохого? Ну, поехал в отпуск, ну, встретил хорошую девушку, ну, полюбил ее всей душой, ну, меня всей душой полюбили, ну, хотел жениться. И, понимаете, не выходит. Правила мешают».
Если создается правило, от которого жизнь советских людей делается неудобной, правило бессмысленное, которое выглядит нужным и важным только на канцелярском столе, рядом с чернильницей, а не с живыми людьми, можно не сомневаться в том, что его создала костяная нога, человек, представляющий себе жизнь в одном измерении, не знающий глубины ее, объема.
Если за учрежденским барьером сидит человек, выполняющий глупое, вредное правило, и если он, зная об этом, оправдывается тем, что он – человек маленький, то и он костяная нога. У нас нет маленьких людей и не может быть их. Если он видит, что правило ведет к неудобствам и огорчениям, он первый должен поставить вопрос о том, чтобы правило это было отменено, пересмотрено, улучшено.
А доктор? Куда девался милый, честный доктор? Кто его знает! Бегает, наверно, с какими-нибудь справками к костяной ноге, чтобы оформить свою затянувшуюся свадьбу. А возможно, и не бегает уже, утомился и махнул на все рукой. Любовь тоже не бесконечна. А может быть, и верная Люся бежала с каким-нибудь уполномоченным по закупкам в Сызрань или Актюбинск, где легче сочетаться браком.
Во всяком случае, ошибка была сделана доктором с самого начала.
Прежде чем прошептать милой: «Я вас люблю», – надо было решительно и сухо сказать: «Предъявите ваши документы, гражданка».
В семье было три человека – папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама – старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженой головой и двенадцатилетним жизненным опытом.
Казалось бы, все хорошо.
И тем не менее ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры.
Разговор обычно начинал папа.
– Ну, что у вас нового в классе? – спрашивал он.
– Не в классе, а в группе, – отвечал сын. – Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс – это реакционно-феодальное понятие.
– Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?
– Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.
– Ладно, что же прорабатывали?
– Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.
– Вот как! Лассальянство? А задачи решали?
– Решали.
– Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось трудные?
– Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.
Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.
– Ну, а по русскому языку что сейчас уч… то есть прорабатываете?
– Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звонче голос за конский волос».
– Про лошадку? – с надеждой спросил папа. – «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?»
– Про конский волос, – сухо повторил сын. – Неужели не слышал?
Гей, ребята, все в поля
Для охоты на
Коня!
Лейся, песня, взвейся, голос.
Рвите ценный конский волос!
– Первый раз слышу такую… м-м-м… странную поэму, – сказал папа. – Кто это написал?
– Аркадий Паровой.
– Вероятно, мальчик? Из вашей группы?
– Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик… не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали – «Влияние творчества Парового на западную литературу».
– А тебе не кажется, – осторожно спросил папа, – что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?
– Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.
– Ненужного?
– Абсолютно ненужного.
– А конские уши вы не предполагаете собирать? – закричал папа дребезжащим голосом.
– Кушайте, кушайте, – примирительно сказала мама. – Вечно у них споры.
Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.
– Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?
– Мы не развлекались. Некогда было.
– Что же вы делали?
– Мы боролись.
Папа оживился.
– Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, тур де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука – французская борьба.
– Почему французская?
– А какая же?
– Обыкновенная борьба. Принципиальная.
– С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.
– С лебедевщиной.
– Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?
– Один наш мальчик.
– Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?
– Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.
– Это какой-то кошмар!
– Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал.
Папа схватился за голову.
– Сколько же ему лет?
– Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.
– Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?
– А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?
Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:
– А еще старый большевик!
Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфужепно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.
– Ну-с, – сказал папа, странно улыбаясь, – что же теперь будет, ученик четвертого класса Ситников Николай?
Сын молчал.
– Что вчера коллективно прорабатывали?
Сын продолжал молчать.
– Изжили наконец лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?
Молчание.
– Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?
– В нулевой группе.
– Не в нулевой группе, а в приготовительном классе! – загремел отец. – Пора бы знать!
Сын молчал.
– Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? «Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост»?
– «Рвите ценный конский волос», – умоляюще прошептал мальчик.
– Да, да. Одним словом: «Лейся, взвейся, конский голос». Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?
– Н-не знаю.
– Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал «Мертвые души»? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.
– Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик… – обрадованно забубнил мальчик.
– Два с минусом! – мстительно сказал папа. – Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне. Ситников Николай, про Нью-Йорк.
– Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, – запел Коля, – выявляются капиталистические противоре…
– Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?
Сын молчал.
– Сколько там населения?
– Не знаю.
– Где протекает река Ориноко?
– Не знаю.
– Кто была Екатерина Вторая?
– Продукт.
– Как продукт?
– Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали… Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита…
– Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?
– Этого мы не прорабатывали.
– Ах, так! А каковы признаки делимости на три?
– Вы кушайте, – сказала сердобольная мама. – Вечно у них эти споры.
– Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? – кипятился папа. – Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?
Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.
– Двоечник! – кричал ему вслед счастливый отец. – Все директору скажу!
Он наконец взял реванш.
Давайте условимся. Если у человека, у гражданина умерла жена, или мать, или сын, или бабушка, одним словом кто-нибудь из членов семьи, и он хочет его похоронить, то в этом стремлении нет ничего неестественного и противозаконного.
Просто произошло несчастье. Человек умер. Снимем шляпы, опустим на минуту головы, дружески обнимем сироту и с печалью предадим тело земле. И все.
Но выполнить этот незатейливый план-минимум в г. Свердловске удается не всем.
У доцента кафедры математики Промакадемии в Свердловске Н. Захарова умерла мать. Смерть последовала от старости, что подчеркивало отсутствие какого бы то ни было подвоха со стороны доцента по отношению к местным коммунальным органам.
Снимем шляпы. Пожмем доценту руку. Искренне посочувствуем его горю.
«Может ли быть на свете, – думал он, – несчастье большее, чем смерть матери?»
И не успел он так подумать, как выяснилось, что может. И еще как может!
Заключалось это несчастье в том, что в загсе 3-го района города Свердловска доценту не дали разрешения похоронить свою мать. Не дали, потому что он не предъявил продовольственной карточки покойной. Старушка, по-видимому, перед смертью так запрятала этот скромный документ, что никто не мог его найти. Искали всем домом и не нашли. А где только не искали! И в столах, и в шкатулках, и под диваном, и в щелях плинтусов, и на шкафах, и в книгах – всюду.
Тут бы нужна тишина, подобающая случаю, чистота, торжественность. А вместо всего этого стучали ящиками, все перевернули, перерыли, насорили во всей квартире.
Хотелось бы погрустить, вспомнить детство, перебрать в памяти жизнь свою и мамину. А пришлось метаться, ползать на четвереньках под кроватями, искать и искать.
В довершение всего надо было бежать объясняться, вести идиотические разговоры.
– Представьте себе, не нашли. Ну, пропала!
– Все говорят, что пропала. Вы все-таки поищите, гражданин. Может быть, где-нибудь найдется.
Это было сказано с такой скверной миной, что доцент понял, кем его считают. Его считали жуликом, бессовестным мошенником, у которого только и мысли, что зажилить до конца месяца лишнюю карточку.
– Так вот! – закричал он. – Я – не вор-рецидивист и не бродяга. Я – доцент Промакадемии. Ну, подумайте сами, стану я вам врать?
Собеседник подумал, и на его лице отразилась чугунная уверенность в том, что доцент именно станет врать и даже уже врет. И что вообще все врут.
Старуха-мать лежала без погребения в майскую жару трое суток.
Доценту пришлось заготовить в Промакадемии специальную справку о том, что его матери карточку вообще не успели выдать. Только так удалось похоронить покойницу на четвертый день.
Конечно, удобнее всего было бы, чтоб старушки умирали в Свердловске 30-го или 31-го числа каждого месяца. Это значительно упростило бы похоронный обряд и связанные с ним формальности. Но добиться в этом деле устранения самотека пока еще не удается. Умирают как попало и когда попало, совершенно не считаясь с канцелярскими традициями районного загса.
А вот действительно хорошо было бы, если б людям больше верили. Кому, в самом деле, придет в голову прятать карточку, притворяться и врать, когда в комнате находится еще не остывшее тело матери или сына?
Чересчур скептические люди сидят в свердловском загсе.
Редакция газеты «Однажды вечером» находилась в смятении. Сотрудники часто выскакивали на лестницу и смотрели вниз, в пролет, уборщицы в неурочное время подметали коридор, ударяя щетками по ногам пробегающих репортеров, а из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели пять официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники.
Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу.
Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил:
– Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, потом они поедут на завтрак в ЦУНХУ25, оттуда минут через десять – на обед со знатными людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать.
– И капитан Воронин будет? – с сомнением спросил редактор.
– Будет, будет. Челюскинцами я редакцию обеспечил. Можете не сомневаться.
– А герои? Смотрите, Василий Александрович!
– Героями я редакцию обеспечил. У нас будут: Доронин, Молоков, Водопьянов и Слепнев.
– Слушайте, а их не перехватят по дороге? Ведь они подъедут со стороны Маросейки, а там в каждом доме учреждение.
– С этой стороны мы тоже обеспечены. Я распорядился. Наш человек повезет их по кольцу «Б», а потом глухими переулками. Привезем свеженькими, как со льдины.
– Ой, хоть бы уж скорей приехали! – сказал редактор. – С едой там все в порядке? Смотрите, они, наверно, голодные приедут.
По телефону сообщили последнюю сводку:
– Выехали из ЦУНХУ, едут к знатным людям.
Известие облетело всю редакцию, и ножи застучали еще сильнее. Метрдотель выгнул грудь и поправил галстучек. На улице возле дома стали собираться дети.
Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович не отрывался от телефона, принимая сообщения.
– Что? Едят второе? Очень хорошо!
– Начались речи? Отлично!
– Кто пришел отбивать? Ни под каким видом! Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопрос в месткоме. Может, вам нужна помощь? Высылаем трех на мотоциклетке: Гуревича, Гуровича и Гурвича. Поставьте их на пути следования.
Наконец было получено последнее сообщение:
– Вышли на улицу. Захвачены. Усажены в машины. Едут.
– Едут, едут!
И в ту же минуту в кабинет редактора ворвался театральный рецензент. В волнении он сорвал с себя галстук и держал его в руке.
– Катастрофа! – произнес он с трудом.
– Что случилось?
– Внизу, – сказал рецензент гробовым голосом, – на третьем этаже, в редакции газеты «За рыбную ловлю», стоят банкетные столы. Только что видел своими глазами.
– Ну и пусть стоят. При чем тут мы?
– Да, но они говорят, что ждут челюскинцев. И, главное, тех же самых, которых ждем мы.
– Но ведь челюскинцев везут наши люди.
– Перехватят. Честное слово, перехватят! Мы на четвертом этаже, а они на третьем.
– А мы их посадим в лифт.
– А в лифте работает их лифтерша. Они все учли. Я ее спрашивал. Ей дали приказ везти героев на третий этаж – и никаких.
– Мы пропали! – закричал редактор звонким голосом. – Я же вам говорил, Василий Александрович, что перехватят!
– А я вам еще полгода назад говорил не сдавать третий этаж этой «За рыбную ловлю». Сдали бы тихой Медицинской энциклопедии, теперь все было бы хорошо.
– Кто же знал, что «Челюскин» погибнет! Ай-яй-яй! Пригрели змею на своей груди.
– А какой у них стол! – кипятился рецензент. – Это ведь рыбная газета. Одна рыба. Лососина, осетрина, белуга, севрюга, иваси, копченка, налимья печень, крабы, селедки. Восемнадцать сортов селедок, дорогие товарищи!
Несчастный редактор газеты «Однажды вечером» взмахнул руками, выбежал на лестницу и спустился на площадку третьего этажа.
Там, как ни в чем не бывало, мелкими шажками прогуливался ответственный редактор газеты «За рыбную ловлю». Он что-то бормотал себе под нос, очевидно репетируя приветственную речь. Из дверей выглядывали сотрудники. От них пахло рыбой.
Сдерживая негодование, редактор «Однажды вечером» сказал:
– Здравствуйте, товарищ Барсук. Что вы тут делаете, на лестнице?
– Дышу воздухом, – невинно ответил рыбный редактор.
– Странно.
– Ничего странного нет. Моя площадка – я и дышу. А вы что тут делаете, товарищ Икапидзе?
– Тоже дышу свежим воздухом.
– Нет, вы дышите свежим воздухом у себя. На площадке четвертого этажа.
– Ой, товарищ Барсук, – проникновенно сказал «Однажды вечером», – придется нам, кажется, встретиться в Комиссии партийного контроля.
– Пожалуйста, товарищ Икапидзе. К вашим услугам. Членский билет номер 1293562.
– Я знаю, – застонал «Однажды вечером», – вы ждете тут наших челюскинцев.
– Челюскинцы не ваши, а общие, – хладнокровно ответил «За рыбную ловлю».
– Ах, общие!
И редакторы стали надвигаться друг на друга. В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы и освещенный лифт остановился на третьем этаже. На площадку вышли герои. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело.
«Однажды вечером» бросился вперед, но тут беззастенчивый Барсук стал в позу и с невероятной быстротой запел:
– Разрешите мне, дорогие товарищи, в этот знаменательный час…
Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока Барсук действовал таким образом, «Однажды вечером» нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.
– А теперь, дорогие гости, – сказал он, отодвигая плечом соперника, – милости просим закусить на четвертый этаж. Пожалуйста, пройдите. Вот сюда, пожалуйста. Что вы стоите на дороге, товарищ Барсук? Нет, пардон, пропустите, пожалуйста. Сюда, сюда, дорогие гости. Не обессудьте… так сказать, хлеб-соль…
И, ударив острым коленом секретаря «Рыбной ловли», который самоотверженно пытался лечь на ступеньку и преградить путь своим телом, он повел челюскинцев за собой.
Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты.
В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный Барсук успел все-таки отхватить и утащить в свою нору двух героев и восемь челюскинцев с семьями.
Это заметили, только усевшись за банкетные столы. Утешал, однако, тот радостный факт, что отчаянный Василий Александрович дополнительно доставил на четвертый этаж по пожарной лестнице еще трех челюскинцев: двух матросов первой статьи и кочегара с женой и двумя малыми детками. По дороге, когда они карабкались мимо окна третьего этажа, рыбные сотрудники с криками: «Исполать, добро пожаловать!» – хватали их за ноги, а Василия Александровича попытались сбросить в бездну. Так по крайней мере он утверждал.
А дальше все было хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтоб не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, все было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное ура, что казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку.
После речей начались воспоминания, смеялись, пели, радовались. В общем, как говорится, вечер затянулся далеко за полночь.
Так вот, далеко за полночь на нейтральной площадке, между третьим и четвертым этажами, встретились оба редактора. В волосах у них запутались разноцветные кружочки конфетти. Из петлицы Барсука свисала бывшая чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном № 17, а Икапидзе обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Лица у них сияли. О встрече в Комиссии партийного контроля давно уже не было речи. Они занимались более важным делом.
– Значит, так, – говорил Икапидзе, поминутно наклоняясь всем корпусом вперед, – мы вам даем Водопьянова, а вы нам… вы нам да-е-те Молокова.
– Мы вам Молокова? Вы просто смеетесь. Молоков, с вашего разрешения, спас тридцать девять человек!
– А Водопьянов?
– Что Водопьянов?
– А Водопьянов, если хотите знать, летел из Хабаровска шесть тысяч километров! Плохо вам?
– Это верно. Ладно. Так и быть. Мы вам даем Молокова, а вы нам даете Водопьянова, одного кочегара с детьми и брата капитана Воронина.
– Может, вам дать уже и самого Воронина? – сатирически спросил Барсук.
– Нет, извините! Мы вам за Воронина, смотрите, что даем: Слепнева с супругой, двух матросов первого класса и одну жену научного работника.
– А Доронин?
– Что Доронин?
– Как что? Доронин прилетел из Хабаровска на неотепленной машине. Это что, по-вашему, прогулка на Воробьевы горы?
– Я этого не говорю.
– В таком случае мы за Доронина требуем: Копусова, писателя Семенова, двух плотников, одного геодезиста, боцмана, художника Федю Решетникова, девочку Карину и специального корреспондента «Правды» Хвата.
– Вы с ума сошли!.. Где я вам возьму девочку? Ведь это дитя! Оно сейчас спит!
И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция.
Ночь была теплая, и на улице, в полярном блеске звезд, возле подъезда обеих редакций в полном молчании ожидала героев громадная толпа мальчиков.
Представьте себе, что братья Старостины, все четыре, или, скажем, братья Бутусовы, сам-три, или заслуженный хавбек Привалов стали бы вдруг писать критические статьи о литературе. Какие бы правильные мысли они ни высказали, писатели все равно обидятся, начнут роптать.
– Что это они, в самом деле? Мало нам Селивановекого или Новича, что ли? Играли бы себе в свой футбол – и все!
Точно так же обидятся, вероятно, на нашу статью и футболисты.
– С ума они посходили! Мало на нашу голову Колодного или Кассиля? Писали бы себе свои художественные произведения и прочие штучки. Пижоны!
Ну что ж, скрывать нечего, мы действительно пижоны. И играем только в волейбол. Тайно. Где-нибудь на даче, чтоб никто не увидел. Обливаясь потом, мы мечемся по площадке, сбивая друг друга с ног и оглашая сосновые дали глупыми криками:
– Хватайте мяч! Мяч хватайте! Тушите! Гасите! Ах, черт, так и знал!
Однако пижоны просят слова. Дайте пижонам высказаться. Они тоже люди и любят спорт не меньше, чем товарищ Лев (МСФК).
Есть важный разговор, товарищи.
Когда на поле идет интересная игра, зрители не смотрят на пролетающие над стадионом самолеты. При всей своей любви к авиации, они в эту минуту не обращают на нее никакого внимания. Они заняты, они болеют. Переживают каждый удар по мячу, протяжно стонут и в увлечении толкают локтями соседей.
На матче Москва – Харьков ничего этого не было. Зрители с удовольствием отвлекались от созерцания вяло летающего по полю мяча, чтобы посмотреть на самолеты и степенно, основательно обсудить, какой они марки, какой имеют полетный вес и куда, собственно, направляются в данный момент.
Неслыханное дело – болельщики, знаменитые, столько раз описанные очеркистами московские болельщики скромно сидели на своих местах. Глаза у них не были расширены, пульс бился нормально (72 удара в минуту), дыхание было ровное, нервного тика не наблюдалось, печень – норма, сердце – норма, душа – норма.
А это очень плохо, товариши, когда болельщики не болеют. Это показатель какой-то болезни…
Извините, пожалуйста, но нам двадцать четвертого ряда севернц-трибуны показалось, что играть стали хуже, что класс игры в футбол немножко понизился.
Игру оскверняли бессмысленные свечки и старомодные копштосы, не вызывавшиеся необходимостью. Было много суеты и мало спаянности. При этом игроки все время кричали, подавая друг другу советы громовыми голосами.
– Держи Ильина!
– Бей по голу! По голу бей!
– Что ж ты мне не дал?
Хорошо еще, если бы после дружеского наставления бить по голу мяч действительно попадал бы в ворота. Но именно по воротам били весьма неточно.
Это очень провинциальная манера – кричать на поле. И если спортивная дисциплина будет оставаться на том же уровне, то мы скоро услышим во время матча длинные, полные драматизма шекспировские диалоги.
– Куда же ты бьешь?
– Не давай ему, он смажет. Он всегда мажет. Я говорил, чтоб его не брали в сборную. Не послушали.
– А погодка сегодня ничего.
– Ну, как жена? Все еще на даче?
– На даче. Тебе корнер бить.
– Я, знаешь, перехожу к пищевикам.
– Да ну! А Коля?
– Коля в Киев переходит. Осторожнее – мяч!..
Мы тоже кричим, когда играем в волейбол. На то мы и пижоны. И слышат нас только знакомые, которые приехали на дачу обедать и поэтому все прощают хозяевам.
Но здесь ведь «Динамо», один из лучших стадионов мира. Место, обязывающее к очень многому.
Может быть, мы чересчур уж набросились на наших футболистов? Они такие, и этакие и по воротам бьют неважно, и темп берут не быстрый, и все такое.
В сущности, это очень хорошие игроки выносливые, смелые, отчаянные в защите и неутомимые в нападении. Их обожает Москва.
Но Москва хочет, чтоб футболисты не отставали от общего движения советского спорта к мировым достижениям, чтоб они играли не только хорошо, чтоб они играли замечательно, лучше всех в мире.
Это тем более важно, что достигнуть цели нелегко.
Беда в том, что наши футболисты ослаблены многолетними международными встречами с чрезвычайно посредственными, если не считать Турции, командами.
Но даже класс турецких игроков – это не тот класс, на который должны равняться советские футболисты. А ведь мы выигрываем у Турции с трудом, а в прошлом году один матч даже проиграли.
Нужно добиться встреч с выдающимися мировыми командами (Чехословакия, Италия, Испания, Уругвай). Пусть нас побьют. Что говорить, это будет неприятно. Болельщикам придется пережить несколько мрачных часов. Ничего не поделаешь. Гораздо неприятнее будет оставаться в задних рядах футбольных команд мира в то время, как в других областях советский спорт имеет уже несколько мировых рекордов.
Хотелось бы в заключение сделать то, что делается обычно во всех спортивных отчетах и фельетонах. Описать свалку у трамвайных вагонов, облака пыли, садящейся на счастливые потные лица бредущих в город болельщиков, описать милиционеров, которые не могут утихомирить фанатиков футбольного дела.
Но приходится обойтись без этой высокохудожественной концовки. Дороги были хорошо политы, вагонов и автобусов было совершенно достаточно и все граждане вели себя так хорошо, что милиционеры белыми перчатками утирали слезы радости.
В этом смысле европейский класс был достигнут.
Разумеется, роман Жюля Верна о полете вокруг луны – штука более интересная, чем статья об отдельных неполадках, как говорится, изредка имеющих место в некоторых звеньях товаропроводящей сети. И читать его, конечно, очень приятно. Но ничего не поделаешь. Некоторые звенья кооперации, к сожалению, находятся не на луне, а на земле. И время от времени нужно вскрывать их недочеты и в художественной форме давать отдельным негодяям по рукам.
Существует, разумеется, положительный тип кооператора и снабженца. И он, несомненно, найдет свое отражение в современной литературе. Ну, может быть, к пятнадцатому августа, к съезду писателей, отразить не успеют, но, безусловно, отразят уже в скором времени, скажем, к следующему съезду. И об этом беспокоиться не надо.
А вот что касается отрицательного типа кооператора, то тут ждать решительно невозможно. Если его не отобразить сию же минуту, то он все украдет, и нам с вами, дорогие читатели и пайщики, нечего будет покупать.
До последнего времени утехой кооперативных шакалов были усушка и утруска. За усушкой и утруской, конечно, следовали встряска и взбучка. Но все-таки это было выгодно. Взбучка бывала маленькая, а утруска большая. Шакалы наловчились и крали, в общем, незаметно. Сейчас пошли новые веяния. Стали воровать открыто и нагло.
К усушке и утруске прибавились обвешивание, обмеривание и обсчитывание.
За прилавком идет бойкая работа – подпиливаются гири, укорачиваются метры, самовольно повышаются цены. Это уж не магазин, а комната чудес.
Стремительно качаются чашки весов, летает метр, коротенький, как аршин, и продавец опытной рукой изо всех сил растягивает ткань (прием, если вдуматься, довольно простой). В толкотне и шуме ничего нельзя понять. И только придя домой, покупатель замечает, что его обокрали.
Это стало обычным.
В рабочих районах Харькова кило хлеба весит меньше, чем кило. И намного меньше. Хотелось бы, чтобы этот удивительный факт заинтересовал не только Палату мер и весов, но и другие учреждения, любящие точность.
В распределителях Электромеханического завода № 57 и № 32 постоянно недовешивают от 10 до 40 граммов хлеба.
Такая же воровская норма существует и в магазине № 54 ОРС Южных железных дорог.
В киоске Хаторга № 530 продавщица Резцова установила 30 июня новый всесоюзный рекорд обвеса – недодала покупателю Овчаренко 50 граммов хлеба, Смолину – 100 граммов и Пелехатному – 230 граммов.
Бедный Пелехатный! Подошел человек к киоску и вдруг подвергся ограблению.
Этот случай не мог остаться незамеченным. Ударники «Правды» отправились к заведующему Хаторгом Безземельному с просьбой разрешить им проверить весы. Казалось бы, в этом не было ничего обидного ни для города Харькова в целом, ни для самого Безземельного персонально.
Но главнокомандующий Хаторгом оказался чрезвычайно щекотливым в вопросах чести. Он поступил, как молодая девушка, которой неожиданно сделали грязное предложение. Он разгневался и прогнал ударников. Хорошо еще, что он не кинул им вдогонку гири. Правда, гири в Хаторге подпиленные, но даже и в этом виде они представляют собой грозное орудие обороны.
Под защитой столь вспыльчивых и благородных начальников происходит массовый обман покупателей. В большинстве харьковских магазинов продукты взвешиваются гирями клеймения 1930 года, облегченными на каждое кило по десять и пятнадцать граммов.
Так и живут. Не ходить же в магазин со своими гирями.
За кооперативными карманниками и домушниками из госторговли сплоченной группой движутся спекулянты. И это не какие-нибудь лишенцы, жалкие остатки некогда великих частников. Тут дело серьезнее. Спекуляцией занимаются руководители учреждений, бодрые члены профсоюза, иногда члены партии.
Это люди, совершенно потерявшие советское достоинство. Дух наживы овладел ими.
ЗРК завода в Одессе продает горох из своего же пригородного хозяйства своим же рабочим гораздо дороже, чем он стоит на рынке. Путем своих темных коммерческих приемов ЗРК накопил около пятнадцати тысяч рублей прибыли. Никому из этих людей даже и в голову не пришло, что их поставили для улучшения рабочего быта, а не для извлечения ростовщических прибылей.
Есть в Одессе прекрасное по замыслу учреждение – Горпотребсоюз. Еще рочдельские пионеры26, основоположники кооперации, мечтали о таких потребсоюзах.
У заведующего производством этого прекрасного, повторяем, учреждения Канторовича было два сорта камсы: маринованная – по четыре рубля, и соленая – по два рубля двадцать копеек.
И Канторович сделал то, от чего рочдельские пионеры до сих пор, наверно, переворачиваются в своих прочных дубовых гробах, – облил соленую камсу уксусом и продал ее по цене камсы маринованной. Находчивость, которой позавидовали бы старые одесские спекулянты, известные миру крайней неразборчивостью своих торговых операций.
Дело Канторовича секретарь горкома партии т. Бричкин снял с повестки бюро и передал прокурору, не задумавшись ни на минуту о его принципиальном значении. Этим и ограничилось руководство горкома политикой цен. Что же касается прокурора, то он под всевозможными предлогами затягивает расследование чуда с камсой.
Но Канторович, в общем, дитя и легкомысленный мотылек в сравнении со своими магнитогорскими собратьями по профессии.
Тут масштабы, горизонты, размах.
Трест Нарпит получил восемьсот шестьдесят восемь тысяч рублей чистой прибыли.
Прибыль огромная, но, к несчастью, не такая чистая, как это кажется директору треста Пастухову и начальнику сектора заготовок Левину.
Она сложилась из ежедневного систематического обворовывания потребителя на харьковский и одесский манер, но в магнитогорском размере.
Этот почти миллионный доход получился, несмотря на огромную бесхозяйственность, несмотря на то что множество продуктов попросту сгнило в нарпитовских складах.
В газетах следовало бы возобновить давно забытый «Отдел происшествий». Какие содержательные заметки можно было бы там помещать! Какие заголовки появлялись бы в этом отделе!
«ПОИМКА ШАЙКИ КООПЕРАТОРОВ-РЕЦИДИВИСТОВ».
«ПОД НОЖОМ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА».
«ЗАСАДА В ЗРК».
«НАЛЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ
С БАНДОЙ ОФИЦИАНТОВ НА ОБЕДАЮЩИХ».
ТОГДА ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ВСЕ БУДЕТ ЯСНО.
За буфетной перегородкой сочинского вокзала, в двух шагах от паровоза, с утра до ночи играет оркестр. Это художественный ансамбль под управлением специально приглашенного маэстро.
Играются главным образом легкомысленные мотивчики, например: «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно».
Делается это, очевидно, не столько для услаждения слуха курортно-больных, сколько для того, чтобы заглушить крики пассажиров, пострадавших от некоторых недочетов железнодорожного транспорта.
Значит, картинка такая: перрон, солнце и поезд, готовый отправиться в дальний путь. Морской ветер шумит в привокзальной роще.
Мимо цветочных клумб, мимо художественного ансамбля пассажир идет к своему вагону. Он растерянно улыбается. Давно ли на железной дороге к пассажиру относились с отвращением, старались его не замечать, а теперь вдруг такой прогресс. Пассажир показывает проводнику свой билет, и вслед за этим выясняется, что указанное на билете место издавна принадлежит начальнику поезда и что городская станция не имела права его продавать.
Пассажир начинает горячиться. Проводник сохраняет самообладание.
Но как же все-таки попасть в поезд?
Проводник этого не знает. Он говорит, что это не его дело. Его дело – сажать пассажиров с правильными билетами.
Дежурный по станции сочувствует пассажиру, но в конце концов это тоже не его дело. Его дело – дежурить по станции.
С громадным трудом пассажир и восемь человек провожающих, которые ходят за ним с растопыренными для прощальных объятий руками и с вытянутыми для поцелуев губами, находят начальника поезда.
Начальник поезда оказывается обаятельным человеком. Он готов сделать все на свете. Но билеты – это не его дело. Он не может отвечать за неправильные действия городской станции.
Итак, когда бьет второй звонок, выясняется, что на вокзале нет ни одного человека, которому было бы дело до пассажира.
Поезд трогается, бедняга с исковерканным от гнева лицом остается на платформе, провожающие приводят свои губы и руки в нормальное положение, а художественный ансамбль с удесятеренной силой и в бешеном темпе исполняет «Песнь индийского гостя», переделанную в фокстрот.
В ресторане киевского вокзала тоже играет оркестр «У самовара я и моя Маша».
Под эти жизнерадостные звуки, среди пальм, заляпанных известкой, бродят грязные официанты. На столиках лежат скатерти с немногочисленными следами былой чистоты. Под сенью засохших цветов стоят мокрые стаканы с рваными краями.
Еще дальше пошли московские вокзалы.
Большие объявления в газетах извещают всех, что на вокзале до четырех часов утра играет джаз и что специальность вокзала – пельмени.
И это не наглая реклама. Все соответствует действительности. Стоят пальмы, подаются грязноватые пельмени, и несколько человек в пиджаках и украинских рубашечках, не выпуская из рук портфелей, делают пьяные попытки танцевать румбу, а оркестранты, положив инструменты на стулья, вдруг поднимаются и постыдными голосами поют:
Маша чай мне наливает,
И взор ее так много обещает.
Ужасный запах доносится из кухни, котлетный чад плывет над перроном, и совершенно ясно становится, что кто-то ничего не понял и все напутал, что специальностью вокзала должны быть никак не пельмени под водку, а что-то другое, более железнодорожное, что в газеты надо давать не расписание вокзальных танцев, а расписание поездов. Так пассажиру будет удобнее.
Здесь нет подстрекательства к борьбе с пельменями, пальмами и танцами.
Пельмени – прекрасное блюдо. Но на грязной скатерти есть их не хочется, они не лезут в рот. Пальма хороша на своем месте. Но что может быть безобразнее пыльных ресторанных тропиков, пальмы в растрескавшейся кадушке, возвышающейся над несъедобным железнодорожным борщом или деволяйчиком! А когда поезд опаздывает на несколько часов, тогда пальма в глазах пассажира становится чисто декоративным растением, содержащим в себе все признаки очковтирательства. Что же касается фокстрота, то тут опять-таки затруднение. Раз играет джаз, то хорошо бы уж потанцевать. Но отправиться танцевать, оставив чемоданы у столика, опасно – украдут, танцевать же с багажом в руках – тяжело. Можно взять носильщика, чтобы танцевал рядом, но это не всякому по карману.
Немало мелких хозяйственников и администраторов с упорством маньяков навязывают советскому человеку свои низкопробные вкусы, свое трактирное представление о красоте, комфорте и отдыхе.
В большом трактире всегда был орган, страшное музыкальное орудие подавления психики отсталых извозчичьих масс. Он день и ночь вырабатывал громовой вальс «Дунайские волны».
В «Кавказской Ривьере», лучшей курортной гостинице на Черном море, роль органа передана радиофицированному граммофону. Без перерыва гремят фокстроты. И не в том беда, что фокстроты, а в том беда, что беспрерывно. Спастись от металлического рева можно только бегством на пляж.
Следовательно, картинка такая: аэрарий, курортно-больные лежат под тентом, их обдувает прохладный ветер, они читают книги или тихо разговаривают о своих ревматизмах, о Мацесте, о том о сем.
И вот появляется голая фигура в белой милицейской каске и с медным баритоном под мышкой. За фигурой входят еще двадцать девять голых милиционеров в парусиновых тапочках. Они несут корнеты, валторны, тромбоны, флейты, геликон, тарелки и турецкий барабан.
Курортно-больные еще не понимают, что случилось, а милиция уже расставляет свои пюпитры.
– А ну-ка, похилитесь, граждане, – вежливо говорит дирижер.
– Что вы тут будете делать? – с испугом спрашивают больные.
Вместо ответа дирижер кричит своей команде: «Три, четыре», – взмахивает рукой, и мощные, торжественные звуки «У самовара я и моя Маша» разносятся над многострадальным побережьем.
Три раза в неделю усиленный оркестр сочинской милиции дает дневные концерты, чтобы купающиеся, часом, не заскучали. А так как играть на пляже жарко, то музыканты устремляются в аэрарий. И больные, тяжело дыша, убираются вон из своего последнего пристанища. Вслед им бьет барабан, и слышится каннибальский звон тарелок.
На какие только затеи не идут хозяйственники, желающие лишь отвертеться от все повышающихся требований потребителя, читателя, покупателя, зрителя, пассажира!
Кто-то от кого-то узнал, что где-то на свете есть голубые экспрессы, которые славятся быстротой, удобством и блеском.
Завели свой голубой экспресс на линии Киев – Москва.
Слов нет, он очень голубой. Все вагоны, даже багажный, добросовестно выкрашены красивой голубой краской.
На этом сходство кончается.
Прежде всего он не экспресс: восемьсот километров делает в двадцать часов. Затем, его мягкие вагоны отделаны хуже, чем такие же вагоны в обыкновенных поездах. Затем, его вагон-ресторан грязен и кормят там плохо. Зато в купе на столиках стоят громоздкие горшки со скучными цветами, и на окнах болтаются жесткие репсовые занавески. Поставили бы еще пальмы, но не хватило места.
Хорошо хоть, что нет джаза, что не слышно треска флексатона. У нас очень полюбили джаз, полюбили какой-то запоздалой, нервной любовью.
Вообще стало обычаем заменять кабацкими пальмами и музыкой умелое и быстрое обслуживание потребителя.
Ими заменяется все: и чистота, и комфорт, и вежливость, и вкусные блюда, и хороший ассортимент товаров, и отдых. Это считается универсальным средством.
Иногда к цветам и скрипкам добавляется еще швейцар с бородой, как у Александра Третьего. Это тоже считается красиво. Как бы сказать, вечная, нетленная красота, вроде афинского Акрополя или римского Форума. Борода стоит у ворот отеля, а во всех номерах уже второй год не работают звонки.
Легче подсунуть человеку под нос вазончик с фуксиями, чем аккуратно, вовремя и бесшумно подать ему на горячих тарелках вкусный обед.
Легче оглушить человека воровскими песенками, переложенными для фокстрота, чем добиться подлинной, сверкающей чистоты на вокзале и настоящего удобства в поезде.
И происходит это не от бедности, а от глупости. И еще – от нежелания заниматься своим прямым дедом.
Его обычно тусклые глаза заблестели.
Иван Александрович Паник находился в мрачной задумчивости.
Товарищ Паник – директор советского нефтеналивного флота, и, естественно, мысли его носили более возвышенный характер, чем мысли рядовых граждан города Туапсе.
Итак, Иван Александрович размышлял.
«Работать по-новому! Мало того, по-новому руководить! Легко говорится, а как это сделать! Кажется, и так операции пароходства идут замечательно. Надо прямо и открыто сказать, что дело Совтанкера в верных руках. План неуклонно, с подлинной непримиримостью, выполняется на все восемьдесят процентов. Установочка правильная. Порядочек полный. Руководство осуществляю я лично, – значит, и с этой стороны все обстоит прекрасно. Что же все-таки еще сделать? Может быть, послать приветствие съезду писателей? Кажется, послали. Озеленить мой кабинет? Озеленили. А может быть, высечь море? Уже высекли. Ксеркс высек. Так сказать, перехватил инициативу. Смотрите пожалуйста, царь, а догадался. Что же делать?»
Положение было безвыходное.
Иван Александрович нервно подписывал бумажки и смотрел в окно. Из порта медленно выходил длинный черный танкер.
– Плавают, – с неудовольствием сказал Паник. – Хорошо капитанам. Борются себе с морской стихией и горя не знают. А ты сиди в закрытом помещении и руководи. И не просто руководи, а по-новому руководи. Это кто выходит на рейд? Какой пароход?
– «Грознефть», Иван Александрович.
– «Грознефть», – повторил Паник. – Разве это название – «Грознефть»? Это просто невозможное название, какое-то мрачное, длинное. Трудно даже выговорить – «Грознефть»! Нет, этого так оставить нельзя.
Иван Александрович вышел из-за стола. И тут наступил момент, который надолго останется в истории советского нефтеналивного флота, – глаза И. А. Паника заблестели.
– Дайте-ка сюда списки, – сказал Паник.
– Капитанов?
– Нет, пароходов. Ну, ну, посмотрим. Ой, какие ужасные названия! «Союз металлистов», «Союз горняков», «Эмбанефть», «Советская нефть»… Нет, товарищи, надо работать по-новому. Это никуда не годится. Все к черту переименовать! Пишите: «Грознефть» переименовать в «Грозный». Короче и красивей.
– У нас «Грозный» уже есть.
– Ах, есть? Тем лучше. Тогда «Грозный» мы тоже переименуем. Пишите: «Грознефть» в «Грозный», а «Грозный» – тоже в какой-нибудь город. Например, в «Ялту». Записали? Пойдем дальше. Что у нас там?
– «Нефтесиндикат».
– «Нефтесиндикат»? – закричал Паник. – А вот мы его сейчас кэк трахнем! Тут нужно что-то светлое, лазурное, бодрое, жизнерадостное, куда-то зовущее. Ну, ну, думайте.
– Прекрасное название «Иван Паник», – застенчиво прошептал секретарь. – Чудное, лазурное, жизнера…
– Но, но, без подхалимства. А назовем мы его вот как: «Ше-бол-даев». Секретарь обкома, знаете? И название красивое, и работаем по-новому, и никакого подхалимства. Ну-с, двинулись дальше.
– Дальше идет «Советская нефть».
– Фу, какое длинное и нудное название. Сколько букв в этом названии?
– Четырнадцать.
– Ай-яй-яй! Давайте название покороче.
– «Новосибирск».
– Вы с ума сошли!
– «Полтава».
– Короче!
– Еще короче? Тогда «Минск». Короче не бывает.
– «Минск»? Сейчас посчитаем. Эм, и, эн, эс, ка. Пять букв. Не годится. Надо уложиться в четыре.
Персонал беззвучно зашевелил губами.
– «Баку»!
– Замечательно. Значит, «Советскую нефть» в – «Баку».
– А «Баку»?
– Что «Баку»?
– У нас давно уже есть пароходик «Баку». Такой, знаете, маленький, черненький.
– Ага! Ну это не страшно. «Баку» переименовать в «Лок-Батан», а «Союз металлистов» в…
Заперли двери, посетителям сказали, что Паник занят срочной, сверхурочной, ударной, оперативной работой, и продолжали трудиться.
Через три дня дело было сделано, – весь нефтеналивной флот был переименован. Паник повеселел. Теперь никому в голову не пришло бы сказать, что Иван Александрович работал и руководил по-старому. Все было новое.
Сказанного здесь совершенно достаточно, чтобы составить себе точное представление о бурной деятельности туапсинского директора. Однако главное еще только будет сообщено.
Прошлым летом пароход «Советская нефть», делая заграничный рейс, подошел к Суэцу. Тут ему пришлось ждать своей очереди для прохода канала. Существует международное правило, по которому грузовые суда должны уступать очередь пассажирским. А впереди «Советской нефти» находился громадный пассажирский пароход под французским флагом.
Внезапно на «Советскую нефть» с лоцманской станции передали приглашение от капитана французского парохода пройти вперед. «Советскую нефть», спасшую команду и пассажиров с горящего в Индийском океане «Жоржа Филиппара», узнали. И когда советский танкер проходил мимо француза, команда приветствовала его криками: «Да здравствует «Советская нефть»! Да здравствует Советский Союз!»
Такие случаи не часто происходят в море. И немного есть пароходов, названия которых вызывали бы такие чувства у моряков всего мира. Таким образом, «Советская нефть» – это не просто название, состоящее из четырнадцати букв. Оно заключает в себе нечто большее. Это символ мужества наших моряков. И чтобы не понять этого, надо совсем одичать в своем кабинете, не к ночи будь сказано об Иване Александровиче Панике.
Когда маляры вылезли на корму и стали закрашивать историческое название танкера, моряки взволновались. Они протестовали, жаловались, писали заявления, личные и коллективные, но это не помогло. Море было высечено.
И «Советская нефть» стала называться «Баку». Это вызывало удивление не только среди советских моряков.
Когда новоиспеченное «Баку» прибыло в один из шведских портов, начальник этого порта долго вглядывался в знаменитые очертания танкера и ничего не мог понять. С виду «Советская нефть», а называется «Баку».
Он прибыл на пароход с визитом и все допытывался, почему пароход переименован.
– Разве это постыдное название – «Советская нефть»? – спрашивал швед.
Моряки отмалчивались. Объяснять начальнику порта, что у нас наряду с достижениями имеется и Паник, было скучно и противно.
Мы точно знаем, что случилось бы с Отто Юльевичем Шмидтом, если бы он попал под начальство Паника.
Иван Александрович сделал бы так: Шмидта переименовал бы в Сидорова, а Отто Юльевича превратил бы в Юрия Осиповича. А чтоб никто и никак уж не догадался, что перед ним стоит легендарный человек, то Иван Александрович еще сбрил бы Отто Юльевичу и бороду.
Так оно вернее.
Вот какие истории происходят на Черном море.
И ведь главное – все эти переименования ничем не вызваны, никому не были нужны, решительно не имели смысла.
А может, имели смысл? Может быть, Паник не такой уже наивный человек, как это кажется?
Например, пароход «Союз металлистов» был переименован в «Николай Янсон». Замнаркомвод.
Но не стоит сплетничать. Могут подумать, что вся сложная работа Паника по переименованиям танкеров была сделана только для этого легкого подхалимажа. Не будем сплетничать.
Есть важное и неотложное дело.
Не существенно, как оно будет рассматриваться. В порядке ли обсуждения, в порядке предложения, в порядке постановки вопроса, в дискуссионном ли, наконец, порядке. Это безразлично. Можно сделать как угодно: можно предложение в порядке обсуждения, а можно и обсуждение в порядке предложения. Важно в порядке постановки вопроса добиться какого-нибудь ответа.
Речь идет о чистоте.
– Опоздали, – скажут соответствующие люди, приставленные к этому животрепещущему вопросу. – По линии чистоты уже обнаружены сдвиги, расставлены вехи, проведены в жизнь великие мероприятия, каковыми являются всероссийская конференция дворников или, например, принудительная санобработка, введенная в красивейших южных городах нашего Союза.
Конференция действительно была. Действительно, в несметном количестве собрались дворники, стоял стол, покрытый сукном, и графин с водой, и колокольчик, и произносились речи, и были прения, и приезжал из Самары какой-то знаменитый дворник и показывал всем прочим дворникам, как надо подметать улицы. И играл оркестр, и какие-то газеты помещали по этому поводу ликующие заметки.
Ну разве это не чепуха, товарищи?
Для того чтобы подметать улицы, нужны только две вещи – метла и желание работать. А поездки, протоколы и речи – все это лишь парадная трескотня и развязное втирание очков. Деньги же, истраченные на конференции и слеты, полезнее было бы употребить на покупку машин для мытья и очистки улиц.
О санобработке уже писали.
Человека, приехавшего, например, в Харьков, не пускают в гостиницу, покуда он не предъявит удостоверения в том, что обработке подвергся.
А подвергаться не хочется. Уж очень эти места для обработки какие-то неаппетитные, грязноватые, неудобные. Туда приезжие стараются не ходить, нанимают подставных людей. Уже образовалась новая профессия. За пять рублей подставное лицо, кряхтя и отплевываясь, проходит вместо вас санобработку, тоскливо размазывает тепленькой водичкой грязь по своему лиловому телу. Это очень вредная профессия. Людям, которые ею занимаются, следовало бы, кроме денег, давать еще спецмолоко и хоть изредка водить в баню.
Что все это значит?
Тут нужно точное определение.
И болтливая конференция работников метлы, и принудительная скребница для приезжающих – это лишь частные случаи одного печального и довольно распространенного явления: «высокой принципиальности» без признаков какого-либо дела.
Вот схема, при помощи которой любой лентяй избавляется от прямых своих обязанностей, сохраняя в то же время репутацию блестящего организатора и так называемого крепкого парня.
Задание, например, следующее:
– Подметайте улицы.
Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бешеную суету. Он выбрасывает лозунг:
– Пора начать борьбу за подметание улиц.
Борьба ведется, но улицы не подметаются.
Следующий лозунг уводит дело еще дальше.
– Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц.
Время идет, крепкий парень не дремлет, и на неподметенных улицах вывешиваются новые заповеди.
– Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание.
И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже исчезает и остается одно только запальчивое, визгливое лопотанье.
– Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организации кампании борьбы.
Все ясно. Дело не сделано. Однако видимость отчаянной деятельности сохранена. А крепкий парень уезжает в Ялту чинить расшатавшийся организм.
Итак, есть предложение.
Это, конечно, не всеобъемлющий план, при помощи которого можно одним ударом покончить с доставшейся нам по наследству грязью, но предложение весьма существенное.
Хотите ли вы, чтобы было так:
Московский житель идет по улице. А может быть, по улице идет и не московский житель, идет человек, приехавший в Москву на один день.
Он утомлен, небрит и грязноват. Его помятый костюм обвис и потерял форму, а ботинки покрыты пылью. В руках у него тяжелый пакет или чемодан.
Он мрачен, потому что знает безвыходность своего положения. Чтобы привести себя в порядок, надо проявить громадную энергию и потерять много времени. Сначала к парикмахеру. Потом куда-то на другой конец города – в баню. Потом еще одна отдельная операция – чистка ботинок. А выгладить костюм вообще невозможно. Это – многолетняя, несбыточная греза холостяка, или путешественника, или просто очень занятого человека.
Так идет он по улице, грустно размышляя о неустроенности своей жизни, и вдруг видит на Трубной площади, или на Свердловской, или на площади Смоленского рынка нечто похожее на вход в метро.
Чистая гранитная лестница ведет вниз. Над ней вывеска: «Дневная гостиница».
Московский житель спускается по ступенькам и попадает в вестибюль, стены которого выложены молочными сияющими кафелями. За конторкой сидит кассирша в накрахмаленном белом халате. Под потолком горят сильные голубоватые лампы. Здесь хирургическая чистота и ощущается ровное, приятное тепло.
Рядом с конторкой кассирши висит прейскурант под стеклянной доской. Прочитав прейскурант, посетитель счастливо улыбается.
Выбрав несколько нужных ему процедур, он платит, получает билетики и входит в коридор. Та же чистота, сияние и даже, черт побери, пахнет одеколоном, хотя на дверях с правой стороны коридора отчетливо изображено по два нуля.
Посетитель отдает свои билетики белоснежной служительнице, и она открывает ему двери чудного мира. Это – мир горячей воды, губок, теплых мохнатых простынь, бритв, утюгов, одним словом, мир санитарии и гигиены.
Сперва клиента отводят в ванную комнату. Из толстых кранов с шумом бежит вода. Полотенца, простыни и мягкий купальный халат греются на специальной грелке. Клиент складывает свой костюм и ботинки в выдвижной ящик, который сейчас же исчезает в стене.
После этого он купается. Не будем описывать, как происходит этот столь необходимый человеку процесс. Немножко фантазии – и читатель сам живо представит себе, насколько это хорошо и полезно.
Затем клиента ведут в парикмахерскую. Покуда его стригут и бреют, он беспокоится о своем костюме. Уж как-то слишком загадочно он исчез в стене. Не украли ли его?
Нет, не украли. За время, проведенное клиентом в ванной и парикмахерской, костюм вычистили и выгладили. Даже пришили, черти, пуговицу, которая уже две недели висела на честном слове.
А ботинки? Ботинки почистили. И, представьте себе, даже не замазали кремом шнурков. И шляпу почистили. Ничего не забыли.
Если все эти процедуры утомили клиента, он отправляется в особую комнату, где можно отдохнуть в пружинных креслах и посмотреть свежие газеты и журналы.
Но к чему отдыхать? Сейчас московский житель или приезжий путешественник полон бодрости и сил. Теперь можно, не заходя домой, пойти в театр или в Третьяковскую галерею, или сделать предложение девушке (за такого чистенького всякая пойдет!), или двинуться на деловое собрание. В таком виде нигде не стыдно показаться. И такой вид можно приобрести быстро, на любой площади города и в любое время. «Дневная гостиница» открыта с семи часов утра до полуночи без перерыва на обед и без переучета губок и унитазов.
Идея «дневных гостиниц» не нова. Однако в Европе их нигде нет, кроме Италии. Там это дело поставлено совсем не плохо, но мы сможем и должны сделать свои дневные гостиницы еще лучше итальянских. И в наших бурно растущих городах, где осталось множество старых, плохо оборудованных, лишенных удобств домов, дневные гостиницы, если по-настоящему взяться за это дело, могут сыграть огромную культурную роль.
Они должны появиться везде: под площадями крупных городов и на больших предприятиях. И это должны быть первоклассные заведения по чистоте, порядку и удобству обслуживания. Только при таких условиях им не будет грозить опасность превратиться в санобработочные пункты, которых все справедливо избегают.
Все это совершенно реально и может быть достигнуто в ближайшее время. Была бы охота.
Тут, конечно, нужна организация всесоюзного масштаба. Это может быть, скажем, трест под названием «Дневная гостиница». Мы не знаем, в системе какого наркомата должен находиться этот трест, – в системе ли Наркомздрава или Наркомхоза. Возможно, тут понадобятся усилия обоих наркоматов. Но мы знаем, что советский человек хочет быть ослепительно чистым и что наше правительство всеми силами своими старается ему в этом помочь.
Еще одно соображение. Это уже на тот случай, если наша скромная идея встретит сочувствие и дневные гостиницы будут строиться.
Уже рассказано, что должно быть в этих гостиницах. Но есть не менее важное, чего там быть не должно. Там не должна играть музыка. Там не нужно открывать отделения сберкассы. Не надо продавать театральных билетов. Киоска с кустарными игрушками тоже не надо. В помещении не должно громко кричать радио, рекламируя новое начинание.
Не надо цветов, малахитовых колонн и барельефов, изображающих процессы купанья. Главное место должен занимать самый процесс купанья, и этому должно быть подчинено все.
Ничего лишнего, ничего постороннего, никакого увода от прямого дела. Мраморный пол, гладкие кафельные стены, горячая вода, острая бритва в умелых руках, гигроскопически чистое белье, внимательное отношение и точность работы.
Было бы ужасно, если б в вечерней газете появилось объявление:
ОТКРЫТА ДНЕВНАЯ ГОСТИНИЦА «ЛЕРМОНТОВ»
С 7 часов утра и до 3 часов ночи
играет джаз.
Танцы в халатах.
Выступление поэтов.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА СКАКОВОЕ ДЕРБИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
и
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ПИВА
Это была бы только новая иллюстрация к схеме, при помощи которой люди отлынивают от порученной им работы.
Два человека лежали на постелях в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили вполголоса.
– Как приятно, – сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь, – поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги. Разные открытия, изобретения, усовершенствования. Не успеваешь даже за всем уследить.
– Да, – сказал второй, – науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории ЦЕКУБУ27, и, знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак: два яичка всмятку, икра, основательная такая пластинка ветчины, обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе… Одним словом, очень-очень.
– Откроешь газету, – восторженно вставил первый, – сердце радуется. То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок академик, чуть ли не восьмидесяти лет, а мчится в далекую степь, что-то там роет.
– Да, да, вы правы, громадные успехи. В этом ЦЕКУБУ я прибавил восемь кило. Прекрасный санаторий. Чистота идеальная, отличный персонал, обед ровно в два. Время немножко неудобное, но зато какой обед! Холодный борщок, два вторых, мороженое. Я там полтора месяца провел. Нет, наука – это действительно.
– А искусство? – с горячностью сказал первый. – Какие грандиозные начинания! В одной Москве что делается! Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. И если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи.
– Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды, именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром, и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы, архитекторы добились больших достижений.
– Или возьмите литературу, – продолжал первый отдыхающий, – возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная беллетристика. Например, «Похищение Европы» Федина. Вам нравится? Правда, замечательно?
– Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в крымском доме отдыха не то в июне, не то в июле. Сбежал через две недели. На завтрак пустой чай с какими-то якобы булочками, да и обед в этом же стиле. Нет, ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские – эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил два месяца, отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром, одно удовольствие. Сосны, солнце, ходишь по лесу, собираешь грибы, ну, к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтоб никто не видел, и разъяряешься еще больше. Четыре с половиной кило прибавил. Нет, что говорить! Литература у нас совсем не плохая. Вот живопись действительно отстала.
– Почему отстала? – всполошился первый. – А выставка «15 лет Октября»? Я провел там несколько приятных часов.
– Вот именно, что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по шесть человек, питание из рук вон, калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали, – ну куда б вы думали? В крестьянский санаторий. Да, да, к крестьянам, к колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие-нибудь онучи сушатся, овин строят. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите – сдвиги. Конечно, сдвиги! Колоссальные! Встаешь утром: кулебяка, фаршированные яйца, великолепный студень, какао. И это где? В простом колхозном санатории Мы там прожили три месяца, горя не знали. Выйдешь на пляж, а там уже лежит какая-нибудь премированная доярка Одарка. Вот вам и сельское хозяйство. Вот вам и овин.
Первый отдыхающий беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии.
– Это не только в сельском хозяйстве, – сказал он. – В промышленности разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите Магнитку, Бобрики, Днепрогэс.
– В днепрогэсовском доме я не был, так что судить не смею. А что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром – традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивные. Заправишься с утра и уже на весь день получаешь зарядку бодрости. Я там был совсем недавно. Жалко, только один месяц прожили. Не дали нам продления. Старший врач оказался сволочеват.
– Сволочеват? – с испугом спросил первый.
– Со всеми признаками сволочизма, – бодро ответил второй.
Получив такой исчерпывающий ответ, первый отдыхающий немножко помолчал.
– А музыку вы любите? – спросил он упавшим голосом. – Согласитесь с тем, что наши композиторы…
– Позвольте, позвольте! – перебил второй. – Композиторы? Что-то припоминаю. Где же это мы были? В Абас-Тумане? Нет, не в Абас-Тумане. Кажется, в Мисхоре. Вот память проклятая стала. Ага! В Хосте. Теперь я вспомнил. Чепуха ваши композиторы! Копейки не стоят. Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкаторжанам. Ведь это смех. А почему? Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, и сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах. Слушать не желаю. Вот старые каторжане – это другая музыка. Приходишь к ним утром усталый и озлобленный после ваших композиторов, а там уже все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бородами салфеточки, стол уставлен разной едой, никаких нет порций, бери что хочешь, понимаете, хватай что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там двенадцать кило. И это, принимая во внимание изнурительные ночевки у композиторов! В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не росомахи. Фу, мерзость! Если бы не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали.
– Как на теплоходе? – удивился человек с мохнатой грудью.
– Очень просто. Из Батума в Одессу, из Одессы в Батум. Туда и обратно – пять дней. Я шесть круговых рейсов сделал, тридцать дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Что бы ни говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна, встаешь утром и действуешь смотря по погоде. Если качает, начинаешь прямо с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из восьми яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. Все-таки я немножко перехватил, пришлось поехать в Ессентуки к артистам, сбавить три-четыре кило. Если будете в Ессентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов, там в шестом корпусе хорошенькая няня. Проситесь прямо в шестой корпус.
Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал. А второй с жаром продолжал:
– Веселые люди эти артисты. Театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром – анекдоты, истории, сценки. Совершенно неистощимые люди, нахохочешься. Потом идешь обедать. Курятину дают, гусятину, индюшатину, что хочешь. Я сам не артист, но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как ниточкой привязан. Но никогда не приезжайте в Ессентуки зимой. Скучно и паршиво. Зимой надо ехать в Карелию. Там, возле Петрозаводска, такой санаторий, просто сил нет. Встаешь утром – лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прямо скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром… хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее, езжайте в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха и сейчас же со своей семьей поеду в свиносовхоз отдыхать. Там у меня директор приятель. Встаешь в свиносовхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, окорочек. Тут же дети, жена, бабушка. Утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитанье. Но, с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты. Неправда?
Появилась дежурная сестра и, подав собеседникам по термометру, вышла.
Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и, наморщившись, спросил:
– Скажите, голубчик… Я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение… Чей это дом отдыха?
– Этот?
– Ну да. Этот, в котором мы сейчас находимся.
– Это дом отдыха работников связи.
– Ах, совершенно верно! Работников связи! Я и забыл. Неплохой дом. Ведь какая, казалось бы, чепуха – связь, а вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил. Ведь сегодня еще обедать, а в пять часов чай, а в семь – ужин! Все-таки тяжелая жизнь!
Заметили ли вы странную черту, особенность, часто наблюдаемую в отношениях между людьми, нуждающимися в обслуживании, и некоторыми мрачными субъектами, их обслуживающими?
Человеку надо, скажем, записаться на прием в амбулаторию. Он – в одном конце города, а амбулатория – в другом. Человек звонит по телефону. Ему с раздражением отвечают, что по телефону запись не производится. Надо явиться лично. Почему лично? Потому что… и все. Вешается трубка.
И вот человек тащится через весь город для того лишь, чтобы назвать свою фамилию, узнать день приема и тотчас же уйти. А телефон, великое изобретение XIX века, специально созданное для облегчения человеческой жизни, остается неиспользованным, неосвоенным.
Странное и удивительное явление!
Как часто можно натолкнуться на служебное лицо, которое стилем своей работы избрало придирчивость и лишенную смысла строгость!
Вот что произошло несколько дней назад.
Одной женщине сделали аборт. Когда она вернулась домой, ей вдруг стало плохо, началось сильное кровотечение. Это был очень опасный случай, требующий немедленной операции. Женщину повезли в больницу.
Здесь, вместо того чтобы сию же минуту передать больную хирургам, ее посадили в приемную и заставили ждать очереди не к операционному столу, а к канцелярскому, где заполняются опросные листки. Напрасно говорили дежурному, что больная истекает кровью, что анкету можно заполнить потом, что не в учетных деталях сейчас дело.
Это не помогло.
Дежурный поступил по всей форме, запись производил в порядке живой очереди, нисколько не помышляя о том, что последнее звено этой живой очереди находится в полуживом состоянии. Когда пришел черед несчастной женщины, то и тут из правила не сделали исключения: проверялись документы, заполнялись пункты – возраст, образование, национальность (очень важна в такой момент национальность, особенно в Союзе Советских Социалистических Республик!).
Когда женщину повели наконец в хирургическую, вся скамья, на которой она сидела, и пол под ней были залиты кровью. Хорошо сделано?
Итак, когда пришлось выбирать между человеком и формой, выбрали форму, опошлили ее и извратили ее смысл. Да и как, в самом деле, экстренно оперировать женщину, когда не знаешь, где она служит: в тресте ли, в синдикате ли, да сколько у нее родственников и сколько каждому из них лет и к какому полу они имеют честь принадлежать.
И если можно оправдать эту болезненную любознательность в отношении человека с невинным нарывом на пальце, то совсем уж нельзя понять, как мог дежурный заставить женщину, жизнь которой находится в опасности, принять участие в его статистических упражнениях.
Кто воспитал эту безмятежную тумбу? Как могли привиться в лечебном учреждении хладнокровные навыки, имеющие смысл разве только при допросе в уголовном розыске? В больничных правилах внутреннего распорядка, помимо всего, что написано, подразумевается еще и самое важное – сердечное отношение к людям. В этом стержень всякого по-советски усвоенного правила!
Чтобы покончить с областью медицины, надо сказать несколько холодноватых слов о родильных домах.
Охотно верится тому, что в этих домах безукоризненно чисто, что трудолюбивые уборщицы хлопотливо гоняются там за каждой пылинкой, что там работают врачи-виртуозы, что неумелым практикантам не дают принимать новорожденных без надзора, что белье там ослепительной белизны, что роженицы получают вкусную, здоровую еду и совершенно нет никакой надобности приносить пищу из дому, что сам наркомздрав объезжает иногда родильные дома и лично интересуется всеми тонкостями этого дела.
Но вот есть претензия.
В приемных родовспомогательных заведений толпятся счастливые отцы. Лица у них бледны и перекошены. Возбужденные и растерянные, они кидаются на каждого человека в белом халате. Эти чудаки хотят узнать, как чувствует себя любимая жена, принял ли грудь новорожденный, не грозит ли обоим какая-нибудь опасность.
Но человек в белом халате часто ничего не сообщает. Близкие находятся в полном неведении и, уж конечно, не получают свиданий. Дело поставлено оскорбительно сухо. Никаких этих душевных штучек-мучек! К молодому отцу относятся с суровой безразличностью, словно он не муж. Если что-нибудь случится с роженицей, тогда сообщим, а раз не сообщаем, значит, все в порядке.
Как это непонятно, неверно, обидно!
Произошло громадное событие, родился ребенок. И отец этого ребенка – не статистическая единица, а живой человек, не лишенный чувств. Пусть его вопросы кажутся смешными и докучливыми, но на них надо ответить. Ведь он растревожен до крайности, чуть ли не сам болен. Его надо успокоить, рассказать ему, объяснить.
Так ли уж трудно выжать из себя обыкновенную человеческую фразу:
– Ну, товарищ, все в порядке. Жена вам кланяется и чувствует себя отлично. Температура тридцать шесть и восемь. Роды? Нет, были не тяжелые, так, средние. Но вот мальчишка у вас получился первоклассный, любительский. Ест с большим аппетитом.
Ручаемся, что нежная улыбка появится на зеленом лице родителя. И если в эту минуту еще ободрительно похлопать его по плечу, то он выскочит из приемной, обезумевший от радости, и с пеной на губах будет убеждать своих знакомых, что нигде в мире нет таких гениальных акушеров, как в районном родильном доме № 68, в Кривособачьем переулке.
Так легко, так просто! Немножко души, той самой души, которая, как известно, является понятием бессодержательным и ненаучным. Что ж делать, ненаучно, но полезно.
Вы, конечно, заметили, что если служебная тумба, пользуясь своим положением, может вам причинить неудобство или неприятность, то сделает это почти всегда. И неизвестно почему, так как интересы дела, ему порученного, требуют обратного тому: чтобы он был мил, любезен и даже ласков.
Построили большой новый дом. Его строили долго, тщательно, ввели самые современные удобства в квартирах, не забыли о внешней красоте, снабдили фасад достаточным количеством колонн и барельефов. Снимки с этого дома печатались в газетах. Открывали дом с большой помпой. Действительно, дом был хорош.
Когда последний грузовик вывез со двора последний строительный мусор, в здание вошел управдом. Вошел и тотчас же заколотил грязными досками широкие стеклянные подъезды и приклеил тестом объявления, на которых ужасными лиловыми буквами было выведено: «Подъезд закрыт. Ход со двора».
Чувствовалась в начертании этих мрачных каракулей старательность идиота, пишущего, высунув толстый язык и подперев кулаком голову.
Стоило ли строить красивый вход с рубчатыми стеклами, чтобы написать на нем, что входа нет и что в квартиру надо ползти со двора? А так как двор есть двор, общественность его не видит и фотографии с него не печатаются, то уж будет жилец несколько лет спотыкаться там о брошенное кем-то ведро от известки, проваливаться в ямы и стукаться лбом о притолоку черного хода.
Такой управдом не одинок. Заколачивание дверей становится манией. Это делают иногда и в театрах, и в универмагах, и в учреждениях, куда приходят тысячи людей, то есть именно там, где двери больше всего нужны и где догадливый архитектор старался понастроить их как можно больше.
Есть еще одно любимое занятие у людей подобного рода. Это – возведение заборов.
Когда-то еще на этом месте будет что-то строиться, а забор уже стоит, охватывая весь тротуар и сгоняя пешеходов на мостовую под колеса автомобилей.
Из любви к строительству пешеход пойдет на все неудобства. Но если за забором иногда по году ничего не строится, если еще только ведется титаническая борьба за участок между жилкооперативом баритонов и организацией глухонемых, то пешеходу становится обидно. Тем более что на его жалобы отвечают грубыми и глупыми фразами, которые стали знаменем всех безмятежных тумб, причисляющих себя к начальству:
– Ничего, пройдешь и так!
– Раз сделано, значит, надо!
– Скажи пожалуйста, ему неудобно! Удобства стал искать!
Если приходит повестка или извещение, то каково бы ни было их содержание, хотя бы это было приглашение на диспут об архитектуре или даже на танцевальный вечер, уж будьте покойны, в конце найдется приписка: «Явка обязательна. За неявку то-то и то-то». Не очень, конечно, страшное «то-то», скажем, угроза в другой раз не пригласить на танцы, но все-таки противно читать. Слышится делопроизводительский окрик, чудятся решительно сдвинутые брови и сверкающие глаза.
Тумба проявляет строгость там, где нужна простая деловитость, сухость там, где нужна внимательность, и беспардонность там, где нужно уважение к жителю социалистической страны. Ему легче всего отнестись к обслуживаемому человеку как к лицу подозреваемому, окружить его наибольшим количеством всевозможных формальностей и свою плохую работу свалить на него. Он, мол, и недисциплинированный, он и правил не хочет исполнять, он и вообще мешает работать.
Это встречается не только в быту, это было и в искусстве.
Когда режиссер изготовлял дрянной фильм, где обсосанные двадцатью консультантами благонамеренные герои совершали взвешенные на аптекарских весах положительные поступки, где черствые, неестественные юноши скучно ликвидировали некий прорыв и бездарно достигали своего хрестоматийного счастья, а зритель на этот фильм упорно не ходил, тогда и режиссер, и его директор поднимали ужасный крик:
– Вот видите, не ходят на идеологические фильмы! А почему? Потому что зритель у нас невыдержанный, чуждый, ни черта не понимает в искусстве. Ему подавай Монти Бенкса.
История обычная – зритель брался киночиновниками под подозрение. Мы хорошие и талантливые, это он плохой, мещанский и недоросший.
А вот у «Чапаева» почему-то оказались замечательные зрители. Миллионы зрителей, вполне доросших, идеологически выдержанных, хорошо разбирающихся в искусстве, революционных в душе и советских во всех своих делах.
Это те самые люди, которые протестуют против безмятежных тумб, извращающих советские законы и традиции, против их комариных укусов, надоедливых и противных.
Журналы бывают толстые и тонкие.
Но это только в теории. На самом деле тонких уже давно нет. Они закрылись. Подписчикам обещали вернуть деньги, но не вернули. (Согласитесь, было бы просто бесхозяйственностью разбрасывать деньги направо и налево.)
Итак, остались толстые. Среди них есть более толстые и менее толстые. И чем тоньше толстый журнал, тем многочисленнее его редколлегия. В самом тонком толстом количество членов редколлегии достигает двадцати человек. Если бы этих людей собрать вместе, то получилась бы внушительная демонстрация, так сказать, боевой смотр литературных сил.
Но разве их соберешь! Их невозможно собрать. Большинство из них вообще не знает, что состоит в членах, а меньшинство к литературе никакого отношения не имеет, литературы не любит и занято на хозяйственной и профсоюзной работе. Тем не менее редколлегии разрастаются, и скоро уже вместо заседаний надо будет применять более совершенные методы собирания людей в одну кучу: «Объединенную конференцию членов редколлегии журнала “Всюду жизнь”», или «Всесоюзный слет членов и кандидатов редколлегии журнала “Критик на стреме”». Собираться можно в филиале Большого театра или в зале консерватории, только не в малом, а в том, который побольше, там, где портреты розовощеких композиторов в ермолках и париках.
В чем же дело? Почему существуют редколлегии, которые ничего, собственно, не делают и, скажем откровенно, совсем не нужны трудящемуся человечеству?
Редколлегия превращается в громадное учреждение, потому что при ее составлении не желают никого обидеть. Она создается по такому же принципу, по какому составляется любой литературный президиум.
В коллегию обязательно входят:
1. Один ведущий писатель (лучше два ведущих или три; было бы, конечно, еще лучше человек семь ведущих, но столько не наберешь, нету).
2. Три ведущих критика.
3. Один неведущий критик.
4. Один завидущий критик (чтоб не обиделся).
5. Процент женщин.
6. Процент нацменов.
7. Процент братских писателей.
8. Процент оборонных писателей.
9. Процент беспартийных дарований.
10. Процент бывших рапповцев (чтоб не обиделись).
11. Представитель Оргкомитета (чтоб присматривал за бывшими рапповцами насчет групповщины).
12. Один писатель, недавно сброшенный со щита (он же тайный эмиссар бывших рапповцев, чтоб наблюдал за представителями Оргкомитета).
13. Процент детских писателей.
14. Один ведущий поэт с двумя приспешниками.
15. Один бывший внутрирапповский попутчик.
А дальше идут уже странности, сон, бред:
16. Тов. Ошейников (Стройнадзор).
17. Тов. Мизерник (Книгосбыт).
18. Тов. Клемансон (Мосоргвывод).
Все это так тонко обдумано, так внимательно учтены все литературные интересы и нюансы этих интересов, что, казалось бы, работа редколлегии должна принести грандиозные плоды. Но все ухищрения пропадают даром. Никакие такие особенные плоды не вызревают.
Члены редколлегии и не думают собираться. Они до такой степени привыкли к этой многолетней фикции, что им и в голову не приходит принять свое назначение всерьез.
Однако, если их не включают в члены, они очень сердятся, принимают меры, хлопочут, даже плачут. Они обидчивы, как артисты летней эстрады.
И чтоб с ними не связываться, не вести лишних разговоров, их включают в различные списки. Таким образом, во всех толстых журналах существует почти одно и то же литературное начальство с небольшими вариациями: вместо одного завидущего критика иногда бывают два; иногда процент детских писателей бывает недостаточен, – например, вместо полутора процента детских включают только полпроцента (это дает возможность детским писателям поднять крик о том, что их затирают взрослые писатели в союзе с оборонными). А иногда забывают т. Клемансона (Мосоргвывод), и он попадает не в двенадцать редколлегий, а только в восемь.
И вечером бледный Клемансон (Мосоргвывод), сидя за чаем с женой, говорит хриплым голосом:
– У меня есть враги. Это штуки Мизерника.
И он долго рассказывает жене о подлостях Мизерника (Книгосбыт).
Если к этому добавить, что ответственный редактор, как правило, не является ни взрослым писателем, ни детским, ни оборонным, ни женским, что он не пишет стихов, не сочиняет критических статеек, никогда не ходит в свою редакцию, а дома снимает телефонную трубку, чтобы к нему никак нельзя было дозвониться, что он к искусству вообще относится отрицательно, – то, как говорится, во весь рост встает вопрос о том, кто же все-таки делает журнал. Журнал-то ведь выходит. Раз в четыре месяца, но выходит ведь.
Журнал делает молодой человек, начинающим технический работник.
В первый год своей деятельности он еще очень скромен, смотрит на писателей расширенными глазами, носит ковбойку с открытой грудью и штаны с велосипедными браслетками на щиколотках. От него еще пахнет фабзавучем, и он с почтением произносит слова: гранки, боргес, рамка, шмуцтитул, колонцифра.
К началу второго года у него на шее появляется галстук из универсального базара, писатели уже угощают его папиросами, и он звонким голосом кричит в телефон:
– Возьмите Гладкова на шпоны, тысячу раз вам говорил! Никулина оставьте в загоне, не входит. Ничего! Он уехал в Кисловодск, не узнает. Да, и не забудьте вставить в список сотрудников Ошейникова и обязательно инициалы поставьте – М.И. А то он обижается.
Покуда молодой человек еще руководится чисто техническими соображениями, но на третий год деятельности ему приходится самому приглашать авторов, читать рукописи и давать ответы, потому что если это не сделает он, никто этого не сделает и журнал механически закроется. Это было бы еще полбеды. Но тогда он, молодой человек, потеряет службу. А это уже не годится.
И в то время как сброшенный со щита интриган вступает в беспринципный блок с двумя ведущими критиками и процентом женщин против завидущего критика, объединившегося с бывшим внутрирапповским попутчиком и процентом беспартийных дарований, в то время как Клемансон (Мосоргвывод), прикрываясь именами ведущих писателей, тихо добивает Мизерника (Книгосбыт) и Ошейникова (Стройнадзор), – молодой энтузиаст типографского дела принимает на себя всю полноту власти в редакции.
Теперь на нем сиреневый костюм. Молодыми зубами он грызет мундштук вишневой трубки и кричит голосом леопарда:
– Слабо! Не пойдет! Надо короче! Учитесь у Габриловича. Фигура Перловского у вас получилась неубедительной. Нам нужен социалистический реализм, а у вас поздний романтизм. Да, заходите, конечно. Только не в пятницу. В пятницу я на даче.
Как будто все.
Есть еще одно соображение, но какое-то оно слишком уж оригинальное, неожиданное, – кажется, даже неприличное:
– Не нужен ли толстому журналу редактор? Чудный взрослый редактор, такой редактор, который приходит в свой журнал утром, который уходит вечером, который работает так, как работают тысячи директоров заводов. Пусть сам читает рукописи, пусть сидит с карандашом в руках, правит, говорит с авторами об их произведениях, пусть, черт возьми, обожает литературу, пусть жить без нее не может, пусть обливается слезами радости, найдя новый талант, пусть ищет эти таланты и ко всему этому пусть будет ответственным.
В конце концов писателю не так уж много нужно.
Сказать правду, русские белые – люди довольно серые. И жизнь их не бог весть как богата приключениями. В общем, живут они в Париже, как в довоенном Мелитополе. Это не так уж легко – устроиться в Париже на мелитопольский манер. Но они сумели, не поддались губительному влиянию великого города, устояли, пронесли сквозь испытания и бури все, что там полагается проносить.
Есть даже две газеты. Ну что же, в любом уездном городке тоже было по две газеты. Одна называлась, примерно, «Голос порядка» и делалась людьми, близкими к кругам жандармского управления, другая была обычно безумно левая, почти якобинская, что не мешало ей, однако, называться весьма осторожно – «Местная мысль». Это был отчаянный рупор городской общественности. Не столько, конечно, общественности, сколько владельца местного конфекциона мужского, дамского и детского платья или каких-нибудь мыловаров, объединившихся на почве беззаветной и беспринципной любви к прогрессу.
Значит, есть две газеты: «Возрождение», так сказать, «Ля Ренессанс» и «Последние новости», так сказать, «Ле дерньер нувелль».
Казалось бы, обоим этим печатным органам давно следует объединиться, назвавшись, как это ни покажется обидным нашим автодоровцам, «За рулем», потому что читают их преимущественно шоферы такси – эмигранты – на своих стоянках.
Но этого никогда не будет.
Газеты непримиримы. Никогда прямолинейный «Голос порядка» не опозорит себя соглашением с «Местной мыслью», мягкотелой и грязно-либеральной.
Разногласие ужасно велико. Идейные позиции подняты на неслыханную принципиальную высоту. Кипит борьба, печатаются сенсационные разоблачения. И потрясенные белые шоферы в волнении давят на парижских улицах ни в чем не повинных французских рантье.
А спор вот из-за чего.
«Последние новости» заявили, что генерал Шатилов никакой не генерал, а полковник и генеральский чин возложил на себя сам, без посторонней помощи.
«Возрождение» заволновалось. Это что же такое? Большевистская самокритика?
Нет, генерал! И не сам на себя возложил, а на него возложили. И есть документы и свидетели. Но документов «Возрождение» почему-то не предъявило и свидетелей не показало.
В дело впутался Деникин.
«Милостивый государь, господин редактор. Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты…»
Одним словом, конечно, не генерал. Вылитый полковник.
Но «Возрождение» притащило какого-то своего бородача. Он весь был в лампасах, эполетах и ломбардных квитанциях на заложенные ордена. Глаза его светились голодным блеском.
«Милостивый государь, господин редактор. Позвольте через посре…»
Лампасы утверждали, что своими глазами видели, как Шатилова производили в генералы. И они клялись, что это было волнующее зрелище. Даже солдатики, эти серые герои, якобы плакали и якобы говорили, что за таким генералом пойдут куда угодно, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в медные музыкантские трубы.
Драка на кухне разгоралась.
– Не генерал, а полковник!
– Нет, не полковник, а генерал!
– Не только не генерал, но и георгиевский крест сам на себя возложил.
– Ничего подобного! Генерал – и с крестом!
– Нет! Без креста – и полковник!
– Сам полковник!
– От полковника слышу!
«Позвольте через посредство вашей уважаемой газе…»
– Нет, уж вы позвольте через посредство…
Приводили статуты, постановления георгиевской думы, приносили какие-то справки от воинских начальников, дышали гневом и божились.
И об одном только забыли. Никаких статутов нет, и о георгиевской думе никто на свете не помнит, и чертовых воинских начальников не существует, и все вместе с клоунскими лампасами и эполетами – давно забытая и никому не нужная труха, дичь, многолетний сон.
Как ни различны идеалы борющихся сторон (Полковник! Нет, генерал!), тон у них совершенно одинаковый – жалобный и болезненно обидчивый. Ничто им на земле не мило, все им не нравится, даже не ндравится.
«В Париже суровая зима. 6 градусов мороза».
И сразу на лице брезгливая улыбка.
– Ну какая же это зима! Разве это зима? Вот у нас была зима. Это была зима!
«В течение пяти часов полиция не могла разогнать разбушевавшихся демонстрантов».
Болезненная гримаса.
– Ну кто ж так разгоняет? Разве так разгоняют? Вот у нас разгоняли так разгоняли!
Длительная, скрипучая, бесканифольная ноющая нота висит над Парижем. Не нравится, ну, понимаете, ничто не нравится.
«Кантор Шапиро в зале мэрии 19-го аррондисмена прочтет доклад «Самодержавие, православие и народность». Вход бесплатный. На покрытие расходов 3 франка с человека».
Никто не пришел. Не покрыл кантор своих расходов по самодержавию.
Проклятое невезенье! Нет на земле счастья, нету!
Вдруг счастье привалило. Бунин получил Нобелевскую премию. Начали радоваться, ликовать. Но так как-то приниженно и провинциально ликовали, что становилось даже жалко.
Представьте себе семью, и небогатую притом семью, а бедную, штабс-капитанскую. Здесь – двенадцать незамужних дочерей и не мал мала меньше, а некоторым образом бол бола больше.
И вот наконец повезло: выдают замуж самую младшую, тридцатидвухлетнюю. На последние деньги покупается платье, папу два дня вытрезвляют, и идет он впереди процессии в нафталиновом мундире, глядя на мир остолбенелым взглядом. А за ним движутся одиннадцать дочерей, и до горечи ясно, что никогда они уже не выйдут замуж, что младшая уедет куда-то по железной дороге, а для всех остальных жизнь кончилась.
Вот такая и была штабс-капитанская радость по поводу увенчания Бунина.
Вместе с лауреатом в Стокгольм отправился специальный корреспондент «Последних новостей» Андрей Седых.
О, этот умел радоваться!
Международный вагон, в котором они ехали, отель, где они остановились, белая наколка горничной, новый фрак Бунина и новые носки самого Седых были описаны с восторженностью, которая приобретается только полной потерей человеческого достоинства. Подробно перечислялось, что ели и когда ели. А как был описан поклон, который лауреат отвесил королю при получении от него премиального чека на восемьсот тысяч франков! По словам Седых, никто из увенчанных тут же физиков и химиков не сумел отвесить королю такого благородного и глубокого поклона.
И снова – что ели, какие ощущения при этом испытывали, где ели даром и где приходилось платить, и как лауреат, уплатив где-то за сандвичи, съеденные при деятельном участии специального корреспондента «Последних новостей», печально воскликнул: «Жизнь хороша, но очень дорога!»
Но вот событие кончилось, догорели огни, облетела чековая книжка, начались провинциальные парижские будни.
«Чашка чаю у полтавских кадетов. Рю такая-то. Остановка метро Клиши. Вход бесплатный. На покрытие расходов 3 франка».
Ну и что же? Чай выпили, чашку украли. Расходов не покрыли. И вообще перессорились за чашкой. Одни кадеты говорили, что большевиков должны свергнуть иностранцы, другие, – что большевики неизбежно свергнут себя сами, и тогда они, пятидесятилетние полтавские кадеты, поедут в Полтаву кончать кадетский корпус и заодно наводить порядок.
Люди с кряхтеньем переворачиваются на другой бок. Многолетний сон продолжается.
В Париже – зима, а у серых белых – невыносимая летняя клязьминско-парголовская скука. Правда, одно время спасало чудовище озера Лох-Несс.
О чудовище писали с трогательным постоянством каждый день. Оно появилось в шотландском озере и там обитало. Оно было очень большое, страшное, горбатое, допотопное и выходило на сушу, чтобы есть баранов, а затем играть при лунном свете. К людям чудовище относилось недоверчиво, особенно к журналистам, и при виде их с шумом погружалось в воду.
Все попытки рассмотреть чудовище поближе ни к чему не привели. Оно немедленно с шумом погружалось в воду.
Молчаливый сговор редактора со своими читателями продолжался долго. Всем было понятно, что приключения чудовища – это детские враки, но надо же как-нибудь развлекаться! Однажды пастор Твид прогуливался по живописным берегам озера Лох-Несс. Вскоре в мутном лунном свете глаза его различили неясные и громадные очертания чудовища. Неустрашимый пастор постепенно сделал несколько шагов вперед, но было уже поздно. Чудовище озера Лох-Несс с шумом погрузилось в воду.
Через два месяца шумов, всплесков и погружений пришлось перейти на новую тематику, перестроиться. «Возрождению» помогло необыкновенное и счастливое стечение обстоятельств. На заброшенных фортах Брест-литовской крепости появилась тень великого князя Николая Николаевича. Она тяжко вздыхала и смотрела в бинокль на Запад. (Мы знаем, куда смотрела тень. Она смотрела в сторону озера Лох-Несс.) Спугнутая. людьми, тень с шумом погрузилась…
Кроме домашней склоки по поводу чинов и орденов, кроме общественных чашек чаю и подозрительных ихтиозавров, есть главная тема – Совдепия. (С маниакальным упорством пишут до сих пор: «Совдепия», а не Советский Союз, «большевицкий», а не большевистский – так выходит как-то обиднее.)
Итак, Совдепия.
О, здесь писать можно совершенно просто!
Землетрясение в Ленинакане! Ха-ха-ха! Без крова осталось десять тысяч человек! Ха-ха!
В Каспийском море оторвавшаяся льдина унесла в открытое море шестнадцать рыбаков. Судьба их, ха-ха, неизвестна.
Ха-ха-ха! Большой пожар в Пензе. Объятые пламенем жильцы, хи-хи, погибли.
Железнодорожная катастрофа в Совдепии. Первый вагон буквально сплющило. Хо-хо-хо!
Но не все же пожары, бури и толчки в девять баллов. Печально, но Советы имеют достижения. Скрыть это невозможно, но можно оформить по-своему, подать не на той сковородке.
Вот статья о советских парашютистах.
Да, они прыгают. И поставили мировые рекорды. Но отчего они прыгают? Оттого что жизнь плохая, с голоду прыгают.
Честное слово, любимая газета «Ля Ренессанс» напечатала большими буквами статью, смысл которой сведен к чудовищной сентенции горбуновского холуя – «от хорошей жизни не полетишь».
Хочется скорее окончить фельетон, чтобы развязаться наконец с этим мрачным скопищем неудачников, злобных психопатов и просто откровенных мерзавцев.
Остается политическая позиция.
«Ле дерньер нувелль» полагается главным образом на чудо. Беспрерывно слышится бормотанье:
– Революция приведет к эволюции, эволюция к контрреволюции. И все будет хорошо!
«Ля Ренессанс» хочет действовать немедленно. У нее объявился новый дружок:
– Пресветлый батюшка, царь-микадушко, мы твои детушки, самурайчики Семенов с Гукасовым. Нам много не надо. По нескольку тысяч га на человека и небольшое государство со столицей в Чите, какая-нибудь там Россия-Го, с японизацией алфавита. А гимн можно составить очень быстро. Текст взять из «Жизни за царя», а музыку дать из «Мадам Батерфляй». Будет хорошо и патриотично.
Одним словом, пронесли сквозь бури и испытания все, что полагается проносить. Устояли.
Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый собачий холод.
В Москве некоторые термометры показывают тридцать четыре градуса, некоторые почему-то только тридцать один, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже тридцать семь. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реомюра, и не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру – тридцать три градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде.
Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:
– Просто удивительно, до чего холодно!
– Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцова моря.
– Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают. А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха.
– Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее.
– Не может этого быть.
– Уверяю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите. Понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который и захватит нас своим хвостом. Понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова.
– Позвольте, что же все-таки холоднее – циклон или антициклон?
– Конечно, антициклон.
– Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз.
– В хвосте действительно очень холодно.
– А антициклон?
– Что антициклон?
– Вы сами сказали, что антициклон холоднее.
– И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона. Кажется, ясно.
– А сейчас мы где?
– В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите?
– Отчего же так холодно?
– А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему?
Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить вконец изовравшегося человека совсем не трудно.
Такой человек приходит в гости, долго раскутывается; кроме своего кашне, снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет:
– Пятьдесят два. По Реомюру.
Хозяину, конечно, хочется сказать: «Что ж ты в такой мороз шляешься по гостям? Сидел бы себе дома», – но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит:
– Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было пятьдесят четыре, а сейчас безусловно холоднее.
Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит:
– Шестьдесят, шестьдесят! Ну, нечем дышать, совершенно нечем.
И все трое отлично знают, что вовсе не шестьдесят, и не пятьдесят четыре, и не пятьдесят два, и даже не тридцать пять, а тридцать три, и не по Реомюру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее.
Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло.
Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов, вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых (один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом двенадцать минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек) и еще множество сообщений подобного рода.
Но венцом всего является рассказ о дедушке. Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. (Например: «мой дед был крепостным», на самом деле он имел хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку.) Так вот во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания.
Рассказ о дедушке хранится в каждой семье.
– Вот мы с вами катаемся – слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню (тут рассказчик краснеет, очевидно от мороза), простой был крепостной мужик и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли, бодрый старик?
– Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этак градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется – и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно.
Здесь второй рассказчик багровеет, как видно, от выпитого чаю.
Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами – ну как вы думаете, сколько? – сто тридцать два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз!
Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а тридцать три градуса это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально.
Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь десять—пятнадцать градусов ниже нуля.
Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет – доделывается метро, театры полны (лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль), милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.
В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны известкой. Спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно галдят.
– Что случилось? – спрашивает гость.
– Что случилось? – замогильным голосом говорит хозяин. – Случилось то, что мы гибнем. Погибаем. Все кончено.
Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно подымает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует:
– О, зачем, зачем я решился на этот ужасный шаг! А так было хорошо, такая разворачивалась нормальная семейная жизнь! Помнишь, Лена, еще недавно, каких-нибудь две недели назад… Мы пили чай по вечерам. Я отдыхал в этом кресле. Наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь…
– Что же все-таки произошло?
– Маляры! – говорит хозяин, обводя комнату блуждающим взглядом.
При этом слове жена начинает плакать, из коридора доносится грохот и сейчас же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка.
– Видишь, – сквозь слезы говорит жена, – надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых. Он бы в два дня все сделал.
– Тихого старичка? – взвизгивает хозяин. – Этого садиста?
Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело.
Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт.
Где таятся маляры, где их искать, к кому обращаться? Ничего не известно! В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. Если повезет, то уже на третий-четвертый день хорошо организованной слежки (желательно разослать в разные концы города всех членов семьи) удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе.
Фигура неторопливо и значительно оглядывает объект работы и после долгого кряхтенья заявляет:
– Что ж, купоросить надо. Без купоросу никак нельзя. Купорос, он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, если не прокупоросишь, колеру правильного не будет. А можно и не купоросить.
– Так как же все-таки лучше? – подобострастно спрашивает наниматель. – С купоросом или без купороса?
– Ваше дело, хозяйское. Одни любят с купоросом, другие без купороса.
– Тогда на всякий случай прокупоросьте. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой веселый, канареечный, солнечный.
– Кроном, значит? – степенно говорит маляр. – Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и как есть покрасим. Кроном. Отделаем уж как полагается, хозяин.
Другую комнату договариваются выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает.
Переговоры длятся часа два. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь, цокает языком и сокрушенно взмахивает руками.
– Ну, кажется, все, – нервно говорит хозяин. – Во сколько же это обойдется?
И тут начинается Художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце.
– Вот карточки отменили, – говорит наконец маляр.
– И очень хорошо, – оживляется хозяин. – Какая же будет цена?
– Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом?
– Как с моим купоросом? Где же я вам возьму купорос?
– Этого мы, маляры, не знаем.
И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняется, что он все может достать – и проклятый купорос, и крон, и белила, и даже загадочный стронций.
Но вот он называет цену. Триста рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Идет длительный базарный, азиатский торг. Попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам.
Хозяин соглашается на все. По вечерам так по вечерам, двести пятьдесят так двести пятьдесят. Только бы поскорее. Надоели грязные стены, трещины, моль, вся эта чертовщина.
Ночью семья работает: стаскивают в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр ровно в шесть часов вечера.
Но его нет ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах.
Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще трех мастеров – двух стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке (спинжаке). Он тоже хмыкает, мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса.
Весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пьют чай и поглядывают на потолок. Потом потихоньку и стройно начинают петь:
Эх вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!
Степная удаль и тоска слышатся в этой старинной разбойничьей песне. И сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогэса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, XVIII век, а может быть, даже XVI.
Напившись чаю и напевшись вдосталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина двадцать пять рублей на приобретение крона и уходят. А мальчик остается купоросить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе.
– Ты что, с ума сошел? – кричит хозяин.
– Купорос, он колеру не любит, – бормочет ужасное дитя. – Он свое действие оказывает, осадку дает.
– Это бред! – говорит хозяин.
И он прав, начинается бред.
В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворены полученным задатком.
Три дня несчастная семья на что-то надеялась. Потом знакомые рекомендуют некоего Вавилыча, кристального старика.
Кристальный старик приходит, с хватающей задушу медлительностью осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном – все за двенадцать рублей. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят.
Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя. И стены и потолки вымазаны какой-то дрянью.
Приводят еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет, что начать работу сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники.
И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек – непонятно. На кухне рыдает хозяйка.
– Неправильно сделали, – говорят бессердечные знакомые. – Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы.
– Если бы я знал! – вопит страдалец. – Ах, если бы я знал! Уж я бы их…
Его утешают. Ему рассказывают интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте подпольных полукустарей, полуспекулянтов с топорами, клещами и малярной кистью.
И стиль их работы, и способы их найма, и все их разговоры полностью сохранились со времен боярской Руси.
Они могли сохраниться только потому, что у нас, собственно, никто не занимается ремонтом квартир. Есть организации, которые строят сразу по сто домов; есть организации, которые воздвигают целые города, но нет простой конторы, где можно заказать побелку потолка, перетирку и окраску стен, переборку паркета, новое стекло нужного размера, дверь, шпингалет; нет конторы, где можно было бы по вкусу выбрать краску или обои; конторы, где есть специалисты, гарантирующие качество работы и сдачу ее в срок.
Такая контора должна быть своего рода строительным магазином. Работа строительных магазинов будет великолепно окупаться, и за несколько месяцев, оставшихся до весны, этого благоухающего и светлого квартала ремонтов и починок, их надо организовать в возможно большем числе.
Вы только подумайте! Сейчас легче попасть на прием к одному из лучших в мире специалистов по сердечным болезням, чем найти маляра. Профессор вас примет через две недели после записи, но уж примет точно в назначенный день и час, а за маляром можно гоняться месяц. И происходит это не потому, что профессоров-сердечников много, а маляр один, а потому, что врачебная помощь людям у нас организована, строительной же помощи не существует.
Все рассказанное основано на большом количестве проверенных фактов путем опросов и расследований.
А теперь разрешите, так сказать в порядке ведения собрания, высказаться по личному вопросу. Он тоже, впрочем, имеет общественное значение и иллюстрирует бедственное положение на купоросном фронте.
Жили мы тихо, мирно, писали романы, повести, рассказы и пьесы. Вдруг прошлой весной приходит бумажка от родимой организации, от Союза писателей.
«Не хотите ли произвести ремонт своей квартиры? Ремонт будет, разумеется, произведен за ваш счет, но, разумеется, под нашим наблюдением, из лучших материалов и в железные сроки».
Очень приятно было читать такой документ. Мы оставили на время сочинение романов, повестей, рассказов и пьес, побежали в Союз и выразили свою признательность и согласие на производство ремонта. Главное, радовало сознание того, что о тебе кто-то заботится, кто-то тебя лелеет.
И точно. Через несколько дней пришел молодой человек с рулеткой, произвел разного рода обмеры, что-то умножал, делил и складывал, а в заключение сказал, что вскоре будет составлена смета, а за ней начнутся и строительные работы.
Засим довольно быстро прошли три месяца, никто не приходил ремонтировать квартиры. Наступила осень. Пушкин, например, любил осень. Но, разумеется, и он не считал это время наиболее удобным для производства ремонта своего дома в селе Михайловском. Мы снова оставили сочинение романов и побежали в Союз. Там уже прибавилось несколько новых фанерных перегородок и конторских столов, но все-таки нужного человека мы нашли.
Он долго смотрел на нас затуманенным взглядом и наконец сказал:
– Значит, вы просите сделать ремонт?
– Да нет, мы ничего не просим. Вы сами предложили.
– Ах, мы предложили? Да, да, верно. Но эта идея уже механически отпала. Мы, товарищи, отказались от этой идеи.
– Почему же вы не сообщили? Мы ждали все лето.
– Нет, нет, товарищи, эта идея отпала.
Ну что ж, отпала так отпала. Обидно, конечно, оставаться на зиму в потрепанных квартирах, но все-таки стен никто не купоросил, сукна не прожигал, жить можно.
И вдруг недавно приходит новая бумажка от той же родимой организации, но уже не весенняя, а зимняя, суровая и даже нахальная.
«Настоящим извещаю, что с вас причитается за составление сметы на ремонт 57 рублей столько-то копеек. В случае неуплаты дело будет передано в суд».
Вот тебе на! Идея отпала, но мы почему-то должны за нее платить. Тут даже темный Вавилыч покажется кристальным стариком.
Что ж, суд так суд. Любопытно будет встретиться перед лицом закона.
В курительной комнате Художественного театра во время антракта встретились два человека. Сначала они издали посматривали один на другого, что-то соображая, потом один из них описал большую циркуляцию, чтобы посмотреть на второго сбоку, и, наконец, оба они бросились друг к другу, издавая беспорядочные восклицания, из которых самым оригинальным было: «Сколько лет, сколько зим!»
Минуты три ушло на обсуждение вопроса о том, какое количество воды утекло за пятнадцать лет, и на всякие там: «да, брат», «такие-то дела, брат», «а ты, брат, постарел», «да и ты, брат…»
Затем завязался разговор.
– Ты, значит, по военной линии пошел?
– Да, я уж давно.
– В центре?
– Нет, только сегодня с Дальнего Востока.
– Ну, как там японцы? Хотят воевать?
– Есть у них такая установочка.
– Так, так! Что-то знаков у тебя на петлицах маловато. Эти как называются?
– Шпалы.
– Три шпалы! Ага! А ромбов нет?
– Ромбов нет.
– Какой же это чин – три шпалы?
– Командир полка.
– Не густо, старик.
– Почему не густо? Командовать полком в Красной Армии – почетное дело. Полк – это крупное подразделение. Сколько учиться пришлось! Помнишь, мы с тобой даже арифметики не знали! Я все эти пятнадцать лет учился. После военной школы командовал взводом, потом ротой. Командиром батальона пошел в школу «Выстрел». Теперь командую полком. Очень сложно. В прошлом году был еще на курсах моторизации и механизации. И сейчас учусь.
– А ромбов все-таки нет?
– Ромбов нет. Ну, а ты по какой линии, Костя?
– Я, Леня, по другой линии.
– Но все-таки?
– Я, Леня, ответственный работник.
– Вот как! По какой же линии?
– Ответственный работник.
– Ну вот я и спрашиваю – по какой линии?
– Да я тебе и отвечаю – ответственный работник.
– Работник чего?
– Что чего?
– Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность?
– При чем тут специальность! Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я, голубчик, глава целого учреждения. Если по-военному считать, то это ромба два-три, не меньше.
– А какого учреждения?
– Директор строительного треста.
– Это здорово. Ты что, архитектор теперь? Учился в Академии искусств?
– Учился? Это когда же? А работать кто будет? У меня пет времени «Правду» почитать, не то что учиться. Очень хорошо, конечно, учиться, об этом и Сталин говорил. Только если бы все стали учиться, кто бы дело делал? Ну, идем в зал, мы тут последние остались.
Разговор возобновился в следующем антракте.
– Значит, ты учился, учился, а ромбов все-таки нет?
– Ромбов нет. Но вот скажи мне, Костя, следующее: раз ты не архитектор, то у тебя, вероятно, практический опыт большой?
– Огромный опыт.
– И скажем, если тебе приносят чертеж какого-нибудь здания, ты его свободно читаешь, конечно? Можешь проверить расчеты и так далее?
– Зачем? У меня для этого есть архитекторы. Что ж, я их даром в штате буду держать? Если я по целым дням буду в чертежах копаться, то кто будет дело делать?
– Значит, ты на себя взял финансовую сторону?
– Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду загружать себя всякой мелочью? На это есть экономисты, бухгалтерия. Там, брат, калькулируют день и ночь. Я даже одного профессора держу.
– А вдруг тебе твои калькуляторы подсунут какую-нибудь чепуху?
– Кто мне подсунет?
– Возьмут и подсунут! Ты же не специалист.
– А чутье?
– Какое чутье?
– Что ты дурачком прикидываешься? Обыкновенно – какое. Я без всякой науки все насквозь вижу.
– Чем же ты занимаешься в своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Это отрасль довольно интересная.
– Да ни черта я не понимаю в твоих строительных материалах!
– Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт?
– Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в Краймолоке…
– Так бы сразу и сказал, что ты знаток молочного хозяйства.
– Да, уж свиньи с коровой не спутаю. Значит, в Краймолоке три месяца, а до молока в Утильсырье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и Полумесяце, руководил изыскательной партией по олову, заворачивал, брат, целым банком в течение двух месяцев, был в Курупре, в отделении Вукопспилки и в Меланжевом комбинате. И еще по крайней мере на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню.
Командир полка немножко смутился.
– Не понимаю, какая у тебя все-таки основная профессия?
– Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство.
– Да, да, общее руководство, это я понимаю. Но вот профессия… как тебе объяснить… ну вот пятнадцать лет назад, помнишь, я был слесаренком, а ты электромонтерничал… Так вот, какая теперь у тебя профессия?
– Чудак, я же с самого начала говорил. Ответственный работник. Вот Саша Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал. Да и большинство учится, а я ничего, обхожусь, даже карьерку сделал.
– Есть, – сказал командир. – Теперь понятно. Карьерку!
– Да, – зашептал вдруг глава треста, таинственно оглядываясь, – у меня новость. То есть, собственно, новости еще нет, но, может быть, будет. Понимаешь, я, кажется, вовремя попал на новую службу. На днях исполняется десятилетие нашего треста, и, говорят, будут награждать. Не может быть, чтоб всех наградили, а директора не наградили. Как ты думаешь, Леня?
– Пора, кажется, в зал, – нетерпеливо сказал командир.
– Вот ты военный, – продолжал Костя, – а ордена не имеешь. Это нехорошо,
– У меня есть.
– Да ну! Откуда?
– Да так. Участвовал в одном деле. В китайском конфликте.
– Там давали? – засуетился Костя.
– Там стреляли, – сухо ответил командир,
– Что же ты его не носишь?
– Ну чего ради я его в театр понесу?
– С ума ты сошел! А куда же? Именно в театра чтобы все видели! Эх ты, вояка! Где ты его держишь?
– В коробочке.
– Действительно, нашел место! Ну, ладно, четвертое действие можно не смотреть, неинтересно. Сейчас едем ко мне. У меня, брат, жена – красавица, есть на что посмотреть. Закусим, то да се, граммофончик заведем.
– Что ж, интересно будет посмотреть.
– Идем, идем, у меня, брат, дома полный комплект.
И верно, дома у него оказался большой комплект, так сказать, полный набор игрушек для пожилого ребеночка лет тридцати пяти: патефон с польским танго, радио с динамиком, фотоаппарат «Лейка» с пятью объективами, шестью штативами и двумя увеличителями. Жены еще не было.
– Замечательный у тебя фотоаппарат, – сказал командир. – Ты, наверно, прекрасные снимки делаешь.
– Да нет, – ответил Костя, возясь у буфета, – какой я фотограф! И времени нет, сказать правду, этим заниматься.
– Жалко, жалко. Ну, включай радио. Кажется, это ЭКЛ-4? Он, должно быть, весь мир принимает! Интересно послушать.
Костя сунул вилку в штепсель и повернул какую-то ручку. Раздалось тошнотворное мяуканье. Костя живо выключил радио.
– Я, знаешь ты, не специалист этого дела. Тут к нам мальчик один приходит из соседней квартиры, Вова. Восемь лет шарлатану, а все станции отлично ловит. И Копенгаген, и Маменгаген, и что ты только хочешь.
– Что ж, – со вздохом сказал командир, – заведи хоть граммофон.
– Может, жену подождем? Она у меня специалистка по граммофонным делам. Впрочем, можно и завести.
Ответственный Костя принялся за граммофон.
– Да, брат, – говорил он, задумчиво крутя ручку, – все есть: квартира, радио, «Лейка», жена-красавица, только вот ордена нет. Вот бы мне еще ордено…
Тут раздался короткий, леденящий душу треск.
– Так и есть, – удивился Костя, – лопнула пружина. Говорил я: подождем жену… Жалко. Хороший такой граммофончик был. Не то импортный, не то экспортный. Что ж теперь нам делать? Закусим, что ли?
И, потирая руки, он двинулся к столу. В это же самое время неожиданно погасло электричество.
– Что за черт! – раздался в темноте Костин голос. – Будем теперь сидеть без света.
– Почему же без света? – раздраженно сказал командир. – Простое дело – перегорела пробка. Возьми и почини. Был же ты когда-то электромонтером.
– Куда там! Я уже все перезабыл. Где там анод, где там катод. Нет, придется послать за специалистом.
Он еще долго кряхтел в темноте.
Когда свет зажегся, командира уже не было.
В ближайшие дни многоопытные московские пассажиры – люди, испытавшие великие трамвайные страсти, закалившие свое тело и душу в битвах у автобусных подножек и в схватках с жадными грязными извозчиками, – спустятся в метро.
Они увидят распределительные вестибюли – блестящие фойе метрополитена, со стеклянными кассами, широкие, превосходно освещенные коридоры и неожиданно громадные сияющие залы подземных станций.
«Станция» – здесь слишком скромное слово. Это – вокзалы. Тринадцать вокзалов, одетых в мрамор, гранит, медь и разноцветные кафели.
Вокзалы открываются необыкновенно эффектно – сверху, с высоты виадуков, откуда по широким лестницам вправо и влево спускаются на перрон пассажиры.
Да и «перрон» здесь – слово, определяющее лишь назначение места, где люди садятся в поезд. Внешность его совсем не перронная. Это скорее дворцовая зала. Высота, чистота, блеск нежно-серых, или розоватых, или красных с прожилками колонн, ровный молочный свет строгих люстр, полированные стены.
И в этом зале стоит поезд, верхняя половина которого цвета слоновой кости, а низ – светло-оливковый. Вагоны московского метро не имеют классов. Все они одного класса – высшего. Тут нет ни славословия, ни излишней очеркистской восторженности. Просто небольшой факт из жизни.
Как же будут вести себя здесь наши старые знакомые, многоопытные москвичи, жертвы трамвая и своего собственного темперамента?
Возможно, что на поверхности земли, где-нибудь на трамвайной остановке, они еще некоторое время останутся верны себе, будут по-прежнему ссориться и попрекать друг друга мягкой шляпой. Но даже и тут пойдут новые веяния:
– Тоже шляпу надел. Тебе бы в метро ездить!
Под землей же, несомненно, восторжествуют мягкость нравов, необыкновенная вежливость и даже радушие.
– Не толкнул ли я вас локтем, бабуся?
– Нет, нет, голубчик! Ведь ваш локоть от меня на целый метр…
– Ну, все равно. Извините, бабуся.
– Пожалуйста, пожалуйста. Могу и извинить, если вам это доставит удовольствие.
– Очень, очень рад.
– Да уж и я как счастлива. Ужасно приятно было познакомиться с таким милым молодым человеком.
И, посылая друг другу воздушные поцелуи, они расстанутся. Бабуся сойдет в «Охотном ряду», а милый юноша поедет (ну, куда?) – конечно, в «Ленинскую библиотеку».
И люди не только не будут набрасываться на соседа в очках с криком: «А еще очки надел», – а с лучезарной улыбкой будут говорить:
– Ах, какие у вас очки прелестные! Чудная оправа! Под черепаху? Очень, очень красиво. Поздравляю вас с такими очками. Простите за беспокойство.
А места будут уступать не только инвалидам, матерям с детьми до четырех лет, женщинам, предъявившим удостоверение о беременности. Будут уступать даже старухам. Да что там – старухам!
– Садитесь, пожалуйста!
– Что вы, что вы. Спасибо.
– Нет уж, пожалуйста.
– Сидите, сидите.
– Ну, умоляю вас!
– Могу и постоять. В конце концов я мужчина.
– Мужчина-то мужчина, но возраст! Вы старше.
– Какой уж там такой особенный возраст. Мне и всего-то двадцать девять лет.
– А мне двадцать семь. Ага! Попались. На два годика меньше. Теперь вам не отвертеться, извольте сесть.
Шутки шутками, а очень многим взрослым людям метро поможет ликвидировать свою культурную неграмотность.
Может быть, пока строили метрополитен, у кого-нибудь и скребло на душе:
– «Лучший в мире», а он вдруг окажется не лучший в мире. Не так это просто сделать лучше, чем в Лондоне, в Париже или Берлине.
Но ошибки не произошло.
Московский метрополитен оказался лучше, неизмеримо лучше.
Ведь даже самому богатому и либеральному акционерному обществу не придет в голову окружить пассажира такими удобствами и великолепием, как это сделано сейчас в Москве. Ибо не столько о пассажире помышляет акционерное общество, сколько о получении дивидендов, прибыли. Вот и превратились метро в мрачные, пронизанные погребной и прачечной сыростью туннели для высасывания пенсов, сантимов и пфеннигов.
Обыкновенный рабочий или служащий человек проводит в метро ежедневно часа два (на работу, с работы, на обед, с обеда, куда-нибудь вечером). И эти два часа пребывания в казематах заграничных метро ложатся печальным добавлением к тяжелому рабочему дню.
Если первая стройка первой пятилетки – Турксиб – была предприятием социалистическим только по своему содержанию, то московский метрополитен – великое предприятие второй пятилетки, уже является социалистическим и по форме, по выполнению.
И те часы, которые москвич проведет под землей, не будут ему в тягость.
Представьте себе, под землей – хорошо, красиво, даже уютно. Не знаем, как будет лет через пять, когда Москва перестроится заново, но сейчас, после подземных улиц и площадей на московских площадях и улицах кажется и не очень уж светло, и не так уж чисто, и сыровато, и шумновато.
Так что придется подтянуться, товарищи на поверхности!
За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы.
– Значит, так, товарищ Кошачий, – с увлечением говорил Семен Семенович, – возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже.
– Шпроты?
– Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы? Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы – шпроты! Не шпроты, а крабы. Пишите. Двадцать коробок крабов.
Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать.
– Крабы, – повторил Семен Семенович, – и пять кило зернистой икры.
– Не много ли? В прошлый раз три кило брали, и вполне хватило.
– По-вашему, хватило, а… по-моему, не хватило. Я следил.
– Сорок рублей кило, – грустно молвил завхоз.
– Ну, и что же из этого вытекает?
– Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей.
– Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска, горячее, даже два горячих, пломбир, фрукты.
– Зачем же такой масштаб? – пробормотал Кошачий. – Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу. И очень хорошо. Можно поставить чаю, пива, бутербродов с красной икрой. Чем плохо? И, кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия управделами.
– Я все-таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас – бакалейная лавочка? Что мы, частники?
Завхоз потупился, сраженный аргументами.
– И потом, – продолжал Семен Семенович, – купите вы наконец приличный сервиз, а то вы подаете уже черт знает на чем. Какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?
– Понимаю.
– А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя же так.
– Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович. Ведь у нас определенный бюджет.
– Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется…
– Ансамбль лиристов, – хрипло сказал завхоз.
– Да, да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».
– Так ведь такой артист, – со слезами в голосе сказал Кошачий, – с нас три шкуры снимет.
– Ну какой вы, честное слово, человек! С вас он снимет эти три шкуры? И потом не три, а две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли.
– Такси для артиста придется нанимать, – тоскливо прошептал завхоз.
Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал:
– Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы – Плюшкин! Гарпагон! Да, да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели.
– У него хорошая мебель, – мрачно сказал Кошачий. – Все, что надо для работы: стульев шведских – шесть, столов письменных – один, еще один стол – малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван.
– Клеенчатый! – застонал Семен Семенович. – Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный.
– Кожаный, Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит.
– Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что мы, нищие? Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо, товарищ Кошачий, иметь социалистический размах. Поняли?
Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными леями, вышел из кабинета.
Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила:
– Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок.
– Здравствуйте.
– Ты, кажется, что-то сказал?
– Я сказал: здравствуйте.
– Тебе что-нибудь не нравится? – забеспокоилась жена.
– Да, кое-что, – сухо ответил Семен Семенович. – Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек.
– Но ведь на весь салат пойдет два огурчика.
– Да, да, огурчики, лососина, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?
– Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем, просто неудобно.
– Почему неудобно?
– Неудобно, потому что невежливо.
– Ну, ладно, – сказал Семен Семенович томно. – Дай сюда список. Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается… собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все.
– Нет, Семен, так невозможно.
– Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка – это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал.
– Семен, это будет скандал.
– Хорошо, хорошо, в таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее.
– Можно подумать, что мы нищие! – закричала жена.
– Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки, – степенно ответил Семен Семенович.
– Ты получаешь тысячу рублей в месяц. К чему нам прибедняться?
– Катя, я не вор и не растратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых.
– Тьфу!
– Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Понимаешь, не имею права!
– И в кого он такой сквалыга уродился? – сказала жена, обращаясь к стене.
– Ругай меня, ругай, – сказал Семен Семенович, – но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила.
– Говорю и буду говорить! – закричала жена. – Коля уже месяц ходит в рваных ботинках.
– При чем тут Коля?
– При том тут Коля, что он наш сын.
– Ладно, ладно, не кричи! Купим этому пирату ботинки. С течением времени. Ну, что там еще надо? Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить, арфу?
– Арфу не надо, а табуретку на кухню надо.
– Табуретку! – завизжал Семен Семенович. – Зачем табуретку? Чего уж там! Купим для кухни сразу кожаную мебель! Всего только пятнадцать тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок.
И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки.
Спал он спокойно.
Ровно в девять часов утра небольшая комната сектора планирования наполнилась сотрудниками. Прогремел железный футляр, который сняли с ундервуда и поставили на подоконник, захлопали ящики письменных столов, и рабочий день начался.
Последним явился Яков Иванович Дубинин.
– Салют! – сказал он жизнерадостно. – Здравствуйте, Федор Николаевич, здравствуйте, Людмила Филипповна. Остальным – общий привет.
Но, повернувшись к своему столу и увидев на нем большую кучу деловых папок, он сразу увял.
Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумаги, потом встрепенулся и развернул «Правду».
– Ого! – сказал он минут через десять. – Немцы-то, а? «Эр нувель» пишет…
Сектор безмолвствовал.
Дубинин, конечно, понимал, что надо бы заняться планированием, но какая-то неодолимая сила заставила его перевернуть страницу и углубиться в чтение большой медицинской статьи.
– Товарищи, – внезапно воскликнул он, высоко подымая брови, – вы только смотрите, что делается! Вы читали сегодняшнюю «Правду»?
Трудолюбивые сотрудники подняли на него затуманенные глаза, а Людмила Филипповна на минуту даже перестала печатать.
– Можно будет рожать без боли! Здорово, а?
Он так взволновался, как будто бы сам неоднократно рожал и испытывал при этом ужасные страдания.
Машинка снова застучала, а Яков Иванович принялся читать дальше. Он добросовестно прочитывал все по порядку, не пропуская ни одного столбца и бормоча:
– А сев ничего. Сеют, сеют, засевают. Что-то в этом году в грязь не сеют? А может, сеют, но не пишут? Ну-с, пойдем дальше. Ого! Опять хулиганы! Я бы с ними не стеснялся, честное слово! Профессор Пикар приехал в Варшаву. Я бы лично никогда не полетел в стратосферу. Хоть вы меня озолотите… Ну-с, в Большом театре сегодня «Садко», билеты со штампом «Град Китеж» действительны на двадцать восьмое. Дальше что? Концерт Беаты Малкин… Вечер сатиры и юмора при участии лучших сил… Партколлегия вызывает в комнату № 598 товарища Никитина… Так, так… Телефоны редакции… Уполномоченный Главлита 22624…
Дубинин озабоченно посмотрел на часы: было всего только одиннадцать.
– Да, а «Известия» где? – деловито закричал он. – Дайте мне «Известия». Федор Николаевич, где «Известия»? Вечно эта проклятая курьерша куда-то их засовывает.
– Сегодня «Известий» нет, – сухо ответил Федор Николаевич.
– Как нет?
– После выходного «Известий» никогда не бывает.
Яков Иванович даже изменился в лице, когда понял, что читать больше нечего. В тоске он захрустел пальцами и четверть часа сидел, не будучи в силах пошевелиться. Потом собрался с духом и стал изготовлять картонный переплетик для своего паспорта. Он долго и старательно что-то резал, клеил и, высунув язык, выводил надпись: «Я. И. Дубинин».
К часу дня грандиозный труд был закончен. Приближалась роковая минута, когда придется все-таки заняться планированием. Яков Иванович отвернулся от письменного стола брезгливо, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фыркнул от отвращения.
За окном шумели голые весенние ветки.
– Сегодня солнечно, но ветрено, – сообщил Яков Иванович, набиваясь на разговор.
– Не мешайте работать, – ответила Людмила Филипповна.
– Я, кажется, всем здесь мешаю, – обидчиво сказал Дубинин. – Что ж, я могу уйти.
И он ушел в уборную, где сидел сорок минут, думая о нетоварищеском, нечутком отношении к нему сотрудников сектора планирования, о профессоре Пикаре и о том, что билеты на «Град Китеж» действительны на двадцать восьмое.
«Вот черт, – думал он, – ходят же люди по театрам. Времени у них сколько угодно, вот они и шляются».
В свой сектор Дубинин вернулся томный, обиженный.
– К вам посетитель приходил, – сказала Людмила Филипповна. – Относительно запланирования стеклянной тары. Он ждет в коридоре.
– Знаю без вас, – сурово сказал Яков Иванович. – Сейчас я с ним все вырешу. Уж, извините за выражение, человеку в уборную сходить нельзя.
Но в эту минуту его позвали к начальнику.
– Слушайте, товарищ Дубинин, – сердито сказал начальник. – Оказывается, вы сегодня опять опоздали на десять минут к началу служебных занятий. Это что ж получается? Не планирование, а фланирование. Вы понимаете, что такое десять минут, украденные у государства? Я вынужден объявить вам выговор в приказе. Я вас не задерживаю больше, товарищ Дубинин. Можете идти.
«Не задерживаю», – горько думал Яков Иванович, медленно идя по коридору. – ««Фланирование»! Скажите пожалуйста, какой юморист. Тут работаешь как зверь, а он… бюрократ паршивый! Городовой в пиджаке!»
– Нет, я этого так не оставлю, – кричал он в отделе, заглушая шум машинки. – Да, я опоздал на десять минут. Действительно, на десять минут я опоздал. Ну и что? Разве это дает ему право обращаться со мной, как со скотом? «Я вас не задерживаю!..» Еще бы он меня задержал, нахал. «Можете идти!» Что это за тон? Да, и пойду! И буду жаловаться!
Он хватал сотрудников за руки, садился на их столы и беспрерывно курил. Потом сел на свое место и принялся сочинять объяснительную записку.
«Объяснительная записка», – вывел он посредине листа.
Он сбегал в соседний сектор, принес оттуда красных чернил и провел под фиолетовым заглавием красивую красную черту.
– Товарищ Дубинин, – сказал тихий Федор Николаевич, – готовы у вас плановые наметки по Южному заводу?
– Не мешайте работать! – заревел Яков Иванович. – Человека оскорбили, втоптали в грязь! Что ж, ему уже и оправдаться нельзя, у него уже отнимают последнее право, право апелляций?
Федор Николаевич испуганно нагнул голову и притаился за своим столом.
– Я им покажу! – ворчал Дубинин, приступая к созданию объяснительной записки.
«25-го сего месяца я был вызван в кабинет товарища Пытлясинского, где подвергся неслыханному…»
Он писал с громадным жаром, разбрызгивая чернила по столу. Он указывал на свои заслуги в области планирования. Да, именно планирования, а не фланирования.
«Конечно, острить может всякий, но обратимся к непреложным фактам. Инкриминируемое мне опоздание на десять минут, вызванное трамвайной пробкой на площади имени Свердлова…»
– Пришел товарищ Дубинин? – раздался голос. – Я, собственно говоря, поджидаю его уже два часа.
– Что? – сказал Дубинин, обратив к посетителю страдающий взгляд.
– Я, товарищ, по поводу стеклянной тары.
– Вы что, слепой? – сказал Яков Иванович гнетущим шепотом. – Не видите, что человек занят? Я пишу важнейшую докладную записку, а вы претесь со своей стеклянной тарой. Нет у людей совести и чувства меры, нет, честное слово, нет!
Он отвернулся от посетителя и продолжал писать:
«Десятиминутное опоздание, вызванное, как я уже докладывал, образовавшейся на площади имени Свердлова пробкой, не могло по существу явиться сколько-нибудь уважительной причиной для хулиганского выступления тов. Пытлясинского и иже с ним…»
В половине пятого Дубинин поднялся из-за стола.
– Так и есть, – сказал он. – Полчаса лишних просидел в этом проклятом, высасывающем всю кровь учреждении. Работаешь как дикий зверь, и никто тебе спасибо не скажет.
Объяснительную записку он решил дописать и окончательно отредактировать на другой день.
Ощущения человека, собирающегося в театр, не сложны, но очень приятны. Утром, на работе, он как бы между делом важно сообщает:
– Сегодня я иду в театр, так что в вечернем культ-штурме участвовать не смогу.
Дома он с удовольствием слышит, как в соседней комнате жена говорит кому-то по телефону:
– К сожалению, сегодня вечером нас с Павликом не будет дома. Мы с Павликом идем к Мейерхольду. Нет, почему же, в пятом ряду, середина. Мы никогда не сидим дальше пятого ряда.
И хотя Павлик знает, что жена прилгнула, что весьма часто они сидят далековато и на этот раз был куплен пятый ряд потому лишь, что не было мест дешевле, все же ему приятно слышать ее слова. В конце концов чувство гордости не чуждо нашим современникам.
И даже пятилетняя дочка тоненьким голоском кричит с балкона играющим на дворе девочкам:
– Папа и мама идут сегодня на «Три обморока».
– «Тридцать три», – поправляет костлявый Павлик, надуваясь от гордости. – Сколько раз я тебе говорил!
В этот день обедают раньше обычного. Надо спешить, ибо после третьего звонка вход в зрительный зал не допускается. Вообще все эти слова: зрительный зал, третий звонок, либретто, запасный выход, капельдинер – удивительно приятны.
Одеваться начинают за два часа до спектакля. Тут, конечно, выясняется, что пропала запонка, и черт знает, где теперь ее искать, что воротничок плохо выглажен и на нем есть морщинка, что бинокль взяли Власовы и уже месяц не отдают. Просто свиньи, которым никогда не надо делать одолжений. Наконец все улаживается. Запонку находят, воротничок переглаживают, а бинокля никакого не надо, ведь сидеть-то будут в пятом ряду, откуда все прекрасно видно.
Однако в последнюю минуту жена обнаруживает, что спустилась петля на чулке, и принимается ее подымать с медлительностью, приводящей Павлика в негодование. Он стоит в пальто и новой кепке. В другой раз он никогда не пойдет в театр с такой, мягко выражаясь, легкомысленной женщиной.
– Неужели нельзя было раньше посмотреть? – говорит он с дрожью в голосе. – Все пропало.
Но ничего не пропало. Они необыкновенно удачно сели в автобус и поспели в театр как раз вовремя, даже немножко рано. И сейчас все пережитые волнения с запонкой и чулком кажутся очаровательными. Без них, пожалуй, все было бы даже не так интересно и значительно. Нет, что бы ни говорили, а посещение театра – настоящее событие.
Это было восьмого апреля.
Некий доцент Первого московского университета с женой, испытавшие все предтеатральные ощущения, быстро сдали свои пальто, вручили рубль гардеробщику, купили программу, вручили полтинник капельдинерше и побежали в зрительный зал. Еще минута, и они увидят спектакль, о котором так много говорят.
Дальнейшие события будут изложены с протокольной точностью и в той головокружительной последовательности, в какой они развертывались.
– Постойте, постойте, – сказала контролерша у входа, – мы еще посмотрим, какие у вас билеты.
Билеты были наготове, прекрасные билеты, где с юридической педантичностью были указаны и день спектакля, и его час, и номер ряда, и номер: места, я название пьесы.
– Вас-то мне и надо, – мрачно сказала контролерша. – Эти билеты аннулированы.
– Как аннулированы?
– Это дело не мое, гражданин. Обратитесь к администрации.
Когда человека называют «гражданином», произнося это слово с металлическими интонациями в голосе, то уже ничего хорошего не ждите.
– Позвольте, – сказал доцент, – билеты у меня правильные, пустите меня в зал, мы опоздаем!
– Я уже вам сказала, гражданин, русским языком. Обратитесь к администрации.
И, отпихнув его, она уже обращалась к другим зрителям:
– Вы можете пройти. А ваши места тоже аннулированы, гражданин. И ваши. Русским языком вам говорят: граждане, обратитесь к администрации.
Началась какая-то чертовщина. Доцент помчался к администратору.
К нему вышел человек в ковбойском наряде, с выражением нечеловеческого спокойствия на молодом лице.
– Пожалуйста, выясните поскорее это недоразумение! – крикнул доцент, горячась. – Уже начался спектакль.
– В чем дело? – сказал ковбой, не теряя хладнокровия.
– Это я вас должен спросить, в чем дело. Безобразие какое!
– Ну так вот, – медлительно продолжал ковбой. – Билеты первых пяти рядов аннулированы. Понятно?
– На каком основании?
– У нас сегодня смотрят спектакль иностранные дипломаты.
– Ну и пусть смотрят. Очень рад. Но при чем тут я?
– Я ничего не могу сделать, гражданин. Обратитесь к товарищу Бернацкому.
И ковбой удалился в свое ранчо, напротив раздевалки. А в это время в зале уже гремела музыка, шел спектакль.
Бернацкий (очевидно, тоже администратор) был в толстовке, но, невзирая на эти мирные одежды, характер имел железный.
– Чего вы волнуетесь? – говорил он, с отвращением глядя на доцента. – Вам уже говорили, спектакль смотрят иностранцы.
– Да, но ведь билеты проданы мне, а не кому-нибудь другому.
– Деньги за билеты можете получить обратно.
– Дело не в деньгах. Раз вы мне продали билет, вы должны дать мне место. Я этого требую.
– Вы ничего не можете требовать. Билеты аннулированы.
– Почему же вы об этом не известили заблаговременно? Почему не объявили в газетах? Наконец, если вы не успели объявить в газетах, то почему не вывесили объявления хотя бы на дверях? Нам по крайней мере не пришлось бы раздеваться, покупать программу и вообще выносить все это унижение.
– Не учите меня, как надо оповещать публику. Вас это не касается. Получите свои деньги и уходите.
Услышав этот беспредельно хамский ответ, доцент растерянно оглянулся.
Позади него уже собралась порядочная толпа таких же, как и он, обманутых зрителей. Их было человек сто. Они стояли в полутемном фойе, с ненужными биноклями и программками в руках, изумленные и беспомощные. От них пахло одеколоном и пудрой. Сейчас, в своих шелковых платьях и лучших пиджаках, они чувствовали себя неловко, как голые. Они-то спешили, одевались, завивались, ехали откуда-то издалека – и вдруг нарвались на каких-то полудиких тупиц и нахалов.
– Это возмутительно! – воскликнул доцент. – Я напишу об этом в «Правду». Вы даже не понимаете, что вы делаете.
Администратор расхохотался.
– Можете писать куда хотите. Сказано – и кончено.
Говоря по совести, хотелось дать по морде. Но драться нельзя. И доцент продолжал приводить словесные доводы. Тогда из-за спины администратора выдвинулся совсем еще юный ревнитель порядка.
– Следуйте за мной, – сказал он официально.
– А вы кто такой?
Ревнитель предъявил удостоверение Осодмила.
Доцента увели в кабинет, где и потребовали объявить свое звание.
– Вот вы ученый, – рассудительно сказал юноша, ознакомившись с документами, – а бузите. Вы знаете, что вам за такие штуки сделают? Тут иностранцы ходят, а вы беспорядок устраиваете.
– Так ведь это вы устроили беспорядок! – заорал доцент, не помня себя.
После этого была произнесена классическая громовая фраза:
– Пра-а-шу очистить помещение!
И доцента выгнали.
Вот, собственно, все, что произошло восьмого апреля в театре имени Мейерхольда на спектакле «33 обморока».
Мы часто и справедливо говорим о том, какой у нас замечательный театр и какой у нас замечательный зритель. Как же случилось, что в одном из наших театров могли так поступить со зрителем? Это произошло потому, что между искусством и прекрасным советским зрителем стали люди с лакейскими душами, люди, для которых слово «иностранец» значит больше, чем гордые слова «советский гражданин».
Вызывает ярость то, что произошло вечером восьмого апреля.
Легко себе представить, как будут оправдываться эти люди.
– Что, собственно, случилось? Ну, пришли! Ну, ушли! Ведь деньги они могли получить обратно! Подумаешь, амбиция!
А дело не в амбиции. Дело в достоинстве советского гражданина, которого никому не позволено унижать. Дело в правах наших граждан, правах, которые никто не смеет стеснять. Унижение советского гражданина есть унижение достоинства всей страны и преступление против существующего в ней порядка. Надо прокуратуре заняться наконец такого рода преступлениями. Это представляет крупнейший общественный интерес.
В Советском Союзе к иностранцам – и к дипломатам, и к путешественникам, и к специалистам – относятся с величайшей корректностью. Мало того, с общепризнанным гостеприимством. Но это не значит, что под видом заботы об иностранцах кто бы то ни было получил право наносить ущерб советским гражданам.
И описанное здесь, казалось бы, простенькое происшествие на самом деле имеет большое политическое значение.
С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, стряслась великая беда.
Десять лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем месткома, а сейчас, на одиннадцатый год, не выбрала, не захотела.
Черт его знает, как это случилось! Просто непонятно.
Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакопункта, свойственный профсоюзным помещениям. (Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно-карболового аромата.)
Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. Два раза он громко сказал: «Правильно». Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и второй раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнания, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно.
На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах.
– А теперь приступим к выборам, – сказал председатель, делая ударение на последнем слоге.
Профсоюзный язык – это совершенно особый язык. Профработники говорят: выбора, договора, средства, процент, портфель, квартал, доставка, добыча.
Есть еще одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет: «Я, товарищи, коротенько», а потом говорит два часа. И согнать с трибуны его уже невозможно.
Приступили к выборам.
Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что «имеется предложение голосовать в целом»; членская масса кричала: «Правильно, давай в целом, чего там!»; председатель говорил: «Позвольте считать эти аплодисменты…»; собрание охотно позволяло; все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал, иногда против него плели интриги другие освобожденные члены, иногда он сам плел интриги. Это была чудная кипучая жизнь.
А тут вдруг начался кавардак.
Прежде всего собрание отказалось голосовать список в целом.
– Как же вы отказываетесь, – сказал Бабашкин, демагогически усмехаясь, – когда имеется предложение? Тем более что по отдельности голосовать надо два часа, а в целом – пять минут, и можно идти домой.
Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настояла на своем.
Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще какая-то молодая, член союза, позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкнн недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам.
Дальше начался кошмарный сон.
Бабашкина поставили на голосование и не выбрали.
Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари.
Но этого не произошло.
Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова «выборы, голосование, кандидатура», хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к портфелю и кварталу.
Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги, он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил: «Меня не выбрали», – говорил таким тоном, каким обычно говорят: «Меня обокрали». Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко, невпопад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой.
Бабашкин ушел, шатаясь.
Дома состоялся серьезный разговор с женой.
– Кто же будет тебе выплачивать жалованье? – спросила она с присущей женщинам быстротой соображения.
– Придется переходить на другую работу, – ответил Бабашкин. – Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой, меня всюду возьмут в освобожденные члены.
– Как же возьмут, когда надо, чтоб выбрали?
– Ничего, с моей профессией я не пропаду.
– С какой профессией?
– Что ты глупости говоришь! Я профработник. Старый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать.
Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала:
– Твое счастье, что я умею печатать на машинке.
Это была умная женщина.
Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая.
– Ну, Митя, – сказала она, – я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом, как раз им нужен дворник. И хорошие условия. Семьдесят пять рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за три рубля.
Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое синее с золотом Собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть, и бормотал:
– Это интриги! Факт! Я этого так не оставлю.
Человек, наблюдавший несколько раз Первомайский парад на Красной площади, легко заметит, что у гостей, заполняющих трибуны, уже выработались свои привычки и обычаи.
У отцов установилась привычка приводить с собой детей, ставить их на барьеры трибун, или сажать к себе на плечи, или подымать на вытянутых руках высоко над головой, вызывая этим комичное отчаяние бездетных и холостяков.
И есть у гостей еще одна привычка, вернее – милая слабость, в отдельных случаях переходящая в страсть…
За полчаса до начала парада на гостевую трибуну поднялись папа и сын. Папе было лет сорок, а сыну – лет двенадцать. Кепки, курносые веселые носы и глаза были у них совершенно одинаковые. Они до такой степени походили друг на друга, что, казалось, мальчик был произведен на свет без помощи матери, непосредственно одним папой.
На трибуне папа и сын сразу повели себя как опытные посетители парадов. Мальчик вынул бутерброд в пергаментной бумаге, а папа сказал:
– Ты, Коля, покушай, а я, чтобы не терять времени, посчитаю, сколько там военных атташе. Раз, два, три, четыре, пять… Ого!.. Четырнадцать, пятнадцать…
– Сколько? – деловито спросил сын, пережевывая хлеб с ветчиной.
– На два больше, чем в прошлый раз.
– Хорошо, – одобрительно сказал Коля. – Значит, мы еще две страны признали.
– Установили дипломатические отношения, – разъяснил отец. – Ну что, покушал? Давай считать сводный оркестр, а то мне одному не справиться. Я возьму левую сторону, а ты посчитай вот этих, с белыми барабанами.
Мальчик встал на барьер, обнял отца за шею, и оба с увлечением принялись подсчитывать. Работа была большая, и они еле-еле успели с ней справиться к моменту выезда Ворошилова из ворот Спасской башни.
– У меня тысяча двести, – сказал сын.
– А у меня девятьсот, – доложил папа. – Всего – две ту сто. Здорово! Больше, чем в прошлом году.
Их это очень радовало. Им хотелось, чтоб всего было как можно больше.
Войска двинулись мимо мавзолея.
– Сколько сегодня человек в шеренге? – озабоченно спросил папа. – Ага! Великолепно. Ты считай ряды, а я буду умножать в уме. Как в тот раз.
Как видно, они имели свой собственный метод подсчета, выработанный многолетним опытом. Они подымались на цыпочки, шевелили губами, докладывали друг другу цифры, что-то складывали, умножали, кажется, даже возводили в степень. Это была какая-то сложная система. Иногда они восторженно переглядывались. Всего было больше: пехоты, пулеметов, тачанок, орудий, броневиков, кавалерии, моторизованных частей, допризывников.
Немножко спутали папу и сына велосипедисты. Они без конца выезжали с Никольской улицы, усердно работая ногами. Сначала ехали черные, потом серые, синие, розовые, голубые.
Первым сбился со счета папа. Он прозевал целый отряд велосипедистов в оранжевых беретах и не включил их в общий итог. Коля сердито оглянулся на отца и продолжал считать.
Внезапно площадь очистилась. Исторического музея кто-то махнул красным и желтым флажками, и тут началось самое главное.
От тяжести танков, сотнями вступавших на площадь, задрожала земля.
– Гораздо больше, чем в прошлом году, – закричал Коля, сверкая глазами. – Считай амфибии, а я буду считать многопушечные танки!
– Не успею, Коленька, – робко сказал папа. – Они очень быстро идут. Я уже пропустил.
– Ну, хорошо, тогда считай средние танки. А эти мы приблизительно. Как ты пропустил амфибии?
– Не могу же я сюда с арифмометром ходить, – огрызнулся отец.
В эту минуту новый, более звонкий и напряженный гул покрыл грохотанье танков. Низко над площадью показались тяжелые бомбардировщики. Отряд за отрядом, безукоризненно держа строй, они летели над чистым принарядившимся городом, над миллионами обращенных к ним лиц. Все небо за бомбардировщиками было занято эскадрильями истребителей и разведчиков. Тут действительно без арифмометра было уже трудновато.
Восторг и ужас раздирали Колю одновременно.
– Папа, продолжай считать танки, – кричал он, – а я буду авиацию.
– Я сам хочу авиацию, – запальчиво ответил папа.
– А танки?
– Да их все равно намного больше, чем было на прошлом параде. Можешь быть спокоен.
И оба они уставились в небо, где происходило подлинное торжество Военно-Воздушных Сил Советского Союза.
Когда громадная воздушная эскадра уже летела где-то далеко над Замоскворечьем, на Красной площади раздался громкий удивленный радостный крик.
На этот раз над трибунами с необыкновенной скоростью, с воем и яростью снаряда, пролетел новый двухмоторный моноплан еще невиданного нами типа. Он сделал крутой вираж, косо пошел вверх и, блеснув на мгновение светлым металлом, исчез, растаял, будто его никогда и не было.
Сейчас же, как бы соревнуясь с ним, появились новые сверхскоростные истребители, наполнили воздух на несколько секунд душераздирающим ревом и тут же над площадью прямо по вертикали ушли в небо, тоже пропали, исчезли.
Курносый Коля и его папа давно уже ничего не считали. Быстро поворачивая головы, они следили за головокружительными полетами истребителей, не замечая, что с площади уже уходили так и не сосчитанные ими большие многопушечные танки.
Преступление было совершено, как впоследствии удалось установить свидетельскими показаниями и признаниями самого обвиняемого, ровно в 7 часов вечера 28 апреля сего 1935 года. Произошло оно в вагоне трамвая. Студент автомеханического института им. Ломоносова Сверановский Михаил, двадцати трех лет, грамотный, холостой, не судившийся и приводов не имевший, следовал в вагоне трамвая на торжественный вечер в институт. Так как после официальной части вечера предполагалась часть неофициальная, студент Сверановский, двадцати трех лет, был чисто выбрит и принаряжен.
Что может быть лучше? Быть молодым, здоровым, веселым! Ехать на вечер, где после официальной части будет, черт возьми, еще часть неофициальная, ехать и сознавать, что впереди еще длинная чудная жизнь, диплом, работа, может быть, женитьба, может быть, путешествие! Нет, нам никогда уже не испытать такого чувства. Уже и возраст не тот, и здоровьишко не то. Завидно! Честное слово, завидно!
В вагон вошел контролер и стал проверять билеты. У Сверановского оказался билет достоинством в десять коп., в то время как ему полагалось иметь таковой достоинством в пятнадцать коп.
Контролер предложил уплатить штраф.
Студент со вздохом вынул рубль.
Контролер сказал, что надо три.
Студент сказал, что трех у него нет.
Контролер предложил студенту отправиться в милицию.
Студент выдвинул встречный план: пойти вдвоем в институт, тут же рядом, и там он ему заплатит.
Контролер отказался.
Относительно дальнейшего показания расходятся. Контролер говорит, что студент хотел убежать и даже пытался открыть дверь на площадку. Студент говорит, что контролер схватил его всей пятерней за лицо. Контролер пятерню отрицает, говоря, что студент толкнул его в грудь так, что он пошатнулся и зацепил женщину с ребенком, каковой заплакал. Студент утверждает, что никого он не толкал, а только пытался освободиться, и что он вообще терпеть не может, когда его хватают за лицо.
Вот и все. Неприятная трамвайная история.
Дальше начинается тяжелый сон.
Сверановского отправили в милицию. Там быстро сочинили протокол, где было написано, что студент признает себя виновным в хулиганстве. Этот протокол студент не подписал. Затем Сверановского заключили под стражу. Ведь действительно, если не применить этой радикальной меры пресечения и не посадить преступника за решетку, он может скрыться от суда, например, убежать в Америку или всю жизнь ходить с привязной бородой, скрываясь таким образом от агентов милиции.
Вот тебе и вечерок с неофициальной частью!
Мысли и чувства студента здесь изложены не будут. Можно только сказать, что студент просидел до суда десять дней, так что в мыслях и чувствах недостатка не было.
Наконец в камере нарсуда пятого участка Ленинского района в городе Москве состоялся сенсационный процесс.
Суд идет! Прошу встать!
Ну что ж, встанем и посмотрим, что произошло.
Суд состоялся под председательством народного судьи Бизлина, при нарзаседателях Горохове и Асенчукове, при секретаре Блузман, с участием защитника ЧКЗ28 Кагана.
Стража ввела обвиняемого. Он был бледен. ЧКЗ взволнованно пил воду, прочищая горло. Вообще все было честь честью.
Огласили обвинительное заключение:
«…Будучи в трезвом виде… пытался скрыться… допрошенный в качестве обвиняемого показал… обвиняется по признакам преступления, предусмотренного…»
О, этот суконный язык! Он всему придает важность и значительность.
Попробуйте переложить на этот язык такую простенькую фразу:
«Мария Ивановна сидела на диване и читала книгу, мягкий свет лампы падал на перелистываемые страницы».
Вот что получится:
«17-го сего апреля, в два часа пополуночи, в квартире № 75 была обнаружена неизвестная гражданка, назвавшаяся Марией Ивановной, сидевшая в северозападном углу комнаты на почти новом диване, купленном, по ее заявлению, в магазине Мосдрева. В руках у нее удалось обнаружить книгу неизвестного автора, скрывшегося под фамилией А. Толстой, каковую она, по ее словам, читала, употребляя для освещения как комнаты, так равно и книги настольную штепсельную лампу с ввернутой в таковую электрической лампочкой силою в 25 свечей и, как утверждает экспертиза, накала в 120 вольт».
Правда ведь, таковую явно преступную гражданку хочется немедленно изолировать от общества, избрав мерой пресечения взятие под стражу.
Вернемся, однако, к нашему процессу.
На судебном следствии контролер Воронов утверждал свое, а студент Сверановский – свое. Единственный свидетель происшествия командир РККА Кульчицкий сообщил, что слышал шум на площадке, что предложил студенту подчиниться, что студент подчинился, что жалоб на студента от пассажиров свидетель не слыхал, как равно не слыхал и детского плача. Самого столкновения он не видел и поэтому не знает, кто кого толкал. Что же касается поведения обвиняемого, то по дороге в милицию и в самой милиции он вел себя спокойно.
Были еще свидетели, вызванные защитой, которые дали обвиняемому прекрасную аттестацию. Бенецкий, староста группы, в которой учится Сверановский, заявил, что ничего не может о нем сказать, кроме хорошего. Он и хороший общественник, он и ударник учебы.
ЧКЗ произнес пламенную речь. Ни Цицерон, ни Плевако, ни Брауде не могли бы представить суду более веских и разумных доводов в защиту обвиняемого. На бледные щеки студента медленно возвращался румянец. Публика взволнованно сопела и бросала на обвиняемого сочувственные взгляды.
Оправдательный приговор не вызывал сомнений.
И тут из совещательной комнаты вышел нарсудья Бизлин, при своих нарзаседателях и при своем верном секретаре, и вкатил студенту Сверановскому два года тюрьмы за злостное хулиганство.
Берем на себя смелость утверждать, что таким приговором судья позорит советский суд и подрывает чрезвычайно важную и нужную борьбу с хулиганством, которая сейчас ведется.
В зале приговор суда вызвал возмущение. Посторонние люди, ничего общего со Сверановским не имеющие, ахнули. Некоторые женщины плакали. Сам Сверановский производил впечатление человека невменяемого. Он схватился за голову и закричал: «Что они со мной сделали!» Его увели.
Вина Сверановского не доказана. Это ясно. Однако представим себе самое худшее. Представим себе, что Сверановский виновен в приписываемых ему преступлениях: не хочет платить трех рублей; разгорячась, сцепился с контролером, даже испугал ребенка. Предположим, что он совершил проступок, но ведь он не хулиган. Это студент-ударник, общественник, прекрасный товарищ. Об этом свидетельствуют треугольник группы и двадцать девять его соучеников.
Нельзя из-за трамвайной ссоры губить человека.
Что это? Судебная ошибка? Нет, это значительно хуже, опасней.
От судебной ошибки не гарантирован ни один судья, даже самый опытный, которого может ввести в заблуждение случайное стечение улик, оговор и тому подобное.
Здесь же судья прежде всего невежественный человек, который не знает своего дела, не видит, кого судит. Он бездушно и бессмысленно отщелкивает приговоры, как будто он не судья, а начинающий счетовод.
На суде точно установили, что трамвай, в котором произошло событие, «следовал от завода им. Сталина по направлению к Варшавскому шоссе», что трамвай этот «принадлежал линии 49». А вот личности обвиняемого суд по-настоящему даже и не пытался установить.
Эта статья не направлена к смягчению участи хулиганов. Напротив. Общество ждет от суда самой решительной борьбы с хулиганством. Но надо уметь отличать хулиганское дело от трамвайной свары, противной и, разумеется, тоже заслуживающей осуждения.
Судья Бизлин не может сделать даже такой примитивной работы. Достаточно посмотреть на его приговор, переполненный фактическими и орфографическими ошибками, на протокол судебного заседания, где перевраны даты и фамилии, на всю эту малограмотную ахинею, чтобы понять, что юридическое образование некоторых судебных работников чрезвычайно сомнительно, что воспитание кадров, которые сейчас решают все, в судебной отрасли приобретает исключительное значение.
«В тревожном состоянии, давно и тяжело больной, к вам обращается почти старик.
Мои страхи так вероятны, что лучше их предупредить.
Десятый год я – пайщик РЖСКТ им. Дзержинского, – Садовая-Земляная улица, 37/1. Я внес 2150 руб., более тысячи рублей сверх полного пая.
Я – транспортник с 1900 года. При советской власти более десяти лет был начальником эксплуатации и начальником дороги, из них четыре года на дорогах фронта. Сейчас доработался до полной инвалидности. Состояние здоровья ухудшается из-за очень плохих бытовых условий – на 19 квадратных метрах шесть человек, почти чужих друг другу. По стажу и паенакоплению я имею все преимущества. Предыдущая служба только укрепляет мое право.
Сейчас кооператив распределяет квартиры. Хотя мне говорят, что я получу, но говорят так неконкретно, так формально, что я теряю надежду. По состоянию здоровья я не в силах часто ездить и защищать свое бесспорное право. Более молодые сейчас уже получают.
Подумайте! Десять лет ждать, понимать, что в обстановке новой квартиры я еще проживу пять-шесть лет, пока не поставлю на ноги тринадцатилетнего сына, – и не получить.
Я страдаю двумя видами астмы, почти не могу ходить. Чтобы вернее себя обеспечить, я вместо трехкомнатной прошу двухкомнатную, но обязательно отдельную квартиру.
При всей моей личной заинтересованности, я думаю, что вопрос этот имеет общественное значение.
С большой надеждой Б. И. Григорович».
Вот письмо человека, которого обижают только потому, что он стар и болен.
Можно предположить, что правление РЖСКТ всполошится, даже вознегодует и с благородными нотками в голосе воскликнет:
– Друзья! К чему весь этот шум? Да разве мы б не дали квартиры? Дали бы. И напрасно этот Григорович нервничает, прибегая к такому сильному средству, как печать!
А нам кажется, что Григорович хотя и потерял трудоспособность, но не потерял сообразительности. Даже более того, десять лет бесплодного пребывания в стройных рядах жилкооперации научили его очень многому. Старик приобрел громадный опыт и великолепно знает, как иной раз распределяются квартиры.
Обычай таков: первым глухой ночью в новый дом въезжает председатель правления, комендант с ночными сторожами торопливо перетаскивает его вещи. За председателем, естественно, вкатывается в дом его заместитель; далее, естественно, следуют члены правления: они мчатся на быстроходных грузовиках, из которых в разные стороны торчат матрацы и фикусы. На рассвете, кусая друг друга, вселяются члены ревизионной комиссии, эти основные борцы за справедливость. И к утру обычно дом, в котором еще не везде есть стекла и полы, уже заселен. Бегай после этого, доказывай свою правоту, судись! Все равно – уже поздно.
Нет, как ни верти, а профилактическое мероприятие тов. Григоровича имеет большой смысл.
Ему, конечно, было бы легче, если бы он был еще начальником дороги. Но сейчас он уже больной старик; передвигается он с трудом, кричать и требовать не может, не в состоянии даже приходить, чтобы напомнить о своем неоспоримом праве. А если человек не приходит и не скандалит, то стоит ли на него обращать внимание! Стоит ли беспокоиться о том, как он проведет остаток своей жизни и будут ли эти последние годы проведены в счастливом покое, в светлом сознании того, что жизнь прожита недаром, что он окружен вниманием и заботами общества.
Нет, не видно здесь уважения к старости!
Вот другая история, настоящая многоактная драма.
Действующие лица:
Доктор Бердичевский – герой труда, персональный пенсионер, возраст семьдесят шесть лет.
Его жена – семьдесят пять лет.
Мартинюк – секретарь районного исполкома, бодрый, энергичный, пышущий здоровьем, полный молодого задора человек.
Место действия – город Бердянск.
Время действия – к сожалению, наши дни.
Пятьдесят один год Бердичевский лечил людей, сорок два года живет он в Бердянске, тридцать лет обитает в одной и той же квартире, на улице Республики. Оберегая покой старика, райисполком неизменно отражал все покушения на его жилплощадь. Но в конце прошлого года у доктора, по постановлению суда, отняли из пяти комнат три, и в эти три с гамом и стуком въехал Мартинюк. Стоит ли говорить, что докторскую мебель, тридцать лет простоявшую на одних и тех же местах, по требованию судебного исполнителя, надо было убрать в двадцать четыре часа. Беспомощные старики развозили мебель по знакомым, втаскивали на чердак, втискивали в ванную комнату. В этой спешке много поломали.
Вселившись, жизнерадостный Мартинюк сразу же запретил работнице доктора проходить через его коридор, ведущий на черную лестницу. Поэтому пришлось хранить топливо у знакомых, на другой улице, и ежедневно носить ведрами. Мартинюк почему-то перегородил общий коридор и только после долгих настояний сделал маленькие, узенькие дверцы, которые, как хороший администратор, всегда держит на запоре. А дверцы-то ведут в уборную. Каждый раз приходится стучать. Иногда подолгу стучать. Иногда вообще не открывают. Однажды гость доктора постучался в заветные дверцы.
– Кто? – раздался голос.
– Гость доктора, которому необходимо в уборную, – последовал точный отчет.
– Не позволяю, – последовала не менее точная резолюция.
Ну можно ли так мучить стариков, отравлять им жизнь, отбирать комнаты, строить какие-то дурацкие дверцы! Разве может такой человек, как Мартинюк, представлять советскую власть в Бердянске? Ведь это нелепо!
Вы только подумайте! Старик, полвека лечивший людей, заслуженный человек, которым Бердянск, несомненно, гордится, вдруг в конце своей жизненной дороги натыкается на запертые мартинюковские дверцы, принужден слушать молодецкие фразы вроде: «в двадцать четыре часа!» и сделаться лишним человеком в своей квартире.
Странный способ праздновать пятидесятилетие трудовой жизни героя труда!
Доктор, конечно, бегал по так называемым инстанциям, жаловался, просил. Но куда ему в его семьдесят шесть лет! Много не побегаешь! А для такой штуки, как восстановление квартирных прав, требуется атлетическое телосложение, безукоризненное сердце, прекрасные легкие и два года свободного времени. И там, где молодой мог бы в короткий срок восстановить справедливость, там старик пасует.
Доктору никто не помог. Но не только потому, что он недостаточно громко жаловался. Здесь есть еще другое обстоятельство, и, надо сказать правду, очень неприятное. Когда доктор был в расцвете сил, когда он был нужен, о нем заботились. А сейчас он сработался, непосредственной пользы он уже не приносит, о том же, сколько пользы принесла его громадная трудовая жизнь, успели быстро забыть. И не получил старик счастливой старости, которую заслужил.
Между тем у нас есть такие законы о стариках, о социальном обеспечении, каких нет нигде. Но как они осуществляются? Наркомсобес, конечно, считает, что выполнил свой долг, аккуратно выплачивая доктору Бердичевскому его пенсию. Но дело не в пенсии. Функции собеса гораздо шире. Нужны самые разнообразные формы помощи. Что знает, например, Наркомсобес о тысячах стариков и старух, о своих пенсионерах поменьше рангом, чем доктор Бердичевский, о тех, которые живут в коммунальных квартирах? Хорошо ли им живется? Не обижают ли их домоуправления, не притесняют ли соседи, а в иных случаях и родные?
Можно согласиться с тем, что наша художественная литература не всегда поспевает за жизнью. Однако бывают и отдельные удачи. Обратил ли внимание Наркомсобес на то, что в газетных фельетонах постепенно выработался хотя и стандартный, но чрезвычайно трогательный тип жалующейся старушки и, заметьте, пожалуйста, именно старушки, а не пионера, не физкультурника, не пекаря, не слесаря, не певца, не портнихи. Именно литературный образ, обобщенный, выработавшийся благодаря типичности явления. Уж будьте покойны, если бы в литературу стал проникать тип, скажем, страдающего токаря по металлу, то в Наркомтяжпроме сразу бы заинтересовались корнями этого литературного явления. Но в Наркомсобесе и в ВЦСПС сидят как ни в чем не бывало, будто бы страдающая старушка или какой-нибудь обивающий пороги старик не имеют к ним никакого отношения.
Нет, товарищи, старики – по вашему ведомству. Мало того – по нашему общему ведомству. Все население советского государства должно заботиться о наших стариках.
В капиталистическом обществе старость – это пугало. Миллионы людей живут в ужасном сознании того, что когда они состарятся и выбьются из сил, им не на кого будет опереться, никто не обязан им помогать. Там каждый сам за себя. Если человек не накопит денег на старость, он пропадает. Черствый, казенный кусок хлеба в богадельне для старика хуже смерти. И вот все эти миллионы людей, подгоняемые призраком одинокой, нищей, беспризорной старости, копят гроши, отказывая себе решительно во всем. Только капитал может дать им спокойную старость.
У нас этого нет. Эта тяжесть с советских людей снята. У нас старость – не пугало.
И эта старость, тщательно охраняемая советским законом, нуждается не только в материальной поддержке, но и в почтительном уважении со стороны молодежи.
Приходится опять произнести два слова, которые все чаще и чаще повторяются в последние месяцы – Наркомпрос и комсомол.
Воспитывается ли в школьниках, пионерах и комсомольцах чувство уважения к старикам? Входит ли в школьные программы воспитательная работа такого рода? Во всяком случае, любимая шутка подрастающего поколения: «Тебе, старик, в крематорий пора» – об этом не свидетельствует.
Сотни мелочей – от вежливо уступленного места в вагоне метро до помощи во время перехода оживленной улицы – скрасят жизнь стариков.
Почтение к старости должно прививаться молодежи так же решительно, как математика и география.
Давайте, товарищи, уважать стариков. Все мы будем когда-нибудь стариками!
Чем ближе подходит страна к осуществлению мечты, которая веками томила человечество, чем яснее рисуются прекрасные очертания нового общества, чем больше мы начинаем понимать, на какую высоту поднялись, какие кручи преодолели и как близка ослепительная вершина социализма, тем строже становятся люди к самим себе, тем больше обостряются их зрение и слух, тем ответственнее делается работа каждого – от уборщицы метро, гоняющейся за пылинкой, до директора металлургического завода, руководящего десятками тысяч рабочих и сотнями инженеров. И тем досаднее становится каждая помеха, тем противнее делается всякая глупость. Так, например, стало нестерпимо, почти физически больно видеть дурака, наблюдать его тошнотворную деятельность. Думается, что это чувство знакомо многим.
Если внимательно рассмотреть большинство так называемых головотяпских дел, с которыми сталкиваешься в жизни и о которых читаешь в газете, то замечаешь между ними чрезвычайно тонкое, почти неуловимое сходство. Все они вызваны одной и той же причиной – отсутствием чувства меры.
Скажем, так: товарищ Икс, не плохой, в общем, человек и работник, совершил некоторым образом антиобщественный поступок. Поступок выразился в том, что Икс на вечеринке в своем учреждении выпил лишнее, надел пальто задом наперед и лег посреди зала на пол, мешая сослуживцам и их семьям танцевать западные и восточные танцы. Его увели.
На другой день в стенгазете появилась заметка, в которой товарища Икса справедливо порицали за неприличное поведение и призывали не повторять впредь подобных поступков. Икс был очень опечален происшедшим и искренне раскаивался.
Однако в тот же день было созвано экстренное общее собрание, где Икса заклеймили самым страшным образом. Один оратор договорился даже до того, что назвал поступок Икса вылазкой. Чьей вылазкой и куда именно вылазкой, он не сказал.
Тем не менее какая-то культкомиссия на всякий случай отобрала у Икса путевку в дом отдыха, которую он получил и еще не успел использовать.
Начальник учреждения тоже принял меры против совершенно скомпрометированного сотрудника и уволил его со службы.
Жена бросила заклейменного Икса и, забрав детей, переехала к родителям, а домоуправление стало взимать с него квартирную плату, как с лица свободной профессии. Потом пришел монтер и молча унес телефон. Уже соседи начали было поговаривать о том, что не худо бы врага общества выселить из дома, отдав им освободившуюся площадь, как вдруг из прокуратуры раздался громовой отрезвляющий голос:
– Вы что, товарищи, с ума сошли? Разве можно так поступать с человеком?
И начался великий откат. Все шарахнулись в другую сторону.
Голос раздался в десять часов сорок пять минут, а уже в одиннадцать пришел монтер и молча повесил телефон на старое место, добавив вторую розетку, которой раньше не было. Затем явилась жена, ведя перед собой детей. Вид у нее был такой, словно она только на минутку уходила на рынок. В тот же день Икса приняли на прежнюю службу, уплатили за вынужденный прогул и неизвестно за что премировали сапогами. Взамен утраченной путевки он получил новую, бесплатную, на два месяца. Местком устроил в честь Икса бал, на котором всячески прославлялась его многолетняя, и полезная деятельность, а так же безукоризненное поведение. Что же касается стенгазеты, то ее редактор получил строгий выговор за то, что опорочил товарища Икса.
Таким образом, опять началась какая-то чепуха и снова пострадал ни в чем не повинный человек. Ведь стенгазета была права, когда порицала Икса за неприличный поступок. Но в безумном стремлении исправить ошибку с шумом и гамом сотворили новый перегиб.
Это шуточная, выдуманная история, но разве она неправдоподобна, разве не бывает таких историй, когда из-за отсутствия чувства меры совершают отвратительные глупости?
Первого мая в Иркутске 18-я средняя школа готовилась к участию в праздничном шествии.
Был там старый учитель Ткаченко, известный как лучший преподаватель и общественник. За образцовое ведение кружка авиамоделистов Ткаченко был трижды премирован. С особенной любовью и старанием он подготовлял школьников к первомайским дням. Он придумал и изготовил гигантский глобус и организовал полет бумажного шара над площадью.
В общем, все было прекрасно. Ткаченко шел в колонне, окруженный детьми и товарищами по работе. Все были веселы, тащили глобус, пели и старались идти в ногу. Счастливый день!
Внезапно к колонне мелкой рысью подбежал Сельдищев, инструктор гороно. Он был бледен и еще издали махал руками. Как видно, инструктор собрался возвестить какую-то чрезвычайную инструкцию. Пение прекратилось, глобус перестал вертеться, и школа остановилась.
Инструктор направился прямо к учителю Ткаченко и решительно предложил ему покинуть колонну.
– По личному распоряжению заведующего краевым отделом народного образования товарища Басова, – сообщил инструктор.
– За что?
– За то, что вы не в летнем костюме.
– Но ведь сегодня холодно.
– Товарищ, выполняйте приказание.
– Ведь это все-таки Иркутск, а не Ялта.
– Выполняйте приказание, товарищ.
– Я, наконец, пожилой человек. Мне здоровье не позволяет ходить в майке и белых штанах.
– Выполняйте, товарищ, приказание.
Колонна ушла, а почтенный учитель остался, в одно мгновение превратившись из уважаемого члена коллектива в подозрительного одиночку – не то частника, не то разоблаченного внутреннего эмигранта. Он печально посмотрел на удаляющийся глобус, который еще вчера клеил, подумал-подумал и побрел домой.
Идиотизм этого происшествия ясен. Не требуется никаких дополнительных разъяснений. Гораздо интереснее причины, которые вызвали это происшествие.
Всем, конечно, хочется, чтобы первомайская процессия имела наиболее нарядный вид, чтобы все ее участники носили светлую одежду. Но каждое хорошее начинание можно изгадить, превратить в труху. Заведующий краевым наробразом вполне преуспел в этом, опозорив и оскорбив заслуженного педагога. Красивый вид он предпочел здравому смыслу.
Хорошо еще, что Басов не заведует образованием на острове Диксон. Там он разогнал бы всю первомайскую демонстрацию. Как сообщает корреспондент «Правды», на Диксоне встречали праздник в оленьих дохах и пимах. Этого Басов, конечно, не потерпел бы. Светлый праздник труда и весны – и вдруг какие-то меха! В майках надо, товарищи! В трусиках! В тапочках! Порядка не знают!
Большое опасение вызывает дело народного образования в Иркутске, которым руководит человек неуравновешенный и совершенно лишенный чувства меры.
Вероятно, Басов станет оправдываться тем, что он получил директиву вывести школьников в летнем. Что ж, могло быть такое разумное распоряжение. Но ведь каждая директива дается в расчете на то, что выполнять ее будет человек с головой на плечах.
Нельзя же все приказы, распоряжения и инструкции сопровождать тысячью оговорок, чтобы Басовы не наделали глупостей.
Тогда скромное постановление, скажем, о запрещении провоза живых поросят в вагонах трамвая должно будет выглядеть так:
«1. Запрещается во избежание штрафа провозить в вагонах трамвая живых поросят.
Однако при взимании штрафа не следует держателей поросят:
а) толкать в грудь;
б) называть мерзавцами;
в) сталкивать на полном ходу с площадки трамвая под колеса встречного грузовика;
г) нельзя приравнивать их к злостным хулиганам, бандитам и растратчикам;
д) нельзя ни в коем случае применять это правило в отношении граждан, везущих с собой не поросят, а маленьких детей в возрасте до трех лет;
е) нельзя распространять его на граждан, вовсе не имеющих поросят;
ж) а также на школьников, поющих на улицах революционные песни».
И так далее. Писать можно до бесконечности, потому что невозможно предусмотреть все, что может натворить осатаневший администратор.
Есть такая чрезвычайно полезная штука – агроминимум. Но вот в Кантском райисполкоме Киргизской АССР и в это ясное и важное мероприятие внесли истерическую ноту. В обязательном постановлении, изданном по этому поводу, есть пункт 3-й VIII раздела:
«Организовать уничтожение воробьев, грачей, уничтожив в первую очередь гнезда».
Самый пункт ничем, собственно, не угрожает населению Кантского района. Зато 9-й пункт этого же раздела наводит страх:
«Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, подлежат ответственности в административном порядке: штрафу до 100 рублей или принудительным работам на срок до 1 месяца, а в особо злостных случаях привлечению к уголовной ответственности по декрету правительства от 7 августа 1932 года, как за расхищение общественного имущества».
Позвольте! За неуничтожение воробьев отвечать как за расхищение общественного имущества?
Что за глупость! Почему тогда не карать за «неуничтожение воробьев и их гнезд» как за разбойное нападение, или кражу со взломом, или за изготовление фальшивой монеты?
Закон от 7 августа – это очень серьезный закон и имеет в виду никак не воробьев, а птиц совсем другого полета. Неужели и этот исторический закон снабжать специальными оговорками по типу трамвайной инструкции о поросятах, чтобы кантское начальство могло его понять?
Казалось бы, что общего между историей учителя Ткаченко и этим вот воробьиным делом? Что общего между этими обоими делами и делом студента Сверановского, которого за ссору в трамвае приговорили к двум годам тюрьмы, или случаем в Сидоренковской школе, где в попечении о нравственности детей (вопрос важный и злободневный) пошли на безумную затею: стали свидетельствовать всех школьниц «на предмет установления невинности»?
Есть общее. Это делали люди, лишенные чувства меры и все доводящие до абсурда.
Праздник 1 мая – замечательный праздник.
Закон от 7 августа – важнейший закон.
Борьба с хулиганством – актуальнейшая проблема.
Наблюдение за нравственностью детей – первейшая задача педагога.
А что получилось у этих людей?
В заботе о красоте праздника оскорбили учителя. Закон о расхищении общественного имущества пытаются применить идиотическим образом. Борьбу с хулиганством дискредитируют несправедливым приговором. А в борьбе за нравственность совершили безнравственный, отвратительный поступок.
И все это делается не от излишнего усердия, не от рвения к работе, а от мучительного желания избавиться от работы, спастись от железной необходимости думать о том, что делаешь.
Здесь под видом бурной деятельности скрывается глубокая пассивность, особенно нетерпимая сейчас, в дни блестящего расцвета всех производительных и интеллектуальных сил страны.
Слово «рождение» пользуется в нашей литературе большим почетом, но употребляется почему-то только иносказательно. Литераторы любят пользоваться иносказаниями. Восторженный очерк о больнице называется «Кузница здоровья», а восторженный очерк о кузнице называется «Здравница металла». Делать это, в общем, совсем не трудно (каждый может), а получается довольно мило.
Так же поступают и со словом «рождение». Можно найти какие угодно названия и заголовки: «Рождение книги», «Рождение домны», «Рождение автомобиля», даже «Рождение лампочки» (как видно, электрической).
Товарищи, а просто рождение? «Рождение человека»?
Впрочем, бывает, что попадается и такой лучезарный заголовок, но это тоже иносказание. Под этим заголовком обычно таится история перестроившегося интеллигента. Поэтому не ищите здесь описания того, как мучилась мать, как волновался отец, причитала бабушка и как, наконец, раздался первый крик появившегося на свет младенца, крик раздраженный и хозяйский.
Не будем замазывать факта. Если перевести на общепонятный язык младенческое «уа-уа», то иной раз получится вот что:
– Товарищи, надо вам сказать откровенно, я родился по ошибке. Мама не успела вовремя сделать аборт, уа-уа. Таким образом, уа-уа, я появился в результате, так сказать, головотяпства моих родителей. И я заранее знаю, что произойдет. Уа-уа, у меня не будет ни братьев, ни сестер. Мама не хочет иметь детей, она не верит в прочность брака. А папа, уа-уа, тоже хорош гусь: он считает, что дети – это мещанство. Я все знаю. Через полгода мой бойкий папа, уа-уа, побежит в загс и в пять минут разведется с мамой. Он любит молодых и часто женится. Алименты у него, черт возьми, придется вытаскивать клещами, уа-уа. Я-то не пропаду. Обо мне позаботится государство. Но обидно, уа-уа! Я хочу жить в семье, чтобы меня, уа-уа, любили, обожали, чтоб у меня были братья и сестры, чтоб нас было много, уа-уа. И чтоб все были похожи друг на друга, большая веселая компания детей. И чтоб никогда не угас великий род Ивановых, к коему, уа-уа, я имею честь принадлежать. Смотрите, как я хорош! Я вешу девять фунтов. Радуйтесь моему приходу, приветствуйте меня, снимите шляпы! Уа!
Ну, как после такой яркой и содержательной речи не удовлетворить законных, естественных требований младенца! Как не устроить торжества по поводу рождения нового человека!
Никто еще, собственно, не знает, как это надо делать. Но тут беспокоиться нечего. Новые обычаи приходят сами по себе. Их нельзя создавать искусственно.
В свое время новый быт пытались создать в учрежденском кабинете. Появились специальные книги и руководства, где с леденящей душу добросовестностью излагались формы новых обрядов.
По этому рецепту была наскоро состряпана кошмарная музыкально-профсоюзная мистерия под названием «Октябрины».
Новорожденного несли в местком. Здесь происходил церемониал вручения подарка. Дарили всегда одно и то же – красное сатиновое одеяло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал реванш – над люлькой младенца он произносил двухчасовой доклад о международном положении. Новорожденный, натурально, закатывался, но опытному оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые тоскливо курили. Оркестр часто играл туш. По окончании доклада несколько посиневшему младенцу давали имя: мальчика называли Доброхим, а девочку – Кувалда, надеясь, что детей будут так называть всю жизнь. Потом все с чувством какой-то неловкости шли домой, а председатель, оставшись один, вынимал ведомость и с удовлетворением записывал: «За истекший квартал проведено политобеденных перерывов 8, культшквалов – 12, октябрин – 42».
Дома, конечно, все приходило в норму. Доброхима называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавдией. Но чувство неудовлетворенности оставалось еще долго.
И произошло то, что не могло не произойти. Форма, не наполненная содержанием, распалась. Обычаи и традиции создаются не так. В прошлом году Москва встречала челюскинцев и их спасителей. Встреча была триумфальная, очень красивая и сердечная.
Следует заметить, что до гибели «Челюскина» не существовало ни одного многотомного теоретического труда о том, как в социалистической стране надо встречать героя, въезжающего в город. Тем не менее все вышло прекрасно, хотя было сделано экспромтом. в несколько дней. В эти дни заговорило чувство. Произошло событие, содержание которого было настолько значительно, что стало легче лепить форму торжества.
Когда все мы научимся считать рождение ребенка прекрасным и радостным событием, то форма празднования этого события придет сама собой.
Не надо только торопиться и нервно сочинять заметки о многодетных родителях, называя их «кузнецами, выковывающими каждый год по малютке». Насколько нам известно, молот и наковальня тут совершенно ни при чем.
После рождения наиболее важным этапом в жизни человека является брак. Выражаясь языком театральных критиков, можно сказать, что брак по сравнению с рождением – это шаг вперед. Как же делается этот шаг? Уа-уа, как говорит наш друг-младенец, весьма часто он делается легкомысленно и бездумно. Жениться легко, а развестись уж совсем нетрудно. Говоря откровенно, развестись у нас легче, чем, скажем, прописаться в доме, или получить нужную справку, или перевезти на дачу керосин. И этой легкостью, несомненно, злоупотребляют.
Однако чрезвычайно умный и человечный закон о разводе писан вовсе не для того, чтобы пользоваться им, как трамваем. Сел, заплатил десять копеек, проехался в свое удовольствие и погнался за другим вагончиком. Закон этот писан для облегчения человеческой жизни, для того, чтобы не угнетать формальностями людей, которые глубоко запутались в своих семейных противоречиях и вынуждены прибегнуть к разводу – печальному и, к сожалению, единственному выходу. Но никто никогда не позволял прикрывать законом половые похождения эгоистических и морально нечистоплотных людей.
Было бы проще всего изречь громовую фразу: «Пора уже ударить по донжуанским настроениям». Изречь – и успокоиться. Борьба с донжуанством велась бы в профсоюзных канцеляриях. Спустили бы директиву, и тот самый месткомовец, который так усердно октябрил малюток, снова вытащил бы ведомость и, прищурив глаз, начал бы выводить свои кривые: «Выявлено растратчиков 85, хищников кооперации – 58, донжуанов – 16, половых разложенцев – 2, прочих – 11».
Разве это поможет?
Здесь на помощь закону должно прийти общественное мнение. Человек, меняющий жен чуть ли не каждый год, человек, бросающий женщину с ребенком и увиливающий от уплаты алиментов, должен знать, что это ему с рук не сойдет, что друзья отвернутся от него, что товарищи по работе перестанут подавать ему руку.
Сейчас все эти вещи происходят с какой-то обидной простотой. Человек бросил женщину ни с того ни с сего. Официально это называется «не сошлись характерами». На самом же деле совершена подлость. И все это знают, сочувствуют бедной женщине. Но сочувствие это абстрактно и не влечет за собой никаких практических последствий. Друзья-приятели подлеца ведут себя, как будто ничего не случилось, – разговаривают с ним, выпивают, дружат. У них не хватает мужества поступить так, как подсказывает совесть, – при встрече с ним спрятать руку за спину. Кстати, если полная отмена рукопожатий есть некий перегиб, то уж рукопожатия с мерзавцами можно отменить безболезненно.
Покамест этого еще нет, и лихие советские гусары чувствуют полную безнаказанность. Законом можно воспользоваться в своих низменных целях, друзья не осудят, – таким образом, все в порядке.
Надо ли удивляться теперь большому количеству абортов?
Очень часто женщина боится рожать, потому что не верит мужу. Да и как ему поверить, когда шалун уже третий раз женат! Он может сбежать и теперь. Уедет куда-нибудь на две недели поправлять расшатавшееся здоровье, вернется с новой женой и бодро примется возводить в комнате перегородку. Нет, такому попрыгунчику никто не родит ребенка. Будь авторы этой статьи женщинами, они не хотели бы иметь детей от такого типа.
Есть и самый обыкновенный эгоизм. Семья хорошая: муж любящий и верный, жена верная и любящая, квартира удовлетворительная, а детей все-таки нет. Не хотят рожать. Дети, видите ли, кричат, плачут, мешают ходить в театр, в гости, мешают, как говорит жена, заниматься общественной работой (как будто воспитание детей – это не общественное дело, как будто у нас мало женщин, которым большая семья не мешает заниматься общественной работой).
Многим, конечно, рожать трудно. И жить тесно, и материальное положение еще не ахти какое, и работа с различными нагрузками отнимает порядочно времени. При таких условиях иметь детей нелегко. И все же женщина самоотверженно становится матерью.
Государство это понимает. Оно заботливо предоставляет роженице бесплатную врачебную помощь, продолжительный отпуск до и после родов, помещает ее в лечебницу, выдает пособия, дает для детей консультацию, ясли, сады.
Но в быту у нас материнство не пользуется даже частицей подобного внимания. Это факт не очень приятный, но все-таки факт, и обойти его невозможно, потому что, как нам кажется, невнимательность к женщине является центром всех затронутых здесь вопросов.
Женщина в Советском Союзе имеет совершенно равные права с мужчиной, без всяких оговорок и ограничений. Но находятся люди, которые считают, что это равенство освобождает их от каких бы то ни было обязательств по отношению к женщине. Мы, дескать, равны, и нечего тут огород городить, проявлять какое-то особенное почтение. Мы ребята, они девчата – и все тут.
И вот иногда под видом товарищества процветает грубость, даже цинизм, высмеивается естественная у молодежи нежность. Она заменяется панибратством и развязным похлопыванием по плечу. И в этой атмосфере принижается важность отношений между мужчиной и женщиной, исчезает значительность супружества.
И так как свадьба не считается событием, то и проходит она незаметно и серовато. Позавтракал, сходил в кино, женился, заплатил профсоюзные взносы… Происшествия довольно обыкновенные, одного и того же ранга.
Не надо забывать, что, получив права равенства, советская женщина получила множество новых обязанностей. Она учится и работает наравне с мужчиной. И это равенство в работе обязывает мужчину относиться к женщине с особенной, рыцарской заботливостью.
И это не должно быть рыцарством вовремя поднятого платочка или обидным покровительством «слабому полу».
В каждой девушке надо ценить не только текстильщицу, отважную парашютистку или инженера.
В ней надо ценить будущую мать.
В матери одного ребенка надо ценить будущую мать восьмерых детей.
А в матери восьмерых детей… Впрочем, не будем загадывать. Будем ценить ее за то, что она уже успела сделать.
История несчастной Марии Пронько, которая, к сожалению, осталась незамеченной, может вызвать волнение даже у самых мужественных людей.
Двадцать седьмого апреля студентка Никопольского пединститута Панасенко пришла к своим подругам в общежитие № 5. Она отдала студентке Марии Пронько двадцать рублей, которые была ей должна. Оставшиеся у нее сорок рублей она положила в книгу, и в тот же вечер эти деньги пропали. Очевидно, их кто-то украл.
Это событие вызвало большое возбуждение. Девушки решили обыскать друг друга, и три студентки-комсомолки, имеющие наибольший авторитет, в том числе и Мария Пронько, были выбраны для осуществления этой операции.
Обыск подходил к концу. Наступила очередь Пронько. Она сказала, что у нее должно быть сто семнадцать рублей. А нашли у нее сто сорок один рубль, на двадцать четыре рубля больше, чем она заявила. Этого было достаточно, чтобы подруги обвинили ее в краже. Мария Пронько отрицала свою виновность. Тем не менее вызвали коменданта общежития и в двенадцать часов ночи созвали общее собрание, на котором было решено просить дирекцию выселить Пронько из общежития и поставить вопрос о ней на обсуждение комсомольской организации и профкома.
Двадцать девятого состоялось заседание комитета комсомола. Студентка Кундер сообщила о тяжелом настроении Пронько и предупредила, что к девушке следует отнестись более чутко. Студентка Кожура рассказала, что Мария ведет себя очень подозрительно, что вчера она бесцельно бродила возле Днепра и что все это может кончиться худо. На это секретарь комитета Подреза ответил репликой, которая тогда, наверно, казалась ему очень остроумной и о которой он сейчас, может быть, вспоминает с ужасом. Он сказал:
– Вода в Днепре холодная, не утопится.
Решили: из комсомола исключить, а в институте оставить. Этим самым вопрос о том, воровка Пронько или нет, был решен – воровка. Ни секретарь комитета комсомола Подреза, ни председатель профкома Леонов, ни член комитета комсомола Круглик, которому поручили проверить случай с исчезновением сорока рублей, – никто из них не поговорил как следует с девушкой, никто не попытался вникнуть в обстоятельства дела.
Проснувшись в два часа ночи, студентка Кожура, которая взялась дежурить возле Пронько, заметила, что ее кровать пуста, и разбудила подруг. Девушки побоялись выйти ночью на поиски и обратились за помощью к Леонову, но он, вместо того чтобы немедленно организовать поиски девушки, о которой уже несколько дней было известно, что она покушается на самоубийство, заявил: «Если ее утром не будет, сообщим в милицию». А сам, как видно из обвинительного заключения, «лиг спаты».
В семь часов утра студентки Кожура и Кунахи пошли искать Пронько и на берегу Днепра нашли ее пальто и калоши. А через пятнадцать дней труп Пронько Марии, одной из лучших студенток института, всплыл в шести километрах от Никополя.
Как все это назвать? Есть только одно подходящее слово – самосуд. Самый дикий, темный самосуд, пропитанный идиотизмом деревенской жизни (хотя дело происходило в городе и в высшем учебном заведении).
Какие-то люди – студенты, коменданты, секретари, профорганизаторы – присвоили себе среди бела дня права прокурора, следователя и судьи, сами обвинили, сами производили обыск, сами допрашивали, сами вынесли приговор и сами привели его в исполнение. Конечно, виновников гибели несчастной девушки судили.
– И вы знаете, – сказал нам заместитель днепропетровского облпрокурора, выступавший на этом процессе, – самым удивительным было то, что все эти люди – Подреза, Круглик, Леонов и другие – не понимали, за что их судят. И только к концу процесса, после речей, начали смутно догадываться, что своим куриным равнодушием и легкомыслием погубили девушку.
Это большая заслуга процесса. Он заставил обвиняемых понять, что произошло, и знание жизни, которое они получили за время судебной процедуры, несомненно, было значительнее воспитания, полученного ими в пединституте и в местной комсомольской организации.
Но есть еще одно важное обстоятельство, даже самое важное.
Когда в общежитии № 5 произошла кража, то никому из живущих там не пришла в голову мысль обратиться к судебным органам, которые установлены нашим законом. Люди считали, что могут судить сами. А комитет комсомола дошел даже до того, что, исключив Пронько из своих рядов, разрешил ей остаться в институте, хотя ни принимать в институт, ни изгонять из него не имеет ни малейшего права. Он делал все: возложил на себя функции прокурора, следователя, суда, даже Наркомпроса, но своего дела – воспитания молодежи в коммунистическом духе – он не сделал.
Молодые девушки и юноши, ничем, очевидно, не отличающиеся от других хороших юношей и девушек, вдруг забыли в трудную минуту о существовании прокуратуры и суда. Такую забывчивость можно объяснить лишь тем, что эти учреждения не пользуются у нас настоящей известностью. Они недостаточно популярны.
В газетах можно найти сообщение о ком угодно: о талантливом доменщике, о смелом водолазе, о способном инженере, спортсмене, хирурге. Это хорошо. Но, скажите, читали ли вы хоть строчку о талантливом прокуроре, проницательном следователе, умном судье или способном защитнике?
О какой-нибудь дрянной пьеске, сооруженной с лихорадочной быстротой и залакированной до отвращения, пишутся десятки статей. Но скажите, пожалуйста, много ли вы читали толковых судебных отчетов, известны ли вам речи наших выдающихся прокуроров, в которые вложено глубокое знание жизни?
Если о судебном процессе и пишется, то пишется так: «обвинение поддерживал такой-то» (следует перевранная фамилия), «защищал ЧКЗ такой-то».
А как поддерживал, как защищал и что такое «ЧКЗ», – будьте добры, догадывайтесь сами.
О том же, в каких условиях работают прокуратура и суд, совсем уже ничего не известно.
Между тем их ответственный труд протекает в условиях чрезвычайно тяжелых. Начать с того, что в одном из народных судов после торжественного возгласа «суд удаляется на совещание» судья с печальной миной встает и, сопровождаемый народными заседателями, направляется прямо в уборную, потому что это единственное место, где можно совещаться, – другого помещения нет. Мы нарочно не указываем, где находится этот суд, так как подсудимые, свидетели и публика потеряют к нему всякое уважение. Правда, после мобилизации средств местного бюджета удалось добиться того, что сняли унитаз. Но трубы остались, остался бак, висит цепочка.
Большинство райисполкомов считает своим долгом запихнуть суд, прокурора и следователя в самое скверное, грязное и вонючее помещение во всем районе.
Прокуроры, эти суровые хранители закона, бегают с протянутой рукой и вымаливают несколько рублей на побелку служебных комнат. Работники прокуратуры уже не говорят о том, что получают маленькие ставки. Общий крик: дайте хоть немножко денег на организацию дела. Нет грошовой суммы, чтобы купить шкаф для хранения документов. Судебные дела лежат на стуле. Но самое тягостное, просто невыразимое – это отсутствие бумаги.
Вообще говоря, надо приветствовать всякое сокращение учрежденческой переписки. Но в делах судебных каждое действие обязательно должно быть занесено на бумагу. Допрос обвиняемого – это бумага, допрос свидетеля – это бумага, обвинительное заключение, протокол заседания, приговор, повестка – все это бумага, бумага. Дошло до того, что в некоторых районах осужденным не дают копий обвинительного заключения и приговора – нет бумаги и нет на нее средств.
Следователь г. Орехова ходит по учреждениям и выпрашивает два-три листка бумаги. Он пишет свои протоколы, постановления и заключения на оборотной стороне веселеньких розовых или лиловых обоев. В районе все пишут на обоях. Там давно уже забыли, что обоями оклеивают комнаты. И следователь жаловался не на то, что пишут на обоях, а на то, что обоев нельзя достать.
– Я думаю устроить так, – сказал он совершенно серьезно, – отказаться от телефона и электрического освещения. Тогда у меня будет целых семнадцать рублей в месяц, и на эти деньги я смогу покупать бумагу.
Следователь, работающий вблизи Днепрогэса и отказывающийся от электричества, – это очень грустное, товарищи, явление.
Тут же на столе районного прокурора лежала бумажка относительно обложения его сельхозналогом. Дело в том, что у прокурора есть лошадь для разъездов по служебным делам, а средств на ее прокорм не дают. Пришлось ему самому засеять несколько гектаров овсом и кормовыми травами. Прокурор, сеющий овес, – явление тоже довольно грустное. Но он доволен. Другим судебным работникам хуже. У них нет никаких средств передвижения, и они ходят пешком по двадцать километров, по тридцать километров.
У следователей нет даже самых примитивных технических средств для расследования преступлений: нет фотографического аппарата, нет обыкновенной лупы, ничего нет.
Попробовали бы поставить Шерлок Холмса в такие условия! Великий сыщик захирел бы в два дня и поспешил бы изменить профессию. А наши следователи и прокуроры работают, не падая духом и даже не надеясь на простую благодарность. На Всеукраинском съезде работников юстиции прокурор Криворожья сказал:
– Работаю больше десяти лет и никогда не слышал слова о том, как я работаю – хорошо ли, плохо ли.
Это тяжело – работать десять лет в молчании.
Мы приехали в маленький город Большой Токмак. Был ранний вечер. В скверике прогуливались большие и малые токмакцы. На столбе висела афиша фокусника и жреца Кефалло, предлагающего вниманию публики какой-то таинственный саркофаг, летающую женщину и прочие чудеса XIX века. На главной улице достраивалось несколько четырехэтажных кирпичных домов. И в этом тихом городе мы узнали историю, очень напоминающую дело Марии Пронько и показывающую, как тесно связана прокуратура с жизнью и как велика была среди внезапно запылавших страстей роль прокурора, точно выполнившего закон.
Мы застали дело в самом разгаре.
В комсомольскую организацию села Гавриловки поступило заявление о том, что учитель школы-семилетки Василь Вивчар вынуждает учениц школы к сожительству и живет с некоторыми из них. Страшная картина! Сразу же представляется пожилой, бледный и усатый мерзавец, заманивающий маленьких девочек в сарай и там развращающий их. Строгое возмездие последовало немедленно. Вивчара исключили из комсомола и уволили из школы. Обе организации – райком комсомола и наробраз – потребовали от прокурора предать Вивчара суду. В общем, повторилась история Марии Пронько. Судили и вынесли приговор сами. Разница была лишь в том, что Вивчара решили засадить еще и в тюрьму. Это было большое счастье, потому что когда следователь Пироженко и прокурор Машкевич взялись за дело, то оно приобрело совершенно другое освещение.
Как много значит добросовестное и точное предварительное следствие. Вот какими оказались обстоятельства дела:
Вивчару двадцать один год. Он преподает в первом классе. Ученице Ю., в сожительстве с которой его обвиняли, семнадцать лет. Училась она в седьмом классе, в школьной зависимости от Вивчара не находилась и к началу следствия уже окончила школу. На допросе она сперва все отрицала, а потом храбро призналась, что находится с Вивчаром в близких отношениях, больше того – любит его и собирается выйти за него замуж. Сам Вивчар тоже признал свою вину. С ученицей Ю. он встречался не в школе, а в клубе или на улице, стал с ней близок за несколько дней до окончания ею школы, очень ее любит и, естественно, собирается на ней жениться. Что же касается обвинений в том, что он близок с другими ученицами, то они сразу отпали как ложные. Все дело затеял дядька и опекун ученицы Ю., бывший кооператор, темные дела которого Вивчар в свое время разоблачил в газете. Этот дядька выкрал любовные письма Вивчара, – кстати, очень чистые и нежные, и передал их в комсомольскую организацию. Вот все.
Это была настоящая драма, которая неумолимо вела молодых людей к гибели.
Когда Вивчара судили на комсомольском собрании, он прислал заместителю секретаря райкома комсомола Пономаренко, который, как видно, в порядке кампании «проворачивал» это дело, трагическое и правдивое письмо. Письмо это в сокращении и переводе с украинского много теряет, но даже и в таком виде вызывает волнение.
«Я хотел бы, чтобы эти строки попали к вам до того, как вы будете говорить там про меня. Но, вероятно, это делается в одно и то же время. Я тут пишу, а вы там говорите. Ну, ничего. Я признаю свою ошибку, что как учитель я по закону не имел права влюбиться в ученицу седьмого класса, которой семнадцать лет… Мне никто не верит. Судите как хотите, но я еще раз со всей твердостью говорю, что я ее люблю. Не поверить этому может только человек, который никогда не был молодым. Я хочу привести один пример, который может показаться вам смешным. Когда цыплята живут дружно и все здоровы, они живут мирно. Но если у одного появляется ранка, все моментально набрасываются на него и клюют. И если не отнимешь – заклюют. За что постановили исключить меня из комсомола? За то, что я влюбился… Когда умерла моя сестра, я не плакал, а на собрании слезы душили горло, и я не мог говорить… Не вызывайте меня, я не смогу говорить снова».
И после такого письма Пономаренко не только добился изгнания Вивчара из комсомола и из школы, но еще напечатал в токмакской газете «Бiльшовицким шляхом» погромную статью под названием «Хлестаков из села Гавриловки». Он – невежда, этот Пономаренко. Вместо «Дон-Жуан» он написал «Хлестаков». Когда секретарь Большетокмакского райкома партии, находившийся в отпуску, получил в Крыму номер газеты с этой статьей, он схватился за голову. Он знал Вивчара, хорошего комсомольца, помогавшего ему в политотдельские времена, вдумчивого парня, сочиняющего повесть о том, как создался в Гавриловке колхоз, а тут о нем писали, как о бандите. Писали, что он «як хижий звир, почав переслiдувати одну за однiею дiвчат», что мало того, что его исключили из комсомола, сняли с работы и передали прокурору, что его еще надо «випекти печеним залiзом».
Можно твердо сказать, что трагический конец был предотвращен только потому, что прокурор и следователь отказались от привлечения Вивчара к ответственности, несмотря на давление, которое оказывалось со всех сторон. Они твердо держались закона. Народный судья поддержала их в этом решении, вспомнив, что сама в свое время вышла замуж шестнадцати лет.
Мы попали в село Гавриловку в тот самый день, когда была назначена свадьба страшных преступников. Видели мы и «хищного зверя» Вивчара, мечтательного, скромного и красивого юношу, видели и бывшую ученицу Ю., чрезвычайно милую и скромную девушку, видели мы и других девушек-комсомолок, которые судили Вивчара, очень смешливых и симпатичных. И как это они чуть не заклевали двух славных цыплят, сразу даже непонятно. Руководство было плохое! А как нужны умные люди в районе! И как хорошо, когда они есть.
Прокуратура и суд нуждаются в средствах и людях. Но туда не идут. Там тяжело работать и нет шансов оказаться замеченным. Когда человека посылают в прокуратуру, он с тоской вопрошает: «За что? Чем я провинился?» А если члену партии предложить, по окончании университета, пойти в коллегию защитников, то он просто засмеется, как будто институт защитников создан законом не для того, чтобы помогать суду в судебном следствии, а для каких-то темных и грязных делишек.
Если мы хотим, чтобы суд был не только карающим, но и воспитывающим органом, его надо соответствующим образом обставить. Хорошо освещенный процесс по бытовому делу может принести громадную пользу. Хорошая речь прокурора или защитника имеет не меньшее воспитательное значение, чем роман или пьеса, которым отдается столько внимания. И с этой позиции приходится только сожалеть, что наши выдающиеся судебные ораторы не выступают по бытовым процессам, а о тех, кто выступает, нигде и никогда не пишут.
Регулирование уличного веселья
До девятнадцатого июля сего года обитатели Кривого Рога веселились планово, неорганизованно, хаотично, беспорядочно.
Зато девятнадцатого июля местной милицией был наконец сделан первый, но далеко не робкий шаг в деле регулирования уличного веселья, песен и плясок.
На празднике, устроенном по случаю благополучного окончания спартакиады железорудной промышленности Юга СССР, было весело. Жители Кривого Рога и их гости собрались в парке. Играла музыка. В вихре вальса, а также в вихрях других танцев кружились пары. Праздник чрезвычайно украшало присутствие физкультурников самых различных национальностей. Особенным успехом пользовались чиатурские горняки, которые со страстью выделывали всякие лезгинки. Вокруг кавказцев собралась большая толпа.
И вот, в самый разгар веселья, проявив неслыханную оперативность, пришли сотрудники гормилиции и уголовного розыска. Они произвели беглый осмотр места происшествия, опустили свои тяжелые ладони на плечи танцующих и потребовали немедленно прекратить безобразие, то есть не петь и не танцевать.
– Пойте и танцуйте, как все поют и танцуют.
Руководитель делегации пытался было растолковать, что чиатурские физкультурники не знают ни украинского языка, ни украинских танцев и ввиду этого не смогут выполнить обязательного постановления милиции: например, петь «Реве тай стогне» и танцевать гопака.
– Нет, – печально сказал представитель милиции, – не умеют еще у нас правильно веселиться. Придется посадить нарушителей уличного веселья за решетку.
Невзирая на крики негодующей толпы, преступную шайку танцоров и певцов в количестве девяти человек схватили и увели в милицию, где и держали до часу ночи. Держали бы и позже, но вмешался председатель ЦК союза рабочих железорудной промышленности. Пришлось выпустить. Очень жалко. Так хорошо налаживалось было регулирование веселья, и вдруг… Нет, не дают разойтись, продемонстрировать суровость и служебную строгость.
Но зерна, любовно посеянные милицией в Кривом Роге, каким-то чудом дали ростки в Ростове-на-Дону.
То, что произошло в Ростове-на-Дону, выгодно отличалось от криворожской кустарщины своей организованностью и широкими масштабами.
На двенадцатое сентября в Ростове назначен большой физкультурный парад.
Совершенно естественно, что к этому дню надо заранее подготовиться, составить план праздника, организовать физкультурников.
Но подготовка к параду сразу же приобрела странные формы.
Ростовских рабочих разделили на двадцать полков.
Все было честь честью: батальоны, роты, командно-политический состав, формирование единиц, строевые занятия. Партийные комитеты заводов стали называться штабами полков.
Работа закипела. Рабочих заставляют ходить через день на строевые занятия и маршировать по два часа. Военачальникам даже не пришла в голову обыкновенная штатская мысль спросить своих свежеиспеченных армейцев, хотят ли они заниматься или, может быть, не хотят физкультурники они или нет? Ведь у нас как будто нет закона, принуждающего граждан заниматься физкультурой в обязательном порядке.
Зачем все это? Что за неприятная страстишка во что бы то ни стало регулировать уличное веселье?
Студента четвертого курса Ростовского-на-Дону института путей сообщения Окуня вычеркнули из списка учащихся и объявили ему, что он может идти на все четыре стороны.
Когда человеку объявляют, что он может идти на все четыре стороны, то это, собственно говоря, значит, что, несмотря на обилие сторон, идти некуда.
Что же такое натворил студент, что за несколько месяцев до окончания института к нему была применена столь строгая репрессия?
Может быть, он плохо учился и не вылезал из двоек и единиц?
Да нет, он не вылезал из четверок и пятерок, он отлично учился.
Может быть, однако, он хулиганил, пьянствовал, вносил разложение в среду товарищей, отличался половой распущенностью, был замечен в краже, грубил профессорам, наконец вел контрреволюционную пропаганду!
Нет, нет и нет. Не пил, не имел трех жен, не воровал, не распутничал, ничего антисоветского не совершил.
Всех проступков, которые может совершить человек, не перечислишь. Их слишком много.
Но хоть какой-нибудь из них студент совершил? Никакого! В этом вся оригинальность дела.
Когда Окуня исключали, никто и не предъявлял ему никаких обвинений. Администрация института великолепно знала, что он ни в чем не провинился, и наказала невинного, находясь в здравом уме и твердой памяти.
В общем, Окуня выгнали за то, что его отец совершил уголовно-наказуемое деяние и был приговорен к двум годам лишения свободы без поражения в правах.
Неизвестно, как разговаривал Окунь с начальником института, когда тот подымал на него карающую руку, но, как видно, разговор был такого рода:
– За что? Разве я виноват?
– Вы не виноваты. Виноват ваш отец.
– Ну, так его и исключайте.
– Мы не можем его исключить. Он у нас не учится.
– Почему же вы наказываете меня?
– Вы его сын.
– Но ведь я не совершал уголовно-наказуемого деяния.
– Боже упаси! Разве мы это когда-нибудь утверждали?
Студент обрадовался:
– Тогда не исключайте меня.
– Этого мы не можем. Он ваш отец, вы его сын. Значит, между вами есть многолетняя связь.
– Не преступная же связь, а родственная. Он меня родил. Так сказать, произвел на свет. Конечно, если б я знал, что так случится, может быть, я успел бы принять какие-нибудь профилактические меры, – например, не родился бы.
– Да, – сказал начальник, – конечно, лучше было бы, если б вы своевременно приняли меры. А теперь поздно.
– Значит, пропадать?
– Пропадать!
Студент стал пропадать. Тем более это было ему неприятно, что его преступный папаша сидел не два года, а только два месяца, так как был освобожден по 458-й статье. Папаша снова преспокойно служит. Как видно, преступление, которое он совершил, было маленькое.
А сын, который никакого преступления не совершал, отбывает наказание и по сей день, наказание гораздо более суровое, чем отсидка в тюрьме. Это продолжается уже десять месяцев.
Все, кто знает про его беду, пожимают плечами и говорят, что это уму непостижимо.
Здесь проявлено величайшее пренебрежение к революционному закону, величайшее неуважение к советскому суду.
Если бы суд нашел необходимым, он в своем приговоре указал бы, что отец Окунь присуждается к двум годам, а сын Окунь – к лишению права учиться. Однако суд этого не сделал.
На каком же основании начальник института дописывает приговоры суда, добавляет к ним новые пункты? Никто ему такого права не давал.
Разве такого рода действия не являются превышением власти и нарушением закона?
Тут дело уж не только в восстановлении Окуня в его студенческих правах, тут надо восстановить право советской законности, которому начальник института нанес ущерб.
Вообще поражает легкость и беззаботность, которая проявлена в деле Окуня.
Оставим в стороне тот несомненный факт, что десять месяцев борьбы провели в душе студента резкий след. Посмотрим на дело с узко практической стороны.
Студента учили четыре года, затратили на обучение много государственных средств, наконец почти выучили. Через какие-нибудь месяцы Советская страна получила бы нового знающего инженера. А вместо этого ей хотят подарить издерганного неудачника, без образования и перспектив, человека, который в лучшем случае может стать конторщиком.
Подумали ли об этом в Ростовском институте?
Путь к мировому футбольному равенству
Футбольная борьба на уютном киевском стадионе еще не кончилась, еще предстоят последние два матча, но уже подмывает желание сделать выводы, подвести некоторые итоги.
Что же случилось? Ленинград выиграл у Киева, Киев выиграл у Харькова, а Харьков выиграл у Москвы. Выходит, что лучше всех играет Ленинград, а хуже всех играет Москва. Но вот вчера Москва выигрывает у Ленинграда. Теперь уж никому не придет в голову мысль, что Москва играет хуже всех. Напротив – лучше всех. Однако она проиграла Харькову, который, в свою очередь, проиграл…
Впрочем, прекратим эту бесплодную арифметику. И выигрыши и проигрыши показали, что четыре лучшие команды Союза значительно подняли класс своей игры, что они почти сравнялись друг с другом, и сравнялись на более высоком уровне, чем тот, на котором находились прежде.
Прошедшие игры, и в особенности блестящая встреча Москвы с Ленинградом, показали, что наши футболисты вполне готовы к тяжелой и славной борьбе за мировое первенство.
Тут нет никакого головокружения. Мировое первенство – вещь вполне достижимая в течение нескольких ближайших лет. Наши футболисты замечательны тем, что до сих пор никто полностью не может определить их возможностей, потому что чем сильнее противник, тем сильнее они играют.
Представляется совершенно несомненным, что советским футболистам надо встречаться с командами, занимающими первые пять мест в мире. Мы, конечно, победим не сразу. Путь к мировому первенству не будет усыпан розами. Как видно, предстоят и огорчения. Но если уж браться за дело, то браться всерьез; если уж брать буржуазную технику, то брать самую лучшую, чтобы затем ее превзойти.
Московская сборная недавно выиграла у хорошей чехословацкой команды «Жиденице». Но в Чехословакии есть лучшая команда, занявшая второе место после Италии, – «Спарта». Так вот со «Спартой» и надо встретиться. Нужно встретиться с Австрией, Францией, Италией, Испанией. Ничего страшного не произойдет. У нас есть большие шансы на выигрыш. А если мы даже проиграем, то проиграем лишь затем, чтобы в следующий раз уж обязательно вбить в ворота противника несколько красивых, но верных мячей.
Тут, кстати, о воротах, – мы подошли к вопросу, который, на наш взгляд, имеет большое значение в борьбе за мировое первенство.
Подавляющее большинство наших футболистов плохо бьет по воротам. Как часто смелая, мастерски проведенная комбинация рассыпается в прах только потому, что последний стремительный удар сделан неточно – мяч летит вправо влево, вверх, но только не туда, куда он должен был влететь, – в сетку. Нападение часто в последнюю секунду перед ударом теряется, нервничает. Между тем удар по воротам есть венец игры. Если бы у нас научились бить по воротам с таким же умением, с каким защищают ворота Константин Фомин, Свиридовский29 или Александр Старостин, то уже сразу перешли бы в предельно высокий класс. Наше нападение неутомимо: оно прекрасно бегает, виртуозно ведет мяч, ежеминутно создает острые ситуации. Но вот последний удар, – когда на какую-то долю секунды все вдруг застывает, вратарь стоит в тоске, растопырив руки, когда всем становится ясно, что уже никакая сила не остановит мяч, и нападающий с поразительным хладнокровием и расчетом бьет в самую слабую и незащищенную точку ворот, – таким ударом, по совести говоря, владеет у нас как будто один только Михаил Бутусов, да и он, к сожалению, не часто уже может воспользоваться своим умением, как возраст диктует ему другую задачу – распределение мячей.
Точному, спокойному и вовремя молниеносному бутусовскому удару должно во что бы то ни стало научиться московское нападение, и киевское, и харьковское, и ленинградское.
Есть еще одна досадная особенность в игре некоторых наших команд. Кончается второй хавтайм. Остается несколько секунд. И тут команда, имеющая небольшое преимущество в счете, внезапно перестает играть, то есть не то чтобы перестает играть, а употребляет все свои могучие силы на то, чтобы выкинуть мяч как можно дальше за пределы поля, а потом долго за ним ходить и медленно, лениво возвращаться. Делается это с откровенной целью не дать противнику возможности сквитать счет. В этом отношении Харьков в игре с Москвой вел себя не совсем корректно, а Киев в игре с Харьковом – даже немного неприлично.
Это совсем не спортивно. Такие замашки не к лицу советским физкультурникам, и уж от них-то обязательно нужно избавиться, выходя на мировое футбольное поле.
Футболисты должны помнить, что, встречаясь с заграничными командами, они представляют Советский Союз.
Теперь вопрос чисто практический, относящийся одинаково и к Высшему совету физической культуры, и к Наркомату легкой промышленности.
Почему футболисты играют в шелковых рубашках? Во-первых, некрасиво (это красиво для цыганского хора); во‐вторых, это крайне негигиеничио. Гораздо удобнее футболистам играть в тонких шерстяных рубашках, легких, впитывающих пот и быстро просыхающих. Необходимо помнить, что футболист за полтора часа игры пробегает в общей сложности несколько километров, так что рубашка – дело очень важное.
Может быть, мы слишком деловито написали о футболе, написали без шуток и лучезарной улыбки.
Но ничего не поделаешь.
Футбол – дело серьезное.
– Земля, земля! – радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.
Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.
– Я вижу большую горную цепь, – сказал он товарищам по плаванию. – Но вот странно: там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.
– Пирога с туземцами! – раздался крик.
Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту.
Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги.
– Я хочу открыть вашу землю, – гордо сказал Колумб. – Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа…
– Все равно. Сначала заполните анкету, – устало сказал туземец. – Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы.
Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.
– Нельзя раздражать туземцев, – сказал он спутникам. – Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.
– У вас есть обратный билет и пятьсот долларов? – продолжал туземец.
– А что такое доллар? – с недоумением спросил великий мореплаватель.
– Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?
– Хочу открыть Америку.
– А публисити у вас будет?
– Публисити? В первый раз слышу такое слово.
Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:
– Вы не знаете, что такое публисити?
– Н-нет.
– И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб.
– Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну? – забеспокоился великий генуэзец.
Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:
– Без публисити нет просперити.
В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой – громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь.
Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами.
– Что это за чудак с флагом? – спросила одна из них.
– Это, наверно, реклама испанского ресторана, – сказала другая.
И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплющенными ушами.
Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины.
Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты.
Колумб с горечью подумал: «Вот. Старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью – и никто не обращает внимания».
Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал:
– Я Христофор Колумб.
– Как вы говорите?
– Христофор Колумб.
– Скажите по буквам, – нетерпеливо молвил туземец.
Колумб сказал по буквам.
– Что-то припоминаю, – ответил туземец. – Торговля портативными механическими изделиями?
– Я открыл Америку, – неторопливо сказал Колумб.
– Что вы говорите! Давно?
– Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад.
– Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?
– Я думаю, – скромно сказал великий мореплаватель, – что имею право на некоторую известность.
– А вас кто-нибудь встречал на берегу?
– Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть.
– Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно публисити.
– Я уже второй раз слышу это странное слово – публисити. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?
Туземец с сожалением посмотрел на пришельца.
– Не будьте ребенком, – сказал он. – Публисити – это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко.
Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на тридцать пятом этаже. Потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.
Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал:
– Улыбнитесь! Смейтесь! Ну! Не понимаете? Ну, сделайте так: «Га-га-га!» – и фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.
Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо».
Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал:
– Как ваша фамилия?
– Колумб.
– Скажите по буквам. Ка, О, Эл, У, Эм, Бэ? Очень хорошо, главное – не перепутать фамилии. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?
– Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране.
Репортер тяжело задумался.
– Так. Тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?
– Видите ли, я затрудняюсь…
Репортер снова погрузился в тяжелые размышления: он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжал из себя новый, блещущий оригинальностью вопрос:
– Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились.
Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца:
– Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?
– Вы с ума сошли, – сказал добрый туземец, бледнея. – То, что вы открыли Америку, – еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас.
Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос:
– Как вам нравятся американки?
Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать. Потом он сказал «о’кей», похлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.
– Ну, теперь все в порядке, – сказал добрый туземец, – пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере.
Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентового бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.
Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На восемьдесят пятой странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии.
Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители.
Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начало оказывать свое магическое действие: Колумба пригласили в Голливуд.
– Понимаете, мистер Колумб, – втолковывали новые посетители, – мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Амернго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи – это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарии. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», но это не важно, мы ввели туда элементы открытия Америки.
Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали:
– Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он в свою очередь так же безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на триста метров. Играть вы, наверно, не умеете, но это не важно.
– Что же важно? – застонал Колумб.
– Важно публисити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный и ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное – это бой с пиратами. Понимаете, алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы, – в общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов! Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?
– О’кей! – сказал Колумб, дрожа всем телом.
Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской:
«Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот.
Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус.
От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется «бензин». Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином.
Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками: у них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-кола, богу Драгист-сода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний – Форду. Он тут, кажется, вроде Зевеса.
Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют.
К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.
Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой бурлеск. Несколько туземок по очереди подымаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде: занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам.
Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться в глубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам».
Мы впервые увидели Василия Петровича Курятникова лет десять тому назад в редакции одной профсоюзной газеты. Он ходил из комнаты в комнату вместе с секретарем редакции, который представлял ему сотрудников.
– Пожалуйста, товарищи, познакомьтесь, – говорил секретарь. – Это наш новый редактор, товарищ Курятников.
Редактор произвел на сотрудников впечатление человека добродушного и симпатичного. На нем был новый синий костюм. Голова у редактора была круглая, короткие черные волосы блестели, как у морского льва.
Газета в то время была хорошая, популярная. И редакция работала слаженно и дружно.
Новый редактор начал с того, что заперся в своем кабинете, где стояла сделанная из фанеры огромная профсоюзная членская книжка – подарок редакции от какой-то читательской конференции, и уже не выходил оттуда. Увидеться с ним было почти невозможно. Только иногда сотрудникам удавалось поймать его в коридоре, когда он направлялся в уборную. Но в таких случаях он, естественно, спешил и на вопросы сотрудников отвечал весьма кратко.
Хорошо налаженная газета месяца два проработала автоматически, а потом стала вдруг разваливаться. Те сотрудники, которым все-таки удавалось прорваться в кабинет Курятникова, выходили оттуда, ошеломленно пожимая плечами и бормоча:
– Худо, товарищи, худо.
– А что такое? – спрашивали товарищи.
– Просто дуб. Ничего не понимает.
Еще через месяц все в редакции твердо знали, что Курятников – глупый, бесталанный человек. Но что было делать? Идти в профсоюз жаловаться на редактора? Но ведь он ничего конкретно плохого не сделал. Жаловаться на его глупость? Это – неопределенно, расплывчато, слишком общо. У нас любят факты. А фактов не было и не могло быть, потому что Курятников ничего не делал.
Началось бегство из редакции. Постепенно стал падать тираж. Когда почти все сотрудники перекочевали в соседние органы, к более расторопным и деятельным редакторам, а тираж газеты с четырехсот тысяч упал до пятидесяти, – в профсоюзе медленно заворочались. И после целого года размышлений Курятникова сняли.
Но он не огорчился. Он сам не раз за время своего редактирования говорил, что газетная работа – это не его стихия, что она ему не нравится.
Через полгода стало известно, что Курятников управляет консервным заводом. А еще через полгода в «Правде» появилась коротенькая, но леденящая душу заметка под названием «Баклажаны товарища Курятникова». В конце заметки сообщалось, что за полное пренебрежение вопросами качества продукции управляющий заводом снят с работы. Все-таки Василий Петрович продержался год, прежде чем общественность удостоверилась в том, что консервы не были его стихией.
Некоторое время Курятников ходил в запасе, таинственный и гордый. При встречах с знакомыми он говорил, что его зовет к себе заместителем Коля Саботаев.
– Но нема дураков, – говорил Василий Петрович. – В заместители я не пойду. Подожду чего-нибудь более подходящего по моему положению.
И, представьте себе, дождался. Не прошло и двух месяцев, как Московскому комнатному театру срочно понадобился директор взамен старого, перешедшего на другую работу. Художественный руководитель театра безумно боялся, что ему подкинут какого-нибудь серьезного и умного человека.
Ему посчастливилось: достался Курятников.
В Комнатном театре Василий Петрович продержался очень долго – два года. Конечно, должность была менее ответственная, зато спокойная. Сиди себе в кабинете среди бронзовых подсвечников да знай снимай себе трубку телефона.
– Слушаю. Нет, нет, по вопросам репертуара обратитесь, пожалуйста, к художественному руководителю, заслуженному деятелю искусств товарищу Тицианову. Нет, по вопросам контрамарок тоже не ко мне. Это вы обратитесь к главному администратору товарищу Передышкину.
Хорошая была жизнь. Вечером Василий Петрович заходил в директорскую ложу и с удовольствием смотрел на сцену. Потом вызывал машину, садился рядом с шофером и ехал домой.
И все-таки он не удержался даже на этом тихом месте. Комнатный театр и до Курятникова не блистал свежестью репертуара и гениальностью художественных замыслов, а при нем дело совсем расползлось. Пьесы шли какие-то особенно глупые, актеры перестали учить роли, даже занавес заедал и не опускался донизу, так что зрителям отлично видны были сапоги театральных рабочих, перетаскивавших декорации. Продуктивно работал только товарищ Передышкин, главный администратор. Ежевечерне он выдавал около тысячи контрамарок, так как зрители совсем перестали покупать билеты.
Изгнанный из театра Курятников на некоторое время исчез. Мы потеряли его из виду.
Однажды началась ожесточенная кампания в газетах. Мишенью этой кампании была фабрика дачно-походных кроватей, так называемых раскладушек.
Пресса открыла ужасные неполадки в раскладушечном деле. Тысячи дачников и дачниц, которые приобрели эти прохвостовы ложа, ругались очень крепкими словами. Раскладушки ломались в первую же ночь. Была назначена ревизия. Пахло судом.
– Тут не могло обойтись без Курятникова, – решили мы. – Такой развал, да притом в такие сжатые сроки, мог вызвать один только Василий Петрович.
Мы почти угадали. Курятников оказался заместителем директора фабрики. Это его спасло, хотя он был правой рукой директора именно по линии раскладушек. Он отделался только выговором и снятием с работы.
Опять он ходил в запасе, гордый и загадочный. Опять его звал к себе верный Коля Саботаев, и, на горе этого Коли, Курятников пошел к нему и в феерически короткий срок – в две шестидневки – развалил большой, недурно налаженный завод граммофонных иголок. Вместо иголок стали получаться почему-то подковные гвозди. Дело пошло своим путем – снимали, судили и так далее. Курятников пошел на другую работу.
Так и двигался по стране Василий Петрович Курятников, неторопливо переходя с места на место.
А чего с ним только не делали! Уже и перемещали, и смещали, и пытались учить. Вся беда заключалась в том, что он был хороший человек. Никогда ничего не крал, вовремя приходил на работу, вежливо обращался с посетителями. Он имел только один недостаток – был бездарен, тяжело и безнадежно глуп.
Даже после того как становится ясно, что человек не годится для места, которое занимает, он по инерции держится еще год. Вот этот год иногда обходится очень дорого.
Странный жизненный путь проходят люди, подобные Курятникову!
С первого же дня поступления на новую должность Курятниковы начинают бояться, что их снимут. Поэтому все свои силенки они направляют не на выполнение порученной им работы, а на борьбу за сохранение занятого поста. В этой затяжной борьбе они выработали тысячи уловок и хитростей. Новая Конституция ускорит движение этих «карьер сверху вниз». Дуракам некуда будет уйти. Они будут освещены, как актеры на сцене. Тут сразу станет видно, на какую роль годится человек. Подходит ли ему роль героя, или он способен только на то, чтобы промямлить два слова и тотчас же уйти со сцены.
Вчера мы встретили в Охотном ряду Курятникова.
Он ехал в старом «газике» с дрожащим кузовом и пожелтевшим ветровым стеклом. Увидев нас, он бешено замахал портфелем.
– Ну, как твои дела, Василий Петрович? Что-то, говорят, неважно? – спросили мы.
– Да, да, – озабоченно сказал Курятников, – имеется некоторая заминка. Стали меня как-то обижать в последнее время. Не могу понять, в чем дело! Работаю так же, как всегда, не жалею сил, а отношение почему-то уже не то. Преждевременно все это, товарищи!
– Что преждевременно?
– Да все это. Между нами говоря. Ну, Конституция. Дело хорошее. Кто же возражает? Но вот тайные выборы. Почему тайные? Кому это надо? Нам с вами? Ни на черта это нам не надо! То есть я понимаю – демократия и прочее. Я ж тоже не бюрократ. Но зачем тайные? Вдруг выберут не того, кого надо? Что тогда будет? А?
– Почему же не того?
Курятников внимательно посмотрел на нас и протянул:
– Ну, ладно! Может, я совсем дураком стал! Что-то мне непонятно все это. Ну, я поехал.
– Что же ты, Василий Петрович, сейчас делаешь?
– Еще работаю. Еще приносит Курятников пользу. Недавно ушел из Планетария, не поладил там немножко с этими психопатами астрономами. А сейчас меня взял к себе Саботаев Коля. Он теперь в районе заведует пивными-американками, а я – его заместителем. Ничего, еще услышите обо мне!
Но последние слова Курятников произнес очень уж вялым голосом. Видно, он не верил в свое будущее.
В первый же день после возвращения из Америки мы встретили довольно известного хозяйственника. Это был деловой человек. Он и не думал заводить пустяковых разговоров: не стал спрашивать, какой высоты нью-йоркские небоскребы, благоприятствовала ли погода нашему путешествию и качало ли нас в океане. Нет, он сразу, как говорится, взял вола за хвост.
– Слушайте, черт бы вас подрал, вы же теперь американцы. Вы, наверно, видели массу интересного и полезного по нашей линии.
Его линия была торговая, и мы ответили, что в области торговли действительно кое-что видели.
Тогда хозяйственник извлек из портфеля хорошенькую записную книжку и воскликнул:
– Вы обязательно должны поделиться с нами своими впечатлениями!
Мы сказали, что собираемся писать об Америке целую книгу, и там вопросы торговли…
– Ну, когда это вы еще напишете свою книгу! Нам все это необходимо сейчас. Мы люди оперативные. Итак, друзья, я записываю – завтра ровно в семь часов или даже лучше ровно в восемь я соберу у себя человек десять или лучше двадцать наших работников, заведующих универмагами и так далее, и в такой товарищеской обстановке вы расскажете нам про торговлю в Америке.
Мы согласились. Он записал наши телефоны и адреса.
– Завтра ровно в семь тридцать за вами заедет машина. О’кей? Верно?
Мы почувствовали себя немножко пристыженными. Мы-то, по совести говоря, собирались еще денька три ничего не делать, отдыхать. Как раз завтра собирались пойти к знакомым на вечеринку – поболтать и потрепаться. Пришлось все отложить. Дело прежде всего. Хозяйственник был прав.
И, получив наше согласие, он исчез – бодрый, деловитый, жадный до дела янки.
На другой день ровно в семь тридцать машина не пришла. Не пришла она также ровно в восемь. Ровно в восемь тридцать ее тоже не было. Мы некоторое время простояли в передней в шубах и шапках, а потом вышли в переулок. Может, шофер спутал адрес, черт его знает! Погуляв по переулку с полчаса, мы побежали домой, охваченные тревогой. А вдруг, покуда мы прохлаждались в переулке, он нам звонил? Но нет, домашние сказали, что никакого звонка не было. Ровно в одиннадцать, правда, звонили и спрашивали какую-то Бенуэссу Александровну. Но это была явная ошибка. Кто-то спутал телефон.
С того времени прошел год. Уже мы и книгу об Америке написали, толстую-претолстую, уже ее даже напечатали, а наш знакомый из Наркомвнуторга до сих пор не прислал за нами и даже не позвонил.
Мало у нас деловитости, товарищи, все еще мало. Почему-то не считается грехом нарушать свое слово, нарушать ежедневно, десятки раз на день. Ну не позвонил, не приехал, заставил человека прождать три часа – пустяки, не в этом главное! Мол, в важном деле он никого не подведет. В важном деле он – гранит. Ой, не верится, что гранит! Человек, способный нарушить свое слово в самом мелком деле, несомненно, способен нарушить его и в важнейшем, даже, может быть, невольно, просто по привычке. Сейчас мы расскажем несколько «пустяков» об одном заводе, на котором были недавно. Мы не называем этого завода, как не назвали фамилии янки из Наркомвнуторга, потому что и янки по существу хороший работник и настоящий энтузиаст, и завод превосходный, и люди там напрягают свои силы, чтобы сделать его еще лучше.
Мы вошли в бюро пропусков. Над окошечком висели большие часы. Они показывали двенадцать с четвертью, хотя на деле было только одиннадцать без четверти. Этот простейший агрегат не работал и сразу лишил нас роскошной метафоры (ее мы любовно подготовили), что завод работает с точностью часового механизма. Мы огорчились этой литературной неудачей и пошли в заводоуправление.
Но, в общем, часы – это пустяк.
Нас принял главный инженер. Хотя рабочий день начался сравнительно недавно, лицо у инженера было такое утомленное, словно он только что приехал из Владивостока, причем десять суток провел в дороге, сидя на жесткой скамье в бесплацкартном вагоне. У него дергалась щека от нервного тика, и он тут же в кабинете принял какое-то лекарство. На стене висела стеклянная табличка: «Просят не курить и не просить разрешения». Это был вопль о пощаде. Как видно, пользуясь добротой главного инженера, при нем и курили и, чтобы его попусту не расстраивать, делали это без всякого разрешения.
Нас заинтересовал телефонный рупор на металлической раздвижной гармонике, который стоял на письменном столе.
– Это диспетчерский телефон, – объяснил нам главный инженер. – Очень удобная штука. Понимаете, голос диспетчера я слышу по радио, а рупор притягиваю таким вот манером к самому рту, так что руки у меня свободны, не надо держать трубку.
Тут же, впрочем, выяснилось, что эта хитроумная штука инженеру не особенно нужна, потому что с диспетчером ему приходится разговаривать очень редко. Кроме того, этот прибор вообще испорчен, так что связь с диспетчером поддерживается по самому обыкновенному телефону с самой обыкновенной трубкой, которую все-таки надо держать в руках без применения радио и тому подобных изобретений беспокойного XX века. Но в конце концов – это пустяк и не стоит об этом много распространяться.
За двадцать минут главный инженер очень ясно и точно рассказал нам о работе завода и о его реконструкции. Мы уже могли идти смотреть цехи, но тут выяснилось, что нет того человека, который должен был нас сопровождать. Пока искали другого, прошло еще сорок минут. Эти сорок минут мы могли бы уже не утруждать главного инженера и провести время где-нибудь в коридоре на диванчике. Но он, очевидно из любезности, удерживал нас у себя.
Ну ладно, лишних сорок минут – в конце концов пустяки, мелочь.
Все-таки мы ушли в коридор. Это был обыкновенный полутемный учрежденский коридор, по которому часто без всякого дела проходили многочисленные уборщицы в громадных валенках и лихо надетых беретах, из-под которых кокетливо выглядывали челки. Долго они ходили мимо нас, строгие, вооруженные метлами.
В коридоре было как бы чисто, но в то же время как бы грязно. Это даже трудно объяснить. Это была чистота районной гостиницы, лихорадочно наведенная к приезду председателя облисполкома, видимость чистоты, грязь, замазанная масляной краской.
На стенах коридора было много черных стеклянных табличек, на которых золотом было выведено: «Уважайте труд уборщиц». Оконные стекла были все-таки немытые, а помещение плохо проветрено.
Впрочем, немытые стекла – это не так уж важно!
Унося в груди теплое чувство уважения к уборщицам, мы отправились на завод.
Хотя завод находился в состоянии реконструкции со всеми естественными в этом случае трудностями в работе, он производил великолепное, неизгладимое впечатление. В его громадных и светлых цехах, наполненных ультрасовременным оборудованием, мы забыли и об испорченных часах, и о ведомственном стишке: «Уважайте труд уборщиц, соблюдайте чистоту». Мы видели плоды великой победы.
Но самое большое впечатление производили не машины, а люди. После фордовского завода в Дирборне, где техника поработила и раздавила людей, где рабочие, прикованные к станкам и конвейерам, кажутся людьми глубоко несчастными, мы словно попали на другую планету. Мы увидели молодых рабочих, здоровых и веселых, увлеченных своей работой, дисциплинированных, дружелюбно настроенных к своим руководителям. Мы, конечно, и раньше знали об этой разнице, но как-то отвлеченно. А сейчас, под свежим еще впечатлением виденного в Америке, этот контраст восхищал, вселял непререкаемую уверенность в том, что все преодолеем, что все будет хорошо и что не может быть иначе.
Оптимистическое чувство, вызванное посещением завода, позволяет совершенно откровенно вернуться к тем мыслям, которые не покидали нас в бюро пропусков, в кабинетах и коридорах заводоуправления, – о том, что мало еще настоящей аккуратности и четкости в деловых отношениях.
Внезапно в каком-нибудь цехе нарушался великолепный ритм работы. Что такое? Не хватило какой-то детали. Остановка маленькая, как говорится, – пустяковая, какие-нибудь две минуты. Но для того чтобы войти в ритм, надо снова раскачиваться, ловить ритм, завоевывать его. А на это уходят уже не две минутки, а все пятнадцать.
Не надо быть специалистом, чтобы понять, какой громадный вред приносит производству беспрерывное хождение людей по цехам и дворам. Народ шел так густо, что сперва нам показалось, что происходит смена. Но мы пробыли на заводе несколько часов, и все это время по широким цеховым магистралям текли людские потоки. Гулянье было, как на Тверском бульваре в выходной день. Кто эти люди? Зачем они здесь? Если они пришли работать, почему они гуляют, а если они пришли гулять, то зачем их пустили сюда?
Не вызвано ли это теми же причинами, по которым стоят часы, главный инженер принимает лекарства, диспетчерский телефон не действует и так далее? И тут мы видим, что так называемые пустяки, соединяясь вместе и дополняя друг друга, вырастают в явление значительное и важное, из-за которого стране недодают сотни машин, тысячи тонн угля, десятки кинокартин, сотни тысяч книг.
Итак, казалось бы, обычная статья на обычную тему. И назвать ее можно обычно, как это уже делали не раз: «Внимание мелочам». Но все-таки здесь идет речь о гораздо более важном – о воспитании характера.
Почему человек, приставленный к важному делу и сам считающий, что он работает до седьмого пота, не покладая рук, не щадя живота и засучив рукава (он и в самом деле так работает), – почему этот человек:
– не находит времени для деловой встречи,
– неуловим в своем же учреждении,
– всегда и всюду опаздывает, даже в гости приходит с опозданием на шесть часов,
– уже два года собирается написать письмо матери,
– вечно теряет адреса, квитанции, повестки,
– записывает номера телефонов на папиросной коробке «Почетные», которую выбрасывает через два часа?
Сам не замечая того, он по мелочам обманывает огромное количество людей и вносит серьезное расстройство в жизнь страны. Таков уже характер этого делового человека. А ведь он действительно себя не жалеет. Только вот характер у него суматошный, рыхлый.
Этот характер требует упорного воспитания. В нем надо развить черты, особенно важные в социалистическом обществе, – точность, аккуратность, педантичность.
Не надо бояться этого слова. Педантичность не имеет ничего общего с формалистическим отношением к делу. Педантичность – это в первую голову умение, знание, спокойная уверенность в своих силах, работа без надрыва, без истерики.
Нам нужны педанты. Умные педанты, потому что нет ничего страшнее педантичного дурака, который в основу своей жизни может положить хранение старых, никому уже не нужных квитанций и повесток.
Нам нужно педантичное выполнение советских законов, педантичное выполнение Конституции. Она должна выполняться с той же точностью, с какой она написана.
Для этого наши прекрасные люди должны пользоваться часами, которые ходят, говорить по телефону, который работает, а самое главное – должны держать свое слово, по какому бы микроскопическому случаю оно ни было бы дано.
– Товарищи, речь, которую я хочу произнести, написана вместе с Ильфом (смех, аплодисменты), и мы хотим рассказать в ней обо всем, что нас беспокоит, тревожит, о чем мы часто говорим друг с другом, вместо того чтобы работать. То есть мы, конечно, работаем тоже, но уж обязательно, прежде чем начать писать, час-другой посвящаем довольно нервному разговору о литературных делах, потому что эти дела не могут нас не волновать. И вот, товарищи, мы надеемся, что, после того, как мы вам здесь все расскажем, мы уже сможем садиться за работу, не теряя времени на предварительные разговоры.
Недавно в отделе происшествий «Правды» была напечатана заметка об одном молодом человеке по фамилии Халфин. Этот самый Халфин позвонил по телефону в Главное управление нефтяной промышленности и сказал, что говорят из ЦК ВЛКСМ, что ЦК направляет в Баку и Грозный литературную бригаду для собирания материала о стахановцах нефтяной промышленности и что эту бригаду возглавляет писатель Халфин, каковому и следует оказать всемерное содействие, главным образом – материальное. (Смех.)
После этого Халфин пошел в бухгалтерию Главнефти и, отрекомендовавшись руководителем литературной бригады Халфиным, попросил денег. В кассе ему выдали две тысячи рублей. Через некоторое время выяснилось, что никто из ЦК ВЛКСМ по телефону не звонил и что получивший деньги – аферист.
Что и говорить – происшествие неприятное!
И чем больше думаешь о нем, тем неприятнее оно становится. Ведь в самом деле! Жулик Халфин не выдавал себя за врача по уху, горлу и носу, за летчика-полярника, за преподавателя истории и географии, за девушку-парашютистку. (Смех.)
Нет, он выдал себя за писателя. (Смех.) И сделал это рассудительный Халфин потому, что легче всего получить деньги, назвавшись писателем.
Другая сторона этого дела еще неприятнее. Представим себе на мгновение, что из ЦК ВЛКСМ действительно позвонили в Главнефть и говорили о действительной, всамделишной литературной бригаде. Но даже в этом случае нужно ли было расходовать государственные деньги? Разве Лев Николаевич Толстой ходил к маме Наташи Ростовой просить денег на описание ее дочки? (Смех, аплодисменты.) А если бы даже пошел? Ну, представим себе на мгновение этот невероятный случай. Мама все равно не отпустила бы средств на эти явно сверхсметные расходы.
Такими вот суровыми мамами должны быть и Главнефть, и Главрыба, и Главчай с Главсахаром и Главлимоном. (Смех.) Одним словом, все хозяйственные учреждения. И Союз советских писателей тоже. Обращаемся к ним от лица русской литературы!
Любите писателей, читайте их, уважайте их, детям своим закажите уважать и читать, – только, пожалуйста, не меценатствуйте, не покровительствуйте, не занимайтесь благотворительностью! Литература – дело чрезвычайно серьезное, и усилиями одних кассиров создавать ее нельзя. (Аплодисменты.)
Наша литература тяжело страдает от большого количества дутых, фальшивых писательских репутаций. (Аплодисменты.)
Маленькая оговорка. Ее надо сделать в связи с выступлением предыдущего оратора. Аудитория требовала у него фамилии. Так вот, товарищи, там, где это потребуется, мы будем их называть, но ведь здесь не бой быков, чтобы колоть писателей направо и налево.
Дальше мы скажем о вреде голословной, бездоказательной критики, когда фамилии писателей произносятся мельком, а работа их при этом совершенно не разбирается. (Голоса с мест: «Правильно».)
Нужны глубокие, дельные и веские доказательства, когда произносятся фамилии. Поэтому некоторые вопросы надо ставить общо, иногда даже не подкрепляя речь фамилиями. Потому что это уже не просто факты, а целые явления литературной жизни.
Продолжу дальше нашу мысль. Фальшивые репутации возникают от неуменья многих критиков и редакторов отличить настоящее произведение искусства от галиматьи, от дребедени.
Многолетняя практика наших журналов и литературных органов показала этому множество примеров.
Дилетантизм и невежество в этой области привели к тому, что число ложных репутаций приняло угрожающие размеры. Список талантов, хранящийся в канцелярии Союза писателей (смех) и принятый к руководству в издательствах, имеет с жизнью очень немного общего. Вследствие этого иногда получается такая картина:
Писатель с твердо установившейся репутацией таланта сдает новую рукопись в издательство. Как и полагается по рангу, книга сразу печатается несколькими изданиями. Еще до того как читатель увидел книгу и дал свою оценку, критика подымает восторженный, однообразный и скучный крик. Фантазии при этом нет никакой. Книга зачисляется либо в «железный инвентарь», либо в «золотой фонд». (Смех.) Если же никак нельзя запихнуть новую книгу ни в инвентарь, ни в фонд, то о ней пишут, что она «заполняет пробел». При этом не обращают внимания, какими художественными ценностями этот пробел заполняется. (Смех.)
Наконец, с приличным полугодовым опозданием книга выходит в свет и жадно расхватывается библиотеками. Она исчезает с магазинных прилавков в один день. Да и как не схватить это новое произведение искусства, когда о нем совершенно точно сказано, что оно уже вошло в «железный инвентарь» или является жемчужиной «золотого фонда». Заведующий библиотекой должен иметь стальные нервы или по крайней мере вкус Стендаля, чтобы удержаться от покупки такой книги. (Смех.) Конечно, нервы у него обыкновенные, человеческие, а что касается вкуса, то и тут ничего сверхъестественного не наблюдается. И вот библиотекарь приобретает для своих абонентов сразу пятнадцать экземпляров новой книги и любовно ставит их на полку. В тот же день книгу разбирают по рукам.
Все ликуют. Писатель убежден, что его произведением упиваются миллионы читателей, издатель радостно потирает руки и заявляет, что сделал хорошее коммерческое дельце – продал товар без остатка. Писатель, не будь дурак, предлагает издателю подписать договор на новое издание своей книги, а издатель, не будь дурак, соглашается. Как не согласиться! Ведь книга разошлась чуть ли не в один день!
На фоне этого восторженного ликования особенно страшными кажутся те драматические события, которые тем временем разыгрываются в библиотеке. Читатели берут книгу и на другой день с непроницаемыми лицами возвращают ее. И с тех пор книгу больше не спрашивают. Если покопаться в библиотеках, там можно найти целые полки совершенно обесцененных книг, вышедших еще так недавно, прогремевших в прессе, беспрерывно переиздающихся и почти никем не читаемых.
Радует, однако, то, что громадное большинство литераторов живет честной, здоровой писательской жизнью. Репутации их нисколько не преувеличены, не раздуты, часто даже преуменьшены, – кстати, для писателей это только полезно. Живут они скромно. Могли бы жить лучше, если бы внимание издательств и Союза не было так поглощено лишь двумя десятками человек (смех), записанных когда-то в знаменитый список, о котором уже шла речь.
Создалась унизительная для писателей, но, к сожалению, имеющая под собой некоторое основание, легенда о литературном Эльдорадо, о чудном месте, куда падают с неба бесплатные дачи, денежные пособия, колоссальные тиражи и опять-таки великая слава, превосходящая славу Льва Толстого и Флобера вместе взятых. И бегут с протянутой лапой бесчисленные халтурщики и просто мазурики вроде Халфина. Когда видишь, как пробирается к государственной кассе, расталкивая почтенных конкурентов, мосье Халфин, делается совестно.
Что привело к тому положению, которое существует сейчас?
Самое опасное – это признать плохую книгу доброкачественной.
Если хороший роман назвать хорошим, то это не значит, что через полгода у нас появится еще десять хороших романов, – хороший роман написать трудно. Но достаточно только расхвалить какую-нибудь слабую, незрелую книгу, как со всех сторон нанесут десятки дрянных романчиков, повестушек и рассказов. Ведь плохие вещи писать очень легко. Только свистните – притащат в любом количестве!
Вспомним, сколько неправильных, отброшенных жизнью оценок было сделано в литературе, сколько книг было названо хорошими, а через два-три года выяснилось, что они никогда не были хорошими! Отсюда берут начало громкие, но пустые известности и выпуск обесцененных книжных знаков. Искусству нужна нормальная температура. Истерическое, нервозное превознесение писателей, а через некоторое время такое же истерическое сокрушение их, – все это мешает работе.
Несколько дней назад т. Вашенцев выступил в «Литературной газете» с заявлением, что молодой писатель Курочкин «на много голов выше некоторых незаслуженно маститых писателей».
Надо решительно отказаться от такого рода мерок в литературе – на голову выше, на голову ниже, на полкорпуса впереди, идут ноздря в ноздрю и так далее. (Смех.) Это, товарищи, беговые жеребячьи термины (смех), и они неприменимы к искусству. (Аплодисменты.) Это несерьезно. Это примитив. Движение литературы и литераторов должно определяться серьезными литературными исследованиями. А Вашенцев начинает с выводов. И он не одинок в этом отношении. Этим у нас любят заниматься. Что, кроме вреда, может принести этот «тотализаторный» взгляд на литературу? И этот вред уже налицо.
Сегодня в «Комсомольской правде» появилась статья, где написано, что Курочкин не только не на много голов выше кого-то, а писатель безжизненный, холодный, нарочитый и внушающий тревогу. Обе стороны ведут себя ужасно. Вашенцев ни с того ни с сего размахивает кадилом, а «Комсомольская правда» рубит – и начинающему, несомненно, способному писателю наносится вред с обеих сторон. Это – образец примитивного отношения к искусству.
Литературная работа, сочинительство – вещь необычайно сложная, в ней есть тысяча тонкостей. Когда же работа закончена, к ней, как мы только что видели, подходят с топором. Конечно, иногда этот самый сложный литературный труд может быть целиком, отвергнут как враждебный политически, и тогда, конечно, можно пустить в дело и топор. Но в отношении произведений советских, которые не могут быть отвергнуты в целом по политическим соображениям, топор не есть орудие критики и воспитания.
У нас в литературе создана школьная обстановка. Писателям беспрерывно ставят отметки. Пленумы носят характер экзаменов, где руководители Союза перечисляют фамилии успевающих и неуспевающих, делают полугодовые и годовые выводы.
Успевающим деткам выдаются награды, и они радостно убегают домой, унося с собой подаренную книжку в золотом цыпинском переплете или «М-1», а неуспевающим читают суровую нотацию, так сказать отповедь. Неуспевающие плачут и ученическими голосами обещают, что они больше не будут. Один автор так и написал недавно в «Литературной газете» – «Вместе с Пильняком я создал роман под названием «Мясо». Товарищи, я больше никогда не буду». (Смех, аплодисменты.) Но от этого не легче. Совестно, что существует обстановка, в которой могут появиться такие письма. Было бы лучше, если бы с таким заявлением выступил издатель, напечатавший этот литературный шницель. (Смех, аплодисменты.) Впрочем, он, наверное, сейчас выйдет и тоже скажет, что больше не будет. Обязательно выйдет. Вот увидите! То, что он выйдет сюда и покается, – это очень приятно. Но гораздо приятнее было бы, если бы он в свое время по рукописи понял, что книга плохая. Но – что поделаешь! Люди отвыкли самостоятельно думать, в надежде, что кто-то за них все решит. В Союзе, в журналах, в издательствах не любят брать на себя ответственность. Попробуйте оставить издателя или критика на два часа наедине с книгой, которую еще никто не похвалил и не обругал. (Смех.)
(Голос: «Он не останется».)
Он же выйдет из комнаты поседевшим от ужаса. (Смех, аплодисменты.)
Он не знает, что делать с этой книгой. Он плохо разбирается в искусстве. От неуменья правильно оценить книгу литература страдает.
(Голоса: «Правильно».)
Не помогает и то, что редакторы, издатели и руководители Союза охотно и даже с каким-то садистическим удовольствием каются в содеянных ошибках. Раскаяние хотя вещь и хорошая, но помогает оно спасти свою душу, в общем, самому нагрешившему. Всем же остальным от этого, честно говоря, ни тепло ни холодно.
Нам нужны люди глубоко идейные, образованные, любящие литературу. Такими людьми располагает партия, такие люди есть и среди беспартийных. Наша общая задача – таких людей найти, выдвинуть их из своей среды.
В заключение мы выдвигаем предложение, может быть, чересчур смелое, слишком оригинальное – писатель должен писать. Произведения писателя всегда будут убедительнее его речей. На плохое, чуждое произведение у советского писателя может быть один ответ:
– Написать свое, хорошее! (Аплодисменты.)
Два самых больших события в жизни Тони произошли почти одновременно. Не успела она свыкнуться с замужеством, как надвинулось новое событие. Константина Степановича Говоркова, ее мужа, послали на службу в город Вашингтон, и Тоня вместе со своим Костей поехала в Америку.
На Белорусско-Балтийский вокзал Тоню пришли провожать две подруги – Киля и Клава. Они были веселые, насмешливые девушки, но здесь, среди интуристов и носильщиков, стеснялись и все время спрашивали Тоню:
– Значит, едешь?
Тоне тоже было не по себе, и она уныло повторяла:
– Так вы пишите, девочки.
– Как я тебе завидую, – говорила Киля. – Ты счастливая. Будешь жить в Нью-Йорке.
– Не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, – поправляла Тоня. – Нью-Йорк это не столица, а мы будем жить в столице.
– Ты счастливая, – повторяли Киля и Клава. – Там, наверно, очень интересно.
– Я думаю, – скромно отвечала Тоня.
Муж, Костя Говорков, часто забегал в свое купе и смотрелся в зеркало. Его мучило, что он купил слишком большую шляпу, не по голове. Шляпа все время налезала на уши и как-то обидно подчеркивала этим юность тов. Говоркова. Поэтому, возвращаясь на перрон, он держал шляпу в руке и, чтобы не заметили его смущения, строго говорил молодой жене:
– Тоня, иди в купе, ты простудишься.
Девочки и в самом деле немножко завидовали. Сейчас подруга уедет в далекую таинственную Америку, а они пойдут на свою расфасовочную фабрику упаковывать перец, соду и шафран в картонную тару. И так будет каждый день, в то время как Тоня… Лучше было даже не думать о Тонином счастье.
– Так ты пиши, Тонька! – громко и тоскливо крикнули они вслед уходящему поезду.
– Так вы пишите, девочки! – донеслось к ним из сырого железнодорожного мрака.
Ехать через Европу было интересно и жутко. В Польше из окна вагона Тоня в первый раз за свою жизнь увидела помещика. Он ехал в бегунках. Это был толстый усач в брезентовом плаще. Он строго обозревал свои тощие овсы.
Костя тоже никогда еще не видел помещиков, И молодожены долго следили за этой странной фигурой, как бы возникшей из учебников политграмоты.
Очень часто менялись страны. В вагон входили то польские таможенники и жандармы, то немецкие, то бельгийские, то французские. Тоня боялась этих людей. Они были грубоваты и торопливы, какими, видно, уж полагается быть таможенным чиновникам во всем мире. Но Тоне казалось, что эта суровость направлена специально против нее и Кости, что вот они схватят ее милого Костю и куда-то потащут его вместе с паспортами, билетами и деньгами. Что она тогда будет делать? Без паспорта, без денег и билета? Кроме того, она не знала ни польского, ни немецкого, ни французского. Английского она тоже не знала. Английский язык немножко знал Костя.
– Шоколад? Сигареты? – прокричал французский таможенник ужасным голосом.
– Нон, нон, – ответил Костя. – Шоколад нон. И сигареты нон.
Тогда француз неожиданно ушел; даже не взглянув на чемоданы.
Но самое страшное было впереди. Пароход. Он стоял в Шербурге, высокий, черный, с толстыми желтыми трубами. Это был «Маджестик».
– «Кюнард Уайт Стар лайн», – с удовольствием объяснил Костя по-английски, когда молодожены, устроившись в каюте, вышли на палубу. – Пятьдесят шесть тысяч тонн. Английское пароходство. Теперь, Тонечка, я буду все время практиковаться в английском языке.
И он стал говорить в уме английскую фразу, с которой собирался обратиться к матросу: «Скажите, пожалуйста, в котором часу отойдет этот пароход?» Матрос занимался совсем не матросским делом – раздавал пассажирам для подкрепления сил чашки с горячим бульоном. Не успел Костя составить в уме английскую фразу, как матрос вежливо подал ему чашку и ушел. Этим практика и ограничилась.
Путешествие через океан длилось шесть дней. Каждую полночь стрелки всех пароходных часов сами отскакивали на час назад, каждый полдень пассажиры толпились у карты, где указывалось местонахождение «Маджестика» в океане; по вечерам в столовой показывали кинокартины, а в салоне происходили танцы.
Два дня стояла свежая погодка. «Маджестик» немного покачивался, и пассажиры залегли в своих каютах. Но на третий день океан внезапно стих, влажные палубы заблестели под солнцем, и появилось много новых людей. Среди них супруги Говорковы заметили трех молодых пассажиров в больших шляпах, которые так же, как у Говоркова, налезали на уши, и в совершенно одинаковых новых синих костюмах с коротковатыми брюками. Галстуки у них тоже были одинаковые – узкие, вязаные, с веселенькой черной полоской посредине. Молодые люди говорили между собой по-русски. Тотчас же состоялось знакомство, и Косте так и не пришлось на пароходе практиковаться в английском языке. Небольшая советская колония уже не расставалась ни на минуту. Трое синих молодых людей ехали в Америку работать и учиться на филадельфийском заводе Бада. Они очень обрадовались Говорковым и переменили столик, чтобы обедать рядом с ними.
Заказав обед, Костя заметил, что новые друзья беспомощно смотрят в обеденную карточку, что к ним уже два раза подходил официант и уходил, не дождавшись заказа. Тут молодые практиканты сознались, что им известна только одна английская фраза: «Айм вери глэд ту си ю», что значит: «Я очень рад вас видеть», но до сих пор не могли применить эту фразу с пользой. Уже два дня как они заказывают еду наугад. Ткнут пальцем в меню и ждут, что из этого выйдет. Ничего хорошего до сих пор не выходило. Какие-то странные получались у них обеды: то одни закуски, то сразу после супа сладкое, а наевшись сладкого, согласитесь сами, неловко требовать мясо. К тому же неизвестно, как оно называется, это мясо.
Костя объяснил практикантам, что на правой стороне меню напечатаны вообще все блюда, какие только есть на пароходе, – закуски, супы, вторые, сладкие и так далее. А на левой стороне – рекомендованный завтрак или обед. Можно сразу заказать то, что напечатано слева. И получится полный обед без недоразумений.
– Значит, прямо нахально заказывать левую сторону? – переспросили практиканты.
– Прямо и нахально, – подтвердил Костя.
Так они и сделали. И в первый раз за всю дорогу съели правильный обед, где блюда чередовались в естественной и освященной веками последовательности.
С этого времени, садясь за стол, инженеры громко сговаривались:
– Значит, берем левую?
– Берем левую.
А после обеда говорили:
– Сегодня левая ничего. Подходяще.
Или:
– Что-то сегодня левая сплоховала. Не наелся.
Молодые механики так уверовали в Костю, что в кинозале беспрерывно расспрашивали его о действующих лицах:
– А это что за человек? Почему он внезапно ушел?
На это Костя смутно отвечал:
– Это, наверно, ее любовник.
– А тот толстый чего добивается?
– Кто его знает! Я что-то не разберу. Звук очень громкий.
В вечерних балах практиканты не принимали участия, хотя и учились в свое время в школе западных танцев. Они стеснялись.
– Ну его, – говорили они. – Тут какие-то банкиры пляшут, фабриканты. Неудобно.
Тоне очень хотелось танцевать. И тут произошел ужасно неприятный случай.
Однажды вечером вся компания сидела в салоне и, пересмеиваясь, следила за танцами. Вдруг к Тоне подошел седой господин в смокинге и брюках с узким черным лампасом. Он радостно оскалил фарфоровые зубы и сказал что-то по-английски. Тоня ужаснулась, жалобно посмотрела на Костю и пошла танцевать со страшным стариком, по всей вероятности банкиром.
Пока Тоня кружилась в вихре западного танца, практиканты поддразнивали Константина Степановича Говоркова.
На следующий танец старик пригласил какую-то американскую старуху с голой костистой спиной. Как видно, ему было все равно с кем танцевать, и танцевал он скорее с гимнастическими целями, чем для удовольствия.
Так проходили дни. За завтраком и обедом ели «левую сторону», а вечером сидели в кино. К концу путешествия Тоня во второй раз танцевала с неугомонным стариком, который подготовил для нее неожиданный эффект. Прощаясь с Тоней после танца, он опять обнажил фарфоровые зубы и сказал по-русски: «Трасите», что, как видно, означало «здравствуйте».
Практиканты после этого подшучивали над Тоней, утверждая, что старик в нее влюбился.
Утром, перед самым приходом в Нью-Йорк, Тоня взяла в почтовом салоне цветную открытку с изображением «Маджестика», рассекающего океанские волны, и села писать подругам:
«Здравствуйте, дорогие Киля и Клава! Вот мы проехали Атлантический океан и приезжаем сегодня в Нью-Йорк. Всю дорогу было очень весело, пароход ужасно громадный. У нас появилась масса знакомых, и мы все время вместе. Я все время танцую с одним иностранцем и смотрю заграничные кинокартины. Что у нас делается нового на фабрике? Привет всем. Ваша Т.
Эта открытка пойдет из Америки назад на этом же пароходе. Ваша Т.»
Она наклеила на открытку английскую марку с головой короля Георга Пятого, и ей даже стало жалко Килю и Клаву. Она и на пароходе, она и с банкиром танцевала, и вообще столько нового, а они по-прежнему упаковывают перец и шафран.
Нью-Йорк был еще еле различим в сияющем тумане солнечного утра, а близость земли уже ощущалась во всем. Стюарды вытаскивали на палубы кожаные сундуки и чемоданы, чайки взволнованно пищали, сопровождая пароход. Пассажиры были взволнованы не менее чаек. Они собирались кучками, пытаясь разглядеть далекие здания знаменитого города. Все вдруг стали страшно разговорчивыми, заговорили даже те, которые всю дорогу сурово молчали.
У подножия «Маджестика» остановился пароходик с иммиграционными властями. По трапу быстро взбежали американские чиновники в зеленых мундирах. В высоком золотом салоне первого класса началась проверка паспортов. Пассажиры стали в длинную очередь. «Маджестик» двинулся вперед малым ходом. Низко над ним пролетел белый спортивный гидроплан. Нью-Йорк, который еще час назад походил на скалистую горную цепь, незаметно приблизился. Узкие отвесные скалы превратились в дома. Уже можно было считать этажи. Когда в стаде небоскребов практиканты отыскали дом в сто этажей, Костя Говорков сдернул с головы шляпу и радостно закричал:
– Ну, тут я уже ничего не могу сказать!
Тоня молчала. Она крепко держалась руками за некрашеный деревянный сырой поручень и смотрела вниз, на пристань «Кюнард лайн», где тысячи людей махали платками медленно надвигавшейся морской громадине.
Последние минуты на пароходе прошли в лихорадке. Прежде всего потерялись друзья-практиканты. Иммиграционный чиновник что-то громко и сердито говорил Тоне, держа в руках ее паспорт. Тоня в это время быстро думала про себя: «Ну, не пустят в Америку, ну, не надо, поеду домой, честное слово, нисколько не жалко».
Но оказалось, что все в паспорте правильно и что иммиграционный чиновник со всеми разговаривает громко и сердито. Потом Говорковы, держась за руки, как дети, сошли вниз по сходням и попали в большой таможенный зал, в крик, галдеж, в тарахтенье багажных тележек. Тоня боялась, что в этой толчее им не найти своего багажа. И уже ей было жалко своего нового платья, которое Костя купил в Париже за сто семьдесят франков, и фотографий Кили и Клавы с их собственноручными надписями.
Костя растерянно бормотал:
– Сейчас мы возьмем автомашину и поедем прямо на Пенсильвения-стейшен.
Внезапно чемоданы нашлись, и таможенный чиновник наклеил на них ярлыки. Все делалось само собой. Чемоданы попали на конвейер и поехали вниз, в вестибюль.
Внизу тоже стоял крик. Кричали носильщики, пассажиры, продавцы газет. Кричали шоферы таксомоторов, высовывая головы из окошек. Говорковых кто-то втолкнул в такси вместе с их багажом, и, ошеломленный, но не потерявший присутствия духа, Костя крикнул шоферу:
– Пенсильвения-стейшен!
Только через полчаса, уже сидя в пульмановском вагоне поезда Нью-Йорк—Вашингтон, Тоня сообразила, что проехала самый большой город в мире. Но что это был за город, она не смогла бы сказать. В памяти остался только грохот, ветхий таксомотор, в котором играло радио, мрак и блеск каких-то неизвестных улиц.
Костя был доволен. Как-никак, и приехали куда надо, и сели в тот поезд, в какой надо было сесть. Одно его мучило всю дорогу до Вашингтона – сколько дать на чай кондуктору-негру, который очень любезно уложил говорковские чемоданы в багажную сетку и приколол проездные билеты к спинкам вращающихся кресел.
Впоследствии выяснилось, что Костя сделал много ошибок. Во-первых, слишком быстро сошел с парохода и не подождал курьера из консульства, приехавшего его встречать; во‐вторых, купил дорогой пульмановский билет, когда по его достаткам ему следовало взять «кош», отличающийся от пульмана только тем, что пассажиры сидят там не на вращающихся креслах, а на неподвижных кожаных диванчиках; в‐третьих, после долгой душевной борьбы он дал негру доллар, а надо было дать четверть доллара.
На вашингтонском вокзале Говорковых встретил секретарь полпредства с женой. Все страхи кончились.
Приехавших усадили в большую полпредскую машину и повезли по широким улицам, обсаженным толстыми деревьями, вдоль нескончаемого ряда автомобилей, стоявших у обочин тротуаров. Говорковы ехали по асфальтовым проспектам, прорезавшим сады и парки.
Жена секретаря, Наталья Павловна, показывала Тоне на прекрасные правительственные здания и называла их, но в Тониной голове был уже полный сумбур. Пароход, волнения на пристани, гремящий Нью-Йорк, старый негр в поезде, теперь Вашингтон – этого было слишком много для одного дня.
Говорковым уже была приготовлена комната, очень чистая, белая, с белой мебелью, с ванной и с собственной маленькой кухней. Тут была красивая белая газовая плита и электрический холодильный шкаф. Все это казалось таким привлекательным, что Тоне сразу захотелось заняться хозяйством. Но их уже тянули показывать парадные апартаменты полпредства. Они переходили из зала в зал, над ними вспыхивали хрустальные люстры, шаги были неслышны на толстых коврах. Тоня с удовольствием села в позолоченное кресло. Ноги уже не несли ее.
Костя оказался железным человеком. Он не чувствовал усталости. Он обошел все комнаты, добросовестно спрашивая, что тут помещается, в то время как Тоня, блаженно отдыхая в кресле, смотрела на картину, где в снежном облаке неслась русская тройка и молодой ямщик, поднявшись во весь рост, нахлестывал лошадей.
Секретарь показал рукой на потолок и сказал:
– А наверху живет наш полпред.
И он с уважением помолчал.
Через полчаса, на вечеринке, которую секретарь устроил в честь прибытия новых членов маленькой советской колонии, железный Костя бойко говорил по-английски, что у него не выходило на «Маджестике», и беспрерывно танцевал, вознаграждая себя за пароходный аскетизм. Ему было так хорошо, будто он и не выезжал из Москвы. Он танцевал и с женой советника – Марьей Власьевной, и с конторщицей – американкой мисс Джефи, и с хорошенькой Натальей Павловной. Тоня тоже танцевала, несмотря на усталость. Вообще все было чудесно. Зашел на минутку военный атташе, и все, кроме, конечно, Говорковых, принялись дразнить его, спрашивая, какое звание будет ему присвоено.
– Да вот жду, – отвечал атташе. – Сам еще не знаю, кем буду.
– Наверно, в комбриги метите?
– Хорошо, если полковника дадут, – с усмешкой отвечал атташе. – Вы, товарищи, как видно, не представляете себе, что такое полковник. Это громадный чин по моим годам. Полковник в тридцать шесть лет! Мне нравится.
Вечеринка была настоящая московская. Гости сели за стол, на который было выложено все, что нашлось в доме. И совсем уже по-московски стояли бутылки с нарзаном. В перерыве между танцами Говорков, томно опустившись на диван, раздавил две граммофонных пластинки. И так же, как и в Москве, целый час стояли в передней, прощаясь, говоря друг другу: «Так вы захаживайте!» – «Обязательно». – «Да и вы к нам, смотрите».
Ночью у Тони началась рвота. Утром приехал доктор и сказал, что Тоня беременна.
Тоню уже на вчерашней вечеринке все называли Тонечкой, а когда распространилось известие о ее беременности, то окончательно полюбили ее.
Костя, начавший работу шифровальщика, сидел в своей шифровальной комнате по целым дням и лишь изредка забегал домой, чтобы поцеловать Тоню или наговорить ей какой-нибудь ласковой чепухи. Но Тоня не скучала.
На второй день вашингтонской жизни жена советника, Марья Власьевна, большая, немного грустная женщина, повезла Тоню в Маунт-Вернон смотреть домик Джорджа Вашингтона.
Проехав по мосту тихую и широкую реку Потомак, они очутились на многополосной бетонной дороге, которая проходила мимо больших выхоленных парков. Светилась подстриженная трава лужаек. По обе стороны дороги низко над землей шли барьеры из волнистых необработанных древесных стволов. Тоню поразило это нарочитое и элегантное сочетание предельно гладкой поверхности бетона с грубыми, покрытыми корой, сучковатыми барьерами, как бы напоминавшими о жизни первых английских пионеров в девственной стране.
На этой дороге особенно поражала тишина. В обе стороны с большой скоростью неслись колонны автомобилей. Но не слышно было сигналов и тарахтенья моторов. Только ветер влетал в открытое окно и доносилось граммофонное шипенье. Это терлись шины о шероховатую поверхность бетона.
По дороге Марья Власьевна расспрашивала Тоню об ее жизни в Москве. Она узнала все про расфасовочную фабрику, где Тоня работала, про ее подруг и про знакомство с Костей. Оказалось, что Тоня никогда не выезжала из Москвы, любила ходить в театр, играла роли в драматическом кружке и даже хотела бы стать актрисой. Тоня окончила только школу-семилетку. Она любит художественную литературу, но «Как закалялась сталь» еще не успела прочесть. Так мало произошло событий в жизни Тони, что за полчаса езды до усадьбы Вашингтона она успела рассказать о себе все.
Марья Власьевна посмотрела на дом Вашингтона с плохо скрытым равнодушием. Когда кто-нибудь приезжал в Вашингтон на один-два дня, его всегда возили в Маунт-Вернон, и делала это обычно Марья Власьевна как самая добрая.
Вокруг прославленного дома среди цветников толпились туристы с кодаками на животах и, опустив головы, щелкали затворами. Тоня с Марьей Власьевной обошли маленькие комнаты с навощенными полами, где тускло блестела старинная мебель, поднялись наверх в спальню и увидели кровать с ситцевым пологом, на которой почивал когда-то великий человек. Здесь было-тихо, чисто, давно отлетела отсюда бурная жизнь, когда во двор влетали гонцы на запаренных лошадях, когда сколачивались Соединенные Штаты Америки. Осталась только идиллия старосветской помещичьей жизни, как будто здесь жил не страстный Джордж Вашингтон, а какие-то американские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, мистер энд миссис Товстогуб.
За домом был старинный парк, спускавшийся к реке. К бревенчатой пристани, которой пользовался еще Вашингтон, вели дорожки, выложенные плитами. Туристы и здесь фотографировали своих жен и детей.
На обратном пути Марья Власьевна сказала Тоне:
– Вам надо, Тонечка, сразу же чем-нибудь заняться. Может быть, учить английский язык, даже поступить в колледж. Или что-нибудь в этом роде. Все-таки будете меньше скучать. Одного хозяйства вам не хватит, чтоб заполнить весь досуг.
– Почему же я буду скучать? Здесь очень интересно. Мне кажется, что я никогда в жизни не заскучаю в Америке, – ответила Тоня.
Она так восторженно произнесла это, что даже грустноватая Марья Власьевна радостно улыбнулась.
И началась Тонина жизнь в Соединенных Штатах.
Утром Тоня шла в лавку, покупала немного зелени, заранее нарезанные бифштексы и упакованные в прозрачную бумагу хлебцы. Приказчик уже знал ее в лицо, называл ее «леди», и достаточно было Тоне показать на что-нибудь пальцем, как он сразу догадывался о ее желаниях.
В своей белой кухне Тоня ходила в тонком резиновом фартуке с резиновой же оборкой, который подарила ей на новоселье красивая и светская Наталья Павловна, и стряпала обед для Кости. В рефрижераторе у нее совсем по-американски лежали три грейпфрута, яйца, бутылки с молоком, масло. Одна беда – стряпать было так легко, что на изготовление обеда уходило не больше часу. Урок английского языка, к сожалению, тоже отнимал только час.
Костя много работал. Быстро пообедав, он снова устремлялся в шифровальную комнату, а Тоня выходила в общий коридор и стучалась к кому-нибудь в дверь, просилась в гости.
За неделю Тоня прочла все русские книги, которые достала у новых друзей. Люди здесь селились не на всю жизнь – библиотеки их были в Москве, Ленинграде, Харькове, только не в Вашингтоне.
Сидя с мужем по вечерам, Тоня удивленно говорила:
– Знаешь, Костя, мы живем здесь уже целых двенадцать дней.
– Что ты говоришь? – удивлялся Костя. – А я и не заметил.
Он не заметил, как прошло двадцать дней, потом двадцать пять.
Тоне из канцелярии принесли письмо. Оно было от Кили и Клавы, ответ на давнишнюю открытку с «Маджестика». И тут Тоня вдруг поняла, как далеко она заехала от Москвы.
Подруги восторгались фотографией «Маджестика», писали, что живут как прежде, и посылали горячий привет. Тоня заплакала, неизвестно отчего – то ли от радости, то ли от печали, сейчас же села писать ответ и уже весь день ходила скучная, задумчивая.
Вечером Костя с женой и Натальей Павловной отправились в кино.
Зал кино был громаден и тяжеловесно богат. Из сумрака просвечивало алтарное золото украшений. По темному залу неслышно бегали худенькие франтоватые капельдинерши с электрическими фонариками, указывая вновь вошедшим свободные места. К ножкам кресел, стоящих у проходов, были прикреплены маленькие лампочки. Они бросали на пол слабый желтый свет. Это было сделано для удобства зрителей, входящих или выходящих из зала. Кресла были мягкие. В зале разрешалось курить. Медленные прохладные ветерки веяли на лица зрителей. Здесь температура воздуха регулировалась автоматически. На улице была удушающая жара, воняло асфальтом и бензином, на улицах был тяжелый вашингтонский август, а в зале стоял апрель, даже пахло фиалками.
И в первый раз за все время (они побывали в кино уже раз десять) Тоне не понравилась картина, хотя она была ничуть не хуже других картин, – музыкальная комедия, сюжет которой заключался в следующем:
В большом мюзик-холле готовится новая программа. Две соперницы претендуют на главную роль в этой программе – красавица брюнетка с отталкивающим характером и красавица блондинка с привлекательным характером. Директор, комик, не знает, кому отдать предпочтение. Начинается соревнование. Брюнетка лихо откаблучивает чечетку. Потом выступает блондинка и выбивает чечетку еще лучше. Тогда брюнетка танцует совсем уже превосходно. Но не побить ей положительной блондинки. Блондинка снова вырывается на сцену и поражает директора невиданной чечеткой. Подавленный, он подписывает контракт с блондинкой. Противная брюнетка посрамлена, тем более что блондинка еще выходит замуж за богатого красавца.
Когда Тоня в первый раз увидела подобную картину (только там блондинка была бедная провинциальная телефонистка, которая приезжает в Нью-Йорк и внезапно, без всякой подготовки, начинает танцевать лучше всех балерин на свете), она была очарована исходившим от картины сиянием великолепной техники, чистотой фотографии и звука, бешеными чечетками, которые выбивали длинноногие красавицы. Ей запоминались мотивчики, их хотелось повторять. И, приготовляя Косте брекфест, она даже мурлыкала слабеньким голоском какие-то куплеты, – совсем американка в своем резиновом фартучке.
Но эта, десятая, картина ничего не добавляла к тому, что Тоня уже видела. Картина начала ее как-то смутно раздражать. Тоня даже не понимала еще, почему это так вышло. Танцуют замечательно, музыка в конце концов очень мелодичная, актрисы подобраны самые красивые, но все это, вместо того чтобы веселить душу, почему-то омрачало ее.
В этот вечер Тоне многое вдруг не понравилось в столице. Улицы были лишены названий, продольные обозначались буквами алфавита, поперечные – цифрами. Какая-то алгебра. Улица «М» угол 27-й или – 39-я угол «Б».
– Мы живем на углу А плюс Б в квадрате, – сказал Костя. – Хоть бы назвали какую-нибудь улицу Гипотенузой. Все-таки веселее было бы. Или, например, площадь Пифагоровых Штанов.
– Говорков, не говорите гадостей, – сказала Наталья Павловна.
– А я считаю, – вмешалась вдруг Тоня, – что гадость – это улица «Ф», угол улицы номер 1. Где вы живете? Я живу на улице номер 2. Очень интересно.
– Вы, Тонечка, не очень спешите со своими выводами, – сказала Наталья Павловна. – Алгебра алгеброй, а на этой самой алгебре стоят очень удобные дома.
– Да нет, я ничего такого не хочу сказать, – ответила Тоня. – Но у меня как-то сегодня вечером настроение неважное. И картина тоже, как все остальные. Позавчера была картина «Е», а сегодня – «Ф». Нет, не нужно больше ходить в кино. Давайте пойдем на будущей неделе в театр. Посмотрим какую-нибудь серьезную пьесу.
– Что вы, Тонечка, – сказала Наталья Павловна. – В Вашингтоне нет ни одного театра. Зимой иногда приезжает на гастроли какая-нибудь труппа, даст несколько спектаклей и уедет. А постоянного театра здесь нет.
– В столице Соединенных Штатов, – с удивлением переспросила Тоня, – нет ни одного театра?
– Ни одного. Только кинематографы.
– Прямо нахально с их стороны, – заметил Костя.
– С чьей стороны? – сказала спокойная Наталья Павловна. – Живут себе люди как им нравится – вот и все. Детка, тут дело ясное. Если бы театр был выгоден – существовал бы театр. Но оказалось, что кино дело более прибыльное – и театра нету. Ясно?
– У них все ясно. Как в медном тазу, – буркнул Костя. – Ничего, Тонечка, вернемся в Москву, пойдем в Художественный.
Дома Тоня села дописывать письмо.
«Сейчас пришла из кино, где смотрела заграничную кинокартину. Она называется „Так думают девушки“. Там много танцуют фокстроты, чарльстоны и другие западные танцы. Вообще было очень весело».
Тоня печально и гордо улыбнулась и приписала:
«Можно было обхохотаться».
Написать иначе было совестно. Подруги так много ожидали от ее заграничной жизни, что просто не поверили бы ей, подумали бы, что она ломается: и то ей не нравится, и се.
Осенью, когда на прекрасных улицах А, Б, В и прочих стали падать с деревьев листья, Тоня почувствовала, что ее уже не развлекают сияющая кухня и английские уроки. Она стала приставать к Косте, чтобы он устроил ей какую-нибудь работу.
– Ты же знаешь, Тонечка, – смущенно говорил Костя, – у нас очень маленький штат. Мне даже говорить об этом неудобно. Вот если бы мы жили в Нью-Йорке, тогда другое дело. Устроилась бы в Амторге. Потерпи. Кроме того, тебе уже скоро рожать, вот будет у нас мальчик…
– Или девочка, – запальчиво вставила Тоня.
– Девочка? Тем лучше. Она вырастет, к ней будут ходить подруги, а я буду за ними ухаживать. Серьезно, Тоня. Будет ребенок – тебе станет веселее.
Предстояли большие расходы. Нужно было купить приданое для младенца, кроватку, коляску, ванночку, мало ли что. Кроме того, Тоне и Косте нужны были пальто. Молодые супруги решили экономить.
Еще когда Говорковы ехали в Америку, они задумали из первого же жалованья купить патефон с пластинками. Теперь от этого пришлось отказаться.
Тоня перестала ездить на уроки английского языка в автобусе и совершала этот путь пешком. Кстати, ей было полезно много ходить. Она часто останавливалась у витрины музыкального магазина и рассматривала приглянувшийся ей патефон в красивом голубом чехле. Ничего, не страшно – сначала ребенок, потом патефон.
Костя тоже был такого мнения. Вообще он не терял своей веселости. Только одно его огорчало. Он стал часто простуживаться.
– Привык я к московскому морозу, а здесь зимой тепло. Наверно, от этого, – объяснял Костя.
В январе два раза выпадал снег и сейчас же таял. Киля и Клава продолжали аккуратно писать короткие письма, в которых каждый раз сообщали, что ничего нового не произошло – ходят на каток, в клуб Кухмистерова, собираются раз в шестидневку у Кили на вечеринки. За Клавой стал ухаживать член союза композиторов, командированный на фабрику для ведения музыкального кружка. Открылся зимний однодневный дом отдыха, и кто хочет, может ходить на лыжах. А Лена Бачкова сделалась стахановкой, перекрыла все нормы и на Октябрьскую годовщину получила в подарок ленинградский патефон и десять пластинок, в том числе «Спасибо, сердце» и «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» в исполнении симфонического оркестра.
«Но тебе это, наверно, все неинтересно, – писали Киля и Клава. – Ты, конечно, веселишься не так, как мы, и, наверно, нас уже забыла».
Тоне вдруг так захотелось в однодневный дом отдыха, так захотелось посмотреть, как композитор ухаживает за Клавой, так захотелось в узкий и непомерно длинный клуб Кухмистерова, что она весь день пролежала в постели. И когда Костя вечером стал звать ее в кино, чтобы немножко развлечь, она отвечала:
– Никуда я не пойду.
– Это же знаменитый фильм, – уговаривал Костя. – Стоил два миллиона долларов. Я сам читал в «Вашингтон Пост».
– Хоть три миллиона. Отстань от меня, пожалуйста.
В конце января с Говорковыми стряслось громадное, почти непоправимое несчастье.
Обычно во время полпредских приемов, на которые приглашались представители искусства, науки и промышленности, Костя с непривычки чувствовал себя очень стесненным. Он в смокинге стоял где-нибудь подальше, с напряженным видом отпивая коктейль из бокала и до тошноты накуриваясь сигаретами «Тройка». Но в последний раз Костя вдруг осмелел и вступил в разговор с толстым, очень симпатичным американцем. Костя с удовольствием заметил, что уже довольно свободно говорит по-английски. Не хватало только темы, не о чем, собственно, было говорить с этим американцем. Тут Косте вдруг посчастливилось. Он вспомнил свои вечные простуды и стал жаловаться на вашингтонский климат.
– О, – сказал американец, – вы молодой человек. У вас этого не должно быть. Все простуды происходят от гланд. Их надо немедленно удалить. Поверьте моему опыту, мистер…
– Говорков.
– … Мистер Говорков. Я позволю себе, мистер Говорков, рекомендовать вам своего врача. Он очень опытный человек и вырежет ваши гланды так, что вы этого даже не почувствуете. Вам даже будет приятно.
Костя поблагодарил обязательного толстяка. Американец вытащил блокнот и что-то записал.
Потом беседа потекла как-то сама собой. Выпили несколькой коктейлей и расстались, очень довольные друг другом. Придя домой, Костя хвастался своими успехами в языке и светском обращении.
– Всему понемножку научаемся, – говорил Костя, – осваиваем и эту область.
Утром Говоркова позвали в канцелярию к телефону, и незнакомый голос сообщил, что говорит секретарь мистера Саммерфильда.
– Слушаю, – с удивлением сказал Костя.
– Вы вчера имели беседу с мистером Саммерфильдом относительно доктора. Доктор с удовольствием приехал бы к вам, но так как удаление гланд – все-таки операция, хотя и маленькая, то доктор просит вас заехать к нему сегодня в пять часов дня.
Косте очень понравилась эта чисто американская аккуратность, и он просил передать мистеру Саммерфильду чувство живейшей благодарности.
В половине пятого, никому не сказавшись и попросив для шика у завхоза самый большой полпредский автомобиль, Костя поехал по записанному адресу.
Доктор очень понравился Косте. Во-первых, он абсолютно не походил на доктора. Это был элегантно одетый господин с модными черными усиками и пробором посредине головы. У него были длинные, худые и нервные пальцы крупье. С круглым зеркалом на лбу, он был невероятно красив и обаятелен.
Благожелательно похлопав Костю по плечу, доктор надел халат с перламутровыми пуговицами, посмотрел Костино горло и сказал, что лучше всего было бы гланды удалить, но что, вообще говоря, можно жить с гландами. Но Костя с горячностью, которой сам от себя не ожидал, заявил, что согласен расстаться с гландами. Уж очень ему надоели простуды.
Тотчас же в комнате появились ассистент и сестра милосердия, и доктор молниеносно вырезал мистеру Говоркову гланды электрическими щипцами. Не то чтоб это было приятно, как утверждал мистер Саммерфильд, но во всяком случае не слишком больно.
Тоня жалела Костю. Один день он пролежал в постели, хотя чувствовал себя прекрасно. Лежал и питался только мороженым. Все-таки это было событие. Тоня читала ему вслух газеты, и оба были счастливы.
Через неделю на имя мистера Говоркова пришел в канцелярию пакет. Это был счет от доктора. Взглянув на него, Костя ничего не понял. Счет был на двести долларов.
– Тут какая-то ошибка, – сказал он Тоне и пошел к Марье Власьевне узнать, что бы это могло значить.
– Конечно, какая-то чепуха, – сказала Марья Власьевна, – удаление гланд стоит долларов двадцать пять, не больше. Тут, наверно, написано двадцать долларов, а лишний нуль попал по ошибке.
– Да и это дорого, – возмущался Костя, – это же громадная сумма, двадцать долларов. Ну, я еще понимаю, четыре доллара или пять.
– Позвольте, позвольте, – сказала Марья Власьевна, надевая пенсне и снова рассматривая счет. – Вы у кого были? Как? Доктор Пичинелли? Кто вас к нему направил? Алексей Дмитриевич, зайди к нам на минутку. Тут прямо беда случилась с товарищем Говорковым.
В комнату вошел советник. Он взял в руки счет и с недоумением посмотрел на Костю.
– Слушайте, Говорков, какой дурак послал вас к Пичинелли?
– Вовсе не дурак, – обиделся Костя за своего нового друга, – а мистер Саммерфильд.
– Ну, знаете, – сказал советник, – вы бы хоть спросили кого-нибудь, посоветовались.
– А что тут советоваться? – сказал Костя. – Это же пустяки, какая-то гланда.
– Гланда-то пустяки, а важно здесь, что доктор Пичинелли лечит очень богатых людей. А вы еще попали к нему по рекомендации Саммерфильда, миллионера. Естественно, что он и вас считает миллионером.
– А я еще приехал к нему на «кадиллаке», – пробормотал Костя.
– Вы бы к нему еще на «ройсе» приехали, – воскликнул советник. – Придется вам заплатить двести долларов.
– Как двести? Марья Власьевна говорила: двадцать!
– Возможно, что эта операция стоит только двадцать долларов, но Пичинелли берет за нее двести.
– Не буду я платить! – закричал Костя. – Это абсурд.
– Да, – сказал советник, – получается поганое дело. Но придется заплатить. Тут никаких разговоров не может быть.
– Это грабеж, – простонал Костя. – Да ведь если в Москве рассказать – не поверят.
– Конечно, не поверят. Вы там в Москве привыкли лечиться бесплатно. Но здесь нет советской власти. Это Америка. Будете знать на практике, что такое капитализм.
Доктор Пичинелли произвел в бюджете Говорковых страшные разрушения. Чтобы ему заплатить, пришлось отказаться от зимних пальто, от коляски и чудной кроватки, которую Тоня уже присмотрела в детском магазине. Кроме того, пришлось еще взять авансом в счет жалованья восемьдесят долларов. Это была настоящая катастрофа.
Как Тоня ни утешала Костю, сознание того, что он совершил непоправимую глупость, заставляло его страдать. В светлой комнатке Говорковых сделалось грустно. Вместо замечательной кроватки стояла самая обыкновенная люлька, какую покупают для своих младенцев бедные негритянки.
Денег не было ни копейки, а главное еще только надвигалось: Тоня готовилась рожать.
И опять все было так непохоже на Москву, что Костя иногда даже хватался за голову. Почему в Москве все происходило как-то просто, даже думать об этом не надо было? Подходит время – и рожаешь. И все бесплатно.
И вообще в представлении Кости роды или болезнь никогда не были связаны с деньгами. Ну рожаешь, ну болеешь. Кто-то за все это платит. Кажется, соцстрах. Костя никогда об этом не думал.
– Я отказываюсь рожать в подобной обстановке, – запальчиво воскликнула Тоня.
– У нас на службе рожала одна сотрудница, – сказал Костя. – Что-то три или четыре месяца гуляла. С сохранением содержания. – Он даже засмеялся, так ему понравились прогулки с сохранением содержания.
Молоденькие супруги, которые еще очень мало знали жизнь, сейчас сидели, притаившись в своей комнате, и вспоминали Москву. Как же это раньше они не ценили, не думали об этом? Они жили, ничего не замечая, все принимая как должное, как что-то естественное, что полагается людям. Не может не полагаться. А здесь за все надо платить.
После трагической истории с гландами Костя сделался осторожным. Он все узнавал наперед. Но от этого ему не стало легче. Хотя Говорковы и выбрали недорогую лечебницу, все-таки платить надо было много. В счет ставили и предварительную консультацию, и отдельно сиделку, и отдельно сестру, и доктора, и лекарства, ну, одним словом, все.
Когда Костя, очень тревожившийся за Тоню, заикнулся было о том, что не плохо пригласить хоть один раз профессора, ему назвали такую сумму, что он злобно пробормотал себе под нос:
– Нет, профессор пусть Моргана лечит. Да и детей пусть рожает миссис Морган. Я вижу, что тут это удовольствие не для пролетариата.
Тоня, которая с пионерских лет понимала, что такое капитализм, и не раз даже делала о нем маленькие докладики в школе и на фабрике, вдруг столкнулась с ним в жизни. И, представьте себе, она страшно рассердилась. Капиталистическая система мешала ей жить. Хотя ей вредно было волноваться, она каждый вечер взволнованно ругала эту систему.
– Почему вы сердитесь? – говорила ей Марья Власьевна. – Мы живем за границей десять лет. Мы уже привыкли.
Теперь Тоне уже ничто не нравилось. Не нравилось даже то, что совсем недавно казалось ей удобным и красивым. Ей не нравились прекрасные улицы, превосходные магазины, автомобили.
– Ну да, – говорила она со страстностью, которой ей в свое время так не хватало на докладах в политкружке, – это все для богатых. А что для бедных? Вы мне скажите, что для бедных, если даже мы с Костей, люди, обеспеченные постоянным заработком, с трудом можем свести концы с концами? А рожать мы не можем.
– При таких условиях мы не можем рожать, – подтверждал Костя.
– Я уеду рожать в Москву, – говорила Тоня со слезами. – Честное слово. Вот увидите.
Но никуда она не поехала. Ребенок родился все-таки в Вашингтоне, и, совершенно разоренные, погрязшие в долгах, Говорковы безмерно радовались. Мальчик был крупный и весил восемь английских фунтов, что, как всем докладывал Костя, равняется девяти старым русским фунтам. Назвали младенца Вовкой. Как родившийся на американской почве, Вовка по законам мог стать американским гражданином, а впоследствии имел право быть избранным в президенты. Возможный президент Соединенных Штатов и юный советский гражданин, как и полагается, все время спал.
В торжестве приняла участие вся колония.
Первой явилась Марья Власьевна, катя перед собой лакированную коляску, напоминавшую своими обтекаемыми формами междупланетный снаряд. Тоня, принявшая так много мук, томная и счастливая, не удержалась и заплакала. Коляска была та самая, которую она присмотрела в магазине.
Потом в передней раздался грохот. Это Наталья Павловна уронила кроватку, которую она купила вскладчину с морской атташихой. И это тоже была воплощенная в жизнь мечта.
Военный атташе принес прекрасную дорогую игрушку, но почему-то для ребенка лет шести – большую лошадку с настоящей волосатой шкурой, хвостом, челкой и удивленными стеклянными глазами. Полковник был холостяком и не очень разбирался в детских делах.
Каждому входящему Костя говорил:
– Нет, серьезно, товарищи, это не годится. Такие расходы. Что вы, товарищи!
Он еще больше растрогался, когда вошла совсем мало знакомая, молодая американочка мисс Джефи, которая работала в канцелярии стенографисткой и машинисткой и ни слова по-русски не знала. Мисс Джефи подошла к коляске и тоненьким голоском сказала:
– Гау ду ю ду, беби.
Костя развел руками и воскликнул:
– Ну, тут я уже ничего не могу сказать.
Мисс Джефи поднесла младенцу резиновую погремушку и, улыбаясь, отступила.
Внесли цветы от полпреда, а через несколько минут пришел он сам. Полпред торопился на дипломатический прием, был во фраке и держал в руке цилиндр. Очень элегантный, с простым русским лицом и седыми висками, он постоял минуту над кроваткой новорожденного, поздравил Говорковых и сказал:
– Любительский ребеночек. Теперь, Тонечка, вам уже нельзя будет скучать. Придется развлекать этого маленького джентльмена.
Так оно в первое время и было. Неизвестно кто кого развлекал – Тоня ли Вовку или он ее, только время пошло незаметно. Постепенно затянулись бюджетные раны, нанесенные доктором Пичинелли и администрацией родильного дома. Но только через десять месяцев, когда Вовка уже выучился стоять и, как веселая обезьянка в клетке, тряс прутья своей усовершенствованной колыбели, бюджет Говорковых пришел в равновесие.
Летом выехать с Вовкой на дачу все-таки не удалось – оказалось дорого. Костя то уверял Тоню, что Вашингтон сам по себе дача и ехать никуда не надо, то вдруг начинал сердито бормотать, что, мол, пусть Морган едет на дачу, нюхает там чистый воздух, а они уж как-нибудь проведут душное лето в этом симпатичном городе, где двести пятьдесят тысяч автомобилей без перерыва наполняют воздух бензиновыми испарениями.
Это было тяжелое лето, и Тоня на целые дни увозила Вовку в его междупланетном снаряде в прекрасный парк по другую сторону реки Потомак. И сидела там среди негритянских нянь, которые баюкали белых младенцев.
Осенью пришло толстое письмо от Кили и Клавы. Из конверта выпали газетная вырезка и любительская фотография размером в открытку. На фотографии была изображена Киля в красивом ситцевом сарафане, как видно исполняющая русскую народную пляску. В поднятой руке она кокетливо держала платочек. Рядом с ней, в сапогах и косоворотке, стоял красавец, в котором Тоня не без волнения узнала Петра Передышкина с соседнего завода. Судя по остолбенелым взглядам танцоров, фотограф-любитель заставил их стоять не двигаясь по крайней мере десять секунд.
«Здравствуй, Тоня, – писали подруги, – почему от тебя так долго ничего не слышно? Мы так и знали, что ты про нас забудешь в своей Америке. Но мы тебя вчера вспомнили и все-таки решили написать. У нас нет ничего нового, живем как жили, без особенных интересов. Ты, наверное, читала в американских газетах, что в Москве открылся театр Народного творчества. У нас на фабрике еще весной образовался самодеятельный коллектив, и на прошлой неделе он выступал в этом театре. Исполнили „русскую“, а на бис „казачок“. Страшно было, просто ужас. И Киля танцевала соло с тов. Передышкиным, которого ты, конечно, узнаешь на фотографии. А так ничего нового нет, только я, Клава, вышла замуж за композитора, который руководит у нас музыкальным кружком. Его фамилия Миша Григорьев, но подписывается он под своими произведениями Иван Лесной. Но он еще пока кандидат в члены союза композиторов. Но его обязательно примут, так как он пишет симфонию из моей жизни. Он сказал мне, что я представляю тип новой женщины. Вообще он очень веселый и все время всех разыгрывает. И я его люблю довольно сильно. В общем, как видишь, ничего особенного у нас не происходит. В августе мы вдвоем поехали с экскурсией ОПТЭ в Крым. Облазили весь южный берег и подымались на Ай-Петри. Такой там ветер был на вершине, ужас. Но восход солнца действительно мировой. Мы были очень довольны, что побывали на Ай-Петри. Нашу фабрику переводят в новый корпус, потому что вся эта улица сносится совсем и совершенно правильно. Одна грязь была. Теперь, когда ты приедешь, то даже не найдешь тех мест, где прошла наша молодость. Уже мы все взрослые. Киле уже девятнадцать лет, а мне скоро исполнится восемнадцать. Просто ужас. По этому случаю у нас намечается большая вечорка. Жаль, тебя не будет. Жаль, что мы еще не видели твоего Вову. Он, наверно, красивый мальчик, и мы шлем ему сердечный привет. Тонечка, ты веселись-веселись, но все-таки нас не забывай. Твои К. и К.
Да, вырезку, пожалуйста, нам верни. У нас есть только один экземпляр. Твои К. и К.»
Вырезка была сильно истрепана и, как видно, побывала во многих руках. Синим карандашом были обведены строчки:
«Коллектив 1-й расфасовочной фабрики блеснул виртуозно исполненной русской пляской. Стахановка Калерия Коршунова совместно с тов. Передышкиным обнаружили яркий, красочный талант и имели заслуженный шумный успех. Так в недрах народа выковываются новые, свежие, яркие, красочные таланты».
Тоня не выдержала и зарыдала, густо и страстно, как цыганка.
Тут сказалось все. И утомление молодой матери, которая ни на минуту не может отлучиться от ребенка, и одиночество среди шума и блеска большого города, и самая обыкновенная здоровая зависть. Чем она хуже Кили и Клавы? Она всегда танцевала лучше Кили. и это знала вся фабрика. И, конечно, она тоже могла бы выступать в театре Народного творчества, вместо того чтобы сидеть в этом тоскливом, да, тоскливом, провинциальном Вашингтоне, где некуда пойти.
В Москве у нее всегда было множество дел, времени не хватало. Она вспомнила, что всегда куда-то торопилась, боялась опоздать. И дела были какие-то интересные, веселые. А если не веселые, то нужные, значительные. А здесь она жила, как в больнице – чисто, благоустроенно, и безумно хочется на свободу.
Когда Костя вернулся, Тоня еще рыдала, горько и безнадежно. Говорков ужасно испугался. Тоня была всегда сдержанным и терпеливым человеком, никогда ни на что не жаловалась. И тут Костя прочел письмо и сразу понял, что Тоня несчастна и надо что-то сделать.
Встревожена была вся крошечная советская колония.
– А все потому произошло, – говорил советник, – что Тонечку не охватили, что у нас нет еще настоящей заботы о людях.
– Ну что ты такое говоришь? Не охватили… – возразила Марья Власьевна. – Тонечку все очень любят. Но как ее охватить, когда она весь день прикована к ребенку? Сам знаешь, няньку они нанять не могут – это дорого. Бесплатных ясель, как в Москве, в Америке нет. Кажется, взрослый человек. Здесь не советская страна. Виноват, конечно, и товарищ Говорков. Нужно жене уделять немножко больше внимания.
– Что я могу сделать, товарищи? – жалобно оправдывался Говорков. – Тонечка женщина очень простая. Но она у нас там в Москве привыкла, например, к серьезным пьесам, где разбираются всякие там актуальные вопросы. А здесь?.. Когда-то еще приедет из Нью-Йорка на гастроли хороший театр. И так далее. Конечно, не охватили. Конечно, скучает. Она молодая, настоящей закалки у нее еще не может быть. Она не понимает, что это надо рассматривать, как зимовку где-нибудь на острове Врангеля. Послали тебя – и работай. Сиди два года в полярной ночи.
– Если бы была работа. В том-то и дело, что работы у нее нет.
– Ну, пусть занимается, учится.
– Оставьте, пожалуйста. Легко вам говорить, Наталья Павловна, когда у вас нет детей. Вам хорошо, вы скоро колледж кончите. Нет, с Тонечкой что надо сделать? Надо ее охватить.
– Да, но как?
Как «охватить» Тоню – никто не знал.
Тоня уже не скрывала своего отчаяния, ходила заплаканная.
– Я ее отлично понимаю, – бравым голосом говорил военный атташе. – Этому, товарищи, есть специальное название. Ностальгия. Тоска по родине. В конце концов мы все этим больны. Все мы живем тем, что когда-нибудь отсюда уедем. Честное слово, товарищи, если бы мне сказали, что я здесь должен остаться на всю жизнь, – я, вы знаете, товарищи, восемь лет воевал и человек не сентиментальный, – я бы заплакал. Что же вы хотите от Тонечки, которая привыкла к советским условиям жизни? Конечно, ей здесь трудно.
Костя всячески старался проводить дома как можно больше времени. Он выгонял Тоню в кино, а сам оставался с Вовкой. Он так навострился, что купал его с ловкостью старой няньки, а потом убаюкивал песней: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Под эти воинственные звуки Вовка засыпал так же быстро, как если бы пели «Гуленьки, гуленьки, прилетели гуленьки».
В кино Тоня ходила с милой, всегда приветливой и веселой мисс Джефи. Эту дружбу наладил умный Костя, сообразив, что с американкой Тоня будет развлекаться и в то же время говорить по-английски. Тоня очень подружилась с мисс Джефи. После кино они заходили вместе в аптеку, усаживались за высокую стойку и ели мороженое, которое подавал им рыжий продавец в белой полотняной пилотке с синим кантом. В аптеке, сидя за стойкой на высоких рояльных табуретках, подруги вели задушевные беседы.
Аптечный бармэн проворно работал: выжимал машинкой сок из апельсинов, накладывал в большие бумажные стаканы мороженое для покупателей «на вынос», жарил сладкие блины на раскаленной электричеством металлической доске, тут же приготовлял шипящий напиток от головной боли и со звоном вытаскивал чеки из автоматической кассы. При этом он успевал еще бросить Тоне и мисс Джефи, постоянным посетительницам, поощрительные взгляды. Весь его вид говорил, что все будет хорошо, все будет «олл райт», главное – не надо терять жизнерадостности. А молодые женщины, аккуратно расстелив на коленях бумажные салфетки и облокотясь о прилавок, подолгу болтали. Тоня еще не очень свободно говорила по-английски, поэтому они часто друг друга не понимали и, выяснив ошибку, долго и сердечно смеялись. Вообще их аптечные беседы выглядели не совсем по-американски. Американцы не любят засиживаться за едой. А Тоня и мисс Джефи сидели иногда по два часа.
Тоня рассказывала о своей жизни в Москве, о своих подругах Киле и Клаве, рассказала однажды, что они недавно были в Крыму.
– Краймиа! – воскликнула мисс Джефи. – Но ведь это очень далеко от Москвы.
– Ну, что ж такое? – рассудительно сказала Тоня. – Они были в отпуску. С экскурсией.
– Они поехали туда на автомобиле?
Тоня даже засмеялась.
– Что вы, Линии! Откуда у них автомобиль? Потом, у нас ведь пока нет таких дорог, к которым вы привыкли. В Крым едут поездом. Очень удобно и быстро. А уж в самом Крыму есть все для туристов – и автобусы, и специальные туристские базы. Вот вам хорошо, Линии. У вас превосходные дороги, автомобили. Вы, наверно, уж объездили всю Америку?
К удивлению и даже замешательству Тони, мисс Джефи сказала, что не только не объездила Америки, но даже ни разу не была в Нью-Йорке, хотя до него лишь четыре часа. Была она только в Филадельфии, в гостях у тетки, провела у нее рождество.
– Это не так-то легко, Тониа, – сказала мисс Джефи. – Чтобы поехать в Калифорнию или во Флориду, надо много денег и времени. Нет, путешествовать могут только богатые люди. Или безработные, странствующие в поисках заработка. Я знаю, мне уже несколько раз говорили. Иностранцы почему-то считают, что мы, американцы, много путешествуем. Но в большинстве случаев мы всю жизнь сидим на одном месте и не видим ничего, кроме своих контор. Деньги я трачу на квартиру, на еду. Мне надо прилично одеваться. Лишних денег у меня никогда в жизни еще не было.
Наговорившись вдоволь, американка провожала Тоню домой и подымалась с ней наверх, чтобы посмотреть ребенка. И всегда они заставали одну и ту же картину. Вовка спал, а рядом с ним сидел серьезный Костя и читал «Вашингтон Пост».
Мисс Джефи наклонялась над кроваткой, тоненьким голосочком говорила «гуд найт, беби» и уходила домой. Она была такая опрятная, завитая, так нежно улыбалась, что всегда представлялась Тоне чистенькой, деловитой певчей птичкой, обитающей в веселой клетке, где аккуратно налита чистая вода в цинковую чашечку и рассыпана блестящая конопля.
На Октябрьскую годовщину Тоне был приготовлен большой сюрприз. Вся колония снова и долго обсуждала судьбу Тони, и все единогласно решили – младенец Вовка останется на попечении Марьи Власьевны и Кости, а Тоня с Натальей Павловной поедут на два дня в Нью-Йорк и праздник проведут среди многочисленных сотрудников Амторга.
Программа была очень интересная. Утром седьмого ноября они отправятся на детский праздник в советскую школу, днем будут осматривать город, а вечером состоится торжественное заседание и танцы в генеральном консульстве. Там будет человек триста советских людей. После вашингтонского затворничества поездка в Нью-Йорк казалась почти поездкой на родину.
Приехали вечером шестого числа и ночевали у друзей Натальи Павловны. Это были пожилые люди, муж и жена Ведмедевы. Тоня им обрадовалась, словно это были ее дядя и тетя. Ведмедевы сейчас же потащили молодых женщин на Бродвей. От бродвейского света и шума Тоня затихла. Гуляли долго, и все это время супруги посматривали на Тоню с таким видом, будто это они, Ведмедевы, зажгли над Бродвеем миллиарды электрических огней и сами построили небоскребы.
После прогулки ужинали у гостеприимных хозяев. Молодые женщины уже собирались идти спать, когда в комнату вошел румяный одиннадцатилетний мальчик и серьезно сказал с легким английским акцентом:
– А теперь вы можете осмотреть мои игрушки.
Он, как видно, терпеливо ждал конца ужина.
Игрушек было много, но все они представляли собой огнестрельное оружие: револьверы, ручные пулеметы, маленькие винтовки, трещавшие и даже извергавшие огонь. Старый Ведмедев закряхтел:
– Вот так он целый день. Стреляет. Американские мальчики только этим и занимаются. Других игр у них нет. Просто с ума сошли. Бегают в кино смотреть гангстерские картины, а потом сами изображают бандитов. И мой Ленька туда же.
– Нет, я только в свободное от школьных занятий время, – серьезно отвечал мальчик.
– Школу мы устроили хорошую, – продолжал Ведмедев. – Не пожалели денег. Но ведь после школы не запрешь его дома. Особенно этот Дэвид, сын парикмахера, обучает моего типа.
– Ты ошибаешься, папа, – серьезно сказал Ленька, – Дэвид – хороший мальчик. Тут виноваты условия капиталистического общества.
– Слышали? – радостно закричал Ведмедев. – Это уже влияние нашей школы. А рядом с этим игрушечные пулеметы. Какой у меня мальчик вырастет в этой Америке, я даже не понимаю.
– Ох, – простонала Ведмедева, – скорей бы уж домой, в Харьков!
Утром поехали в Бруклин. По коридорам и лестницам школы бегали дети с красными пионерскими галстуками. Запыхавшиеся, озабоченные мамы раскутывали маленьких дошкольников, приглашенных в гости, и шепотом спрашивали, как отвести их в уборную. Все шло так, словно вокруг не было никакого Нью-Йорка, а торжество происходило где-нибудь на Сивцевом Вражке или на Усачевке, только малыши из нулевого класса, скверно говорившие по-русски и лепетавшие по-английски с настоящим нью-йоркским акцентом, свидетельствовали о том, что дело происходит все-таки не в Москве.
Торжественное собрание началось в самом большом классе. Председатель Амторга сказал короткую серьезную речь, в которой объяснил детям, что за день они празднуют. Потом выступил генеральный консул, речь которого все время прерывал его двухлетний сын Витя, бурное дитя в пушистом шерстяном костюме. Увидев своего папу, стоявшего перед большой аудиторией и время от времени взмахивавшего рукой, Витя взволновался и крикнул:
– Папа, я хочу к тебе.
Он кричал до тех пор, покамест ему срочно не понадобилось выйти. Только это обстоятельство дало консулу возможность закончить свою речь с необходимой плавностью.
– А теперь, товарищи, – сказал заведующий школой, – приступим к веселью.
Начались выступления детей. Самые маленькие декламировали английские стихи; более взрослые пели хором партизанские песни и даже разыграли крохотную пьесу, сочиненную школьником шестого класса. В пьесе участвовали: король, воины и рабочие. Король был в бумажной золотой короне. В течение всего действия его душил смех, и другие актеры бросали на него сердитые взгляды.
Затем началась раздача подарков отличившимся школьникам. Леня Ведмедев тоже получил подарок. Но про него заведующий школой сказал, что он учился только хорошо, в то время как по способностям мог бы учиться отлично. Тогда Леня выступил вперед и, держа в руках две книги Джека Лондона на английском языке, которые ему поднесли, серьезно сказал:
– Теперь я обещаю учиться отлично, потому что у меня действительно хорошие способности.
Это всех рассмешило, даже самого Леню.
Получив подарки, дети сейчас же принимались их распаковывать и рассматривать.
Одному мальчику поднесли роликовые коньки, и про этого мальчика заведующий школой сказал:
– С ним произошло несчастье. На него напали американские мальчики и отобрали у него коньки. Он очень страдал от этого. Но так как он прекрасно учился, то мы дарим ему новые.
Однако осчастливленному мальчику предстояло еще одно испытание. Когда он возвращался на свое место, сжимая коньки в руках, на него напал шерстяной мальчик Витя и, крича дребезжащим голосом: «Дай», стал выдирать у него подарок. К счастью, маленьким гостям тоже стали раздавать подарки, и Витя, выпустив ролики, бросился получать своего резинового Микки Мауса.
Вечером приступили к веселью и взрослые. Торжественное заседание открылось в большом зале консульства. Пришли все, кто только мог явиться. И сотрудники Амторга, и инженеры, находящиеся в командировке по различным техническим делам, и команда советского парохода, который как раз в эти дни грузился в нью-йоркском порту.
Снова председатель Амторга сказал речь; консул тоже говорил опять, но никто не мешал ему на этот раз, потому что Витя уже спал. Хорошо было в этот вечер. Все чувствовали себя связанными друг с другом, как экипаж одного корабля, справляющего праздники в далеком океане.
После официальной части, как водится, началась неофициальная. Долго танцевали, весело и шумно. Тоня веселилась, как когда-то у себя на 1-й расфасовочной. Если бы только ее подруги Киля и Клава знали, что она танцует в первый раз за всю свою американскую жизнь. Ничего бы они не поняли и, наверно, очень удивились бы.
Вашингтонские красавицы, Наталья Павловна и Тоня, пользовались несомненным успехом. В соседнем зале на длинных столах стояли закуски, водка, родимый нарзан. Но Тоня ничего не ела и не пила. Не было времени: ее беспрерывно приглашали танцевать, и ей жалко было отказаться. Когда-то еще она увидит живых людей в таком количестве!
Внезапно она заметила в толпе своих старых знакомых трех неразлучных практикантов, с которыми когда-то Говорковы познакомились на «Маджестике». И они ее увидели и сразу узнали.
– Ну, как «левая»? – уже заранее хохоча, спросила Тоня.
– Замечательно! – в один голос ответила троица. – Все в полнейшем порядке. Олл райт.
Это были уже не застенчивые и костлявые юнцы в мешковатых синих костюмах. Впрочем, костлявые они были и сейчас, даже еще костлявее стали, они просто выросли, сделались старше. У одного даже появились молодые нахальные усики. Другой курил сигару.
На них были хорошо сшитые дешевые костюмы из магазина готового платья, тесные воротнички, прочные ботинки. Руки их были покрыты мозолями и царапинами. Они казались настоящими американскими механиками.
– Гау ду ю лайк Америка? – спросила Тоня. – Как вам нравится Америка?
Она ожидала услышать знакомое: «А бог с ней, с этой Америкой. Скорее бы уж добраться домой». Но, к ее удивлению, молодые инженеры в один голос закричали:
– Замечательная страна. Чертовская техника. А как работают!
– Честное слово, посмотришь на какой-нибудь завод – и как это все у них просто получается. А за этой простотой такая организация производства, что нет слов, ну, я вас уверяю, Тоня, просто нет слов.
– Мы тут кое-чему подучились. У них есть чему учиться.
Вообще встреча с Тоней вызвала у них дикий восторг. Они наперебой острили, рассказывали о своей работе, о поездках, часто вставляли английские слова и целые фразы, мешали друг другу. С Тоней они танцевали по очереди.
Один из них, тот, который курил сигару, вышел в соседний зал и поспешно, так как боялся пропустить танец, выпил шесть рюмок водки. С этой минуты он все время хохотал и уже не мог танцевать. И это его еще больше смешило. Остальные два практиканта с увлечением рассказывали Тоне, какой громадный технический опыт они получили на заводах Бада в Филадельфии и как они собираются использовать этот опыт в Союзе. Они засыпали Тоню техническими выражениями. И, самое удивительное, Тоня их понимала. Она все понимала в этот вечер и всем восхищалась. Если бы еще выйти на улицу, да чтоб эта улица оказалась не 61-м стритом угол Пятой авеню, а какой-нибудь Пятницкой, да еще у Москва-реки, да еще с видом на Кремль – совсем было бы хорошо.
Молодые инженеры проводили Тоню, Наталью Павловну и Ведмедевых до самого дома. Они шли пешком через весь Манхэттен, весело горланили у подножий небоскребов. Инженеры подвели компанию к Радио-сити и долго разъясняли женщинам методы возведения столь громадных зданий. Главным оратором внезапно оказался подвыпивший хохотун с сигарой (он никак не мог ее докурить в течение всего вечера). При виде здания, вершина которого терялась в утреннем тумане, он неожиданно протрезвел и прочел настоящую лекцию о механизации строительных работ.
На другой день вечером американизировавшиеся молодые люди явились к Ведмедевым, потребовали, чтобы Тоня и Наталья Павловна отправились вместе с ними «разлагаться».
– Надо, надо разлагаться, – деловито твердили они. – Что ж, мы так и уедем, не разложившись? Просто безобразие. Полтора года работали в этой Филадельфии как звери, позавчера приехали, а завтра уже уезжаем.
– Снова в Филадельфию? – спросила Тоня.
– Какая там Филадельфия, – радостно сказал практикант с нахальными усиками. – Домой, а не в Филадельфию! Я – в Москву, Коля – в Свердловск, а Семен – в Златоуст.
И инженеры вытащили из карманов целые комплекты проездных документов. Тут были и билетные листы, величиной в платежную ведомость, и зеленые анкеты, и свидетельства для американской таможни, и разноцветные багажные ярлыки со шпагатиками, чтоб привязывать их к ручкам чемоданов.
– Завтра в два тридцать садимся на «Иль де-Франс». Сбрею свои знаменитые мировые усики и уже через девять дней в Москве.
Тоня перебирала билеты внезапно похолодевшими пальцами. Близость Москвы, реальность этого города, которую она уже перестала было ощущать, – эта Москва снова овладела ее мыслями. Столько она думала об этой Москве, столько мучилась, а практикантам нашлась сказать только обыкновеннейшую фразу: «Вы счастливые». И она вспомнила, что когда-то эти же слова прокричали ей на прощанье Киля и Клава в сыром железнодорожном мраке.
Инженерам очень хотелось «разлагаться», но они не знали, как и где это делается. Помочь им взялся старый Ведмедев. Бормоча жене: «Неудобно все-таки, Анюта, надо людям показать город», он быстро оделся и вывел компанию на улицу.
– Слава богу, – объяснял он, – уже пять лет в Нью-Йорке и знаю все досконально. Мы едем в Гарлем, негритянский район. Я его знаю досконально. И зайдем в какой-нибудь «найт клаб», какой-нибудь такой, знаете, вертепчик где-нибудь в райончике 126-й улицы. Или, кажется, 127-й. Там на месте разберемся.
– Сядем на такси! – крикнул инженер с усиками. – В чем дело? Разлагаться так разлагаться.
Но старый Ведмедев не допустил этого.
– Слушайте меня, старого ныо-йоркца. В такси будем ехать целый час. Вы находитесь в городе, где целый миллион автомобилей. Следовательно, пользоваться автомобилем здесь бессмысленно. Это самый отсталый, медленный вид транспорта. Сядем в «собвей» и будем в Гарлеме через пятнадцать минут.
Ночью Гарлем со своими безнадежно-прямыми, грязноватыми и слабо освещенными улицами все-таки создал у экскурсантов впечатление тайны. Это настроение изо всех сил раздувал старик Ведмедев.
– Тут есть улица, – говорил он шепотом, – где живут только проститутки. Я знаю это досконально. Проститутки, бандиты и убийцы. Сейчас мы как раз к ней подходим. Внимание, товарищи!
Наталья Павловна, которая только и ждала случая, чтоб завизжать, с ужасом схватила Ведмедева за руку. Тоня почувствовала страх. Молодые инженеры выпрямились, стараясь придать себе вид бывалых шкиперов. Один Ведмедев чувствовал себя, как рыба в воде.
Они свернули на какую-то улицу, обстроенную старомодными двухэтажными домами, где каждая квартира имела свое собственное высокое каменное крыльцо с десятком ступеней, спускавшихся прямо к тротуару.
– Вот оно, – зашептал Ведмедев. – Тут что ни женщина, то проститутка или еще хуже.
Навстречу взволнованным туристам прошла старая негритянка с корзиной.
– Как? – спросила Наталья Павловна. – Вот эта старая почтенная женщина?
– Представьте себе, – ответил Ведмедев. – Вы не знаете этой улицы. Содом и Гоморра.
Щелкнула дверь, и на одно из крылец вышла большая негритянская семья: папа, мама, трое детей и бабушка.
– Интересно, – язвительно заметил Семен из города Златоуста.
– Ну, не будем здесь задерживаться, – заторопился старый Ведмедев.
– А что? Могут убить? – иронически спросил Коля, любитель сигар.
Наталья Павловна хихикнула.
– Смейтесь, смейтесь, – обидчиво сказал Ведмедев. – Семья – это случайность. Тут что ни дом, то притон. Идем дальше.
Навстречу стало попадаться все больше и больше людей. Шли старые негры под ручку со своими женами и молодые негры подозрительно постного вида. Наконец обнаружилось, что все они идут из церкви. Тут кстати кончилась страшная улица. Компания вышла на широкую Седьмую авеню.
– Я, кажется, немного спутал, – произнес Ведмедев. – Но это неважно. Ведь я здесь был, собственно, только один раз, когда приехал в Нью-Йорк. Ездили тогда разлагаться. Вот как мы сейчас. Так что пойдем, товарищи, куда глаза глядят. Тут всюду интересно и всюду атмосфера порока.
На Седьмой авеню светились электрические рекламы ночных ресторанов, бродили молодые люди с дерзким выражением лица и в светлых шляпах набекрень; на углах стояли черные проститутки; в тени домов блестели металлические гербы и пуговицы полисменов.
В конце концов друзья попали в ночное заведение под названием «Черная кошка». Старик Ведмедев сначала зашел один и, выяснив, что шампанского здесь можно не требовать и что обязательный заказ равняется двум долларам на человека, пригласил всех войти. Мулаты в красных мундирах приняли шляпы и макинтоши гостей.
Компания вошла в небольшой зал, посредине которого помещалась площадка для танцев, отделенная барьером от стоящих вокруг столиков. Людей было мало, шесть – восемь столиков были заняты, остальные пустовали. Любезный негр с подносом, пританцовывая, отвел компанию к столику у самого барьера.
На скользком паркете танцевальной площадки стояло красное пианино на колесиках. Официанты подвозили его по очереди ко всем столикам, и тучный негр с крючковатым носом, заглядывая в глаза посетителям, с чудесной легкостью наигрывал синкопированные мелодии. Официанты в мундирах пританцовывали, опираясь локтями на пианино. Дошла очередь до ведмедевской компании. Пианист, склонившись корпусом и головой к самому столику и закатив желтоватые белки глаз, тихо и проникновенно запел негритянскую песню: «Я хотел бы умереть в Каролине». И официанты грустно ему подпевали, покачивая подносами.
Тоне стало неловко, что такой толстый важный негр поет специально для них. Но потом негра повезли дальше, к следующему столику, и компания почувствовала себя свободнее. Опытный Ведмедев заказал для всех «джин-фис», крепкую смесь джина с лимонным соком.
– Разлагайтесь, разлагайтесь, – уговаривал он. – Все равно, даже если вы закажете только содовую воду, возьмут по два доллара с человека. Так что стесняться нечего.
На тесной эстраде расселся негритянский джаз; на площадку выбежал невероятно толстый мулат в цилиндре и лихо застучал ногами в лаковых туфлях. За ним выскочили десятка полтора голых мулаток с перьями на поясе. Они тоже стучали каблуками и вращали бедрами. Настучавшись и навращавшись, они убежали, чтобы снова вернуться через несколько минут. Потом три негра в белых цилиндрах виртуозно отбивали чечетку.
Ведмедев потребовал вторую порцию «джин-фиса». Инженеры смирно сидели и иногда подмигивали друг другу, как бы говоря: «Здорово мы разлагаемся».
Девушки выбегали еще несколько раз, а потом наступил антракт, когда танцевала публика. Но инженерами овладел рецидив застенчивости, и они не танцевали. Когда вышли на мокрую и темную улицу, Семен из Златоуста бодро сказал:
– Теперь все в порядке. Программа выполнена полностью. Если спросят, будет что ответить. Нетолько копались на заводе. Видели и кое-что другое.
Прощались долго и задушевно. Семен все уговаривал Тоню обязательно съездить в Златоуст, который якобы необыкновенный город.
– Чего вы тут сидите? – доказывал он. – Зачем вам Америка? Ведь тут дикая скука.
Все трое повернули в сторону своего отеля, и долго еще над затихшими стритами слышался их шумный разговор.
Вернувшись в Вашингтон, Тоня нашла, что Вовка немного вырос, хотя она не видела его только два дня. Но вообще больше ничего не изменилось, и Тонина жизнь сделалась еще труднее. За два нью-йоркских дня Тоня отвыкла от своего заточения в комнате или в парке вместе с Вовкой. Надо было привыкать с самого начала. Но Тоня чувствовала, что никогда уже не привыкнет к американской жизни.
Она завидовала мисс Джефи, всегда веселой, энергичной, работящей.
«Ей хорошо, – думала Тоня, – она у себя на родине».
Тоня не любила жаловаться посторонним людям, но однажды вечером, когда Костя ушел разбирать дипломатическую почту, а Вовка уже спал, она не сдержалась и рассказала мисс Джефи о своей тоске.
Обычная улыбка сошла с лица мисс Джефи. Она с удивлением смотрела на Тоню, долго молчала и сказала наконец:
– Дорогая Тониа, вы счастливая молодая женщина. Да, Америка очень скучная страна. Но ведь вы в конце концов отсюда уедете. Мне хуже, чем вам, Тониа. Мне даже ехать некуда. Это моя родина. Куда я могу поехать? Я проживу здесь всю свою жизнь. Я, наверно, никогда не выйду замуж. Мужчины не любят теперь жениться. Это дорого. А если даже выйду замуж, то детей у нас, конечно, не будет. Это тоже дорого. У нас человек не может быть человеком. Это слишком дорого.
Тоня была поражена. Веселая, вечно улыбающаяся мисс Джефи – и вдруг такие страшные слова. Ей стало немножко совестно, как бывает совестно человеку, который заключен на небольшой срок, перед человеком, заключенным на всю жизнь.
Весь вечер они сидели, не зажигая огня и жалуясь друг другу. А потом попудрились и пошли в аптеку напротив покушать мороженого у веселого рыжего парня в белой пилотке.
Теплая мокрая зима подходила к концу.
Как-то, темным утром, Тоня подошла к окну и увидела, что идет снег. Он быстро таял и лежал только на крышах автомобилей. Все шло обычно. Костя позавтракал и ушел. Вовка, как всегда, не хотел мыться и плакал. Предстоял обыкновеннейший день.
И вдруг Костя вернулся. Он вернулся назад так скоро, что вряд ли успел дойти до канцелярии. Но нет. Он был там. И даже принес оглушительную новость. Его срочно переводят в Москву.
– Тут я уже ничего не могу сказать! – возбужденно кричал он.
Вот и все. Так просто, неожиданно, а главное, быстро решилась Тонина судьба. Вовка не мог понять, откуда привалило к нему такое неслыханное счастье: мама так и не помыла его в это утро, и он весь день бродил с немытой физиономией, спотыкаясь о разложенные на полу чемоданы, таща за собой мамины платья и папины галстуки.
Через две недели поезд Париж—Негорелое вышел с польской станции Столбцы и двинулся к советской границе. На полустанке Колосово он на минуту задержался. Еще на ходу стали соскакивать польские жандармы в щеголеватых шубках с серо-собачьими воротниками. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный, как памятник.
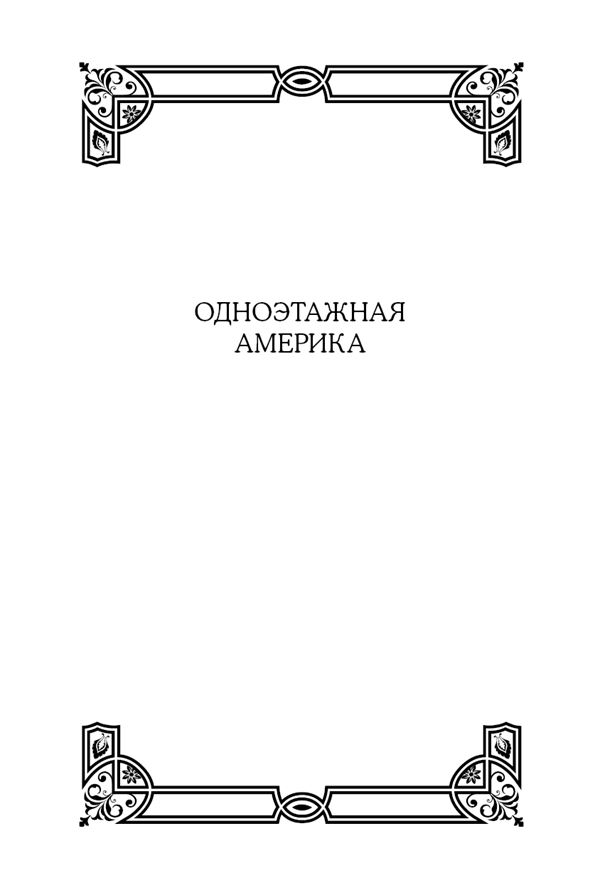
Из окна 27-го этажа
«Нормандия»
В девять часов из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров «Нормандии». Поезд идет без остановок и через три часа вкатывается в здание гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже «Нормандия». Каков ее внешний вид – пассажирам неизвестно, потому что парохода они так и не увидели.
Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх, застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз, не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки. Спустившись на три этажа, вместо того чтобы подняться на два, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесенную, однако, на французском языке: «Лифт не работает».
В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплошь покрытой несгораемым каучуковым ковром светло-зеленого цвета. Таким же материалом устланы коридоры и вестибюли парохода. Шаг делается мягким и неслышным. Это приятно. Но по-настоящему начинаешь ценить достоинства каучукового настила во время качки: подошвы как бы прилипают к нему. Это, правда, не спасает от морской болезни, но предохраняет от падения.
Лестница была совсем не пароходного типа – широкая и пологая, с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома.
Каюта была тоже какая-то не пароходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами, вплоть до телефона. И вообще «Нормандия» похожа на пароход только в шторм – тогда ее хоть немного качает. А в тихую погоду – это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта и со скоростью тридцати миль в час поплыла в Америку.
Глубоко внизу, с площадок всех этажей вокзала, провожающие выкрикивали свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански. По-русски тоже кричали. Странный человек в черном морском мундире с серебряным якорем и щитом Давида на рукаве, в берете и с печальной бородкой кричал что-то по-еврейски. Потом выяснилось, что это пароходный раввин, которого Генеральная трансатлантическая компания содержит на службе для удовлетворения духовных потребностей некоторой части пассажиров. Для другой части имеются наготове католический и протестантский священники. Мусульмане, огнепоклонники и советские инженеры лишены духовного обслуживания. В этом отношении Генеральная трансатлантическая компания предоставила их самим себе. На «Нормандии» есть довольно большая католическая церковь, озаряемая чрезвычайно удобным для молитвы электрическим полусветом. Алтарь и религиозные изображения могут быть закрыты специальными щитами, и тогда церковь автоматически превращается в протестантскую. Что же касается раввина с печальной бородкой, то отдельного помещения ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате. Для этой цели компания выдает ему талес и особую драпировку, которой он закрывает на время суетные изображения зайчиков и кошечек.
Пароход вышел из гавани. На набережной и на молу стояли толпы людей. К «Нормандии» еще не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру заблестели огни Саутгемптона. Полтора часа «Нормандия» простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окруженная с трех сторон далеким таинственным светом незнакомого города. А потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня невидимых волн, поднятых штормовым ветром.
Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе, занавески, воротничок, брошенный на кровать. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери, стучит в окна, тяжко хохочет. Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта.
«Нормандия» делала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдет в док, ее корму разберут, и конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены.
Утром пришел матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался. Маленький грузовой пароход с трудом пробирался к французским берегам. Иногда он исчезал за волной, и были видны только кончики его мачт.
Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между Старым и Новым Светом очень оживлена, что то и дело навстречу попадаются веселые пароходы, с музыкой и флагами. На самом же деле океан – это штука величественная и пустынная, и пароходик, который штормовал в четырехстах милях от Европы, был единственным кораблем, который мы встретили за пять дней пути. «Нормандия» раскачивалась медленно и важно. Она шла, почти не уменьшив хода, уверенно расшвыривая высокие волны, которые лезли на нее со всех сторон, и только иногда отвешивала океану равномерные поклоны. Это не было борьбой мизерного создания человеческих рук с разбушевавшейся стихией. Это была схватка равного с равным.
В полукруглом курительном зале три знаменитых борца с расплющенными ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из-под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. Из их ртов свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие с доски фигуры. Еще двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Ну кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит! Так оно и было. Симпатичные Ботвинники оказались советскими инженерами.
Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. Роздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутербродт, миссис Бутербродт и юный мистер Бутербродт. Если бы на «Нормандии» ехал Маршак, он, наверно, написал бы стихи для детей под названием «Толстый мистер Бутербродт».
Вошли в Гольфштрем. Шел теплый дождик, и в тяжелом оранжерейном воздухе осаждалась нефтяная копоть, которую выбрасывала одна из труб «Нормандии».
Мы отправились осматривать пароход. Пассажир третьего класса не видит корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристский классы. Пассажир туристского класса тоже не видит «Нормандии», ему тоже не разрешается переходить границ. Между тем первый класс – это и есть «Нормандия». Он занимает по меньшей мере девять десятых всего парохода. Все громадно в первом классе: и палубы для прогулок, и рестораны, и салоны для курения, и салоны для игр в карты, и специальные дамские салоны, и оранжерея, где толстенькие французские воробьи прыгают на стеклянных ветвях и с потолка свисают сотни орхидей, и театр на четыреста мест, и бассейн для купанья – с водой, подсвеченной зелеными электрическими лампами, и торговая площадь с универсальным магазином, и спортивные залы, где пожилые лысоватые господа, лежа на спине, подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысоватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на цандеровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах, и ковер в самом главном салоне, весом в тридцать пудов. Даже трубы «Нормандии», которые, казалось бы, должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них находится комната для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скучают. Обычно их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан.
Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у семнадцатиметровой электрической плиты. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготовлялась кошерная пища. Иногда сюда заходил пароходный раввин, чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара кусочков трефного в ортодоксальную пищу. В ледяных кладовых хранились припасы. Там свирепствовал мороз.
«Нормандию» называют шедевром французской техники и искусства. Техника «Нормандии» действительно великолепна. Нельзя не восхищаться скоростью парохода, его противопожарным устройством, смелыми и элегантными линиями его корпуса, его радиостанцией. Но в области искусства французы знали лучшие времена. Безупречное выполнение живописи на стеклянных стенах, но самая живопись ничем особенным не блещет. Это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре, к мебели. Очень много золота, цветной кожи, красивых металлов, шелков, дорогого дерева, великолепного стекла. Очень много богатства и очень мало настоящего искусства. В общем, это то, что французские художники, безнадежно разводя руками, называют «стиль Триумф». Недавно в Париже, на Елисейских полях, открылось кафе «Триумф», пышно отделанное в будуарно-постельном роде. Жалко! Хотелось бы, чтобы в создании «Нормандии» партнерами замечательных французских инженеров были замечательные французские художники и архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть.
Некоторые недочеты в технике – например, вибрацию на корме, испортившийся на полчаса лифт и другие досадные мелочи – надо поставить в вину не инженерам, строившим этот прекрасный корабль, а скорее нетерпеливым заказчикам, торопившимся начать эксплоатацию и во что бы то ни стало получить голубую ленту за рекордную быстроту.
Накануне прихода в Нью-Йорк состоялся парадный обед и вечер самодеятельности пассажиров. Обед был такой, как обычно, только добавили по ложке русской икры, называвшейся в меню «окра». Кроме того, пассажирам раздавали бумажные корсарские шляпы, хлопушки, значки в виде голубой ленты с надписью «Нормандия» и бумажники из искусственной кожи, тоже с маркой Трансатлантической компании. Раздача подарков производится для того, чтобы уберечь пароходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что большинство путешественников одержимо психозом собирания сувениров. В первый рейс «Нормандии» пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. Уносили даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех пяти дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом надела на голову пиратскую шляпу, разрядила хлопушку и приколола к груди значок. Как видно, она считала своим долгом добросовестно воспользоваться благами, полагавшимися ей по билету.
Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне. Потушили свет и навели прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного, зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви», но так тихо и плохо, что нежный призыв никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. На эстраде появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но босая. На лице ее был написан ужас. Это была босоножка-любительница. Зрители начали воровато выбираться из зала. Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную, талантливую, горластую самодеятельность.
На пятый день пути палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными из кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст – после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани стадвухэтажного «Импайр Стейт Билдинг». За кормой «Нормандии» кружились чайки. Четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец, он стал на свое место, невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный.
Пассажиры сошли по закрытым сходням в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицу города, так и не увидев корабля, на котором приехали.
Первый вечер в Нью-Йорке
Таможенный зал пристани «Френч Лайн» велик. Под потолком висят большие железные буквы латинского алфавита. Каждый пассажир становится под ту букву, с которой начинается его фамилия. Сюда привезут с парохода его чемоданы, здесь они будут досматриваться.
Голоса приехавших и встречающих, смех и поцелуи гулко разносились по залу, обнаженные конструкции которого придавали ему вид цеха, где делают турбины.
Мы никого не известили о приезде, и нас никто не встречал. Мы вертелись под своими буквами, ожидая таможенного чиновника. Наконец он подошел. Это был спокойный и неторопливый человек. Его нисколько не волновало то, что мы пересекли океан, чтобы показать ему свои чемоданы. Он вежливо коснулся пальцами верхнего слоя вещей и больше не стал смотреть. Затем он высунул свой язык, самый обыкновенный, мокрый, ничем технически не оснащенный язык, смочил им большие ярлыки и наклеил их на наши чемоданы.
Когда мы наконец освободились, был уже вечер. Белый такси-кэб с тремя светящимися фонариками на крыше, похожий на старомодную карету, повлек нас в отель. Вначале нас очень мучила мысль, что мы по неопытности сели в плохой, архаический таксомотор, что мы смешны и провинциальны. Но, трусливо выглянув в окно, мы увидели, что во всех направлениях несутся машины с такими же глупыми фонариками, как у нас. Тут мы немножко успокоились. Уже потом мы поняли, что фонарики на крыше учреждены для того, чтобы такси были заметнее среди миллионов машин. С этой же целью такси в Америке красятся в самые вызывающие цвета – оранжевый, канареечный, белый.
Попытка посмотреть на Нью-Йорк из автомобиля не удалась. Мы ехали по довольно темным и мрачным улицам. Иногда что-то адски гудело под ногами, иногда что-то грохотало над головой. Когда мы останавливались перед светофорами, бока стоящих рядом с нами машин заслоняли все. Шофер несколько раз оборачивался и переспрашивал адрес. Как видно, его волновал английский язык, на котором мы объяснялись. Иногда он посматривал на нас поощрительно, и на лице у него было написано: «Ничего, не пропадете! В Нью-Йорке еще никто не пропадал».
Тридцать два кирпичных этажа нашего отеля уходили в ночное рыжеватое небо.
Покамест мы заполняли короткие регистрационные карточки, два человека из прислуги любовно стояли над нашим багажом. У одного из них висел на шее блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на двадцать седьмой этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень старой и не очень новой, не очень дорогой и, к сожалению, не очень дешевой.
Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорей на улицу, в город, в грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор, застланный узорным бобриком, и лифт, мягко щелкая, полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг на друга. Нет, это все-таки событие! В первый раз в жизни мы идем гулять по Нью-Йорку.
Тонкий, почти прозрачный полосато-звездный флаг висел над входом в наш отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы «Уолдорф-Астория». В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна «лучшей в мире» ослепительно сияли, а над входом висели целых два национальных флага. Прямо на тротуаре, у обочины, лежали завтрашние номера газет. Прохожие нагибались, брали «Нью-Йорк Таймс» или «Геральд Трибюн» и клали два цента на землю, рядом с газетами. Продавец куда-то ушел. Газеты были прижаты к земле обломком кирпича, совсем так, как это делают московские старухи газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные баки стояли на углах перекрестка. Из одного бака выбрасывалось громадное пламя. Как видно, кто-то швырнул туда горящий окурок, и нью-йоркский мусор, состоящий главным образом из газет, загорелся. Полированные стены «Уолдорф-Астории» осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались, отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с решительным лицом. Придя к мысли, что нашему отелю не угрожает красный петух, мы пошли дальше.
Сейчас же с нами произошла маленькая беда. Мы думали, что будем медленно прогуливаться, внимательно глядя по сторонам, – так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и так далее. Но Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и все время куда-то мчались со всех ног. При этом у нас был такой занятой и деловой вид, что сам Джон Пирпонт Морган-младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он заработал бы в этот месяц миллионов шестьдесят долларов.
Итак, мы сразу помчались. Мы проносились мимо огненных вывесок, на которых было начертано: «Кафетерия», или «Юнайтед сигарс», или «Драг-сода», или еще что-нибудь такое же привлекательное и пока непонятное. Так мы добежали до 42-й улицы и здесь остановились.
В магазинных витринах 42-й улицы зима была в полном разгаре. В одной витрине стояли семь элегантных восковых дам с серебряными лицами. Все они были в чудных каракулевых шубах и бросали друг на друга загадочные взгляды. В соседней витрине дам было уже двенадцать. Они стояли в спортивных костюмах, опершись на лыжные палки. Глаза у них были синие, губы красные, а уши розовые. В других витринах стояли молодые манекены с седыми волосами или чистоплотные восковые господа в недорогих, подозрительно прекрасных костюмах. Но мы не обращали внимания на все это магазинное счастье. Другое нас поразило.
Во всех больших городах мира всегда можно найти место, где люди смотрят в телескоп на луну. Здесь, на 42-й, тоже стоял телескоп. Он помещался на автомобиле.
Телескоп был направлен в небо. Заведовал им обыкновенный человек, такой же самый, какого можно увидеть у телескопа в Афинах, или в Неаполе, или в Одессе. И такой же у него был нерадостный вид, какой имеют эксплуататоры уличных телескопов во всем мире.
Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами. Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на луну, а гораздо выше, – он смотрел на вершину «Импайр Стейт Билдинг», здания в сто два этажа. В свете луны стальная вершина «Импайра» казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрав головы. Нью-йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания.
Хрипло ревели газетчики. Земля дрожала под ногами, и из решеток в тротуаре внезапно тянуло жаром, как из машинного отделения. Это пробегал под землей поезд нью-йоркского метро – сабвея, как он здесь называется.
Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берется. Красные огни реклам бросали на него оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется и оттуда вылезет Мефистофель и, откашлявшись, запоет басом прямо из «Фауста»: «При шпаге я, и шляпа с пером, и денег много, и плащ мой драгоценен».
И мы снова устремились вперед, оглушенные криком газетчиков. Они ревут так отчаянно, что, по выражению Лескова, надо потом целую неделю голос лопатой выгребать.
Нельзя сказать, что освещение 42-й улицы было посредственным. И все же Бродвей, освещенный миллионами, а может быть, и миллиардами электрических лампочек, наполненный вертящимися и прыгающими рекламами, устроенными из целых километров цветных газосветных трубок, возник перед нами так же неожиданно, как сам Нью-Йорк возникает из беспредельной пустоты Атлантического океана.
Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу 42-й и Бродвея. «Великий Белый Путь», как американцы титулуют Бродвей, расстилался перед нами.
Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается. Огни реклам вспыхивают, вращаются и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать; буквы, большие и маленькие, белые, красные и зеленые, бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег.
На Бродвее сосредоточены театры, кинематографы и дансинги города. Десятки тысяч людей движутся по тротуарам. Нью-Йорк – один из немногих городов мира, где население гуляет на определенной улице. Подъезды кино освещены так, что, кажется, прибавь еще одну лампочку – и все взорвется от чрезмерного света, все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места. Газетчики поднимают такой вой, что на выгребание голоса нужна уже не неделя, нужны годы упорного труда. Высоко в небе, на каком-то несчитаном этаже небоскреба «Парамаунт», пылает электрический циферблат. Не видно ни звезд, ни луны. Свет реклам затмевает все. Молчаливым потоком несутся автомобили. В витринах среди клетчатых галстуков вертятся и даже делают сальто маленькие светящиеся ярлыки с ценами. Это уже микроорганизмы в космосе бродвейского электричества. Среди ужасного галдежа спокойный нищий играет на саксофоне. Идет в театр джентльмен в цилиндре, и рядом с ним обязательно дама в вечернем платье с хвостом. Как лунатик, движется слепец со своей собакой-поводырем. Некоторые молодые люди прогуливаются без шляп. Это модно. Сверкают под фонарями гладко зачесанные волосы. Пахнет сигарами, и дрянными и дорогими.
В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы, перед нами заструились огни кинематографа «Камео». Там показывали советский фильм «Новый Гулливер».
Бродвейский прибой протащил нас несколько раз взад и вперед и выбросил на какую-то боковую улицу.
Мы ничего еще не знали о городе. Поэтому здесь не будет названий улиц. Помнится только, что мы стояли где-то под эстакадой надземной железной дороги. Мимо проходил автобус, и мы, не думая, вскочили в него.
Даже много дней спустя, когда мы научились уже разбираться в нью-йоркском водовороте, мы не могли вспомнить, куда отвез нас автобус в тот первый вечер. Кажется, это был китайский район. Но возможно, что это был итальянский район или еврейский.
Мы шли по узким, вонючим улицам. Нет, электричество здесь было обыкновенное, не дрессированное. Оно довольно тускло светило и не делало никаких прыжков. Громадный полицейский стоял, прислонившись к стене дома. Над его широким повелительным лицом сиял на фуражке серебряный герб города Нью-Йорка. Заметив неуверенность, с которой мы шли по улице, он направился к нам навстречу, но, не получив вопроса, снова занял свою позицию у стены, величавый и подтянутый представитель порядка.
Из одного дрянного домишка доносилось скучное-прескучное пение. Человек, стоявший у входа в домик, сказал, что это ночлежный дом Армии спасения.
– Кто может ночевать здесь?
– Каждый. Никто не спросит его фамилии, никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым. Ночлежники получают здесь бесплатно постель, кофе и хлеб. Утром тоже кофе и хлеб. Потом они могут уйти. Единственное условие – надо принять участие в вечерней и утренней молитве.
Пение, доносившееся из дома, свидетельствовало о том, что сейчас выполняется это единственное условие. Мы вошли внутрь.
Раньше, лет двадцать пять тому назад, в этом помещении была китайская курильня опиума. Это был грязный и мрачный притон. С тех пор он стал чище, но, потеряв былую экзотичность, не сделался менее мрачным. В верхней части бывшего притона шло моление, внизу помещалась спальня – голые стены, голый каменный пол, парусиновые походные кровати. Пахло плохим кофе и сыростью, которой всегда отдает лазаретно-благотворительная чистота. В общем, это было горьковское «На дне» в американской постановке.
В обшарпанном зальце, на скамьях, спускавшихся амфитеатром к небольшой эстраде, остолбенело сидели двести ночлежников. Только что кончилось пение, начался следующий номер программы.
Между американским национальным флагом, стоявшим на эстраде, и развешанными по стенам библейскими текстами прыгал, как паяц, румяный старик в черном костюме. Он говорил и жестикулировал с такой страстью, будто что-то продавал. Между тем он рассказывал поучительную историю своей жизни – о благодетельном переломе, который произошел с ним, когда он обратился сердцем к богу.
Он был бродягой («таким же ужасным бродягой, как вы, старые черти!»), он вел себя отвратительно, богохульствовал («вспомните свои привычки, друзья мои!»), воровал, – да, все это было, к сожалению. Теперь с этим покончено. У него есть теперь свой дом, он живет, как порядочный человек («бог нас создал по своему образу и подобию, не так ли?»). Недавно он даже купил себе радиоприемник. И все это он получил непосредственно с помощью бога.
Старик ораторствовал с необыкновенной развязностью и, как видно, выступал уже в тысячный раз, если не больше. Он прищелкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и закончил с большим подъемом:
– Так споемте же, братья!
Снова раздалось скучное-прескучное пение.
Ночлежники были страшны. Почти все они были уже не молоды. Небритые, с потухшими глазами, они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и лениво. Некоторые не смогли превозмочь дневной усталости и спали.
Мы живо представили себе скитания по страшным местам Нью-Йорка, дни, проведенные у мостов и пакгаузов, среди мусора, в вековечном тумане человеческого падения. Сидеть после этого в ночлежке и распевать гимны было пыткой.
Потом перед аудиторией предстал дядя, пышущий полицейским здоровьем. У него был водевильный лиловатый нос и голос шкипера.
Он был развязен до последней степени. Снова начался рассказ о пользе обращения к богу. Шкипер, оказывается, тоже когда-то был порядочным греховодником. Фантазия у него была небольшая, и он кончил заявлением, что вот теперь благодаря божьей помощи он тоже имеет радиоприемник.
Опять пели. Шкипер махал руками, показывая немалый капельмейстерский опыт. Двести человек, размолотых жизнью в порошок, снова слушали эту бессовестную болтовню. Нищим людям не предлагали работы, им предлагали только бога, злого и требовательного, как черт.
Ночлежники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба – это еще приемлемо. Споемте же, братья, во славу кофейного бога!
И глотки, которые уже полвека извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу господа.
Мы снова шагали по каким-то трущобам и опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным эстакадам надземной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптек, перебрасываясь короткими фразами. Манеры у них были точь-в-точь такие же, как у молодых людей, обитающих в Варшаве на Крахмальной улице. В Варшаве считается, что джентльмен с Крахмальной – это не бог весть какое сокровище. Хорошо, если просто вор, а то, может быть, и хуже.
Поздно ночью мы вернулись в отель, не разочарованные Нью-Йорком и не восхищенные им, а, скорее всего, встревоженные его громадностью, богатством и нищетой.
Что можно увидеть из окна гостиницы
Первые часы в Нью-Йорке – прогулка по ночному городу, а затем возвращение в гостиницу – навсегда сохранятся в памяти, словно какое-то событие.
А ведь, в сущности, ничего особенного не произошло.
Мы вошли в очень простой мраморный вестибюль гостиницы. Справа, за гладким деревянным барьером, работали два молодых конторщика. У обоих были бледные, отлично выбритые щеки и узкие черные усики. Дальше сидела кассирша за автоматической счетной машиной. Слева помещался табачный киоск. Под стеклом прилавка тесно лежали раскрытые деревянные коробки с сигарами. Каждая сигара была завернута в прозрачную блестящую бумагу, причем красные с золотом сигарные колечки были надеты поверх бумаги. На белой блестящей поверхности откинутых крышек были изображены старомодные толстоусые красавцы с розовыми щеками, золотые и серебряные медали, ордена, зеленые пальмы и негритянки, собирающие табак. В углах крышек стояла цена: пять, десять или пятнадцать центов за штуку. Или пятнадцать центов за две штуки, или десять за три. Еще более тесно, чем сигары, лежали маленькие плотные пачки сигарет в мягких пакетиках, тоже обвернутых в прозрачную бумагу. Больше всего американцы курят «Лаки Страйк», в темно-зеленой обертке с красным кругом посредине, «Честерфилд», в белой обертке с золотой надписью, и «Кэмел» – желтая пачка с изображением коричневого верблюда.
Всю стену напротив входа в вестибюль занимали просторные лифты с золочеными дверцами. Дверцы раскрывались то справа, то слева, то посредине, а из лифта, держась рукой за железный рычаг, открывающий дверь, высовывался негр в светлых штанах с золотым лампасом и в зеленой куртке с витыми погончиками. Подобно тому как на Северном вокзале в Москве радиорепродуктор сообщает дачникам, что ближайший поезд идет без остановок до Мытищ, а дальше останавливается везде, – здесь негры сообщали, что лифт идет только до шестнадцатого этажа либо до самого тридцать второго, с первой остановкой опять-таки на шестнадцатом этаже. Впоследствии мы поняли эту небольшую хитрость администрации: на шестнадцатом этаже помещается ресторан и кафетерия.
Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились. Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так-то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как-то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.
На двадцать седьмом этаже мы вышли из лифта и по узкому коридору направились к своему номеру. Огромные второклассные нью-йоркские отели в центре города строятся чрезвычайно экономно – коридоры узкие, комнаты хотя и дорогие, но маленькие, потолки стандартной высоты, то есть невысокие. Заказчик ставит перед строителем задачу – втиснуть в небоскреб как можно больше комнат. Однако эти маленькие комнаты очень чисты и комфортабельны. Там всегда есть горячая и холодная вода, душ, почтовая бумага, телеграфные бланки, открытки с изображением отеля, бумажные мешки для грязного белья и печатные бланки, где остается только проставить цифры, указывающие количество белья, отдаваемого в стирку. Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.
Войдя в номер, мы принялись отыскивать выключатель и долгое время никак не могли понять, как здесь включается электричество. Мы бродили по комнатам сперва впотьмах, потом жгли спички, обшарили все стены, исследовали двери и окна, но выключателей нигде не было. Несколько раз мы приходили в отчаяние и садились отдохнуть в темноте. Наконец нашли. Возле каждой лампочки висела короткая тонкая цепочка с маленьким шариком на конце. Дернешь за такую цепочку – и электричество зажжется. Снова дернешь – потухнет. Постели не были приготовлены на ночь, и мы стали искать кнопку звонка, чтобы позвонить горничной. Кнопки не было. Мы искали ее повсюду, дергали за все подозрительные шнурки, но это не помогло. Тогда мы поняли, что служащих надо вызывать по телефону. Мы позвонили к портье и вызвали горничную. Пришла негритянка. Вид у нее был довольно испуганный, а когда мы попросили приготовить постели, ее испуг только увеличился. Постели она все-таки приготовила, но выражение лица у нее было такое, будто она занималась явно незаконным делом. При этом она все время говорила: «Иэс, сэр». За короткое время пребывания в номере она произнесла «иэс, сэр» раз двести. Потом мы узнали, что в отелях постели приготовляют сами постояльцы, и наш ночной сигнал явился беспрецедентным событием в истории гостиницы.
В комнатах стояла мебель, которую впоследствии мы видели во всех без исключения отелях Америки – на Востоке, Западе или Юге. На Севере мы не были. Но есть все основания предполагать, что и там мы нашли бы точь-в-точь такую же нью-йоркскую мебель: коричневый комодик с зеркалом, металлические, ловко выкрашенные под дерево кровати, несколько мягких стульев, кресло-качалка и переносные штепсельные лампы на очень высоких тонких ножках с большими картонными абажурами.
На комоде мы нашли толстенькую книгу в черном переплете. На книге стояла золотая марка отеля. Книга оказалась библией. Этот старинный труд был приспособлен для деловых людей, время которых чрезвычайно ограничено. На первой странице было оглавление, специально составленное заботливой администрацией отеля:
«Для успокоения душевных сомнений – страница такая-то, текст такой-то.
При семейных неприятностях – страница такая-то, текст такой-то.
При денежных затруднениях – страница, текст.
Для успеха в делах – страница, текст».
Эта страница была немного засалена.
Мы отворили окна. Здесь они отворяются тоже на американский манер, совсем не так, как в Европе. Их надо подымать, как окно в вагоне железной дороги.
Наши комнатки выходили окнами на три стороны. Внизу лежал ночной Нью-Йорк.
Что может быть заманчивей огней чужого города, тесно заполнивших весь этот обширный чужой мир, который улегся спать на берегу Атлантического океана! Оттуда, со стороны океана, дул теплый ветер. Совсем вблизи возвышались несколько небоскребов. Казалось, до них нетрудно дотянуться рукой. Их освещенные окна можно было пересчитать. Дальше огни становились все гуще. Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками (вероятно, уличные фонари). Еще дальше сверкал сплошной золотой припорох мелких огней, потом шла темная, неосвещенная полоска (Гудзон? Или, может быть, Восточная река?). И опять – золотые туманности районов, созвездия неведомых улиц и площадей. В этом мире огней, который сперва казался остановившимся, можно было заметить некоторое движение. Вот по реке медленно прошел красный огонек катера. По улице проехал очень маленький автомобиль. Иногда вдруг где-то на том берегу реки, мигнув, потухал крохотный, как частица пыли, огонек. Наверно, один из семи миллионов нью-йоркских жителей лег спать, потушив свет.
Кто он? Клерк? Или служащий надземной дороги? А может быть, легла спать одинокая девушка-продавщица (их так много в Нью-Йорке). И сейчас, лежа под двумя тонкими одеялами, взволнованная пароходными гудками с Гудзона, она видит в своих мечтах миллион долларов ($ 1 000 000)?
Нью-Йорк спал, и миллионы электрических ламп сторожили его сон. Спали выходцы из Шотландии, из Ирландии, из Гамбурга и Вены, из Ковно и Белостока, из Неаполя и Мадрида, из Техаса, Дакоты и Аризоны, спали выходцы из Латинской Америки, из Австралии, Африки и Китая. Спали черные, белые и желтые люди. Глядя на чуть колеблющиеся огни, хотелось поскорее узнать: как работают эти люди, как развлекаются, о чем мечтают, на что надеются, что едят?
Наконец, совершенно обессиленные, улеглись и мы. Для первого дня впечатлений оказалось слишком много. Нью-Йорк невозможно поглощать в таких больших дозах. Это ужасное и в то же время приятное ощущение, когда тело лежит на удобной американской кровати в состоянии полного покоя, а мысль продолжает качаться на «Нормандии», ехать в свадебной каретке такси, бежать по Бродвею, продолжает путешествовать.
Утром, проснувшись на своем двадцать седьмом этаже и выглянув в окно, мы увидели Нью-Йорк в прозрачном утреннем тумане.
Это была, что называется, мирная деревенская картинка. Несколько белых дымков подымались в небо, а к шпилю небольшой двадцатиэтажной избушки был даже прикреплен идиллический цельнометаллический петушок. Шестидесятиэтажные небоскребы, которые вчера вечером казались такими близкими, были отделены от нас по крайней мере десятком красных железных крыш и сотней высоких труб и слуховых окон, среди которых висело белье и бродили обыкновенные коты. На брандмауэрах виднелись рекламные надписи. Стены небоскребов были полны кирпичной скуки. Большинство зданий Нью-Йорка выложено из красного кирпича.
Нью-Йорк открывался сразу в нескольких плоскостях. Самую верхнюю плоскость занимали главы небоскребов, более высоких, чем наш. Они были увенчаны шпилями, стеклянными или золотыми куполами, горевшими на солнце, либо башенками с большими часами. Башенки тоже были с четырехэтажный дом. На следующей плоскости, целиком открытой нашему взору, кроме труб, слуховых окон и котов, можно было увидеть плоские крыши, на которых помещался небольшой одноэтажный домик с садиком, чахлыми деревцами, кирпичными аллейками, фонтанчиком и дачными соломенными креслами. Здесь можно чудесно, почти как на Клязьме, провести время, вдыхая бензиновый запах цветочков и прислушиваясь к мелодичному вою надземной железной дороги. Она занимала следующую плоскость города Нью-Йорка. Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы. Чтобы увидеть последнюю основную плоскость – плоскость улиц, нужно было перегнуться из окна и заглянуть вниз под прямым углом. Там, как в перевернутый бинокль, был виден перекресток с маленькими автомобилями, пешеходами, брошенными на асфальт газетами и даже двумя рядами блестящих пуговок, укрепленных в том месте, где прохожим разрешается переходить улицу.
Из другого окна виднелась река Гудзон, отделяющая штат Нью-Йорк от штата Нью-Джерси. Дома, доходящие до Гудзона, принадлежат городу Нью-Йорку, а дома на той стороне реки – городу Джерси-сити. Нам сказали, что это странное на первый взгляд административное деление имеет свои удобства. Можно, например, жить в одном штате, а работать в другом. Можно также заниматься спекуляциями в Нью-Йорке, а налоги платить в Джерси. Там они, кстати, не так велики. Это как-то скрашивает серую, однообразную жизнь биржевика. Можно жениться в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси развестись. Или наоборот. Смотря по тому, где закон о разводе мягче или где бракоразводный процесс стоит дешевле. Мы, например, покупая автомобиль, для того чтобы совершить на нем путешествие по стране, – застраховали его в Нью-Джерси, что и стоило на несколько долларов меньше, чем в Нью-Йорке.
Аппетит уходит во время еды
Человек, впервые приехавший, может безбоязненно покинуть свой отель и углубиться в нью-йоркские дебри. Заблудиться в Нью-Йорке трудно, хотя многие улицы удивительно похожи друг на друга. Секрет прост. Улицы делятся на два вида: продольные – авеню и поперечные – стриты. Так распланирован остров Манхэттен. Параллельно друг другу идут Первая, Вторая и Третья авеню. Дальше, параллельно им – Лексингтон-авеню, Четвертая авеню, продолжение которой от Центрального вокзала носит название Парк-авеню (это улица богачей), Медисон-авеню, торговая красивая Пятая авеню, Шестая, Седьмая и так далее.
Пятая авеню делит город на две части – Восток и Запад. Все эти авеню (а их немного) пересекают стриты, которых несколько сот. И если авеню имеют какие-то отличительные признаки (одни шире, другие уже, над Третьей и Седьмой проходит надземка, на Парк-авеню посредине разбит газон, на Пятой авеню высятся «Импайр Стейт Билдинг» и «Радио-сити»), то стриты совсем уже схожи друг с другом, и их едва ли может отличить по внешним признакам даже старый нью-йоркский житель.
Нью-йоркскую геометрию нарушает извилистый Бродвей, пересекающий город вкось и протянувшийся на несколько десятков километров.
Основные косяки пешеходов и автомобилей движутся по широким авеню. Под ними проложены черные и сырые, как угольные шахты, четырехколейные туннели сабвея. Над ними гремит железом «элевейтед» (надземка). Тут есть все виды транспорта – и несколько старомодные двухэтажные автобусы, и трамваи. Вероятно, в Киеве, уничтожившем трамвайное движение на главной улице, очень удивились бы, узнав, что трамвай ходит даже по Бродвею – самой оживленной улице в мире. Горе человеку, которому необходимо проехать город не вдоль, а поперек и которому к тому же взбрела в голову безумная идея – взять для этой цели такси-кэб. Такси сворачивает на стрит и сразу попадает в хроническую пробку. Покуда полицейские гонят фыркающее автомобильное стадо по длиннейшим авеню, в грязноватых узких стритах собираются негодующие полчища неудачников и безумцев, проезжающих город не вдоль, а поперек. Очередь вытягивается на несколько кварталов, шоферы ерзают на своих сиденьях, пассажиры нетерпеливо высовываются из окон и, откинувшись назад, в тоске разворачивают газеты.
Трудно поверить, но какие-нибудь семьдесят лет тому назад на углу Пятой авеню и 42-й улицы, на том месте, где за пять минут скопляется такое количество автомобилей, какого нет во всей Польше, стоял деревянный постоялый двор, выставивший к сведению мистеров проезжающих два многозначительных плаката:
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЛОЖИТЬСЯ В ПОСТЕЛЬ В САПОГАХ
и ЗАПРЕЩЕНО ЛОЖИТЬСЯ В ОДНУ ПОСТЕЛЬ
БОЛЬШЕ ЧЕМ ШЕСТИ ПОСТОЯЛЬЦАМ
Мы вышли из гостиницы, чтобы где-нибудь позавтракать, и вскоре очутились на 42-й улице. Первые дни в Нью-Йорке, куда бы мы ни шли, мы обязательно попадали на 42-ю улицу.
В толпе, которая несла нас, слышались обрывки быстрой нью-йоркской речи, вероятно чуждой не только московскому, но и лондонскому уху. У стен сидели мальчишки – чистильщики сапог, отбарабанивая щетками на своих грубо сколоченных деревянных ящиках призывную дробь. Уличные фотографы нацеливались «лейками» в прохожих, выбирая преимущественно кавалеров с дамами и провинциалов. Спустив затвор, фотограф подходил к объекту нападения и вручал печатный адрес своего ателье. За двадцать пять центов сфотографированный прохожий может получить свою карточку, прекрасную карточку, где он снят врасплох, с поднятой ногой.
Под закопченными пролетами моста, в тени которого блестела грязь, оставшаяся после прошедшего ночью дождя, стоял человек в сдвинутой набок шляпе и расстегнутой рубашке и произносил речь. Вокруг него собралось десятка два любопытных. Это был пропагандист идей убитого недавно в Луизиане сенатора Хью Лонга. Говорил он о разделении богатств. Слушатели задавали вопросы. Он отвечал. Казалось, главной задачей его было рассмешить аудиторию.
Неподалеку от него, на солнечном тротуаре, остановилась толстая негритянка из Армии спасения, в старомодной шляпе и стоптанных башмаках. Она вынула из чемоданчика звонок и громко зазвонила. Чемоданчик она положила прямо на тротуар, у своих ног. Подождав, покуда несколько почитателей покойного сенатора перекочевывали к ней, щурясь от солнца, она принялась что-то кричать, закатывая глаза и ударяя себя по толстой груди. Мы прошли несколько кварталов, а крик негритянки все еще отчетливо слышался в слитном шуме беспокойного города.
Перед магазином готового платья спокойно прогуливался человек. На спине и на груди он нес два одинаковых плаката: «Здесь бастуют». На следующей улице шагали взад и вперед еще несколько пикетчиков. Над большой витриной углового магазина, несмотря на солнечное утро, светились синие электрические буквы – «Кафетерия». Кафетерия была большая, очень светлая и очень чистая. У стен стояли стеклянные прилавки, заставленные красивыми, аппетитными кушаньями. Слева от входа находилась касса. Справа – металлическая тумбочка с небольшим поперечным разрезом, как у копилки. Из разреза торчал кончик синего картонного билетика. Все входящие дергали за такой кончик. Дернули и мы. Раздался мелодичный удар колокола. В руках оказался билет, а из разреза копилки выскочил новый синий кончик. Далее мы принялись делать то же, что ньюйоркцы, прибежавшие в кафетерию наскоро позавтракать. Мы сняли со специального столика по легкому коричневому подносу, положили на них вилки, ложки, ножи и бумажные салфетки и, чувствуя себя крайне неловко в толстых пальто и шляпах, подошли к правому краю застекленного прилавка. Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос, а затем, по мере того как он заполняется блюдами, толкать его дальше. Прилавок, собственно, представлял собой огромную скрытую электрическую плиту. Тут грелись супы, куски жаркого, различной толщины и длины сосиски, окорока, рулеты, картофельное пюре, картофель жареный и вареный и сделанный в виде каких-то шариков, маленькие клубочки брюссельской капусты, шпинат, морковь и еще множество различных гарниров.
Белые повара в колпаках и густо нарумяненные и завитые, очень опрятные девушки в розовых наколках выкладывали на стеклянную поверхность прилавка тарелки с едой и пробивали компостером в билетике цифру, обозначающую стоимость блюда. Дальше шли салаты и винегреты, различные закуски, рыбные майонезы, заливные рыбы. Затем хлеб, сдобные булки и традиционные круглые пироги с яблочной, земляничной и ананасной начинкой. Тут выдавали кофе и молоко. Мы подвигались вдоль прилавка, подталкивая поднос. На толстом слое струганого льда лежали тарелочки с компотами и мороженым, апельсины и разрезанные пополам грейпфруты, стояли большие и маленькие стаканы с соками. Упорная реклама приучила американцев пить соки перед первым и вторым завтраком. В соках есть витамины, что весьма полезно для потребителей, а продажа соков полезна для фруктовщиков. Мы быстро привыкли к этому американскому обычаю. Сперва пили густой желтый апельсиновый сок. Потом перешли на прозрачный зеленый сок грейпфрута. Потом стали есть перед едой самый грейпфрут (его посыпают сахаром и едят ложечкой; по вкусу он напоминает немножко апельсин, немножко лимон, но он еще сочнее, чем эти фрукты). И наконец, с опаской, не сразу, начали пить обыкновенный помидорный сок, предварительно поперчив его. Он оказался самым вкусным и освежающим и больше всего подошел к нашим южнорусским желудкам. Единственно, к чему мы так и не приучились в Америке, – это есть перед обедом дыню, которая занимает почетное место в числе американских закусок.
Посредине кафетерии стояли деревянные полированные столики без скатертей и вешалки для одежды. Желающие могли класть шляпы также под стул, на специальную жердочку. На столах были расставлены бутылочки с маслом, уксусом, томатным соусом и различными острыми приправами. Был и сахарный песок в стеклянном флаконе, устроенном на манер перечницы, с дырочками в металлической пробке.
Расчет с посетителями прост. Каждый, покидающий кафетерию, рано или поздно должен пройти мимо кассы и предъявить билетик с выбитой на нем суммой. Тут же, в кассе, продаются папиросы и можно взять зубочистку.
Процесс еды был так же превосходно рационализирован, как производство автомобилей или пишущих машинок.
Еще дальше кафетерий по этому пути пошли автоматы. Имея примерно ту же внешность, что и кафетерии, они довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них щель для опускания «никеля» (пятицентовой монеты). За стеклом печально стоит тарелка с супом, или мясом, или стакан с соком, или пирог. Несмотря на сверкание стекла и металла, лишенные свободы сосиски и котлеты производят какое-то странное впечатление. Их жалко, как кошек на выставке. Человек опускает никель, получает возможность отворить дверцу, вынимает суп, несет его на свой столик и там съедает, опять-таки положив шляпу под стул на специальную жердочку. Потом человек подходит к крану, опускает никель, и из крана в стакан течет ровно столько кофе с молоком, сколько полагается. Чувствуется в этом что-то обидное, оскорбительное для человека. Начинаешь подозревать, что хозяин автомата оборудовал свое заведение не для того, чтобы сделать обществу приятный сюрприз, а чтобы уволить со службы бедных завитых девушек в розовых наколках и заработать еще больше долларов.
Но автоматы не так уж популярны в Америке. Видно, и сами хозяева чувствуют, что где-то должен быть предел всякой рационализации. Поэтому всегда переполнены нормальные ресторанчики для небогатых людей, принадлежащие могучим трестам. Самый популярный из них – «Чайльдз» – стал в Америке отвлеченным понятием недорогой и доброкачественной еды. «Он обедает у «Чайльдза». Это значит – он зарабатывает тридцать долларов в неделю. Можно, находясь в любой части Нью-Йорка, сказать: «Пойдем пообедать к «Чайльдзу», – до «Чайльдза» не придется идти больше десяти минут. Дают у «Чайльдза» такую же чистенькую, красивую пищу, как в кафетерии или автомате. Только там у человека не отнимают маленького удовольствия посмотреть меню, сказать «гм», спросить у официантки, хороша ли телятина, и получить в ответ: «Иэс, сэр!»
Вообще Нью-Йорк замечателен тем, что там есть всё. Там можно найти представителя любой нации, можно добыть любое блюдо, любой предмет – от вышитой украинской рубашки до китайской палочки с костяным наконечником в виде руки, которой чешут спину, от русской икры и водки – до чилийского супа или китайских макарон. Нет таких деликатесов мира, которых не мог бы предложить Нью-Йорк. Но за все это надо платить доллары. А мы хотим говорить о подавляющем большинстве американцев, которые могут платить только центы и для которых существуют «Чайльдз», кафетерия и автомат. Описывая эти заведения, мы можем смело сказать – так питается средний американец. Под этим понятием среднего американца подразумевается человек, который имеет приличную работу и приличное жалованье и который с точки зрения капитализма являет собою пример здорового, процветающего американца, счастливчика и оптимиста, получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене.
Блистательная организация ресторанного дела как будто подтверждает это. Идеальная чистота, доброкачественность продуктов, огромный выбор блюд, минимум времени, затрачиваемого на обед, – все это так. Но вот беда: вся эта красиво приготовленная пища довольно безвкусна, как-то обесцвечена во вкусовом отношении. Она не опасна для желудка, может быть, даже полезна, но она не доставляет человеку никакого удовольствия. Когда выбираешь себе в шкафу автомата или на прилавке кафетерии аппетитный кусок жаркого и потом ешь его за своим столиком, засунув шляпу под стул, чувствуешь себя, как покупатель ботинок, которые оказались более красивыми, чем прочными. Американцы к этому привыкли. Они едят очень быстро, не задерживаясь за столом ни одной лишней минуты. Они не едят, а заправляются едой, как мотор бензином. Французский обжора, который может просидеть за обедом четыре часа, с восторгом прожевывая каждый кусок мяса, запивая его вином и долго смакуя каждый глоточек кофе с коньяком, – это, конечно, не идеал человека. Но американский холодный едок, лишенный естественного человеческого стремления – получить от еды какое-то удовольствие, вызывает удивление.
Мы долго не могли понять, почему американские блюда, такие красивые на вид, не слишком привлекают своим вкусом. Сперва мы думали, что там просто не умеют готовить. Но потом узнали, что не только в этом дело, что дело в самой организации, в самой сущности американского хозяйства. Американцы едят ослепительно белый, но совершенно безвкусный хлеб, мороженое мясо, соленое масло, консервы и недозревшие помидоры.
Как же получилось, что богатейшая в мире страна, страна хлебопашцев и скотоводов, золота и удивительной индустрии, страна, ресурсы которой достаточны, чтоб создать у себя рай, не может дать народу вкусного хлеба, свежего мяса, сливочного масла и зрелых помидоров?
Мы видели под Нью-Йорком пустыри, заросшие бурьяном, заглохшие куски земли. Здесь никто не сеял хлеба, не заводил скота. Мы не видели здесь ни наседок с цыплятами, ни огородов.
– Видите ли, – сказали нам, – это просто не выгодно. Здесь невозможно конкурировать с монополистами с Запада.
Где-то в Чикаго на бойнях били скот и везли его по всей стране в замороженном виде. Откуда-то из Калифорнии тащили охлажденных кур и зеленые помидоры, которым полагалось дозревать в вагонах. И никто не смел вступить в борьбу с могущественными монополистами.
Сидя в кафетерии, мы читали речь Микояна о том, что еда в социалистической стране должна быть вкусной, что она должна доставлять людям радость, читали как поэтическое произведение.
Но в Америке дело народного питания, как и все остальные дела, построено на одном принципе – выгодно или невыгодно. Под Нью-Йорком невыгодно разводить скот и устраивать огороды. Поэтому люди едят мороженое мясо, соленое масло и недозревшие помидоры. Какому-то дельцу выгодно продавать жевательную резинку – и народ приучили к этой жвачке. Кино выгоднее, чем театр. Поэтому кино разрослось, а театр в загоне, хотя в культурном отношении американский театр гораздо значительнее, чем кино. Элевейтед приносит доход какой-то компании. Поэтому ньюйоркцы превратились в мучеников. По Бродвею в великой тесноте с адским скрежетом ползет трамвай только потому, что это выгодно одному человеку – хозяину старинной трамвайной компании.
Мы все время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, вносить предложения. Хотелось писать в советский контроль, и в партийный контроль, и в ЦК, и в «Правду». Но жаловаться было некому. А «книги для предложений» в Америке не существует.
Мы ищем ангела без крыльев
Время шло. Мы все еще находились в Нью-Йорке и не знали, когда и куда поедем дальше. Между тем наш план включал путешествие через весь материк, от океана до океана.
Это был очень красивый, но, в сущности, весьма неопределенный план. Мы составили его еще в Москве и горячо обсуждали всю дорогу.
Мы исходили десятки километров по сыроватым от океанских брызг палубам «Нормандии», споря о подробностях этого путешествия и осыпая друг друга географическими названиями. За обедом, попивая чистое и слабое винцо из подвалов Генеральной трансатлантической компании, которой принадлежит «Нормандия», мы почти бессмысленно бормотали: «Калифорния», «Техас» или что-нибудь такое же красивое и заманчивое.
План поражал своей несложностью. Мы приезжаем в Нью-Йорк, покупаем автомобиль и едем, едем, едем – до тех пор, пока не приезжаем в Калифорнию. Потом поворачиваем назад и едем, едем, едем, пока не приезжаем в Нью-Йорк. Все было просто и чудесно, как в андерсеновской сказке. «Тра-та-та», – звучит клаксон, «тру-ту-ту», – стучит мотор, мы едем по прерии, мы переваливаем через горные хребты, мы поим нашу верную машину ледяной кордильерской водой, и великое тихоокеанское солнце бросает ослепительный свет на наши загорелые лица.
В общем, понимаете сами, мы немножко тронулись и рычали друг на друга, как цепные собаки: «Сиерррра-Невада», «Скалистые горрры» и тому подобное.
Когда же мы ступили на американскую почву, все оказалось не так просто и не так романтично.
Во-первых, Техас называется не Техас, а Тексас. Но это еще полбеды.
Против покупки автомобиля никто из наших новых друзей в Нью-Йорке не выдвигал возражений. Путешествие в своей машине – это самый дешевый и интересный способ передвижения по Штатам. Железная дорога обойдется в несколько раз дороже. Кроме того, нельзя смотреть Америку из окна вагона, не писательское дело так поступать. Так что насчет автомобиля все наши предположения были признаны верными. Задержка была в человеке, который мог бы с нами поехать. Одним нам ехать нельзя. Знания английского языка хватило бы на то, чтобы снять номер в гостинице, заказать обед в ресторане, пойти в кино и понять содержание картины, даже на то, чтобы поговорить с приятным и никуда не торопящимся собеседником о том о сем, – но не больше. А нам надо было именно больше. Кроме того, было еще одно соображение. Американская автомобильная дорога представляет собой такое место, где, как утверждает шоферское крылатое слово, вы едете прямо в открытый гроб. Тут нужен опытный водитель.
Итак, перед нами совершенно неожиданно разверзлась пропасть. И мы уже стояли на краю ее. В самом деле, нам нужен был человек, который:
умеет отлично вести машину,
отлично знает Америку, чтобы показать ее нам как следует,
хорошо говорит по-английски,
хорошо говорит по-русски,
обладает достаточным культурным развитием,
имеет хороший характер, иначе может испортить все путешествие,
и не любит зарабатывать деньги.
Последнему пункту мы придавали особенное значение, потому что денег у нас было не много. Настолько не много, что прямо можно сказать – мало.
Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо, роза без шипов, ангел без крыльев, нам нужен был какой-то сложный гибрид: гидо-шоферо-переводчико-бессребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки. Чтобы вывести такой гибрид, понадобилось бы десятки лет.
Не было смысла покупать автомобиль, пока мы не найдем подходящего гибрида. А чем дольше мы сидели в Нью-Йорке, тем меньше оставалось денег на автомобиль. Эту сложную задачу мы решали ежедневно и не могли решить. Кстати, и времени для обдумывания почти не было.
Когда мы ехали в Америку, мы не учли одной вещи – «госпиталити», американского гостеприимства. Оно беспредельно и далеко оставляет позади все возможное в этом роде, включая гостеприимство русское, сибирское или грузинское. Первый же знакомый американец обязательно пригласит вас к себе домой (или в ресторан) распить с ним коктейль. На коктейле будет десять друзей вашего нового знакомого. Каждый из них непременно потащит вас к себе на коктейль. И у каждого из них будет по десять или пятнадцать приятелей. В два дня у вас появляется сто новых знакомых, в неделю – несколько тысяч. Пробыть в Америке год – просто опасно: можно спиться и стать бродягой.
Все несколько тысяч наших новых друзей были полны одним желанием – показать нам все, что мы только захотим увидеть, пойти с нами, куда только мы ни пожелаем, объяснить нам все, чего мы не поняли. Удивительные люди американцы – и дружить с ними приятно, и дело легко иметь.
Мы почти никогда не были одни. Телефон в номере начинал звонить с утра и звонил, как в комендатуре. В редкие и короткие перерывы между встречами с нужными и интересными людьми мы думали об идеальном существе, которого нам так не хватало. Даже развлекались мы самым деловым образом, подхлестываемые советами:
– Вы должны это посмотреть, иначе вы не узнаете Америки!
– Как? Вы еще не были в бурлеске? Но тогда вы не видели Америки! Ведь это самое вульгарное зрелище во всем мире. Это можно увидеть только в Америке!
– Как? Вы еще не были на автомобильных гонках? Простите, тогда вы еще не знаете, что такое Америка!
Было светлое октябрьское утро, когда мы выбрались на автомобиле из Нью-Йорка, отправляясь на сельскохозяйственную выставку, в маленький город Денбери в штате Коннектикут.
Здесь ничего не будет рассказано о дорогах, по которым мы ехали. Для этого нужны время, вдохновение, особая глава.
Красный осенний пейзаж раскрывался по обе стороны дороги. Листва была раскалена, и, когда уже казалось, что ничего на свете не может быть краснее, показывалась еще одна роща неистово красного индейского цвета. Это не был убор подмосковного леса, к которому привыкли наши глаза, где есть и красный цвет, и ярко-желтый, и мягкий коричневый. Нет, здесь все пылало, как на закате, и этот удивительный пожар вокруг Нью-Йорка, этот индейский лесной праздник продолжался весь октябрь.
Рев и грохот послышались, когда мы приблизились к Денбери. Стада автомобилей отдыхали на еще зеленых склонах маленькой долины, где разместилась выставка. Полицейские строго простирали руки, перегоняя нас с места на место. Наконец мы нашли место для автомобиля и пошли к стадиону.
У круглой трибуны рев стал раздирающим душу, и из-за высоких стен стадиона в нас полетели мелкие камни и горячий песок, выбрасываемый машинами на крутом повороте. Потерять глаз или зуб было пустое дело. Мы ускорили шаги и закрылись руками, как это делали помпейцы во время гибели их родного города от извержения вулкана.
За билетами пришлось постоять в небольшой очереди. Кругом грохотала веселая провинциальная ярмарка. Продавцы, не раз описанные О. Генри, громко восхваляли свой товар – какие-то алюминиевые пищалки, тросточки с резьбой, тросточки, увенчанные куколками, всякую ярмарочную дребедень. Вели куда-то корову с красивыми глазами и длинными ресницами. Красавица зазывно раскачивала выменем. Хозяин механического органа сам танцевал под оглушительную музыку своего прибора. Качели в виде лодки, прикрепленные к блестящей металлической штанге, описывали полный круг. Когда катающиеся оказывались высоко в небе вниз головой, раздавался чистосердечный и истерический женский визг, сразу переносивший нас из штата Коннектикут в штат Москва, в Парк культуры и отдыха. Продавцы соленых орешков и бисквитов с сыром заливались вовсю.
Автомобильные гонки представляют собой зрелище пустое, мрачное и иссушающее душу. Красные, белые и желтые маленькие гоночные машины с раскоряченными колесами и намалеванными на боку номерами, стреляя, как ракетные двигатели, носились мимо нас. Заезд сменялся заездом. Одновременно состязались пять машин, шесть, иногда десять. Зрители ревели. Скучища была страшная. Развеселить публику могла, конечно, только какая-нибудь автомобильная катастрофа. Собственно, за этим сюда и приходят. Наконец она произошла. Внезапно раздались тревожные сигналы. Все разом поднялись со своих мест. Одна из машин на полном ходу слетела с трека. Мы еще продирались сквозь толпу, окружавшую стадион, когда раздался пугающий вой санитарного автомобиля. Мы успели увидеть сквозь стекла пострадавшего гонщика. На нем уже не было кожаного шлема. Он сидел, держась рукой за синюю скулу. Вид у него был сердитый. Он потерял приз, из-за которого рисковал жизнью.
В промежутках между заездами – на деревянной площадке внутри круга – цирковые комики разыгрывали сцену, изображающую, как четыре неудачника строят дом. Конечно, на четырех дураков падают кирпичи, дураки мажут друг друга известковым раствором, сами себя лупят по ошибке молотками и даже – в самозабвении – отпиливают себе ноги. Весь этот набор трюков, ведущий свое начало из глубокой греческой и римской древности и теперь еще блестяще поддерживаемый мастерством таких великих клоунов, как Фрателлини, ярмарочные комики из Денбери выполняли великолепно. Всегда приятно смотреть на хорошую цирковую работу, никогда не приедаются ее точные, отшлифованные веками приемы.
Ярмарка кончалась. Уже мало было посетителей в деревянных павильонах, где на длинных столах лежали крупные, несъедобные на вид, как будто лакированные, овощи. Оркестры играли прощальные марши, и вся масса посетителей, пыля по чистому темно-желтому песочку, пробиралась к своим автомобилям. Здесь демонстрировали (и продавали, конечно) прицепные вагончики для автомобилей.
Американцы по двое, большей частью это были муж и жена, забирались внутрь и подолгу ахали, восхищаясь вагончиками. Они озирали соблазнительную внутренность вагончика – удобные кровати, кружевные занавески на окнах, диван, удобную и простую металлическую печку. Что может быть лучше – прицепить такой вагончик к автомобилю, выехать из гремучего города и помчаться, помчаться куда глаза глядят! То есть известно, куда помчаться. Глаза глядят в лес, они видят Великие озера, тихоокеанские пляжи, кэньоны и широкие реки.
Кряхтя, муж с женой вылезают из вагончика. Он довольно дорог. Здесь, в Денбери, были вагончики по триста пятьдесят долларов, были и по семьсот. Но где взять семьсот долларов! Где взять время для большой поездки?
Длинные колонны машин беззвучно летели в Нью-Йорк, и через полтора часа хорошего хода мы увидели пылающий небосклон. Сверху донизу сияли небоскребы. Над самой землей блистали текучие огни кино и театров.
Увлеченные бурей света, мы решили посвятить вечер знакомству с развлечениями для народа.
Вечерний Нью-Йорк всем своим видом говорит гуляющему:
– Дайте никель, опустите никель! Расстаньтесь со своим никелем – и вам будет хорошо!
Щелканье несется из больших магазинов развлечений. Здесь стоят десятки механических бильярдов всех видов. Надо опустить никель в соответствующую щель, тогда автоматически освобождается кий на какой-то пружине, и весельчак, решивший провести вечер в разгуле, может пять раз стрельнуть стальным шариком. На завоеванное число очков он получает картонное свидетельство от хозяина заведения. Через полгода, проведенных в регулярной игре, а следовательно, и в регулярном опускании никелей, весельчак наберет нужное число очков и получит выигрыш, один из прекрасных выигрышей, стоящих на магазинной полке. Это – стеклянная ваза, или алюминиевый сосуд для сбивания коктейлей, или настольные часы, или дешевая автоматическая ручка, или бритва. В общем, здесь все те сокровища, от одного вида которых сладко сжимается сердце домашней хозяйки, ребенка или гангстера. Американцы развлекаются тут часами, развлекаются одиноко, сосредоточенно, равнодушно, не сердясь и не восторгаясь.
Покончив с бильярдами, можно подойти к механической гадалке. Она сидит в стеклянном шкафу, желтолицая и худая. Перед ней полукругом лежат карты. Надо опустить никель, это понятно само собой. Тогда гадалка оживает. Голова ее начинает покачиваться, грудь вздымается, а восковая рука скользит над картами. Картина эта не для впечатлительных людей. Все это так глупо и страшно, что можно тут же сойти с ума. Через полминуты гадалка застывает в прежней позе. Теперь надо потянуть за ручку. Из щели выпадет предсказание судьбы. Это по большей части портрет вашей будущей жены и краткое описание ее свойств.
Лавки этих идиотских чудес противны, даже если помещаются в центре города, полном блеска и шума. Но где-нибудь в Ист-Сайде, на темной улице, тротуары и мостовые которой засыпаны отбросами дневной уличной торговли, среди вывесок, свидетельствующих о крайней нищете (здесь можно побриться за пять центов и переночевать за пятнадцать), – такая лавка, плохо освещенная, грязная, где две или три фигуры молчаливо и безрадостно щелкают на бильярдах, по сравнению с которыми обыкновенная пирамидка является подлинным торжеством культуры и интеллекта, – вызывает собачью тоску. Хочется скулить.
От работы трещит голова. От развлечений она тоже трещит.
После развлекательных магазинов мы попали в очень странное зрелищное предприятие.
Грохочет джаз, по мере способностей подражая шуму надземной дороги. Люди толпятся у стеклянной будки, в которой сидит живая кассирша с застывшей восковой улыбкой на лице. Театр называется «бурлеск». Это ревю за тридцать пять центов.
Зал бурлеска был переполнен, и молодые решительные капельдинеры сажали вновь вошедших куда попало. Многим так и не нашлось места. Они стояли в проходах, не сводя глаз со сцены.
На сцене пела женщина. Петь она не умела. Голос у нее был такой, с которым нельзя выступать даже на именинах у ближайших родственников. Кроме того, она танцевала. Не надо было быть балетным маньяком, чтобы понять, что балериной эта особа никогда не будет. Но публика снисходительно улыбалась. Среди зрителей вовсе не было фанатиков вокала или балетоманов. Зрители пришли сюда за другим.
«Другое» состояло в том, что исполнительница песен и танцев внезапно начинала мелко семенить по сцене, на ходу сбрасывая с себя одежды. Сбрасывала она их довольно медленно, чтобы зрители могли рассмотреть эту художественную мизансцену во всех подробностях. Джаз вдруг закудахтал, музыка оборвалась, и девушка с постельным визгом убежала за кулисы. Молодые люди, наполнявшие зал, восторженно аплодировали. На авансцену вышел конферансье, мужчина атлетического вида в смокинге, и внес деловое предложение:
– Поаплодируйте сильнее, и она снимет с себя еще что-нибудь.
Раздался такой взрыв рукоплесканий, которого никогда в своей жизни, конечно, не могли добиться ни Маттиа Баттистини, ни Анна Павлова, ни сам Кин, величайший из великих. Нет! Одним талантом такую публику не возьмешь!
Исполнительница снова прошла через сцену, жертвуя тем немногим, что у нее еще осталось от ее обмундирования.
Для удовлетворения театральной цензуры приходится маленький клочок одежды все-таки держать перед собой в руках.
После первой плясуньи и певуньи вышла вторая и сделала то же самое, что делала первая. Третья сделала то же, что делала вторая. Четвертая, пятая и шестая не подарили ничем новым. Пели без голоса и слуха, танцевали с изяществом кенгуру. И раздевались. Остальные десять девушек по очереди делали то же самое.
Отличие состояло только в том, что некоторые из них были брюнетки (этих меньше), а некоторые – светловолосые овечки (этих больше).
Зулусское торжество продолжалось несколько часов. Эта порнография настолько механизирована, что носит какой-то промышленно-заводской характер. В этом зрелище так же мало эротики, как в серийном производстве пылесосов или арифмометров.
На улице падал маленький неслышный дождь. Но если бы даже была гроза с громом и молнией, то и ее не было бы слышно. Нью-Йорк сам гремит и сверкает почище всякой бури. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого города глаза болят.
Но не смотреть на него невозможно.
Папа энд мама
Перед отъездом из Москвы мы набрали множество рекомендательных писем. Нам объяснили, что Америка – это страна рекомендательных писем. Без них там не повернешься.
Знакомые американцы, которых мы обходили перед отъездом, сразу молча садились за свои машинки и принимались выстукивать:
«Дорогой сэр, мои друзья, которых я рекомендую вашему вниманию…»
И так далее и так далее. «Привет супруге» – и вообще все, что полагается в таких случаях писать. Они уже знали, зачем мы пришли.
Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Вальтер Дюранти писал с невероятной быстротой, вынимая изо рта сигарету только затем, чтобы отхлебнуть крымской мадеры. Мы унесли от него дюжину писем. На прощанье он сказал нам:
– Поезжайте, поезжайте в Америку! Там сейчас интересней, чем у вас, в России. У вас все идет кверху. – Он показал рукой подымающиеся ступеньки лестницы. – У вас все выяснилось. А у нас стало неясно. И еще неизвестно, что будет.
Колоссальный улов ожидал нас у Луи Фишера, журналиста, хорошо известного в американских левых кругах. Он затратил на нас по крайней мере половину рабочего дня.
– Вам угрожает в Америке, – сказал он, – опасность – сразу попасть в радикальные интеллигентские круги, завертеться в них и, не увидя ничего, вернуться домой в убеждении, что все американцы очень передовые и интеллигентные люди. А это далеко не так. Вам надо видеть как можно больше различных людей. Старайтесь видеть богачей, безработных, чиновников, фермеров, ищите средних людей, ибо они и составляют Америку.
Он посмотрел на нас своими очень черными и очень добрыми глазами и пожелал счастливого и плодотворного путешествия.
Нас одолела жадность. Хотя чемоданы уже раздувались от писем, нам все казалось мало. Мы вспомнили, что Эйзенштейн когда-то был в Америке, и поехали к нему на Потылиху.
Знаменитая кинодеревня безобразно раскинулась на живописных берегах Москвы-реки. Сергей Михайлович жил в новом доме, который по плану должны были в ближайшее время снести, но который тем не менее еще достраивался.
Эйзенштейн жил в большой квартире среди паникадил и громадных мексиканских шляп. В его рабочей комнате стояли хороший рояль и детский скелетик под стеклянным колпаком. Под такими колпаками в приемных известных врачей стоят бронзовые часы. Эйзенштейн встретил нас в зеленой полосатой пижаме. Целый вечер он писал письма, рассказывал про Америку, смотрел на нас детскими лучезарными глазами и угощал вареньем.
Через неделю тяжелого труда мы стали обладателями писем, адресованных губернаторам, актерам, редакторам, сенаторам, женщине-фотографу и просто хорошим людям, в том числе негритянскому пастору и зубному врачу, выходцу из Проскурова.
Когда мы показали свое, накопленное с таким трудом добро Жану Львовичу Аренсу, нашему генеральному консулу в Нью-Йорке, он побледнел.
– Для того чтобы увидеться с каждым из этих людей в отдельности, вам понадобится два года.
– Как же быть?
– Лучше всего было бы уложить эти письма снова в чемодан и уехать обратно в Москву. Но раз уж вы все равно здесь, надо будет для вас что-нибудь придумать.
Впоследствии мы не раз убеждались, что консул всегда может что-нибудь придумать, если в этом встречалась необходимость. На этот раз он придумал нечто грандиозное – разослать письма адресатам и устроить прием для всех сразу.
Через три дня на углу 61-й улицы и Пятой авеню, в залах консульства состоялся прием.
Мы стояли на площадке второго этажа, стены которой были увешаны огромными фотографиями, изображающими Днепрогэс, уборку хлеба комбайнами и детские ясли. Стояли мы рядом с консулом и с неприкрытым страхом смотрели на подымающихся снизу джентльменов и леди. Они двигались непрерывным потоком в течение двух часов. Это были духи, вызванные соединенными усилиями Дюранти, Фишера, Эйзенштейна и еще двух десятков наших благодетелей. Духи пришли с женами и были в очень хорошем настроении. Они были полны желания сделать все, о чем их просили в письмах, и помочь нам узнать, что собой представляют Соединенные Штаты.
Гости здоровались с нами, обменивались несколькими фразами и проходили в залы, где на столах помещались вазы с крюшоном и маленькие дипломатические сэндвичи.
Мы в простоте душевной думали, что когда все соберутся, то и мы, так сказать, виновники торжества, тоже пойдем в зал и тоже будем подымать бокалы и поедать маленькие дипломатические бутерброды. Но не тут-то было. Выяснилось, что нам полагается стоять на площадке до тех пор, пока не уйдет последний гость.
Из зал доносились шумные восклицания и веселый смех, а мы все стояли да стояли, встречая опоздавших, провожая уходящих и вообще выполняя функции хозяев. Гостей собралось больше полутораста, и понять, кто из них губернатор, а кто – выходец из Проскурова, мы так и не смогли. Это было шумное общество: здесь было много седоватых дам в очках, румяных джентльменов, плечистых молодых людей и высоких тонких девиц. Каждый из этих духов, возникших из привезенных нами конвертов, представлял несомненный интерес, и мы очень страдали от невозможности поговорить с каждым в отдельности.
Через три часа поток гостей устремился вниз по лестнице.
К нам подошел маленький толстый человек с выбритой начисто головой, на которой сверкали крупные капли ледяного пота. Он посмотрел на нас сквозь увеличительные стекла своих очков, затряс головой и проникновенно сказал на довольно хорошем русском языке:
– О да, да, да! Это ничего! Мистер Илф и мистер Петров, я получил письмо от Фишера. Нет, нет, сэры, не говорите мне ничего. Вы не понимаете. Я знаю, что вам нужно. Мы еще увидимся.
И он исчез, маленький, плотный, с удивительно крепким, почти железным телом. В сутолоке прощания с гостями мы не могли поговорить с ним и разгадать смысл его слов.
Через несколько дней, когда мы еще валялись в кроватях, обдумывая, где же наконец мы найдем необходимое нам идеальное существо, зазвонил телефон, и незнакомый голос сказал, что говорит мистер Адамс и что он хочет сейчас к нам зайти. Мы быстро оделись, гадая о том, зачем мы понадобились мистеру Адамсу и кто он такой.
В номер вошел тот самый толстяк с железным телом, которого мы видели на приеме в консульстве.
– Мистеры, – сказал он без обиняков. – Я хочу вам помочь. Нет, нет, нет! Вы не понимаете. Я считаю своим долгом помочь каждому советскому человеку, который попадает в Америку.
Мы пригласили его сесть, но он отказался. Он бегал по нашему маленькому номеру, толкая нас иногда своим выпуклым твердым животом. Три нижние пуговицы жилета у него были расстегнуты, и наружу высовывался хвост галстука. Вдруг наш гость закричал:
– Я многим обязан Советскому Союзу! Да, да, сэры! Очень многим! Нет, не говорите, вы даже не понимаете, что вы там у себя делаете!
Он так разволновался, что по ошибке выскочил в раскрытую дверь и оказался в коридоре. Мы с трудом втащили его назад в номер.
– Вы были в Советском Союзе?
– Шурли! – закричал мистер Адамс. – Конечно! Нет, нет, нет! Вы не говорите так – «был в Советском Союзе!». Я долго там прожил. Да, да, да! Сэры! Я работал у вас семь лет. Вы меня испортили в России. Нет, нет, нет! Вы этого не поймете!
После нескольких минут общения с мистером Адамсом нам стало ясно, что мы совершенно не понимаем Америки, совершенно не понимаем Советского Союза и вообще ни в чем ничего не понимаем, как новорожденные телята.
Но на мистера Адамса невозможно было сердиться. Когда мы сообщили ему, что собираемся совершить автомобильную поездку по Штатам, он закричал «шурли!» и пришел в такое возбуждение, что неожиданно раскрыл зонтик, который был у него под мышкой, и некоторое время постоял под ним, словно укрываясь от дождя.
– Шурли! – повторил он. – Конечно! Было бы глупо думать, что Америку можно узнать, сидя в Нью-Йорке. Правда, мистер Илф и мистер Петров?
Уже потом, когда наша дружба приняла довольно обширные размеры, мы заметили, что мистер Адамс, высказав какую-нибудь мысль, всегда требовал подтверждения ее правильности и не успокаивался до тех пор, пока этого подтверждения не получал.
– Нет, нет, мистеры! Вы ничего не понимаете! Нужен план! План путешествия! Это самое главное. И я вам составлю этот план. Нет! Нет! Не говорите. Вы ничего не можете об этом знать, сэры!
Вдруг он снял пиджак, сорвал с себя очки, бросил их на диван (потом он минут десять искал их в своих карманах), разостлал на коленях автомобильную карту Америки и принялся вычерчивать на ней какие-то линии.
На наших глазах он превратился из сумбурного чудака в строгого и делового американца. Мы переглянулись. Не то ли это идеальное существо, о котором мы мечтали, не тот ли это роскошный гибрид, вывести который было бы не под силу даже Мичурину вместе с Бербанком?
В течение двух часов мы путешествовали по карте Америки. Какое это было увлекательное занятие!
Мы долго обсуждали вопрос о том, заехать в Милвоки, штат Висконсин, или не заезжать. Там есть сразу два Лафоллета, один губернатор, а другой – сенатор. И к обоим можно достать рекомендательные письма. Завидное положение! Два москвича сидят в Нью-Йорке и решают вопрос о поездке в Милвоки. Захотят – поедут, не захотят – не поедут!
Старик Адамс сидел спокойный, чистенький, корректный. Нет, он не рекомендовал нам ехать к Тихому океану по северному пути, через Соулт-Лейк-сити, город Соленого озера. Там к нашему приезду перевалы могут оказаться в снегу.
– Сэры! – восклицал мистер Адамс. – Это очень, очень опасно! Было бы глупо рисковать жизнью. Нет, нет, нет! Вы не представляете себе, что такое автомобильное путешествие.
– А мормоны? – стонали мы.
– Нет, нет! Мормоны – это очень интересно. Да, да, сэры, мормоны такие же американцы, как все. А снег – это очень опасно.
Как приятно было говорить об опасностях, о перевалах, о прериях! Но еще приятнее было высчитывать с карандашом в руках, насколько автомобиль дешевле железной дороги; количество галлонов бензина, потребного на тысячу миль; стоимость обеда, скромного обеда путешественника. Мы в первый раз услышали слова «кэмп» и «турист-гауз». Еще не начав путешествия, мы заботились о сокращении расходов, еще не имея автомобиля, мы заботились о его смазке. Нью-Йорк уже казался нам мрачной дырой, из которой надо немедленно вырваться на волю.
Когда восторженные разговоры перешли в невнятный крик, мистер Адамс внезапно вскочил с дивана, схватился руками за голову, в немом отчаянии зажмурил глаза и простоял так целую минуту.
Мы испугались.
Мистер Адамс, не раскрывая глаз, стал мять в руках шляпу и бормотать:
– Сэры, все пропало! Вы ничего не понимаете, сэры!
Тут же выяснилось то, чего мы не понимали. Мистер Адамс приехал с женой и, оставив ее в автомобиле, забежал к нам на минутку, чтобы пригласить нас к себе завтракать, забежал только на одну минутку.
Мы помчались по коридору. В лифте мистер Адамс даже подпрыгивал от нетерпения – так ему хотелось поскорей добраться под крылышко жены.
За углом Лексингтон-авеню, на 48-й улице, в опрятном, но уже не новом, «крайслере» сидела молодая дама в таких же очках с выпуклыми стеклами, как у мистера Адамса.
– Бекки! – застонал наш новый друг, протягивая к «крайслеру» толстые ручки.
От конфуза у него слетела шляпа, и его круглая голова засверкала отраженным светом осеннего нью-йоркского солнца.
– А где зонтик? – спросила дама, чуть улыбаясь.
Солнце потухло на голове мистера Адамса. Он забыл зонтик у нас в номере: жену он забыл внизу, а зонтик наверху. При таких обстоятельствах произошло наше знакомство с миссис Ребеккой Адамс.
Мы с горечью увидели, что за руль села жена мистера Адамса. Мы снова переглянулись.
– Нет, как видно, это не тот гибрид, который нам нужен. Наш гибрид должен уметь управлять автомобилем.
Мистер Адамс уже оправился и разглагольствовал как ни в чем не бывало. Весь путь до Сентрал-парк-вест, где помещалась его квартира, старый Адамс уверял нас, что самое для нас важное – это наш будущий спутник.
– Нет, нет, нет! – кричал он. – Вы не понимаете. Это очень, очень важно!
Мы опечалились. Мы и сами знали, как это важно.
Дверь квартиры Адамсов нам открыла негритянка, за юбку которой держалась двухлетняя девочка. У девочки было твердое, литое тельце. Это был маленький Адамс без очков.
Она посмотрела на родителей и тоненьким голосом сказала:
– Папа энд мама.
Папа и мама застонали от удовольствия и счастья. Мы переглянулись в третий раз.
– О, у него еще и ребенок! Нет, это безусловно не гибрид!
Электрический стул
Американский писатель Эрнест Хемингуэй, автор недавно напечатанной в СССР «Фиесты», которая вызвала много разговоров в советских литературных кругах, оказался в Нью-Йорке в то же время, что и мы.
Хемингуэй приехал в Нью-Йорк на неделю. Он постоянно живет в Ки-Вест, маленьком местечке на самой южной оконечности Флориды. Он оказался большим человеком с усами и облупившимся на солнце носом. Он был во фланелевых штанах, шерстяной жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на босу ногу.
Все вместе мы стояли посреди гостиничного номера, в котором жил Хемингуэй, и занимались обычным американским делом – держали в руках высокие и широкие стопки с «гай-болом» – виски, смешанным со льдом. По нашим наблюдениям, с этого начинается в Америке всякое дело. Даже когда мы приходили по своим литературным делам в издательство «Фаррар энд Райнгардт», с которым связаны, то веселый рыжий мистер Фаррар, издатель и поэт, сразу же тащил нас в библиотеку издательства. Книг там было много, но зато стоял и большой холодильный шкаф. Из этого шкафа издатель вытаскивал различные бутылки и кубики льда, потом спрашивал, какой коктейль мы предпочитаем – «Манхэттен», «Баккарди», «Мартини»? – и сейчас же принимался его сбивать с такой сноровкой, словно никогда в жизни не издавал книг, не писал стихов, а всегда работал барменом. Американцы любят сбивать коктейли.
Заговорили о Флориде, и Хемингуэй сразу же перешел на любимую, как видно, тему:
– Когда будете совершать свое автомобильное путешествие, обязательно заезжайте ко мне, в Ки-Вест, будем там ловить рыбу.
И он показал руками, какого размера рыбы ловятся в Ки-Вест, то есть, как всякий рыболов, он расставил руки насколько мог широко. Рыбы выходили чуть меньше кашалота, но все-таки значительно больше акулы.
Мы тревожно посмотрели друг на друга и обещали во что бы то ни стало заехать в Ки-Вест, чтобы ловить рыбу и серьезно, не на ходу поговорить о литературе. В этом отношении мы были совершенно безрассудными оптимистами. Если бы пришлось выполнить все, что мы наобещали по части встреч и свиданий, то вернуться в Москву удалось бы не раньше тысяча девятьсот сорокового года. Очень хотелось ловить рыбу вместе с Хемингуэем, не смущал даже вопрос о том, как управляться со спиннингом и прочими мудреными приборами.
Зашел разговор о том, что мы видели в Нью-Йорке и что еще хотели бы посмотреть перед отъездом на Запад. Случайно заговорили о Синг-Синге. Синг-Синг – это тюрьма штата Нью-Йорк. Мы знали о ней с детства, чуть ли не по «выпускам», в которых описывались похождения знаменитых сыщиков – Ната Пинкертона и Ника Картера.
Вдруг Хемингуэй сказал:
– Вы знаете, у меня как раз сидит мой тесть. Он знаком с начальником Синг-Синга. Может быть, он устроит вам посещение этой тюрьмы.
Из соседней комнаты он вывел опрятного старичка, тонкую шею которого охватывал очень высокий старомодный крахмальный воротник. Старику изложили наше желание, на что он в ответ неторопливо пожевал губами, а потом неопределенно сказал, что постарается это устроить. И мы вернулись к прежнему разговору о рыбной ловле, о путешествиях и других прекрасных штуках. Выяснилось, что Хемингуэй хочет поехать в Советский Союз, на Алтай. Пока мы выясняли, почему он выбрал именно Алтай, и восхваляли также другие места Союза, совершенно забылось обещание насчет Синг-Синга. Мало ли что сболтнется во время веселого разговора, когда люди стоят с «гай-болом» в руках!
Однако уже через день выяснилось, что американцы совсем не болтуны. Мы получили два письма. Одно было адресовано нам. Тесть Хемингуэя учтиво сообщал в нем, что он уже переговорил с начальником тюрьмы, мистером Льюисом Льюисом, и что мы можем в любой день осмотреть Синг-Синг. Во втором письме старик рекомендовал нас мистеру Льюису Льюису.
Мы заметили эту американскую черту и не раз потом убеждались, что американцы никогда не говорят на ветер. Ни разу нам не пришлось столкнуться с тем, что у нас носит название «сболтнул» или еще грубее – «натрепался».
Один наш новый нью-йоркский приятель предложил нам однажды поехать на пароходе фруктовой компании на Кубу, Ямайку и в Колумбию. Он сказал, что поехать можно будет бесплатно, да еще мы будем сидеть за одним столом с капитаном. Больших почестей на море не воздают. Конечно, мы согласились.
– Очень хорошо, – сказал наш приятель. – Поезжайте вы в свое автомобильное путешествие, а когда вернетесь – позвоните мне. Все будет сделано.
На обратном пути из Калифорнии в Нью-Йорк мы почти ежедневно вспоминали об этом обещании. В конце концов, и оно ведь было дано за коктейлем. На этот раз это была какая-то сложная смесь с большими зелеными листьями, сахаром и вишенкой на дне бокала. Наконец из города Сан-Антонио, Техас, мы послали напоминающую телеграмму. И быстро получили ответ. Он был даже немножко обидчивым:
«Ваш тропический рейс давно устроен».
Мы так и не совершили этого тропического рейса – не было времени. Но воспоминание об американской точности и об умении американцев держать свое слово до сих пор утешает нас, когда мы начинаем терзаться мыслью, что упустили случай побывать в Южной Америке.
Мы попросили мистера Адамса поехать вместе с нами в Синг-Синг, и он, многократно назвав нас «сэрами» и «мистерами», согласился. На другой день утром мы поместились в адамсовский «крайслер» и после часового мыканья перед нью-йоркскими светофорами вырвались наконец из города. Вообще то, что называется уличным движением, в Нью-Йорке свободно может быть названо уличным стоянием. Стояния во всяком случае больше, чем движения.
Через тридцать миль пути обнаружилось, что мистер Адамс забыл название городка, где находится Синг-Синг. Пришлось остановиться. У края дороги рабочий сгружал с автомобиля какие-то аккуратные ящики. Мы спросили у него дорогу на Синг-Синг.
Он немедленно оставил работу и подошел к нам. Вот еще прекрасная черта. У самого занятого американца всегда найдется время, чтобы коротко, толково и терпеливо объяснить путнику, по какой дороге ему надо ехать. При этом он не напутает и не наврет. Уж если он говорит, значит, знает.
Закончив свои объяснения, рабочий улыбнулся и сказал:
– Торопитесь на электрический стул? Желаю успеха!
Потом еще два раза, больше для очистки совести, мы проверяли дорогу, и в обоих случаях мистер Адамс не забывал добавить, что мы торопимся на электрический стул. В ответ раздавался смех.
Тюрьма помещалась на краю маленького города – Осенинг. У тюремных ворот в два ряда стояли автомобили. Сразу защемило сердце, когда мы увидели, что из машины, подъехавшей одновременно с нами, вылез сутуловатый милый старичок с двумя большими бумажными кошелками в руках. В кошелках лежали пакеты с едой и апельсины. Старик побрел к главному входу, понес «передачу». Кто у него может там сидеть? Наверно, сын. И наверное, старик думал, что его сын тихий, чудный мальчик, а он, оказывается, бандит, а может быть – даже убийца. Тяжело жить старикам.
Торжественно-громадный, закрытый решеткой вход был высок, как львиная клетка. По обе стороны его в стену были вделаны фонари из кованого железа. В дверях стояли трое полицейских. Каждый из них весил по крайней мере двести английских фунтов. И это были фунты не жира, а мускулов, фунты, служащие для подавления, для усмирения.
Мистера Льюиса Льюиса в тюрьме не оказалось. Как раз в этот день происходили выборы депутата в конгресс штата Нью-Йорк, и начальник уехал. Но это ничего не значит, сказали нам. Известно, где находится начальник, и ему сейчас позвонят в Нью-Йорк.
Через пять минут уже был получен ответ от мистера Льюиса. Мистер Льюис очень сожалел, что обстоятельства лишают его возможности лично показать нам Синг-Синг, но он отдал распоряжение своему помощнику сделать для нас все, что только возможно.
После этого нас впустили в приемную, белую комнату с начищенными до самоварного блеска плевательницами, и заперли за нами решетку. Мы никогда не сидели в тюрьмах, и даже здесь, среди банковской чистоты и блеска, грохот запираемой решетки заставил нас вздрогнуть.
Помощник начальника Синг-Синга оказался человеком с суховатой и сильной фигурой. Мы немедленно начали осмотр.
Сегодня был день свиданий. К каждому заключенному – конечно, если он ни в чем не провинился, – могут прийти три человека. Большая комната разделена полированными поручнями на квадратики. В каждом квадрате друг против друга поставлены две короткие скамейки, ну, какие бывают в трамвае. На этих скамейках сидят заключенные и их гости. Свидание продолжается час. У выходных дверей стоит один тюремщик. Заключенным полагается серая тюремная одежда, но носить можно не весь костюм. Какая-нибудь его часть должна быть казенной – либо брюки, либо серый свитер. В комнате стоял ровный говор, как в фойе кинематографа. Дети, пришедшие на свидание с отцами, бегали к кранам пить воду. Знакомый нам старик не сводил глаз со своего милого сына. Негромко плакала женщина, и ее муж, заключенный, понуро рассматривал свои руки.
Обстановка свиданий такова, что гости, безусловно, могут передать заключенному какие-нибудь запрещенные предметы. Но это бесполезно. Каждого заключенного при возвращении в камеру сейчас же за дверью зала свиданий обыскивают.
По случаю выборов в тюрьме был свободный день. Переходя через дворы, мы видели небольшие группы арестантов, которые грелись на осеннем солнце либо играли в неизвестную нам игру с мячом (наш проводник сказал, что это итальянская игра и что в Синг-Синге сидит много итальянцев). Однако людей было мало. Большинство заключенных находилось в это время в зале тюремного кино.
– Сейчас в тюрьме сидит две тысячи двести девяносто девять человек, – сказал заместитель мистера Льюиса. – Из них восемьдесят пять человек приговорены к вечному заключению, а шестнадцать – к электрическому стулу. И все эти шестнадцать, несомненно, будут казнены, хотя и надеются на помилование.
Новые корпуса Синг-Синга очень интересны. Несомненно, что на их постройке сказался общий уровень американской техники возведения жилищ, а в особенности уровень американской жизни, то, что в Америке называется «стандард оф лайф».
Самое лучшее представление об американской тюрьме дала бы фотография, но, к сожалению, внутри Синг-Синга не разрешается фотографировать.
Вот что представляет собой тюремный корпус: шесть этажей камер, узких, как пароходные каюты, стоящих одна рядом с другой и снабженных вместо дверей львиными решетками. Вдоль каждого этажа идут внутренние металлические галереи, сообщающиеся между собой такими же металлическими лестницами. Меньше всего это похоже на жилье, даже тюремное. Утилитарность постройки придает ей заводской вид. Сходство с каким-то механизмом еще усиливается тем, что вся эта штука накрыта кирпичной коробкой, стены которой почти сплошь заняты окнами. Через них и проходит в камеру дневной и в небольшой степени солнечный свет, потому что в камерах окон нет.
В каждой камере-каютке есть кровать, столик и унитаз, накрытый лакированной крышкой. На гвоздике висят радионаушники. Две-три книги лежат на столе. К стене прибито несколько фотографий – красивые девушки, или бейсболисты, или ангелы господни, в зависимости от наклонности заключенного.
В трех новых корпусах каждый заключенный помещается в отдельной камере. Это тюрьма усовершенствованная, американизированная до предела, удобная, если можно применить такое честное, хорошее слово по отношению к тюрьме. Здесь светло и воздух сравнительно хорош.
– В новых корпусах, – сказал наш спутник, – помещается тысяча восемьсот человек. Остальные пятьсот находятся в старом здании, построенном сто лет тому назад. Пойдемте.
Вот это была уже настоящая султанско-константинопольская тюрьма.
Встать во весь рост в этих камерах нельзя. Когда садишься на кровать, колени трутся о противоположную стену. Две койки помещаются одна над другой. Темно, сыро и страшно. Тут уже нет ни сверкающих унитазов, ни умиротворяющих картинок с ангелами.
Как видно, на наших лицах что-то отразилось, потому что помощник начальника поспешил развеселить нас.
– Когда вас пришлют ко мне, – сказал он, – я помещу вас в новый корпус. Даже найду вам камеру с видом на Гудзон, у нас есть такие для особо заслуженных заключенных.
И он добавил уже совершенно серьезно:
– У вас, я слышал, пенитенциарная система имеет своей целью исправление преступника и возвращение его в ряды общества. Увы, мы занимаемся только наказанием преступников.
Мы заговорили о вечном заключении.
– У меня сейчас есть арестант, – сказал наш проводник, – который сидит уже двадцать два года. Каждый год он подает просьбу о помиловании, и каждый раз, когда рассматривается его дело, просьбу решительно отклоняют, такое зверское преступление совершил он когда-то. Я бы его выпустил. Это совершенно другой теперь человек. Я бы вообще выпустил из тюрьмы половину заключенных, так как они, по-моему, не представляют опасности для общества. Но я только тюремщик и сам ничего не могу сделать.
Нам показали еще больницу, библиотеку, зубоврачебный кабинет, в общем – все богоугодные и культурно-просветительные учреждения. Мы подымались на лифтах, шли по прекрасным коридорам. Конечно, ничего из средств принуждения – карцеров и тому подобных вещей – нам не показывали, и мы об этом, из вполне понятной вежливости, не просили.
В одном из дворов мы подошли к одноэтажному глухому кирпичному дому, и помощник начальника собственноручно отпер двери большим ключом. В этом доме по приговорам суда штата Нью-Йорк производятся казни на электрическом стуле.
Стул мы увидели сразу.
Он стоял в поместительной комнате без окон, свет в которую проникал через стеклянный фонарь в потолке. Мы сделали два шага по белому мраморному полу и остановились. Позади стула, на двери, противоположной той, через которую мы вошли, большими черными буквами было выведено:
«Сайленс!» – «Молчание!»
Через эту дверь вводят приговоренных.
О том, что их просьба о помиловании отвергнута и что казнь будет приведена в исполнение сегодня же, приговоренным сообщают рано утром. Тогда же приговоренного приготовляют к казни – выбривают на голове небольшой кружок, для того чтобы электрический ток беспрепятственно мог сделать свое дело.
Целый день приговоренный сидит в своей камере. Теперь, с выбритым на голове кружком, ему надеяться уже не на что.
Казнь совершается в одиннадцать-двенадцать часов ночи.
– То, что человек в течение целого дня испытывает предсмертные мученья, очень печально, – сказал наш спутник, – но тут мы ничего не можем сделать. Это – требование закона. Закон рассматривает эту меру как дополнительное наказание.
На этом стуле были казнены двести мужчин и три женщины, между тем стул выглядел совсем как новый.
Это был деревянный желтый стул с высокой спинкой и с подлокотниками. У него был на первый взгляд довольно мирный вид, и, если бы не кожаные браслеты, которыми захватывают руки и ноги осужденного, он легко мог бы стоять в каком-нибудь высоконравственном семействе. На нем сидел бы глуховатый дедушка, читал бы себе свои газеты.
Но уже через мгновенье стул показался очень неприятным. Особенно угнетали отполированные подлокотники. Лучше было не думать о тех, кто их отполировал своими локтями.
В нескольких метрах от стула стояли четыре прочные вокзальные скамьи. Это для свидетелей. Еще стоял небольшой столик. В стену вделан был умывальник. Вот и все, вся обстановка, в которой совершается переход в лучший мир из худшего. Не думал, наверно, юный Томас Альва Эдисон, что электричество будет исполнять и такие мрачные обязанности.
Дверь в левом углу вела в помещение размером чуть побольше телефонной будки. Здесь на стене находился мраморный распределительный щит, самый обыкновенный щит с тяжеловесным старомодным рубильником, какой можно увидеть в любой механической мастерской или в машинном отделении провинциального кинематографа. Включается рубильник, и ток с громадной силой бьет через шлем в голову подсудимого – вот и все, вся техника.
– Человек, включающий ток, – сказал наш гид, – получает сто пятьдесят долларов за каждое включение. От желающих нет отбоя.
Конечно, все слышанные нами когда-то разговоры о том, что якобы три человека включают ток и что ни один из них не знает, кто действительно привел казнь в исполнение, оказались выдумкой. Нет, все это гораздо проще. Сам включает и сам все знает и одного только боится, как бы конкуренты не перехватили выгодную работенку.
Из комнаты, где совершается казнь, дверь вела в анатомический покой, а еще дальше была совсем уже тихая комнатка, до самого потолка заполненная простыми деревянными гробами.
– Гробы делают заключенные у нас же в тюрьме, – сообщил наш проводник.
Ну ладно, кажется, насмотрелись! Можно идти!
Внезапно мистер Адамс попросился на электрический стул, чтобы испытать ощущение приговоренного к смерти.
– Но, но, сэры, – пробормотал он, – это не займет слишком много времени.
Он прочно утвердился на просторном сиденье и торжественно посмотрел на всех. С ним стали проделывать обычный обряд. Пристегнули к спинке стула кожаным широким поясом, ноги прижали браслетами к дубовым ножкам, руки привязали к подлокотникам. Шлем надевать на мистера Адамса не стали, но он так взмолился, что к его сверкающей голове приложили обнаженный конец провода. На минуту стало очень страшно. Взгляд мистера Адамса сверкал невероятным любопытством. Сразу было видно, что он из тех людей, которым все хочется проделать на себе, до всего дотронуться своими руками, все увидеть и все услышать самому.
Перед тем как покинуть Синг-Синг, мы вошли в помещение церкви, где в это время шел киносеанс. Полторы тысячи арестантов смотрели картину «Доктор Сократ». Здесь обнаружилось похвальное стремление администрации дать заключенным самую свежую картину. Действительно, «Доктор Сократ» шел в этот день в Осенинге, на воле. Вызывало, однако, изумление то, что картина была из бандитской жизни. Показывать ее заключенным было все равно что дразнить алкоголика видом бутылки с водкой. Было уже поздно, мы поблагодарили за любезный прием, львиная клетка растворилась, и мы ушли. После сидения на электрическом стуле мистер Адамс внезапно впал в меланхолию и молчал всю дорогу.
На обратном пути мы увидели грузовой автомобиль, сошедший с дороги. Задняя половина его была снесена начисто. Толпа обсуждала происшествие. В другом месте еще большая толпа слушала оратора, распространявшегося насчет сегодняшних выборов. Здесь все автомобили несли на своих задних стеклах избирательные листовки. Еще дальше – в рощах и лесках догорала безумная осень.
Вечером мы пошли смотреть счастье среднего американца – пошли в ресторан «Голливуд».
Было семь часов. Электрическое панно величиной в полдома горело над входом в ресторан. Молодые люди в полувоенной форме, принятой для прислуги в отелях, ресторанах и театриках, ловко подталкивали входящих. В подъезде висели фотографии голых девушек, изнывающих от любви к населению.
Как во всяком ресторане, где танцуют, середина «Голливуда» была занята продолговатой площадкой. По сторонам площадки и немного подымаясь над ней помещались столики. Над всем возвышался многолюдный джаз.
Джаз можно не любить, в особенности легко разлюбить его в Америке, где укрыться от него невозможно. Но, вообще говоря, американские джазы играют хорошо. Джаз ресторана «Голливуд» представлял собой на диво слаженную эксцентрическую музыкальную машину, и слушать его было приятно.
Когда тарелки с малоинтересным и нисколько не воодушевляющим американским супом стояли уже перед нами, из-за оркестра внезапно выскочили девушки, голые наполовину, голые на три четверти и голые на девять десятых. Они ревностно заскакали на своей площадке, иногда попадая перьями в тарелки с супом или баночки с горчицей.
Вот так, наверно, суровые воины Магомета представляли себе рай – на столе еда, в помещении тепло, и гурии делают свое старинное дело.
Потом девушки еще много раз выбегали: в промежутке между первым и вторым, перед кофе, во время кофе. Хозяин «Голливуда» не давал им лениться.
Это соединение примитивной американской кулинарии со служебным сладострастием внесло в наши души некоторое смятение.
Ресторан был полон. Обед здесь обходился доллара в два на одного человека. Значит, средненький нью-йоркский человек может прийти сюда раз в месяц, а то и реже. Зато он наслаждается вовсю. Он и слушает джаз, и ест котлетку, и любуется гуриями, и сам танцует.
Лица у одних танцовщиц были тупые, у других – жалкие, у третьих – жестокие, но у всех одинаково усталые.
Мы попрощались. Нам было грустно от нью-йоркского счастья.
Большая нью-йоркская арена
Члены клуба «Немецкое угощение» собираются каждый вторник в белом зале нью-йоркского отеля «Амбассадор».
Само название клуба дает точное представление о правах и обязанностях его членов. Каждый платит за себя. На этой мощной экономической базе объединилось довольно много журналистов и писателей. Но есть исключение. Почетные гости не платят. Зато они обязаны произнести какую-нибудь смешную речь. Все равно о чем, лишь бы речь была смешная и короткая. Если никак не выйдет смешная, то короткой она должна быть в любом случае, потому что собрания происходят во время завтрака и все торжество продолжается только один час.
В награду за речь гость получает легкий завтрак и большую гипсовую медаль клуба, на которой изображен гуляка в продавленном цилиндре, дрыхнущий под сенью клубных инициалов.
При общих рукоплесканиях медали навешиваются гостям на шею, и все быстро расходятся. Вторник – деловой день, все члены «Немецкого угощения» – деловые люди. В начале второго все они уже сидят в своих офисах и делают бизнес. Двигают культуру или просто зарабатывают деньги.
На таком собрании мы увидели директора «Медисон-сквер-гарден», самой большой нью-йоркской арены, где устраиваются самые большие матчи бокса, самые большие митинги, вообще все самое большое.
В этот вторник гостями были мы, приезжие советские писатели, известный американский киноактер и директор «Медисон-сквер-гарден», о котором только что говорилось.
Мы сочинили речь, упирая главным образом не на юмор, а на лаконичность, – и последней достигли вполне. Речь перевели на английский язык, и один из нас, нисколько не смущаясь тем, что находится в столь большом собрании знатоков английского языка, прочел ее по бумажке.
Вот она в обратном переводе с английского на русский:
«Мистер председатель и джентльмены!
Мы совершили большое путешествие и покинули Москву, чтобы познакомиться с Америкой. Кроме Нью-Йорка, мы успели побывать в Вашингтоне и Гартфорде. Мы прожили в Нью-Йорке месяц и к концу этого срока почувствовали, что успели полюбить ваш великий, чисто американский город.
Внезапно нас облили холодной водой.
– Нью-Йорк – это вовсе не Америка, – сказали нам наши новые друзья. – Нью-Йорк – это только мост между Европой и Америкой. Вы все еще находитесь на мосту.
Тогда мы поехали в Вашингтон, округ Колумбия – столицу Соединенных Штатов, будучи легкомысленно уверены в том, что этот город уже безусловно является Америкой. К вечеру второго дня мы с удовлетворением почувствовали, что начинаем немножко разбираться в американской жизни.
– Вашингтон – это совсем не Америка, – сказали нам, – это город государственных чиновников. Если вы хотите действительно узнать Америку, то вам здесь нечего делать.
Мы покорно уложили свои поцарапанные чемоданы в автомобиль и поехали в Гартфорд, штат Коннектикут, где провел свои зрелые годы великий американский писатель Марк Твен.
Здесь нас сразу же честно предупредили:
– Имейте в виду, Гартфорд – это еще не Америка.
Когда мы все-таки стали допытываться насчет местонахождения Америки, гартфордцы неопределенно указывали куда-то в сторону.
Теперь мы пришли к вам, мистер председатель и джентльмены, чтобы просить вас указать нам, где же находится Америка, потому что мы специально приехали сюда, чтобы познакомиться с ней как можно лучше».
Речь имела потрясающий успех. Члены клуба «Немецкое угощение» аплодировали ей очень долго. Только потом уже мы выяснили, что большинство членов клуба не разобрало в этой речи ни слова, ибо странный русско-английский акцент оратора совершенно заглушил таившиеся в ней глубокие мысли.
Впрочем, мистер председатель, сидевший рядом с нами, как видно, уловил смысл речи. Обратив к нам свое худое и умное лицо, он постучал молоточком и, прекратив таким образом бурю аплодисментов, сказал в наступившей тишине:
– Я очень сожалею, но и сам не мог бы сказать вам сейчас, где находится Америка. Приезжайте сюда снова к третьему ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года – и тогда будет ясно, что такое Америка и где она находится.
Это был остроумный и единственно правильный ответ на наш вопрос. Третьего ноября произойдут президентские выборы, и американцы считают, что только тогда определится путь, по которому Америка пойдет.
Затем слово было предоставлено рослому мужчине, которого председатель именовал полковником. Полковник немедленно зарявкал, насмешливо поглядывая на собравшихся.
– Мой бизнес, – сказал он, – заключается в том, что я сдаю помещение «Медисон-сквер-гарден» всем желающим. И все, что происходит на свете, мне выгодно. Коммунисты устраивают митинг против Гитлера – я сдаю свой зал коммунистам. Гитлеровцы устраивают митинг против коммунистов – я сдаю зал гитлеровцам. В моем помещении сегодня демократы проклинают республиканцев, а завтра республиканцы доказывают с этой же трибуны, что мистер Рузвельт большевик и ведет Америку к анархии. У меня зал для всех. Я делаю свой бизнес. Но все-таки у меня есть убеждения. Недавно защитники Бруно Гауптмана, который убил ребенка Линдберга, хотели снять мой зал для агитации в пользу Гауптмана. И вот этим людям я не дал своего зала. А все прочие – пожалуйста, приходите. Платите деньги и занимайте места, кто бы вы ни были – большевики, анархисты, реакционеры, баптисты, – мне все равно.
Прорявкав это, мужественный полковник уселся на свое место и стал допивать кофе.
В «Медисон-сквер-гарден», в этом «зале для всех», по выражению полковника, мы увидели большой матч бокса между бывшим чемпионом мира, итальянцем Карнерой, и немецким боксером, не самым лучшим, но первоклассным.
Арена «Медисон-сквер-гарден» представляет собой не круг, как обычные цирковые арены, а продолговатый прямоугольник. Вокруг прямоугольника довольно крутыми откосами подымаются ряды стульев. Еще до матча глазам зрителя предстает внушительное зрелище – он видит двадцать пять тысяч стульев сразу: в театре двадцать пять тысяч мест. По случаю бокса – стулья стояли также на арене, вплотную окружая высокий ринг.
Сильный белый свет падал на площадку ринга. Весь остальной цирк был погружен в полумрак. Резкие крики продавцов в белых двурогих колпаках разносились по громадному зданию. Продавцы, пробираясь между рядами, предлагали соленые орешки, соленые бисквиты, резиновую жвачку и маленькие бутылочки с виски. Американцы по своей природе – жующий народ. Они жуют резинку, конфетки, кончики сигар, их челюсти постоянно движутся, стучат, хлопают.
Карнера выступал в предпоследней паре. Под оглушительные приветствия он вышел на ринг и осмотрелся тем мрачно-растерянным взглядом, которым обычно обладают все чересчур высокие и сильные люди. Это взгляд человека, все время боящегося кого-то или что-то раздавить, сломать, исковеркать.
Карнеру на его родине, в Италии, называют даже не по фамилии. У него есть кличка – «Иль гиганте». «Иль гиганте» – непомерно долговязый и длиннорукий человек. Если бы он был кондуктором московского трамвая, то мог бы свободно принимать гривенники от людей, стоящих у передней площадки. «Иль гиганте» сбросил яркий халат и показался во всей своей красе, длинный, костлявый, похожий на недостроенный готический собор.
Его противником был плотный белокурый немец среднего роста.
Раздался сигнал, мэнеджеры посыпались с ринга, и Карнера спокойно принялся колотить немца. Даже не колотить, а молотить. Крестьянин Карнера словно производил привычную для него сельскохозяйственную работу. Его двухметровые руки мерно вздымались и опускались. Чаще всего они попадали в воздух, но в тех редких случаях, когда они опускались на немца, нью-йоркская публика кричала: «Карнера! Бу-у!» Неравенство сил противников было слишком очевидно. Карнера был гораздо выше и тяжелее немца.
Тем не менее зрители кричали и волновались, словно исход борьбы не был предрешен заранее. Американцы очень крикливые зрители. Иногда кажется даже, что они приходят на бокс или футбол не смотреть, а покричать. В продолжение всего матча стоял рев. Если зрителям что-нибудь не нравилось или они считали, что один из боксеров неправильно дерется, трусит или мошенничает, то все они хором начинали гудеть: «Бу-у-у! Бу-у-у!», и аудитория превращалась в собрание симпатичных бизонов в мягких шляпах. Кроме того, зрители своим криком помогали дерущимся. За три с половиной раунда, в течение которых шла борьба между Карнерой и немцем, зрители потратили столько сил, сделали столько движений, что при правильном использовании этой энергии можно было бы построить шестиэтажный дом с лифтами, плоской крышей и кафетерией в первом этаже.
Третий раунд немец закончил почти ослепленный. У него был задет глаз. А в середине четвертого раунда он внезапно махнул рукой, как карточный игрок, которому не везет, и ушел с ринга, отказавшись продолжать бой.
Ужасное «Бу-у-у! Бу-у-у!» огласило беспредельные пространства цирка. Это было вовсе не спортивно – уходить с ринга. С ринга боксеров должны уносить, и именно за это зрители платят деньги. Но немцу, как видно, так тошно было представлять себе, как он через минуту или две получит нокаут, что он решил больше не драться.
Зрители бубукали все время, покуда несчастный боксер пробирался за кулисы. Они были так возмущены поведением немца, что даже не слишком приветствовали победителя. «Иль гиганте» поднял сложенные руки над головой, потом надел роскошный, как у куртизанки, шелковый халат, нырнул под веревки ринга и степенно отправился переодеваться, отправился походкой старой работящей лошади, возвращающейся в конюшню, чтобы засунуть свою длинную морду в торбу с овсом.
Последняя пара не представляла интереса. Вскоре мы вместе со всеми выходили из цирка. У выхода газетчики продавали ночные издания «Дейли Ньюс» и «Дейли Миррор», на первой странице которых афишными буквами было напечатано сообщение о том, что Карнера на четвертом раунде победил своего противника. От той минуты, когда это событие произошло, до того момента, как мы купили газету с сообщением о матче, прошло не больше получаса.
В ночном небе пылала электрическая надпись: «Джек Демпсей». Великий чемпион бокса, закончив свою карьеру на ринге, открыл поблизости от «Медисон-сквер-гарден» бар и ресторан, где собираются любители спорта. Никому из американцев не придет, конечно, в голову мысль укорить Демпсея в том, что из спортсмена он превратился в содержателя бара. Человек зарабатывает деньги, делает свой бизнес. Не все ли равно, каким способом заработаны деньги? Те деньги лучше, которых больше!
Бокс может нравиться или не нравиться. Это частное дело каждого человека. Но бокс – все-таки спорт; может быть – тяжелый, может быть – даже ненужный, но спорт. Что же касается американской борьбы, то она представляет собой зрелище нисколько не спортивное, хотя и удивительное.
Мы видели такую борьбу в «Медисон-сквер-гарден».
По правилам американской борьбы… Впрочем, зачем говорить о правилах, когда особенность этой борьбы заключается именно в том, что правил никаких нет! Можно делать что угодно: выламывать противнику руки; запихивать ему пальцы в рот, стараясь этот последний разорвать, в то время как противник пытается чужие пальцы откусить; таскать за волосы; просто бить; рвать ногтями лицо; тянуть за уши; душить за глотку – все можно делать. Эта борьба называется «реслинг» и вызывает у зрителя неподдельный интерес.
Борцы валяются на ринге, прищемив друг друга, лежат так по десять минут, плачут от боли и гнева, сопят, отплевываются, визжат, вообще ведут себя омерзительно и бесстыдно, как грешники в аду.
Омерзение еще увеличивается, когда через полчаса начинаешь понимать, что все это глупейший обман, что здесь нет даже простой уличной драки между двумя пьяными хулиганами. Если один сильный человек хочет сломать руку другому, то, изловчившись, он всегда может это сделать. В «реслинге» же, несмотря на самые ужасные захваты, членовредительства мы не видели. Но американцы, как дети, верят этому наивному обману и замирают от восторга.
Разве можно сравнить это вульгарное зрелище с состязаниями ковбоев! На этой же прямоугольной арене, оскверненной «реслингом», мы видели «родео» – состязания пастухов с Запада.
На этот раз не было ни ринга, ни стульев. Чистый песок лежал от края до края огромной арены. На трибуне сидели оркестранты в ковбойских шляпах и изо всех сил дули в свои валторны и тромбоны.
Раскрылись ворота в сплошном деревянном барьере, и начался парад участников. На славных лошадках ехали представители романтических штатов Америки – ковбои и каугерлс (пастухи и пастушки) из Техаса, Аризоны, Невады. Колыхались поля исполинских шляп, девушки приветствовали публику мужественным поднятием руки. На арене было уже несколько сот всадников, а из ворот ехали все новые и новые ковбои.
Торжественная часть окончилась, началась художественная.
Ковбои по очереди выезжали из ворот верхом на низкорослых и бешено подскакивающих быках. По всей вероятности, этим быкам перед выходом на арену чем-то причиняли боль, потому что брыкались они невероятно. Задача всадника состояла в том, что ему надо было продержаться на спине животного как можно дольше, не хватаясь за него рукой и держа в правой руке шляпу. Под потолком висел огромный секундомер, за которым мог следить весь зал. Один ковбой держался на осатаневшем быке семнадцать секунд, другой – двадцать пять. Некоторых всадников быки сбрасывали на землю уже на второй или третьей секунде. Победителю удалось продержаться что-то такое секунд сорок. У ковбоев были напряженные, застенчивые лица деревенских парней, не желающих осрамиться перед гостями.
Потом ковбои один за другим выносились на лошадях, размахивая свернутым в моток лассо. Перед лошадью, задрав хвостик, восторженным галопом скакал теленок. Опять пускали секундомер. Неожиданно веревка лассо вылетала из руки ковбоя. Петля вела себя в воздухе как живая. Секунду она висела над головой теленка, а уже в следующую секунду теленок лежал на земле, и спешившийся ковбой бежал к нему, чтобы с возможной быстротой связать теленка по всем правилам техасской науки и превратить его в тщательно упакованную, хотя и отчаянно мычащую покупку.
Любители «родео» вопили и записывали в книжечки секунды и доли секунд.
Самое трудное было оставлено на конец. Тут ковбоям было над чем поработать. Из ворот выпустили бодливую, злую корову. Она неслась по арене с такой быстротой, какой никак нельзя было ожидать от этого в общем смирного животного. Ковбой гнался за коровой на лошади, на всем скаку прыгнул ей на шею и, схватив за рога, пригнул к земле. Самым важным и самым трудным было повалить корову на землю. Многим этого так и не удалось сделать. Повалив корову, надо было связать ей все четыре ноги и выдоить в бутылочку, которую ковбой торопливо вытаскивал из кармана, хоть немного молока. На все это давалась только одна минута. Подоив корову, ковбой торжественно поднял над головой бутылочку и радостно побежал за загородку.
Блестящие упражнения пастухов, их минорные песни и черные гитары заставили нас забыть тяжкое хлопанье боксерских перчаток, раскрытые слюнявые пасти и заплаканные лица участников американской борьбы «реслинг».
Полковник оказался прав. На его арене можно было увидеть и хорошее и плохое.
Мы покупаем автомобиль и уезжаем
По дороге в Синг-Синг, даже раньше, еще за завтраком с мистером Адамсом, мы стали уговаривать его поехать с нами в большое путешествие по Америке. Так как никаких аргументов у нас не было, то мы монотонно повторяли одно и то же:
– Ну, поедем с нами! Это будет очень интересно!
Мы уговаривали его так, как молодой человек уговаривает девушку полюбить его. Никаких оснований у него на это нет, но ему очень хочется, чтоб его кто-нибудь полюбил. Вот он и канючит.
Мистер Адамс ничего на это не отвечал, смущенный, как молодая девушка, или же старался перевести разговор на другую тему.
Тогда мы усиливали нажим. Мы придумали пытку, которой подвергали доброго пожилого джентльмена целую неделю.
– Имейте в виду, мистер Адамс, вы будете причиной нашей гибели. Без вас мы пропадем в этой стране, переполненной гангстерами, бензиновыми колонками и яйцами с ветчиной. Вот запаршивеем на ваших глазах в этом Нью-Йорке – и пропадем.
– Но, но, сэры, – говорил мистер Адамс, – но! Не нужно так сразу. Это будет непредусмотрительно поступать так. Да, да, да! Вы этого не понимаете, мистер Илф и мистер Петров!
Но мы безжалостно продолжали эти разговоры, чувствуя, что наш новый друг колеблется и что нужно как можно скорее ковать это толстенькое, заключенное в аккуратный серый костюм железо, покуда оно горячо.
Мистер Адамс и его жена принадлежали к тому сорту любящих супругов, которые понимают один другого с первого взгляда.
Во взгляде миссис Адамс можно было прочесть:
«Я знаю, тебе очень хочется поехать. Ты просто еле удерживаешься от того, чтобы не броситься в путь с первыми подвернувшимися людьми. Такая уж у тебя натура. Тебе ничего не стоит бросить меня и бэби. Ты любопытен, как негритенок, хотя тебе уже шестьдесят три года. Подумай, сколько раз ты пересекал Америку и на автомобиле и в поезде! Ты же знаешь ее как свою квартиру. Но если ты хочешь еще раз посмотреть ее, то поезжай. Я готова для тебя на все. Только одно мне непонятно – кто будет у вас управлять машиной? Впрочем, делайте как знаете. А обо мне лучше не думать совсем».
«Но, но, Бекки! – читалось в ответном взгляде мистера Адамса. – Это будет неверно и преждевременно думать обо мне так мрачно. Я вовсе никуда не хочу ехать. Просто хочется помочь людям. И потом, я пропаду без тебя. Кто будет мне брить голову? Лучше всего поезжай с нами. Ты еще более любопытна, чем я. Все это знают. Поезжай! Кстати, ты будешь вести машину».
«А бэби?» – отвечал взгляд миссис Адамс.
«Да, да! Бэби! Это ужасно: я совсем забыл!»
Когда безмолвный разговор доходил до этого места, мистер Адамс поворачивался к нам и восклицал:
– Но, но, сэры! Это невозможно!
– Почему же невозможно? – ныли мы. – Все возможно. Так будет хорошо. Мы будем ехать, делать привалы, останавливаться в гостиницах.
– Кто же останавливается в гостиницах! – закричал вдруг мистер Адамс. – Мы будем останавливаться в турист-гаузах или кэмпах.
– Вот видите, – подхватывали мы, – вы все знаете, поедем. Ну, поедем! Честное слово! Миссис Адамс, поедем с нами! Поедем! Поедем всей семьей!
– А бэби? – закричали оба супруга.
Мы легкомысленно ответили:
– Бэби можно отдать в ясли.
– Но, но, сэры! О, но! Вы забыли! Тут нет яслей. Вы не в Москве.
Это было верно. Мы были не в Москве. Из окон квартиры мистера Адамса были видны обнаженные деревья Сентрал-парка, и из Зоологического сада доносились хриплые крики попугаев, подражавших автомобильным гудкам.
– Тогда отдайте ее знакомым, – продолжали мы.
Супруги призадумались. Но тут все испортила сама бэби, которая вошла в комнату в ночном комбинезоне с вышитым на груди Микки-Маусом. Она пришла проститься, прежде чем лечь спать. Родители со стоном бросились к своей дочке. Они обнимали ее, целовали и каждый раз оборачивались к нам. Теперь во взглядах обоих можно было прочесть одно и то же: «Как? Обменять такую чудную девочку на этих двух иностранцев? Нет, этого не будет!»
Появление бэби отбросило нас почти к исходным позициям. Надо было все начинать сначала. И мы повели новые атаки:
– Какое прекрасное дитя! Сколько ей? Неужели только два года? На вид можно дать все восемь. Удивительно самостоятельный ребенок! Вы должны предоставить ей больше свободы! Не кажется ли вам, что постоянная опека родителей задерживает развитие ребенка?
– Да, да, да, мистеры! – говорил счастливый отец, прижимая к своему животу ребенка. – Это просто шутка с вашей стороны.
Когда ребенка уложили спать, мы для приличия минут пять поговорили о том о сем, а затем снова стали гнуть свою линию.
Мы сделали множество предложений насчет бэби, но ни одно из них не подходило. В совершенном отчаянии мы вдруг сказали, просто сболтнули:
– А нет ли у вас какой-нибудь почтенной дамы, которая могла бы жить с бэби во время вашего отсутствия?
Оказалось, что такая дама, кажется, есть. Мы уже стали развивать эту идею, как мистер Адамс вдруг поднялся. Стекла его очков заблистали. Он стал очень серьезен.
Сэры! Нам нужно два дня, чтобы решить этот вопрос.
Два дня мы слонялись по Нью-Йорку, надоедая друг другу вопросами о том, что будет, если Адамсы откажутся с нами ехать. Где мы тогда найдем идеальное существо? И мы подолгу стояли перед витринами магазинов дорожных вещей. Сумки из шотландской ткани с застежками-молниями, рюкзаки из корабельной парусины, мягкие кожаные чемоданы, пледы и термосы – все здесь напоминало о путешествии и манило к нему.
Точно в назначенный срок в нашем номере появился мистер Адамс. Его нельзя было узнать. Он был медлителен и торжествен. Его жилет был застегнут на все пуговицы. Так приходит посол соседней дружественной державы к министру иностранных дел и сообщает, что правительство его величества считает себя находящимся в состоянии войны с державой, представителем которой и является означенный министр иностранных дел.
– Мистер Илф и мистер Петров, – сказал маленький толстяк, пыхтя и вытирая с лысины ледяной пот, – мы решили принять ваше предложение.
Мы хотели его обнять, но он не дался, сказав:
– Сэры, это слишком серьезный момент. Нельзя больше терять времени. Вы должны понять это, сэры.
За эти два дня мистер Адамс не только принял решение, но и детально разработал весь маршрут. От этого маршрута кружилась голова.
Сначала мы пересекаем длинный и узкий штат Нью-Йорк почти во всю его длину и останавливаемся в Скенектеди – городе электрической промышленности. Следующая большая остановка – Буффало.
– Может быть, это слишком тривиально – смотреть Ниагарский водопад, но, сэры, это надо видеть.
Потом, по берегу озера Онтарио и озера Эри, мы поедем в Детройт. Здесь мы посмотрим фордовские заводы. Затем – в Чикаго. После этого путь идет в Канзас-сити. Через Оклахому мы попадаем в Техас. Из Техаса в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Тут мы побываем на индейской территории. За Альбукерком мы переваливаем через Скалистые горы и попадаем в Грэнд-кэньон. Потом – Лас-Вегас и знаменитая плотина на реке Колорадо – Боулдер-дам. И вот мы в Калифорнии, пересекши хребет Сиерра-Невады. Затем Сан-Франциско, Лос-Анжелос, Голливуд, Сан-Диэго. Назад, от берегов Тихого океана, мы возвращаемся вдоль мексиканской границы, через Эль-Пасо, Сан-Антонио и Юстон. Здесь мы движемся вдоль Мексиканского залива. Мы уже в черных штатах – Луизиана, Миссисипи, Алабама. Мы останавливаемся в Нью-Орлеане и через северный угол Флориды, через Талагасси, Саванну и Чарльстон движемся к Вашингтону, столице Соединенных Штатов.
Сейчас легко писать обо всем этом, а тогда… Сколько было криков, споров, взаимных убеждений! Всюду хотелось побывать, но ограничивал срок. Все автомобильное путешествие должно было занять два месяца, и ни одним днем больше. Адамсы решительно заявили, что могут расстаться с бэби только на шестьдесят дней.
Остановка была за автомобилем. Какой купить автомобиль?
Хотя заранее было известно, что будет куплен самый дешевый автомобиль, какой только найдется на территории Соединенных Штатов, но мы решили посетить автомобильный салон тысяча девятьсот тридцать шестого года. Был ноябрь месяц тысяча девятьсот тридцать пятого года, и салон только что открылся.
В двух этажах выставочного помещения было собрано, как в фокусе, все сказочное сиянье автомобильной Америки. Не было ни оркестров, ни пальм, ни буфетов – словом, никаких дополнительных украшений. Автомобили сами были так красивы, что не нуждались ни в чем. Благородный американский технический стиль заключается в том, что суть дела не засорена ничем посторонним. Автомобиль есть тот предмет, из-за которого сюда пришли. И здесь существует только он. Его можно трогать руками, в него можно садиться, поворачивать руль, зажигать фары, копаться в моторе.
Длинные тела дорогих «паккардов», «кадиллаков» и «роллс-ройсов» стояли на зеркальных стендах. На отдельных площадках вращались специально отполированные шасси и моторы. Кружились и подскакивали никелированные колеса, показывая эластичность рессор и амортизаторов.
Каждая фирма демонстрировала собственный технический трюк, какое-нибудь усовершенствование, заготовленное для того, чтобы окончательно раздразнить покупателя, вывести его (а главным образом его жену) из состояния душевного равновесия.
Все автомобили, которые выставила фирма «Крайслер», были золотого цвета. Бывают такие жуки, кофейно-золотые. Стон стоял вокруг этих автомобилей. Хорошенькие худенькие американочки, с голубыми глазами весталок, готовы были совершить убийство, чтобы иметь такую машину. Их мужья бледнели при мысли о том, что сегодня ночью им придется остаться наедине со своими женами и убежать будет некуда. Много, много бывает разговоров в Нью-Йорке в ночь после открытия автомобильного салона! Худо бывает мужчине в день открытия выставки! Долго он будет бродить вокруг супружеского ложа, где, свернувшись котеночком, лежит любимое существо, и бормотать:
– Мисси, ведь наш «плимут» сделал только двадцать тысяч миль. Ведь это идеальная машина.
Но существо не будет даже слушать своего мужа. Оно будет повторять одно и то же, одно и то же:
– Хочу золотой «крайслер»!
И в эту ночь честная супружеская кровать превратится для мужа в утыканное гвоздями ложе индийского факира.
Но низкие могучие «корды» с хрустальными фонарями, скрывающимися в крыльях для пущей обтекаемости, заставляют забыть о золотых жуках. Американочки забираются в эти машины и сидят там целыми часами, не в силах выйти. В полном расстройстве чувств, они нажимают кнопку, и фонари торжественно выползают из крыльев. Снова они касаются кнопки, и фонари прячутся в свои гнезда. И снова ничего не видно снаружи – голое сверкающее крыло.
Но все блекнет – и золото и хрусталь – перед изысканными и старомодными на вид формами огромных «роллс-ройсов». Сперва хочется пройти мимо этих машин. Сперва даже удивляешься: почему среди обтекаемых моделей, прячущихся фар и золотых колеров стоят эти черные простые машины! Но стоит только присмотреться, и становится ясным, что именно это самое главное. Это машина на всю жизнь, машина для сверхбогатых старух, машина для принцев. Тут Мисси замечает, что никогда не достигнет полного счастья, что никогда не будет принцессой. Для этого ее Фрэнк зарабатывает в своем офисе слишком мало денег.
Никогда этот автомобиль не выйдет из моды, не устареет, как не старятся бриллианты и соболя. Ох, туда даже страшно было садиться! Чувствуешь себя лордом-хранителем печати, который потерял печать и сейчас будет уволен.
Мы посидели в «роллс-ройсе» и решили его не покупать. Это было для нас слишком роскошно. Он едва ли пригодился бы нам в том суровом путешествии, которое вам предстояло. Кстати, и стоил он много тысяч долларов.
Потом мы кочевали из машины в машину. Сидели мы и в голубом «бьюике», и в маленьком и дешевом «шевроле», вызывали мы нажатием кнопки кордовские фары из их убежища, ощупывали «плимуты», «олдсмобили», «студебеккеры», «гудзоны», «нэши», даже нажимали клаксон «кадиллака» с таким видом, как будто от этого зависело – купим мы «кадиллак» или нет. Но, вызвав из недр чудесной машины могучий степной рев, мы отошли в сторону. Нет! Не купим! Не по средствам!
Мы посетили также и другие автомобильные салоны. Они помещались преимущественно под открытым небом, на городских пустырях, и все их великолепие портила большая вывеска с надписью «подержанные автомобили».
Тут тоже были «студебеккеры», «олдсмобили», «кадиллаки», «гудзоны» и «плимуты». Но что сделало время! Никаким ремонтом нельзя было скрыть их почтенной старости.
– Это машины для очень богатых людей, – неожиданно сказал мистер Адамс. – Я советую вам купить новый «форд». Подержанная машина стоит недорого, но вы никогда не знаете, сколько раз вам придется чинить ее в дороге, сколько она жрет бензина и масла. Нет, нет, мистеры, это было бы глупо – покупать старье.
И хотя на каждом из таких базаров стоял под особым балдахинчиком автомобиль, украшенный соблазнительным плакатом: «Сенсация сегодняшнего дня», и нам безумно хотелось эту сенсацию приобрести (продавалась она совсем дешево и выглядела просто замечательно), Адамс был непреклонен и удержал нас от опасной покупки.
Мы купили новый «форд».
Сначала мы хотели купить «форд» с радиоустановкой. Но нам рассказали одну ужасную историю. Недавно произошла катастрофа, в горах разбилась машина. Искалеченные люди несколько часов пролежали в ней под звуки фокстротов, которые исполнял уцелевший радиоприемник. После этого, конечно, мы от радио отказались. Кстати, оно стоило сорок два доллара.
От отопления мы тоже отказались. Зачем отопление, если все равно надо одно окно держать открытым, иначе запотеет ветровое стекло. К тому же отопление стоило дорого – двенадцать долларов.
Пепельница стоила дешево, но покупать ее уже не было времени.
Одним словом, мы купили самый обыкновенный «форд», без радио, без отопления, без пепельницы и без заднего сундука, но зато с электрической зажигалкой.
Продал нам его «дилер» (торговец автомобилями) в нижней части города, где-то на Второй авеню, угол 1-й улицы, район города не самый аристократический. Наш новый автомобиль, или – как в Америке говорят – «кар», стоял в пустом сарае. В сарае было сумрачно и грязновато. И дилер был похож на гангстера и даже не выражал особого желания продать нам машину. Купим – купим, не купим – не надо. И тем не менее мы сразу увидели: это то, что мы искали. Автомобиль был совершенно новый, благородного мышиного цвета, выглядел как дорогой, а стоил дешево. Чего еще можно желать от автомобиля! Бесплатных пирожных, как любил говорить Маяковский? Таких чудес на свете не бывает! Мы его сразу купили.
Мы очень полюбили наш новый кар. И когда все хлопоты были уже закончены, когда мы получили документы на право владения машиной, когда она уже имела желтый номер ЗС-99—74 и надпись «Нью-Йорк» и была застрахована на тот случай, если мы на кого-нибудь налетим, а также если на нас кто-нибудь налетит, – когда мы в первый раз ехали в своей машине по Нью-Йорку и миссис Адамс сидела за рулем, а сам Адамс помещался рядом с ней, мы были очень горды и не совсем понимали, почему безмолвствует великий город. Чтобы сделать нам приятное, старый Адамс сказал, что за всю свою жизнь не видел такого удачного, приемистого, легкого на ходу и экономичного автомобиля.
– Да, удивительно удобно и хорошо им управлять. Вам удивительно повезло, что вы купили именно этот автомобиль, – подтвердила миссис Адамс.
Мы тоже чувствовали удовлетворение оттого, что среди двадцати пяти миллионов американских автомобилей нам все-таки удалось заполучить самый лучший.
Последнюю ночь мы провели у Адамсов.
Мы решили встать как можно раньше, чтобы выехать, пока бедная бэби еще спит. Но это не удалось. Девочка застала нас в разгаре перетаскивания чемоданов. На Адамсов жалко было смотреть. Они лживыми голосами уверяли бэби, что через час вернутся. Негритянка плакала. Мы чувствовали себя подлецами.
Машина скользнула по влажному асфальту Сентрал-парк-вест, спидометр начал отсчитывать мили, мы двинулись в дальний путь.
Через восточные штаты
На автомобильной дороге
Гордые башни Нью-Йорка остались позади. Оправленные в нержавеющую сталь грани «Импайра» смутно светились в утренней мгле, нависшей над гигантским городом. Тонкий туман окутывал вершины «Радио-сити», «Крайслера», «Вулворта» и других небоскребов с именами и без имен. Сейчас мы ехали оживленной и неказистой окраиной.
По брусчатым мостовым бежала мутная вода. Зеленый железный мост надземки перерезал улицу на высоте пятых этажей. Темпераментный нью-йоркский народ лихо несся на автомобилях по своим делам. Мелькала полосатая вертушка парикмахера – вращающийся стеклянный цилиндр с белыми, красными и синими полосами. В красном кирпичном доме помещалась торговля поджаренными сэндвичами. Впрочем, все дома здесь были кирпичные, все были красные. Что тут может понравиться, что тут можно полюбить?
Нью-Йорк – город пугающий. Миллионы людей мужественно ведут здесь борьбу за свою жизнь. В этом городе слишком много денег. Слишком много у одних и совсем мало у других. И это бросает трагический свет на все, что происходит в Нью-Йорке.
Мы расстались с этим городом на два месяца.
Маршрут первого дня был ясен. Мы едем в Скенектеди по федеральной дороге № 9, через Поукипси (для изображения этого слова на английском языке надо израсходовать двенадцать букв), Гудзон и столицу штата Нью-Йорк – Олбани.
Режим путешествия тоже был ясен. В нашем распоряжении шестьдесят дней, и нам необходимо проехать приблизительно десять тысяч миль. Если делать даже двести пятьдесят миль в день, то мы покроем это расстояние в сорок дней. Пятнадцать дней мы положили на осмотры, ознакомления, изучения и прочее. Итого пятьдесят пять дней. Пять дней оставалось в запас, на непредвиденные обстоятельства. К этому надо только добавить, что миля содержит в себе один и шесть десятых километра.
Чемодан с нашими вещами лег в багажник, помещавшийся под задним сиденьем. Там были рубашки, носовые платки, а главным образом рекомендательные письма, новые рекомендательные письма по всему маршруту нашего путешествия. Адресатами опять были профессора, театральные деятели, поэты, инженеры, политические дельцы, губернаторы и сенаторы.
В общем, рекомендательного товара было много.
Пора уже исполнить обещание написать об американских дорогах отдельную главу. Они стоят этого. Может быть, они стоят даже большего – целой вдохновенной книги.
Мы не впервые очутились на автомобильной дороге. Теперь мы уже привыкли, притерпелись к этому блестящему дорожному устройству, но первое впечатление было незабываемым. Мы ехали по белой железобетонной плите толщиной в одиннадцать дюймов. Эта идеально ровная поверхность была слегка шероховата и обладала огромным коэффициентом сцепления. Дождь не делал ее скользкой.
Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу. Дорога на всем своем протяжении была разграфлена белыми толстыми полосами. По ней в обоих направлениях могли идти сразу четыре машины. Практически эти дороги, подобно дорогам Древнего Рима, построены на вечные времена.
Миссис Адамс иногда жалобно оглядывалась на нас, но мы делали вид, что не понимаем ее взглядов, хотя понятно было все. Миссис Адамс хотелось прибавить газу, но дилер при продаже машины рекомендовал ехать первые несколько дней не быстрее сорока миль в час. Это необходимо для того, чтобы не погубить еще не разработавшегося мотора. Мистер Адамс глянул на спидометр и, увидев, что красивая тонкая стрелка уже качается возле цифры «50», сразу захлопотал:
– Но, но, Бекки! It’s impossible! Это невозможно! Кар еще жесткий, с ним надо обращаться очень, очень осторожно. Не так ли, мистеры?
Мы ничего еще не понимали в обращении с автомобилями и только закивали головами, не отрывая глаз от белой полосы дороги.
О, эта дорога! В течение двух месяцев она бежала нам навстречу – бетонная, асфальтовая или зернистая, сделанная из щебня и пропитанная тяжелым маслом.
Безумие думать, что по американской федеральной дороге можно ехать медленно. Одного желания быть осторожным мало. Рядом с вашей машиной идут еще сотни машин, сзади напирают целые тысячи их, навстречу несутся десятки тысяч. И все они гонят во весь дух, в сатанинском порыве увлекая вас с собой. Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже не будет. Стальные собаки и птицы сверкают на носах машин.
Среди миллионов автомобилей и мы пролетели от океана до океана – песчинка, гонимая бензиновой бурей, уже столько лет бушующей над Америкой!
Наша машина мчалась сквозь строй газолиновых станций, на каждой из которых было шесть, восемь и даже десять красных или желтых колонок. У одной из них мы остановились, чтобы наполнить бак.
Из опрятного зданьица, в большой стеклянной витрине которого виднелись всякие автомобильные мази и порошки, вышел человек в фуражке с полосатым верхом и в полосатом комбинезоне. Расстегнутый ворот открывал полосатый воротничок и черный кожаный галстук-бабочку. Это такой технический шик – носить кожаные бантики. В отверстие бака он вставил резиновый рукав, и колонка принялась автоматически отсчитывать количество поглощенных автомобилем галлонов бензина. Одновременно с этим на счетчике колонки выскакивали цифры, указывающие стоимость бензина. С каждым новым галлоном аппарат издавал мелодичный звонок. Звонки – тоже технический шик. Можно и без звонков.
Здесь мы услышали слово «сервис», что означает – обслуживание.
Бак наполнен, и можно ехать дальше. Но джентльмен в полосатой фуражке и кожаном галстуке не считает свою миссию законченной, хотя сделал то, что ему полагалось сделать, – продал нам одиннадцать галлонов бензина, ровно столько, сколько мы просили. Начался великий американский сервис.
Человек с газолиновой станции (в Штатах бензин называется газолином) открывает капот машины и металлической линейкой с делениями проверяет уровень масла в моторе. Если масла необходимо добавить, он сейчас же принесет его в красивых консервных банках или высоких широкогорлых бутылках. Стоимость масла, конечно, оплачивается.
Затем проверяется давление воздуха в шинах. Мы держали давление в передних шинах тридцать шесть английских фунтов, а в задних – тридцать. Лишний воздух выпустят, если его не хватает – добавят.
Затем полосатый джентльмен обращает внимание на ветровое стекло. Он протирает его чистой и мягкой тряпкой. Если стекло очень загрязнилось, оно протирается особым порошком.
Все это проделывается быстро, но не суетливо. За время этой работы, которая не стоит путешественнику ни цента, человек с газолиновой станции еще расскажет вам о дороге и о погоде, стоящей по вашему маршруту.
Итак, все в порядке и, казалось бы, ничего больше в области обслуживания автомобиля уже нельзя сделать. Но здесь размягченному сервисом путешественнику начинает казаться, что правая передняя дверца машины недостаточно плотно захлопывается. Благожелательно улыбаясь, полосатый джентльмен извлекает из заднего кармана инструменты – и через две минуты дверь в порядке.
Кроме того, путешественник получает превосходную карту штата, напечатанную какой-нибудь нефтяной компанией, торгующей бензином на дорогах. Есть карты «Стандард Ойл», «Шелл», «Сокони», «Коноко», «Эссо», или «Эссо-лубо». Все они отлично напечатаны на прекрасной бумаге, очень легко читаются и дают абсолютно точные и самые последние сведения. Не может быть, чтобы вам дали карту, отражающую состояние дорог в прошлом году. Все карты свежие, и если на какой-нибудь дороге идет серьезный ремонт, то и это указано в карте. На ее оборотной стороне перечислены гостиницы и туристские домики, в которых можно переночевать. Перечислены даже достопримечательности, расположенные на пути.
Весь сервис есть бесплатное приложение к купленному бензину. Тот же сервис будет оказан, даже если вы купите только два галлона бензина. Разницы в обращении здесь не знают. Какой-нибудь старенький «шевролишка» и рассверкавшийся многотысячный «дюзенберг», чудо автомобильного салона тысяча девятьсот тридцать шестого года, встретят здесь одинаково ровное, быстрое и спокойное обслуживание.
На прощанье человек с газолиновой станции сказал нам, что он лично ехал бы на новой машине со скоростью не сорока миль в час, а тридцати – и не только первые пятьсот миль, а всю первую тысячу. Зато мотор будет впоследствии работать идеально. Миссис Адамс была этим совершенно убита и, печально улыбаясь, держала скорость двадцать восемь – двадцать девять миль.
Мы же, мужчины, занимались вычислениями. Как приятно быть деловитым, когда нет никаких дел. Наш благородный мышиный «форд» показал, что расходует на каждые шестнадцать миль один галлон бензина. В штате Нью-Йорк бензин стоит шестнадцать центов за галлон. Значит, полный бак в четырнадцать галлонов стоимостью в два доллара двадцать четыре цента давал нам возможность сделать двести двадцать четыре мили. Мили мы переводили на километры, и выходило, что стоимость автомобильного путешествия в Штатах гораздо ниже, чем в Европе.
Эта утешительная арифметика помогала сносить обиды, которые причиняли нам обгонявшие нас автомобили. Есть что-то обидное в том, что вас обгоняют. А в Америке страсть обгонять друг друга развита необыкновенно сильно и ведет к еще большему увеличению числа катастроф, аварий и всего того сорта приключений на дорогах, который носит в Америке название «эксидент». Американцы ездят быстро. С каждым годом они ездят все быстрее – дороги с каждым годом становятся все лучше, а моторы автомобилей все сильнее. Ездят быстро, смело и, в общем, неосторожно. Во всяком случае, собаки в Америке больше понимают, что такое автомобильная дорога, чем сами автомобилисты. Умные американские собаки никогда не выбегают на шоссе, не мчатся с оптимистическим лаем за машинами. Они знают, чем это кончается. Задавят – и все. Люди в этом отношении как-то безза- ботнее.
Мы остановились на завтрак у придорожного ресторана с вывеской «Обедай и танцуй». Мы были одни в большой темноватой комнате с площадкой для танцев посредине.
Из небольших полоскательных чашек мы ели коричневый супчик, заедая его «крэкерами» – маленькими солоноватыми сухариками, оправдывавшими свое название неслыханным треском на зубах. Когда мы принялись за большие «ти-боун-стейки», бифштексы из охлажденного мяса с Т-образной костью, в стареньком «форде» подъехал сам хозяин ресторанно-увеселительного агрегата «Обедай и танцуй». Он стал таскать из машины в зал охапки сухих кукурузных стеблей и украшать ими комнату. Сегодня вечером соберется окрестная молодежь, будут танцы. Все это выглядело очень мило, мирно, даже патриархально. А мы отъехали от Нью-Йорка только сто миль. Только в ста милях позади находилось самое громыхательное поселение в мире, а здесь уже тишина, провинциальный, захватывающий душу флирт во время танцев, какие-то стебли, даже цветочки.
У самых дверей тихого ресторана лежал матовый бетон первоклассной дороги. Рана снова раскрылась на сердце миссис Адамс, когда эта леди села за руль. Тридцать миль в час – и ни одной милей больше!
Иностранец, даже не владеющий английским языком, может с легкой душой выехать на американскую дорогу. Он не заблудится здесь, в чужой стране. В этих дорогах самостоятельно разберется даже ребенок, даже глухонемой. Они тщательно перенумерованы, и номера встречаются так часто, что ошибиться в направлении невозможно.
Иногда две дороги сходятся на время в одну. Тогда на придорожном столбике помещаются два номера. Номер федеральной дороги вверху, номер дороги штата – под ним. Иногда сходятся вместе пять дорог, семь, даже десять. Тогда количество номеров вырастает вместе со столбиком, к которому они прикреплены, и указатель становится похожим на древний индейский тотем.
На дорогах есть множество различных знаков. Но – замечательная особенность! – среди них нет ни одного лишнего, который отвлекал бы внимание водителя. Знаки установлены низко над землей, с правой стороны, так, чтобы шофер видел их, не отводя взгляда от дороги. Они никогда не бывают условны и не требуют никакой расшифровки. В Америке никогда не встретишь какого-нибудь таинственного синего треугольника в красном квадрате – знака, над смыслом которого можно ломать голову часами.
Большинство дорожных обозначений выложено круглыми зеркальными стекляшками, которые ночью отражают свет автомобильных фонарей. Таким образом, знак светится сам собой. Черные надписи на желтом фоне (это самые заметные цвета) предупреждают: «Медленно», «Школьная зона», «Стоп! Опасно!», «Узкий мост», «Предел скорости – 30 миль», «Пересечение дорог», или: «Через триста футов будет ухаб». И точно, ровно через триста футов будет ухаб. Впрочем, такая надпись встречается так же редко, как и самый ухаб.
У скрещения дорог стоят столбы с толстыми деревянными стрелами. На стрелах – названия городов и число миль до них.
Шумя и завывая, летели нам навстречу тяжелые серебряные автоцистерны с молоком. Они везли молоко для семи миллионов человек нью-йоркского населения. Душа уходит в пятки, когда впереди показываются громадные молочные машины, приближающиеся с быстротой шквала. Особенно великолепны цистерны ночью, когда, окаймленные цепями зеленых и красных фонариков, безостановочно летят они к Нью-Йорку. Семь миллионов человек хотят пить молоко, и оно должно быть доставлено вовремя.
Еще величественнее выглядят грузовики со специальными прицепами, перевозящие сразу по три или четыре новых автомобиля. На расстоянии примерно до тысячи миль доставка на грузовиках стоит дешевле, чем по железной дороге. И снова на нас налетает буря, на этот раз сверкающая лаком и никелем. Мы на секунду закрываем глаза от нестерпимого блеска и едем дальше.
Дороги – одно из самых замечательных явлений американской жизни. Именно жизни, а не одной лишь техники. Соединенные Штаты имеют сотни тысяч миль так называемых highways, дорог высокого класса, по которым идет регулярное автобусное сообщение. Автобусы мчатся по расписанию со скоростью шестидесяти миль, и проезд в них стоит вдвое дешевле, чем по железной дороге.
В любое время суток, в любое время года, в самую скверную погоду бешено мчатся по Америке пассажирские автобусы. Когда видишь ночью летящую через пустыню тяжелую и грозную машину, невольно вспоминаются брет-гартовские почтовые дилижансы, управляемые отчаянными кучерами.
Автобус несется по гравийному шоссе. Он переворачивает крупные камни, а мелкие увлекает за собой. Опоздания быть не может. Где мы? В штате Нью-Мексико. Скорей, еще скорей! Молодой шофер добавляет газу. Карлсбад, Лордсбург, Лас-Крузес! Машина наполняется шумом и ветром, в котором дремлющие в своих креслах пассажиры слышат великую мелодию американского материка.
Америка лежит на большой автомобильной дороге.
Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну, в которой пробыл четыре месяца, – представляешь себе не Вашингтон с его садами, колоннами и полным собранием памятников, не Нью-Йорк с его небоскребами, с его нищетой и богатством, не Сан-Франциско с его крутыми улицами и висячими мостами, не горы, не заводы, не кэньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов.
Маленький город
Мы остановились в маленьком городе и пообедали в аптеке.
Здесь надо объяснить, что представляет собой маленький американский город и что это за аптека, в которой можно пообедать. Эта история может быть названа: «Провизор без мистики, или Тайна американской аптеки».
Когда крупные американские дельцы в погоне за наживой обратили свое внимание на аптечное дело, то прежде всего их заинтересовало, чем занимаются за своими перегородками провизоры.
Что они там такое, важно нахмурив лица, растирают пестиками в своих толстых фаянсовых чашках? Лекарства? Ну, сколько есть этих лекарств на свете? Пятьдесят, сто, ну сто двадцать, наконец! Сто двадцать жаропонижающих, возбуждающих или болеутоляющих лекарств! Зачем же изготовлять их кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе на фабриках.
Оттого что лекарства стали изготовляться на фабриках, больному легче не стало – лекарства не подешевели. Но провизоры потеряли свой заработок. Его перехватили аптечные фабриканты.
Для увеличения своих доходов околпаченные провизоры стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду – словом, пустились во все тяжкие.
И теперешняя американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися рояльными табуретками перед ней. За стойкой суетятся рыжие парни в сдвинутых набок белых пилотках или кокетливые, завитые на несколько лет вперед девицы, похожие на очередную, только что вошедшую в моду кинозвезду. Иногда они похожи на Кей Френсис, иногда на Грету Гарбо, раньше все они смахивали на Глорию Свэнсон. Девушки сбивают сливки, пускают из никелированных кранов шумные струи сельтерской воды, жарят кур и со звоном кидают в стаканы кусочки льда.
Но хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин ее обязан тем не менее быть провизором, иметь, некоторым образом, научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров.
В самом дальнем углу веселого учреждения помещается стеклянный шкафик с баночками, коробочками и бутылочками. Нужно побыть в аптеке полчаса, чтобы заметить наконец этот шкафик. Там хранятся лекарства.
В Нью-Йорке уцелела одна аптека, в которой провизор лично изготовляет лекарственные снадобья. О, это замечательное заведение, окутанное ореолом медицинской тайны! В доказательство того, что здесь действительно приготовляют лекарства вручную, хозяин аптеки выставил в окне кучу старых, пожелтевших рецептов. Выглядит все это, как берлога средневекового алхимика. Даже страшно войти! То ли дело обыкновенная аптека. В ней можно покушать, купить карманные часы или будильник, кастрюлю или игрушку, можно купить или взять напрокат книгу.
Мы скорбно посмотрели на карточку. Обед № 1, обед № 2, обед № 3, обед № 4. Динер намбр уан, динер намбр ту, динер намбр три, динер намбр фор! Обед № 4 стоит вдвое дороже обеда № 2. Но это не значит, что он вдвое лучше, – нет, он просто вдвое больше. Если в обеде № 2 блюдо под названием «кантри сосидж» состоит из трех обрубленных сосисок, то в обеде № 4 этих обрубленных «сосиджей» будет шесть, но вкус останется тот же самый.
После обеда мы заинтересовались духовной пищей, которой в аптеке тоже торговали. Здесь были дико раскрашенные фотографические открытки с видами местных достопримечательностей, очень дешевые – две штуки за пять центов. Черные стоили по пять центов за штуку. Цена была правильная: черные открытки были прекрасные, а цветные – большая дрянь. Мы рассмотрели полку с книгами. Все это были романы: «Быть грешником – дело мужчины», «Пламя догоревшей любви», «Первая ночь», «Флирт женатых».
– Нет, нет, сэры, – сказал мистер Адамс, – вы не должны сердиться. Вы находитесь в маленьком американском городке.
Очень многим людям Америка представляется страной небоскребов, где день и ночь слышится лязг надземных и подземных поездов, адский рев автомобилей и сплошной отчаянный крик биржевых маклеров, которые мечутся среди небоскребов, размахивая ежесекундно падающими акциями. Это представление твердое, давнее и привычное.
Конечно, все есть – и небоскребы, и надземные дороги, и падающие акции. Но это принадлежность Нью-Йорка и Чикаго. Впрочем, даже там биржевики не мечутся по тротуарам, сбивая с ног американских граждан, а топчутся незаметно для населения в своих биржах, производя в этих монументальных зданиях всякие некрасивые махинации.
В Нью-Йорке небоскребов очень много. В Чикаго – чуть поменьше. В других же больших городах их совсем мало – по два, по три на город. Высятся они там как-то одиноко, на манер водопроводной башни или пожарной каланчи. В маленьких городах небоскребов нет.
Америка по преимуществу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, пятнадцать тысяч.
Какому путешественнику не известно первое, неповторимое чувство взволнованного ожидания, которое охватывает душу при въезде в город, где он еще никогда не был! Каждая улица, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника все новые и новые тайны. К вечеру ему начинает казаться, что он уже успел полюбить этот город. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец, по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления. Он может прожить в городе год, изучить все его углы, завести друзей, потом забыть фамилии этих друзей, позабыть все изученное так добросовестно, но первых впечатлений он не забудет никогда.
Ничего этого нельзя сказать об американских городах. Есть, конечно, и в Америке несколько городов, имеющих свое неповторимое лицо, – Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Орлеан или Санта-Фе. Ими можно восхищаться, их можно полюбить или возненавидеть. Во всяком случае, они вызывают какое-то чувство. Но почти все остальные американские города похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама. Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования.
И если в первый маленький город путешественник въезжает с чувством взволнованного ожидания, то во втором городе это чувство заметно остывает, в третьем сменяется удивлением, в четвертом – иронической улыбкой, а в пятом, семнадцатом, восемьдесят шестом и сто пятидесятом превращается в равнодушие, как будто навстречу автомобилю несутся не новые, незнакомые города неведомой страны, а обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом, кипятильником и дежурным в красной шапке.
Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Мейн-стрит (что так и означает Главная улица), либо Стейт-стрит (улица штата), либо Бродвей.
Каждый маленький город хочет быть похожим на Нью-Йорк. Есть Нью-Йорки на две тысячи человек, есть на тысячу восемьсот. Один Нью-Йоркчик нам попался даже на девятьсот жителей. И это был настоящий город. Жители его ходили по своему Бродвею, задрав носы к небу. Еще неизвестно, чей Бродвей они считали главным, свой или нью-йоркский.
Архитектура домов главной улицы не может доставить глазу художественного наслаждения. Это кирпич, самый откровенный кирпич, сложенный в двухэтажные кубы. Здесь люди зарабатывают деньги, и никаких отвлеченных украшений не полагается.
Эта нижняя часть города называется «бизнес-сентер» – деловой центр. Здесь помещаются торговые заведения, деловые конторы, кино. Тротуары безлюдны. Зато мостовые заставлены автомобилями. Они занимают все свободные места у обочин. Им запрещается останавливаться только против пожарных кранов или подъездов, о чем свидетельствует надпись: «No parking!» – «Не останавливаться!»
Это иногда превращается в мучительное занятие – найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке – «припарковаться». Однажды вечером мы оказались в Сан-Диэго, городе на тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать. И мы битый час разъезжали по городу, горя желанием «припарковаться». Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной, всего только одной машины.
Характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и все, что с ними связано, – бензиновые колонки, ремонтные станции, магазины Форда или «Дженерал Моторс». Эти черты присущи решительно всем американским городам. Можно проехать тысячу миль, две тысячи, три – изменятся природа, климат, часы придется перевести вперед, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами две недели тому назад. Так же не будет в нем прохожих, столько же, если не больше, будет автомобилей у обочин, вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Мейн-стрит или Стейт-стрит. Разве только дома будут построены из другого материала.
«Резиденшел-парт», жилая часть города, совсем уже пустынна. Тишина нарушается только шорохом покрышек пробегающих автомобилей. Мужчины работают в своем «бизнес-сентер», домашние хозяйки занимаются уборкой. В одноэтажных или двухэтажных домиках шипят пылесосы, передвигается мебель, вытираются золотые рамы фотографических портретов. Работы много, в домике шесть или семь комнат. Достаточно побывать в одном, чтобы знать, какая мебель стоит в миллионах других домиков, знать даже, как она расставлена. В расположении комнат, в расстановке мебели – во всем этом существует поразительное сходство.
Домики с дворами, где обязательно стоит легкий дощатый, не запирающийся на ключ гараж, никогда не бывают отделены заборами друг от друга. Цементная полоска ведет от дверей дома к тротуару. Толстый слой опавших листьев лежит на квадратиках газонов. Опрятные домики сияют под светом осеннего солнца.
Иногда та часть «резиденшел-парт», где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства, что кажется – это может быть только в сказке. Черные няньки в белых передниках и чепчиках прогуливают здесь маленьких джентльменов. Рыжеволосые девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные «туринг-кары» стоят у богатых особняков.
А рядом с этим высшим миром совсем близко помещается суровый, железный и кирпичный «бизнес-сентер», всегда страшноватый американский деловой центр, где все дома напоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги на только что описанную идиллию. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что вначале не верится – действительно ли они находятся в одном городе. Увы, они всегда вместе! Именно оттого так страшен деловой центр, что все силы его уходят на создание идиллии для богатых людей. И очень много можно понять, побывав в маленьком городе. Все равно где его смотреть – на Востоке, на Западе или на Юге. Это будет одно и то же.
Машина несется по дороге, мелькают городки. Какие пышные названия! Сиракузы, Помпеи, Батавия, Варшава, Каледония, Ватерлоо, Женева, Москва, чудная маленькая Москва, где в аптеке подают завтрак номер два: горячие блины, облитые кленовым соком; где к обеду полагаются сладкие соленые огурцы; где в кино показывают картину из жизни бандитов, – чисто американская Москва.
Есть несколько Парижей, Лондонов. Есть Шанхай, Харбин и целый десяток Петербургов. Москва есть в штате Огайо, есть и еще две Москвы в двух других штатах. Один из Петербургов имеет целую сотню тысяч жителей. Есть Одессы. Не беда, если возле Одессы нет не только Черного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какого это одессита забросило так далеко? Нашел ли он там свое счастье – этого, конечно, уж никто не знает. Есть Неаполь и Флоренция. Возле Неаполя вместо Везувия дымит труба консервной фабрики, а во Флоренции, наверно, совершенно бессмысленно вести разговор о фресках и тому подобных малоинтересных и не приносящих верного дохода предметах.
Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели, электрический холодильный шкаф (мечта молодоженов), в домах течет из кранов холодная и горячая вода, а если городок получше и в нем есть приличный отель, то в номере у вас будут три воды – горячая, холодная и ледяная.
В городе есть несколько церквей – методистская, конгрегационная, баптистская. Обязательно найдется многоколонное здание церкви «Христианской науки». Но если вы не баптист и не методист и не верите в шарлатанского бога «Христианской науки», то вам остается только пойти в «мувинг пикчерс» смотреть прекрасно снятую, прекрасно звучащую и одуряющую глупостью содержания кинокартину.
В каждом маленьком городе есть отличные школьные здания начальной и средней школы. Можно даже считать правилом, что самое лучшее здание в маленьком городке обязательно будет школьное. Но после школы мальчики смотрят в кино похождения гангстеров, играют на улице в гангстеров и без конца стреляют из револьверов и ручных пулеметов («машинган»), которые изготовляются игрушечными фабриками в невероятных количествах.
Безысходна автомобильно-бензиновая тоска маленьких городков.
Многие бунтующие писатели Америки вышли из городков Среднего Запада. Это бунт против однообразия, против мертвящей и не имеющей конца погони за долларами.
Некоторые городки принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город вывешиваются вывески. Ну совсем как над входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют.
«Редвуд-сити»!
И подпись в стихах: «Клаймат бест бай гавернмент тест» – «Лучший климат по определению правительства». Здесь торгуют климатом.
Климат, может быть, здесь и лучший, но жизнь такая же, как в городах, не имеющих роскошного климата.
Главная улица. За большими стеклами стоят автомобили, завернутые по случаю приближающегося Нового года в прозрачную бумагу и завязанные цветными ленточками. За стеклами поменьше размером – ученые аптекари выжимают сок из апельсинов или жарят яичницу с бэконом, и сквозь весь город, не по насыпи и не через мост, а просто по улице полным ходом проходит длинный товарный поезд. Раскачивается и громко звонит паровозный колокол.
Это и есть маленький город, все равно, будь он Париж, или Москва, или Каир, или один из бесчисленных американских Спрингфильдов.
Большой маленький город
Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан, однообразный и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли, вечером ли, в шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, – всегда вокруг будет вода, которой нет ни конца, ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристскими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Все это видел уже вчера и позавчера и знаешь, что увидишь то же самое завтра и послезавтра. И обед в штате Огайо будет такой же, какой был вчера, когда проезжали штат Нью-Йорк. Совсем как на пароходе, где перемена широты и долготы не вносит изменений в обеденное меню и распорядок дня пассажиров. В этом последовательном однообразии – колоссальный размах и несметное богатство Соединенных Штатов. Прежде чем сказать о Востоке Америки – это земля гористая, или пустынная, или лесистая, хочется сказать о ней самое главное, самое важное: это земля автомобильная и электрическая.
Путешествие еще только началось, а мы уже успели нарушить важнейший пункт выработанного мистером Адамсом распорядка дня.
– Сэры! – говорил он перед отъездом. – Путешествие по американским дорогам – вещь серьезная и опасная.
– Но ведь американские дороги лучшие в мире! – возражали мы.
– Да, да, да, мистеры, именно поэтому они самые опасные. Но, но, не возражайте мне. Вы просто не хотите понять. Чем лучше дороги, тем с большей скоростью едут автомобили. Нет, нет, нет, сэры! Это очень, о-очень опасно. Нужно точно условиться – с наступлением вечера мы берем ночлег. И – кончено. Финишд!
Так именно мы и условились поступать.
Но вот вечер застал нас в пути, а мы не только не остановились, как этого требовал мистер Адамс, но зажгли фары и продолжали нестись по длиннейшему штату Нью-Йорк.
Мы приближались к мировому центру электрической промышленности – к городу Скенектеди.
Страшно мчаться вечером по большой американской дороге. Справа и слева – тьма. Но в лицо молниями бьют прожекторы встречных автомобилей. Они летят один за другим, маленькие ураганы света, с коротким и злым кошачьим фырканьем. Скорость та же, что и днем, но кажется, она выросла вдвое. Впереди, на длинном уклоне, вытягивается целый движущийся проспект парадных огней, рядом с которыми почти теряются красные фонарики бегущих перед нами автомобилей. Через заднее окошечко машины постоянно проникает нетерпеливый свет догоняющих нас фар. Нельзя ни остановиться, ни уменьшить хода. Надо гнать все вперед и вперед. От равномерных слепящих вспышек света человек начинает судорожно зевать. Сонливое безразличие охватывает душу. Уже непонятно, куда едешь и зачем едешь. И только где-то, в самой глубине мозга, сидит ужасная мысль: сейчас какой-нибудь веселый и пьяный идиот с оптимистической улыбкой врежется в нашу машину, и произойдет эксидент – катастрофа.
Мистер Адамс вертелся на своем месте, рядом с женой, которая с подлинно американской уверенностью включилась в безумный темп этой ночной гонки.
– Ну, Бекки, Бекки, – бормотал он в отчаянии. – What are you doing?.. Что ты делаешь? It’s impossible!
Он повернулся к нам. Очки его тревожно вспыхнули.
– Сэры! – произнес он голосом пророка. – Вы не понимаете, что такое автомобильная катастрофа в Америке!
В конце концов он добился того, что миссис Адамс значительно уменьшила ход и отказалась от удовольствия обгонять грузовики. Он приучил нас к монашескому режиму подлинных автомобильных путешественников, которые поставили целью изучить страну, а не сложить свои кости в аккуратно выкопанной придорожной канаве.
Лишь много позже, к концу путешествия, мы оценили его советы. За полтора года участия в мировой войне Америка потеряла пятьдесят тысяч убитыми. А за последние полтора года на дорогах Америки вследствие автомобильных катастроф погибло пятьдесят шесть тысяч мирных жителей. И в Соединенных Штатах нет такой силы, которая могла бы предотвратить это массовое убийство.
До Скенектеди оставалось еще миль двадцать, а город уже демонстрировал свою электрическую мощь. Над дорогой появились фонари. Продолговатые, как дыни, они давали сильный и в то же время не слепящий желтый свет. Видно было, как он клубился в этих фонарях, не свет, а диковинное светящееся вещество.
Город подступил незаметно. Это свойство американских городов, к которым подъезжаешь на автомобиле. Остается та же дорога, только больше становится реклам и газолиновых станций. Один американский городок вывесил перед въездом на главную улицу плакат:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
Это определение – самый большой маленький город – прекрасно подходит к Скенектеди, да и к большинству американских городов, возникших возле крупных заводов, хлебных элеваторов или месторождений нефти. Это тот же маленький город со своими «бизнес-сентер» и «резиденшел-парт», со своим Бродвеем или Мейн-стритом, но только более разросшимся в длину и ширину. В общем это, конечно, большой город. В нем много асфальта, кирпича и электрических ламп, – может быть – даже больше, чем в Риме. И уж наверно больше, чем в Риме, – электрических холодильных шкафов, стиральных машин, пылесосов, ванн и автомобилей. Но этот город чрезвычайно мал духовно, и в этом смысле он мог бы целиком разместиться в одном переулочке.
В этом городе, где с предельным умением изготовляются самые маленькие и самые большие электрические машины, которые когда-либо существовали в мире, от машинки, сбивающей яйца, до электрических генераторов для гидростанции Боулдер-дам на реке Колорадо, произошла такая история.
Один инженер полюбил жену другого инженера. Кончилось это тем, что она развелась с мужем и вышла замуж за любимого человека. Весь маленький большой город знал, что это был идеально чистый роман, что жена не изменяла мужу, что она терпеливо дожидалась развода. Сам американский бог, придирчивый, как начинающий прокурор, и тот не нашел бы, к чему придраться. Молодожены зажили новой жизнью, счастливые тем, что их мученья кончились. Но на самом деле их мученья только начинались. К ним перестали ходить, их перестали приглашать в гости. Все от них отвернулись. Это был настоящий бойкот, особенно страшный тем, что происходил он в большом маленьком городе, где основные духовные интересы заключаются в посещении и приеме знакомых для игры в бридж или покер. В конце концов всем этим людям, которые изгнали молодую чету из своего общества, в глубине души было в высочайшей степени наплевать, кто с кем живет, но – порядочный американец не должен разводиться. Это неприлично. Все это привело к тому, что человек, позволивший себе полюбить женщину и жениться на ней, уехал в другой город. Хорошо еще, что в то время не было кризиса и можно было легко найти работу.
Общество городка, который вырос вокруг большого промышленного предприятия, целиком связанное с его интересами, вернее – с интересами хозяев этого предприятия, наделено ужасной силой. Официально человека никогда не выгонят за его убеждения. Он волен исповедовать в Америке любые взгляды, любые верования. Он свободный гражданин. Однако пусть он попробует не ходить в церковь, да еще при этом пусть попробует похвалить коммунизм, – и как-то так произойдет, что работать в большом маленьком городе он не будет. Он даже сам не заметит, как это случится. Люди, которые его выживут, не очень верят в бога, но в церковь ходят. Это неприлично – не ходить в церковь. Что же касается коммунизма, то пусть этим занимаются грязные мексиканцы, славяне и негры. Это не американское дело.
В Скенектеди мы устроились в гостинице, где были три воды – горячая, холодная и ледяная, – и пошли погулять по городу. Было всего только десять часов вечера, но прохожих почти не было. У обочин тротуаров стояли темные автомобили. Налево от гостиницы лежало пустое, поросшее травой поле. Здесь было довольно темно. Позади поля, на крыше шестиэтажного здания медленно накалялся и медленно угасал вензель «G.E.» – «Дженерал Электрик Компани». Вензель был похож на императорский. Но никогда императоры не обладали таким могуществом, как эти электрические джентльмены, завоевавшие Азию, Африку, утвердившие свой герб над Старым и Новым Светом. Ибо почти все в мире, имеющее отношение к электричеству, в конце концов имеет отношение к «Дженерал Электрик».
За гостиницей, над главным шоссе, колыхались полосы света. Там шла лихорадочная автомобильная жизнь. А здесь великолепная бетонная дорога, огибающая поле, была пуста и темна. Здесь даже не было тротуара. Видно, строителям дороги казалось невероятным, что на свете могут найтись люди, которые будут подходить к управлению «Дженерал Электрик» пешком, а не подъезжать в автомобиле.
Против управления стояла стеклянная будочка на колесах, прицепленная к дряхлому полугрузовичку. В ней сидел пожилой усатый человек. Он продавал «пап-корн» – поджаренную, раскрывшуюся в виде белых бутончиков кукурузу. На прилавке тремя яркими коготками горел бензиновый светильник. Мы стали гадать, из чего делается пап-корн.
– Та це кукуруза! – неожиданно сказал продавец на украинско-русском языке. – Хиба ж вы не бачите – просто кукуруза. А вы откуда ж будете, что говорите по-российски?
– Из Москвы.
– А вы не брешете?
– Не брешем.
Продавец пап-корна очень разволновался и вышел из своей будочки.
– Вы что же, вроде как делегаты советской власти? – спросил он. – Или, может, на работу сюда приехали? На практику?
Мы объяснили, что просто путешествуем.
– Так, так, – сказал он, – смотрите, як у нас, в Юнайтед Стейтс, идут дела?
Мы долго простояли у стеклянной будочки, грызя пап-корн и слушая рассказ продавца, обильно уснащенный английскими словами.
Человек этот приехал в Соединенные Штаты лет тридцать тому назад из маленькой деревушки в Волынской губернии. Сейчас эта деревушка находится на польской территории. Сперва он работал в штатах, копал уголь. Потом пошел на ферму батраком. Потом набирали рабочих на паровозный завод в Скенектеди, и он пошел на паровозный завод.
– Так и жизнь прошла, як один дэй, – сказал он печально. Но вот уже шесть лет как он не имеет работы. Продал все, что мог. Из дома выселили. – Тут у меня есть мэнеджер, поляк. Мы с ним вместе продаем пап-корн.
– И много вы зарабатываете?
– Та ни. На динер не хватает. Голодую. Одежда сами видите какая. Не в чем на стрит выйти.
– Что же вы назад не вернетесь, на Волынь?
– Да там еще хуже. Люди пишут – вери бед. Ну у вас как, расскажите, в России? Про вас тут говорят разное. Прямо не знаю, кому верить, кому не верить.
Оказалось, что этот человек, уехавший из России в незапамятные времена, внимательно следит за всем, что говорится и пишется в Скенектеди о его бывшей родине.
– Тут разные лекторы приезжают, – сказал он, – выступают в гай-скул. Одни за советскую власть, другие – против. И вот кто за советскую власть выступает, про того обязательно плохо пишут, вери бед. Вот полковник Купер хорошо говорил про советскую власть, так про него сказали, что он продался – два миллиона получил. Фермер-миллионер приезжал, хвалил совхозы. Для него, говорят, специальный совхоз выстроили. Недавно одна учителька из Скенектеди в Ленинград ездила, жила там, а потом вернулась и хвалила Россию. Та и про нее наговорили, сказали, что у нее там бой остался, жених. И она его любит и не хочет против советской власти сказать.
– А вы сами что думаете?
– А что я думаю! Разве меня кто-нибудь спросит? Одно я знаю – пропадаю я тут, в Скенектеди.
Он посмотрел на медленно раскалявшийся вензель электрических владык мира и добавил:
– Понастроили машин. Все делают машинами. Нет больше жизни рабочему человеку.
– Как вы думаете, что надо сделать, чтобы рабочему человеку легче жилось?
– Разбить, потоптать машины! – твердо и убежденно ответил продавец жареной кукурузы.
Мы не раз уже слышали в Америке разговоры об уничтожении машин. Это может показаться невероятным, но в стране, где машиностроение доведено до виртуозности, где народный гений проявил себя именно в изобретении и производстве машин, вполне заменяющих и многократно улучшающих труд человека, – именно в этой стране можно услышать речи, которые могут показаться невероятными даже в сумасшедшем доме.
Глядя на продавца поневоле, мы вспомнили нью-йоркскую кафетерию на Лексингтон-авеню, куда ежедневно ходили завтракать. Там у входа стояла милая девушка в оранжевом парусиновом фартучке, завитая и нарумяненная (ей, наверно, приходилось вставать в шесть часов утра, чтобы успеть завиться), и раздавала талончики. А на шестой день мы увидели на том же месте металлическую машинку, которая выполняла работу девушки автоматически, да еще издавала при этом приятные звоночки, чего ждать от девушки было, конечно, невозможно. Вспомнили мы и рассказанную нам в Нью-Йорке историю об одном негре, который служил на пристани контролером и подсчитывал кипы хлопка. Работа натолкнула его на мысль о машине, которая могла бы подсчитать кипы. Он изобрел такой прибор. Хозяева с удовольствием воспользовались изобретением, а негра уволили. И он остался без работы.
На другой день мы побывали на заводах «Дженерал Электрик». Мы не специалисты, поэтому не сможем описать заводы так, как они этого заслуживают. Не хочется вместо дела подсовывать читателю один лишь художественный орнамент. Мы сами с удовольствием прочли бы описание этих заводов, сделанное каким-нибудь советским инженером-электриком. Но мы унесли оттуда впечатление о высоком техническом разуме и прекрасной организованности.
В лаборатории мы увидели нескольких лучших физиков мира, которые сидели без пиджаков за своей работой. Они состоят на службе «Дженерал Электрик». Компания дает им не так уж много денег. Что же касается средств на производство опытов и исследований, то они ничем не ограничены. Если понадобится миллион – дадут миллион. Этим объясняется то, что компании удалось заполучить к себе лучших мировых физиков. Ни один университет в Америке не может дать им такой свободы для работ, какой они пользуются здесь, в заводской лаборатории.
Зато все, что эти идеалисты изобретают, находится в полной собственности компании. Ученые движут науку – компания зарабатывает деньги.
В уютном и красивом инженерном клубе, за завтраком, к нашему величайшему удивлению, несколько инженеров высказали мысли, очень напоминающие то, о чем говорил нам безработный продавец пап-корна. Разумеется, высказаны они были не в такой примитивной форме, но сущность оставалась та же.
– Слишком много машин! Слишком много техники! Машины виновны в затруднениях, которые постигают страну.
И это говорили люди, которые сами производят всевозможные замечательные машины. Может быть, они предвидели уже момент, когда машина лишит работы не только рабочих, но и их самих, инженеров.
К концу завтрака нас познакомили с худым и высоким седым джентльменом, на щеках которого играл здоровый, помидорный румянец. Джентльмен оказался старым приятелем мистера Адамса. Маленький толстый Адамс и его друг долго хлопали друг друга по спинам, словно решили выколотить пыль из пиджаков.
– Сэры, – сказал нам сияющий Адамс, – я рекомендую вам мистера Рипли. Вы можете извлечь большую пользу из этого мистера, если хотите понять, что такое американская электрическая промышленность. Но, но! Вы должны попросить мистера Рипли показать вам его электрический домик.
Мы попросили.
– Хорошо, – сказал мистер Рипли, – вери уэлл. Я покажу вам мой электрический домик.
И мистер Рипли пригласил нас следовать за собой.
Электрический домик мистера Рипли
Мистер Рипли подвел нас к крыльцу своего домика и попросил нажать кнопку электрического звонка.
Вместо обычного звонка послышались мелодичные звуки, как бы исходящие из музыкальной шкатулки. Сама собою открылась дверь, и мы очутились в передней.
Мистер Рипли подошел к висящему на стене ящичку, привычным движением открыл небольшую дверцу и показал нам какую-то электрическую машинку.
– Пять видов электрического звонка, – сказал он с улыбкой. – Если у входной двери звонит гость, исполняется вот эта мелодия, которую вы уже слышали. Если вы нажмете кнопку, чтобы вызвать прислугу из комнаты, раздается ария Кармен.
Мистер Рипли нажал кнопку, и аппарат действительно заиграл «Любовь, как птичка, но неземная…».
– Звонок к завтраку – марш Иэйлского университета, а звонок к обеду – рождественская английская песенка. Есть еще тревожный сигнал. Итого – пять видов электрического звонка. К сожалению, наша фирма не изобрела еще сигнала, который определял бы, какой гость звонит: приятный хозяину или неприятный.
Сказав эту шутку, мистер Рипли засмеялся.
– Но все это так, электрический курьез. А теперь попрошу вас в мой кабинет.
Мистер Рипли представлял собою чрезвычайно распространенный в Америке тип румяного и седовласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к сорока или пятидесяти годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита и огромного запаса оптимизма. Сделавшись к сорока годам румяным и седовласым, джентльмен остается таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет: пятьдесят или шестьдесят восемь.
Очутившись в кабинете, мистер Рипли тотчас уселся в мягкое кресло, между письменным столом и полочкой с книгами, и, положив ноги на стул, зажег сигарету.
– Так я отдыхаю после работы, – заметил он, выпуская изо рта дым.
Он курил торопливо, не затягиваясь, желая лишь выпустить как можно больше дыма.
– Курить не так вредно, – сообщил он, – как вдыхать дым, скопившийся в комнате. Ведь верно? Самое вредное – это испорченная атмосфера.
Тут мы заметили, что дым не только не поднимается кверху, не распространяется по комнате и вообще не клубится, как это принято, а на глазах у всех тянется в сторону книжной полки и исчезает среди книг. Заметив эффект, произведенный его действиями, мистер Рипли стал дымить еще больше. Дым самым волшебным образом пополз к полке, на мгновение окутал книжные корешки и сейчас же исчез. В комнате не осталось даже запаха табака.
– Позади книг скрыта электрическая система вентиляции, – объяснил мистер Рипли.
Он подошел к круглому стеклянному прибору с несколькими стрелками и сказал:
– Электрический прибор для регулирования комнатной температуры. Вы любите, чтобы ночью у вас было прохладно, скажем, двенадцать градусов, а с семи часов утра вы хотите, чтобы было восемнадцать. Или как вам будет угодно. Вы поворачиваете стрелку вот так, а эту стрелку так – и можете спокойно ложиться спать. Аппарат выполнит все ваши желания. У вас будет тепло, если на улице холодно, и прохладно, если на улице стоит жара. Это будет сделано автоматически. Ну, тут, в кабинете, все остальное – мелочь. Вот этот абажур бросает удобный свет на письменный стол. Если его повернуть, лампа станет освещать потолок, который отразит свет и даст его всей комнате. Теперь комната мягко освещена, а источник света скрыт и не режет глаз.
Затем мистер Рипли перешел в столовую. Здесь были различные электрические приборы, которые, хотя и не поражали своей новизной, сделаны были отлично: кофейник, машинка для поджаривания хлеба, чайник со свистком и сковородка для приготовления национального американского блюда – яиц с беконом или ветчиной. Все это было самых последних образцов. На буфете, как видно для контраста, стояла старинная спиртовка. Американцы любят наглядно демонстрировать историю техники. У Форда рядом с его современным заводом есть музей, где выставлены старинные автомобили и паровозы. Во дворе завода «Дженерал Электрик» стоит в виде памятника одна из первых электрических машин, а в кабельном цехе, рядом со станком, из которого бесконечно ползет автоматически покрывающийся серебристой свинцовой оболочкой современный кабель, выставлен первый кабель Эдисона, заключенный в неуклюжую чугунную трубу.
Но главный удар мистер Рипли наносил своим посетителям в кухне. Здесь стояла электрическая плита, удивительно ясной, сливочной белизны.
– В нижней части плиты устроен шкаф для посуды, – сказал мистер Рипли. – Здесь тарелки всегда остаются теплыми, и перед обедом их не надо специально подогревать. Вы хотите сварить обед. Суп и жаркое. Вы приготовляете мясо и овощи, кладете их в кастрюлю, доливаете водой и ставите на плиту. Затем вы приготовляете мясо для жаркого, ставите в духовой шкаф. Потом вы подходите к специальному аппарату с правой стороны плиты и переводите стрелку на «суп», а другую – на «жаркое». После этого можете спокойно идти на работу. Обед не испортится, если вы вернетесь даже вечером. Как только он будет готов, нагревание автоматически уменьшится. Поддерживаться будет лишь небольшая температура, чтобы к вашему приходу обед не остыл… В моей кухне никогда не бывает чада, так как над плитой устроена электрическая вытяжка.
Мистер Рипли быстро вынул из кармана кусок бумаги и поджег его. Дым и копоть тотчас же исчезли.
– Но вот беда! После стряпни остается много костей, картофельной шелухи и прочей дряни.
Лицо мистера Рипли выразило страдание. Но уже через секунду на нем снова засияла оптимистическая улыбка. Мистер Рипли подошел к установленному рядом с плитой квадратному металлическому баку и поднял крышку.
– Сюда вы можете бросить любые отбросы, любой мусор и, снова закрыв крышку, включить ток. Через несколько минут бак будет пуст и чист. Отбросы размалываются и уходят в канализацию.
Мистер Рипли быстро схватил воскресную газету, которая весила фунтов пять, с трудом смял ее, бросил в бак, послышалось короткое тарахтенье – и румяный джентльмен с торжеством поднял крышку. Бак был пуст.
В течение десяти минут мистер Рипли с проворством фокусника разрешил при помощи электричества еще две величайшие кухонные проблемы – хранение припасов и мытье грязной посуды.
Он показал электрический шкаф-холодильник, который не только не требовал льда, но, напротив, приготовлял его в виде аккуратных прозрачных кубиков в особой белой ванночке, похожей на фотографическую. В шкафу были отделения для мяса, молока, рыбы, яиц и фруктов.
Затем была снята крышка еще с одного бака. В нем было много различных полочек, жердочек и крючков.
– Сюда вы укладываете грязную посуду: ложки, тарелки, кастрюли. Потом закрываете крышку и включаете ток. Со всех сторон в посуду бьют струи горячей воды, и через несколько минут она чиста. Теперь ее надо вытереть. Ах, как это тяжело и неприятно – вытирать посуду! Правда? Но нет! После мытья подача воды автоматически прекращается, и вместо нее из особых отверстий идет сухой горячий воздух. Еще несколько минут – и ваша посуда, джентльмены, чиста и суха.
Мистер Рипли бегло показал электрическую машинку для сбивания яиц и пригласил нас подняться наверх, в спальню. Там он быстро снял пиджак и лег на кровать.
– Представьте себе, что я сплю.
Мы без труда нарисовали в своем воображении мирную картину под названием: «Папа спит».
Но вот настало утро. Надо вставать. Ох-ох-ох!
Мистер Рипли приподнялся и довольно натурально зевнул.
– Обратите внимание на эту лампу. Я включаю ток и, покуда, потягиваясь и зевая, снимаю ночную пижаму, лампа освещает мое тело. И это не простая лампа. Это искусственное солнце, дающее человеку нормальный загар. В моем распоряжении десять минут. Я подымаюсь с постели и подхожу вот к этому гимнастическому аппарату. Здесь я включаю вторую кварцевую лампу и, продолжая загорать и нежиться на солнышке, приступаю к гимнастике. Люди не любят заниматься гимнастикой по утрам. Наша фирма это учла. Поэтому вам не приходится делать никаких движений. Вы только опоясываете себя ремнями и включаете ток. Аппарат массирует вас самым добросовестным образом. Однако, по указаниям врачей, заниматься этим делом больше пяти минут вредно. Но человек, джентльмены, – инструмент далеко не совершенный. Он может позабыть посмотреть на часы и выключить ток. Аппарат не допустит этого. Он прекратит свое действие сам – и сделает это ровно через пять минут.
Мы не раз сталкивались с подобного рода явлением в американской технике. Называется оно «фулпруф» – защита от дурака. Высокая техника боится человека и не верит в его сообразительность. Там, где только это возможно, она старается предохранить себя от ошибок, свойственных живому существу. Название придумано жестокое, бичующее – защита от дурака! На строительстве величайшей в мире гидростанции Боулдер-дам мы видели кран, опускающий в глубокое ущелье целые вагоны с грузом. Легко представить себе всю сложность и опасность этих операций. Достаточно перепутать кнопки, регулирующие этот аппарат, чтобы произошла катастрофа. Но ошибки произойти не может. В будочке управления, где сидит машинист, есть только одна кнопка. Машина все делает сама. Уж она-то никогда не придет на работу в пьяном виде, она всегда хладнокровна, сообразительность ее выше всяких похвал.
А мистер Рипли продолжал показывать все новые и новые электрические чудеса своего домика. Тут были и электрическая бритва, и пылесос последней конструкции, и стиральная машина, и особый гладильный пресс, заменивший собой электрический утюг, этот анахронизм двадцатого века. Когда из-под гладко отполированного стола была извлечена электрическая швейная машинка, мы уже были утомлены. Если бы в этот момент мистер Рипли вывел нас во двор и, оборотясь к дому, сказал: «Стань, домик, к Нью-Йорку задом, а ко мне передом», и домик, подобно избушке на курьих ножках, выполнил бы эту просьбу при помощи электричества, мы бы не слишком удивились.
Пора сказать, кто такой мистер Рипли. Он – заведующий отделом паблисити в «Дженерал Электрик Компани». В переводе на русский язык «паблисити» означает – реклама. Но это слишком простое объяснение. Паблисити – понятие гораздо более широкое. Оно, пожалуй, играет в американской жизни роль не меньшую, чем сама техника.
У нас об американском паблисити создалось представление, как о громких криках зазывал, бесчисленных плакатах, жульнических премиях, сверкающих огненных вывесках и так далее. Конечно, и такого рода реклама существует в Америке. Однако этот способ беспрерывного оглушения потребителя применяют лишь фабриканты папирос, жевательной резинки, алкоголя или прохладительного напитка «Кока-кола».
Домик мистера Рипли – это не рекламный домик. Это научный домик. Здесь седовласый джентльмен изо дня в день, из месяца в месяц высчитывает, во сколько обходится эксплуатация того или иного электрического прибора. Возле каждого из них висит счетчик. Мистер Рипли производит своего рода испытание новых машин на экономичность.
Потом он пишет книгу. Он писатель. И в этой книге нет патриотических криков о том, что продукция «Дженерал Электрик» лучше, чем продукция фирмы «Вестингауз». Напротив, когда мы спросили мистера Рипли, хороши ли рефрижераторы «Вестингауз», он ответил, что очень хороши. В своей книге мистер Рипли объясняет, как удобно пользоваться электричеством в быту, и доказывает при помощи проверенных цифр, что электричество дешевле газа, нефти и угля. В его книге есть точные сведения о том, во сколько обходится электроплита в час, в день, в неделю и в месяц. В заключение он сообщает, что эксплуатация всего электрического домика стоит семь долларов в неделю. Он прекрасно знает, что это самый лучший способ уговорить потребителя.
Современная американская техника несравненно выше американского социального устройства. И в то время как техника производит идеальные предметы, облегчающие жизнь, социальное устройство не дает американцу заработать денег на покупку этих предметов.
Рассрочка – это основа американской торговли. Все предметы, находящиеся в доме американца, куплены в рассрочку: плита, на которой он готовит, мебель, на которой он сидит, пылесос, при помощи которого он убирает комнаты, даже самый дом, в котором он живет, – все приобретено в рассрочку. За все это надо выплачивать деньги десятки лет. В сущности, ни дом, ни мебель, ни чудные мелочи механизированного быта ему не принадлежат. Закон очень строг. Из ста взносов может быть сделано девяносто девять, и если на сотый не хватит денег, тогда вещь унесут. Собственность для подавляющего большинства народа – это фикция. Все, даже кровать, на которой спит отчаянный оптимист и горячий поборник собственности, принадлежит не ему, а промышленной компании или банку. Достаточно человеку лишиться работы, и на другой день он начинает ясно понимать, что никакой он не собственник, а самый обыкновенный раб вроде негра, только белого цвета.
А удержаться от покупок никак невозможно. У дверей домика раздается вежливый звонок, и в передней появляется совершенно незнакомый посетитель. Не теряя понапрасну времени на всяческие вводные речи, посетитель говорит:
– Я пришел установить в вашей кухне новую электрическую плиту.
– Но у меня уже есть газовая, – отвечает удивленный собственник маленького дома, стиральной машины и стандартной мебели, за которую осталось еще выплачивать многие годы.
– Электрическая плита гораздо лучше и экономней. Впрочем, я не буду вас убеждать. Я вам ее сейчас поставлю и через месяц приду снова. Если вам не понравится, я ее унесу, а если понравится – условия очень легкие: в первый месяц двадцать пять долларов, а потом…
Он устанавливает плиту. В течение месяца хозяин дома успевает заметить, что плита и впрямь замечательная. Он уже привык к ней и не может с ней расстаться. Он подписывает новый договор и начинает чувствовать себя богатым, как Рокфеллер.
Согласитесь, что это действительнее световой рекламы.
Казалось бы, в жизни среднего, иными словами – имеющего работу американца должен наступить момент, когда он выплачивает все свои долги и взаправду становится собственником. Но это не так-то легко. Его автомобиль состарился. Фирма предлагает новую, прекрасную модель. Старую машину фирма берет за сто долларов, а на остальные пятьсот даются чудные льготные условия: первый месяц – столько-то долларов, а потом…
Потом счастливый собственник как-то незаметно теряет работу (в Америке это называется потерять «джаб»), и его новый автомобиль с двумя сигналами, электрической зажигалкой и радиоаппаратом возвращается настоящему владельцу – банку, который давал рассрочку.
И вот беда! Ведь продают не какую-нибудь дрянь, а действительно превосходные вещи. За последние годы производство предметов массового потребления дошло в Америке до совершенства. Ну как тут удержаться и не купить новый пылесос, хотя старый хорош и может работать еще десять лет!
Недавно в Нью-Йорке стал практиковаться новый способ рекламы.
В квартиру тертого-перетертого, мытого-перемытого ньюйоркца приходит человек и говорит:
– Здравствуйте! Я повар. И я хочу сварить для вас и ваших гостей хороший, питательный обед из моих продуктов.
Заметив на лице ньюйоркца сатанинскую улыбку, пришелец поспешно добавляет:
– Это не будет стоить вам ни одного цента. Я ставлю только два условия: во‐первых, обед должен вариться в кастрюлях, которые я принесу с собой, и, во‐вторых, на обед должно быть приглашено не менее семи дам.
В назначенный день повар является со своими кастрюлями и готовит вкусный обед. К концу пиршества он торжественно появляется в столовой, спрашивает, удовлетворены ли гости обедом, и записывает адреса присутствующих женщин. Все в восторге от обеда. Повар скромно сообщает, что такой обед может сварить любая хозяйка, если только пожелает воспользоваться особыми кастрюлями. Все общество отправляется в кухню и рассматривает кастрюли. Каждая из них зачем-то разбирается на три части. У них какое-то особенное дно, которое будто бы способствует сохранению витаминов. Однако вранья тут мало. Кастрюли в самом деле хороши. И условия покупки очень льготные. На другой день повар ходит по адресам и совершает сделки. Очарованные домашние хозяйки закупают полные комплекты кастрюль. Снова в ход пускается рассрочка. Кастрюли действительно лучше старых, но жить стало не легче, а тяжелее, потому что прибавилось долгов.
Нет! Световая реклама и газетные объявления – это приготовительный класс.
Каждый год в Америке происходит интереснейшее событие. Строительная компания, объединившись с обществом архитекторов и электрической фирмой, строит дом. Это нечто вроде домика мистера Рипли. Только там, помимо электрических новинок, все представляет собою новинку – и архитектура, и строительные материалы, и мебель, и дворик. Выстроив дом, объединившиеся на почве коммерции новаторы объявляют всенародный конкурс на описание этого дома. Автор лучшего описания получает в премию тот самый дом, который так хорошо описан. Событие это неизменно вызывает огромный интерес. В последний раз дом получила бедная шестнадцатилетняя девочка. Газеты с удовольствием печатали ее биографию и портреты. Ей предложили «джаб» в отделе рекламы какого-то большого общества. Но дело, конечно, не в девушке. Дело в том, что, увлекаясь ее стихийным счастьем, читатели увлекались одновременно и проектами усовершенствования собственной жизни. По вечерам, надев очки, отцы семейств с карандашиком в руке высчитывали, что покупка такого дома на весьма льготных условиях – не такая уж страшная штука: первый взнос столько-то долларов. А потом…
Покидая гостеприимного мистера Рипли, мы поблагодарили его и на прощанье спросили:
– Вот вы потеряли из-за нас несколько часов. Ведь вы же знали, что мы не купим ни рефрижератора, ни плиты?
– А может быть, вы когда-нибудь напишете о моем домике, – ответил седовласый румяный джентльмен. – Хорошее «паблисити» никогда не пропадет.
Америку нельзя застать врасплох
Когда мы отъехали миль тридцать от Скенектеди, миссис Адамс сказала мужу:
– Стало холодно. Надень шляпу.
Мистер Адамс некоторое время вертелся на месте, приподымался и шарил руками под собой. Потом, кряхтя, нагнулся и стал шарить под ногами. Наконец он обернулся к нам.
– Сэры, – сказал он плачевным голосом, – поищите, нет ли у вас там моей шляпы.
Шляпы не было.
Миссис Адамс отъехала немного в сторону. Мы вылезли из машины и устроили организованные поиски: осмотрели багажник, открыли все чемоданы. Мистер Адамс даже похлопал себя по карманам. Шляпа исчезла.
– Между тем, сэры, – заметил мистер Адамс, – я как сейчас помню, что у меня была шляпа.
– Неужели помнишь? – спросила жена с улыбкой, от которой мистер Адамс задрожал. – Какая прекрасная память!
– Да, да, да, это совершенно непонятно, – бормотал мистер Адамс, – прекрасная шляпа…
– Ты забыл свою шляпу в Скенектеди! – воскликнула жена.
– Но, Бекки, Бекки! Не говори так – забыл в Скенектеди! О, но. Мне больно слушать, когда ты говоришь, что я забыл шляпу в Скенектеди. Нет, серьезно, нельзя так утверждать!
– В таком случае, где же она?
– Нет, Бекки, серьезно, как я могу ответить тебе, где она? – Он вынул платок и стал обтирать им голову.
– Что это такое? – спросила миссис Адамс.
– Это платок, Бекки!
– Это не платок. Это салфетка. Дай-ка сюда. Так и есть. Салфетка с инициалами гостиницы. Как она попала к тебе в карман?
Мистер Адамс маялся. Он стоял возле машины, подняв воротник пальто и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. На его бритую голову падали капельки дождя.
Мы принялись горячо обсуждать создавшееся положение. Оказывается, последний раз шляпу видели сегодня утром, в гостиничном ресторане. Она лежала на стуле, рядом с мистером Адамсом. За завтраком шел великий спор об итало-абиссинской войне.
– Очевидно, тогда же ты засунул в карман салфетку вместо носового платка! – высказала предположение миссис Адамс.
– Ах, Бекки, ты не должна так говорить – засунул в карман салфетку. Нет, нет, нет, это жестоко с твоей стороны говорить так.
– Что же теперь делать? Вернуться за шляпой в Скенектеди?
– Но, сэры, – сказал мистер Адамс, уже оправившийся от потрясения, – это будет легкомысленный поступок, если мы вернемся в Скенектеди. Да, да, сэры. Будет ли этот поступок достаточно разумным? Моя шляпа стоила четыре доллара в девятьсот тридцатом году. Плюс чистка в девятьсот тридцать третьем году – пятьдесят центов. Итого – четыре доллара пятьдесят центов.
Мистер Адамс вынул карандашик и блокнот и принялся калькулировать.
– Моя шляпа, сэры, в ее теперешнем состоянии стоит не больше полутора долларов. До Скенектеди и обратно – шестьдесят миль. Наш кар делает на один галлон бензина в среднем шестнадцать, ну, скажем, пятнадцать миль. Итого – нам надо затратить четыре галлона по шестнадцать центов за галлон. Всего шестьдесят четыре цента. Теперь надо принять во внимание амортизацию автомобиля, расходы на масло и смазку. Серьезно! О, но! Было бы глупо возвращаться в Скенектеди за шляпой.
Миссис Адамс внесла новое предложение – отправить салфетку почтой, попросив администрацию отеля послать шляпу до востребования, скажем, в Детройт, где мы должны быть через два дня.
Покуда мы завтракали в маленьком кафе городка, не то Спрингфильда, не то Женевы, мистер Адамс пошел на почту. Он вскоре вернулся с независимым и гордым видом человека, выполнившего свой долг.
Шел третий день нашего путешествия. Месяц в Нью-Йорке принес много впечатлений, но чем больше мы видели людей и вещей, тем меньше мы понимали Америку. Мы пытались делать обобщения. Десятки раз в день мы восклицали:
– Американцы наивны, как дети!
– Американцы прекрасные работники!
– Американцы ханжи!
– Американцы – великая нация!
– Американцы скупы!
– Американцы бессмысленно щедры!
– Американцы радикальны!
– Американцы тупы, консервативны, безнадежны!
– В Америке никогда не будет революции!
– Революция в Америке будет через несколько дней!
Это был настоящий сумбур, от которого хотелось как можно скорее освободиться. И вот постепенно началось это освобождение. Одна за другой нам стали открываться различные области американской жизни, которые были скрыты до сих пор в грохоте Нью-Йорка.
Мы знали. Не надо торопиться. Еще рано делать обобщения. Надо сперва как можно больше увидеть.
Мы скользили по стране, как по главам толстого увлекательного романа, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя – заглянуть в последнюю страницу. И нам стало ясно: главное – это порядок и система.
В электрическом домике мистера Рипли мы поняли, что такое «паблисити». Будем называть его – реклама. Она не оставляла нас ни на минуту. Она преследовала нас по пятам.
Как-то в течение пяти минут мы не встретили по сторонам дороги ни одной рекламы. Это было так удивительно, что кто-то из нас воскликнул:
– Исчезли рекламы! Смотрите – поля есть, деревня есть, а реклам нету!
Но он был строго наказан за свое неверие в мощь американского «паблисити». Он еще произносил последнее слово своей фразы, а из-за поворота уже летели навстречу машине целые сонмы больших и малых реклам.
Нет! Америку нельзя застать врасплох!
Реклама до такой степени проникла в американскую жизнь, что если бы в одно удивительное утро американцы, проснувшись, увидели бы, что реклама исчезла, то большинство из них очутилось бы в самом отчаянном положении. Стало бы неизвестно —
Какие курить сигареты?
В каком магазине покупать готовое платье?
Каким прохладительным напитком утолить жажду – «Кока-кола» или «Джинджер-эйлем»?
Какое пить виски – «Белая лошадь» или «Джонни Уокер»?
Какой покупать бензин: «Шелл» или «Стандард-Ойл»?
В какого бога верить: баптистского или пресвитерианского?
Было бы просто невозможно решить —
Стоит ли жевать резинку?
Какой фильм замечателен, а какой попросту гениален?
Следует ли идти добровольцем во флот?
Полезен или вреден климат Калифорнии?
И вообще без рекламы получилось бы черт знает что! Жизнь усложнилась бы до невероятия. Над каждым своим жизненным шагом приходилось бы думать самому.
Нет, с рекламой значительно легче. Американцу ни о чем не надо размышлять. За него думают большие торговые компании.
Уже не надо ломать голову, выбирая прохладительный напиток.
Дринк «Кока-кола»! Пей «Кока-кола»!
«Кока-кола» освежает иссохшую глотку!
«Кока-кола» возбуждает нервную систему! «Кока-кола» приносит пользу организму и отечеству!
И вообще тому, кто пьет «Кока-кола», будет в жизни хорошо!
«Средний американец», невзирая на его внешнюю активность, на самом деле натура очень пассивная. Ему надо подавать все готовым, как избалованному мужу. Скажите ему, какой напиток лучше, – и он будет его пить. Сообщите ему, какая политическая партия выгоднее, – и он будет за нее голосовать. Скажите ему, какой бог «настоящее», – и он будет в него верить. Только не делайте одного – не заставляйте его думать в неслужебные часы. Этого он не любит, и к этому он не привык. А для того чтобы он поверил вашим словам, надо повторять их как можно чаще. На этом до сих пор построена значительная часть американской рекламы – и торговой, и политической, всякой.
И вот реклама подстерегает вас всюду: дома и в гостях, на улице и на дороге, в такси, в метро, в поезде, в самолете, в карете медицинской помощи – везде.
Мы еще находились на борту «Нормандии» и буксиры только втягивали пароход в нью-йоркскую гавань, как два предмета обратили на себя наше внимание. Один был маленький, зеленоватый – статуя Свободы. А другой – громадный и нахальный – рекламный щит, пропагандирующий «Чуингам Ригли» – жевательную резинку. С тех пор нарисованная на плакате плоская зеленая мордочка с громадным рупором следовала за нами по всей Америке, убеждая, умоляя, уговаривая, требуя, чтобы мы пожевали «Ригли» – ароматную, бесподобную, первоклассную резинку.
Первый месяц мы держались стойко. Мы не пили «Кока-кола». Мы продержались почти до конца путешествия. Еще несколько дней – и мы были бы уже в океане, вне опасности. Но все-таки реклама взяла свое. Мы не выдержали и отведали этого напитка. Можем сказать совершенно чистосердечно: да, «Кока-кола» действительно освежает гортань, возбуждает нервы, целительна для пошатнувшегося здоровья, смягчает душевные муки и делает человека гениальным, как Лев Толстой. Попробуй мы не сказать так, если это вбивали нам в голову три месяца, каждый день, каждый час и каждую минуту!
Еще страшней, настойчивей и визгливей реклама сигарет. «Честерфилд», «Кэмел», «Лаки Страйк» и другие табачные изделия рекламируются с исступлением, какое можно было найти разве только в плясках дервишей или на уже не существующем ныне празднике «шахсей-вахсей», участники которого самозабвенно кололи себя кинжалами и обливались кровью во славу своего божества. Всю ночь пылают над Америкой огненные надписи, весь день режут глаза раскрашенные плакаты: «Лучшие в мире! Подсушенные сигареты! Они приносят удачу! Лучшие в Солнечной системе!»
Собственно говоря, чем обширней реклама, тем пустяковей предмет, для которого она предназначена. Только продажа какой-нибудь чепухи может окупить эту сумасшедшую рекламу. Дома американцев, их дороги, поля и деревья изуродованы надоедливыми плакатами. За плакаты покупатель тоже платит. Нам говорили, что пятицентовая бутылочка «Кока-кола» обходится фабрикантам в один цент, а на рекламу затрачивается три цента. О том, куда девается пятый цент, писать не надо. Это довольно ясно.
Фабриканты замечательных и полезных предметов техники и комфорта, которыми так богата Америка, не могут рекламировать свой товар с таким исступлением, с каким рекламируется вздорная жевательная резинка или коричневое виски с сильным аптекарским запахом и довольно противным вкусом.
Однажды, проезжая через какой-то маленький городок, мы увидели за проволочной решеткой белую гипсовую лошадь, которая стояла на зеленой травке, среди деревьев. Сперва мы подумали, что это памятник неизвестной лошади, героически павшей в войне Севера с Югом за освобождение негров. Увы, нет! Эта лошадка с вдохновенными глазами молчаливо напоминала проезжающим о существовании непревзойденного виски «Белая лошадь», укрепляющего душу, освежающего мозг, питающего науками юношей и подающего отраду старцам. Более подробные сведения об этом, поистине волшебном, напитке потребитель мог найти в «Белой таверне», помещающейся здесь же, в садике. Здесь он мог узнать, что этим виски можно напиться допьяна в пять минут; что тому, кто его пьет, жена никогда не изменит, а дети его благополучно вырастут и даже найдут хороший «джаб».
Особенность такого рода рекламы заключается в гротескных преувеличениях, рассчитанных на улыбку, которую они могут вызвать у покупателя. Важно, чтобы он прочел рекламу. Этого достаточно. В свое время она подействует, как медленный восточный яд.
Как-то в пути мы увидели бродячий цирковой фургон с золотыми украшениями. Рядом с ним, прямо на дороге отплясывали два больших пингвина и раздавали детям конфеты к рождеству. Увидев нашу машину, пингвины погнались за ней на роликовых коньках. Нам тоже вручили по длинной конфете, хотя мы давно вышли из детского возраста. Растроганные, мы поехали дальше, а когда стали рассматривать подарок, то увидели, что дело не в рождестве и не в любви к детям. На конфетах была напечатана реклама общества «Шелл», торгующего бензином.
Реклама несколько портит путешествие. Куда бы ни был направлен взгляд путешественника, он обязательно натолкнется на какую-то просьбу, требование, надоедливое напоминание.
«Если вы хотите, чтобы вашим словам поверили, повторяйте их как можно чаще». В маленьком восточном городке, который мы проезжали, все телеграфные столбы Мейн-стрита были оклеены совершенно одинаковыми плакатами с портретом мистера Джозефа А. Болдуина, маленького республиканского кандидата в конгресс.
Рекламируются не только костюмы, кандидаты, напитки или бензин. Рекламируются целые города. Стоит на дороге колоссальный плакат, который раз в двадцать больше автомобиля. Город Карлсбад, штат Нью-Мексико, сообщает о себе:
«До Карлсбада 23 мили. Хорошая дорога. Знаменитые минеральные источники. (Американец и впрямь подумает, что это тот самый Карлсбад.) Хорошие церкви. Театры (очевидно, имеются в виду два кинематографа с бандитскими картинами). Бесплатный пляж. Блестящие отели. Правь в Карлсбад!»
Город заинтересован, чтобы путешественник туда заехал. Если его не прельстят даже знаменитые источники, то он уж безусловно купит на дорогу немного газолина или пообедает в городе. Вот несколько долларов и отсеется в пользу карлсбадских торговцев. Все-таки маленькая польза. А может быть, путешественник заглянет в одну из карлсбадских хороших церквей. Тогда и богу будет приятно.
Деятели церкви не отстают от мирян. Весь вечер горят в Америке неоновые трубки, сообщая прихожанам о развлечениях духовного и недуховного свойства, кои приготовлены для них в храмах. Одна церковь заманивает школьным хором, другая – часом обществоведения. И к этому добавляется сентенция прямо из словаря бакалейной лавочки: «Приходите! Вы будете удовлетворены нашим обслуживанием!»
Мы уже говорили, что слово «паблисити» имеет очень широкий смысл. Это не только прямое рекламирование, а еще и всякое упоминание о рекламируемом предмете или человеке вообще. Когда, скажем, делают «паблисити» какому-нибудь актеру, то даже заметка в газете о том, что ему недавно сделали удачную операцию и что он находится на пути к выздоровлению, тоже считается рекламой. Один американец с некоторой завистью в голосе сказал нам, что господь бог имеет в Соединенных Штатах шикарное «паблисити». О нем ежедневно говорят пятьдесят тысяч священников.
Есть еще один вид рекламы. Некоторым образом научно-просветительный. Вдруг вдоль дороги появляется целая серия рекламных плакатов, растянувшихся на несколько миль. Это нечто вроде «викторины». Совершенно одинаковые желтые таблицы с черными буквами задают путешественникам вопросы. Затем – через сотню футов – сами на них отвечают. Приводятся библейские тексты, анекдоты и различные сведения географического или исторического характера. В результате – на такой же точно желтой табличке, из которой скучающий путешественник надеется почерпнуть еще несколько полезных сообщений, он находит название горячо рекомендуемого мыла для бритья и с отвращением чувствует, что название это засело в его памяти на всю жизнь.
Куда ни глядит американец – вперед, назад, вправо или влево, – он всюду видит объявления. Но, даже подняв глаза к небу, он тоже замечает рекламу. Самолеты лихо выписывают в голубом небе слова, делающие кому-то или чему-то «паблисити».
Наш серый кар катился все дальше и дальше по штату Нью-Йорк.
– Стоп! – крикнул вдруг мистер Адамс. – Нет, нет! Вы должны это посмотреть и записать в свои книжечки.
Машина остановилась.
Мы увидели довольно большой желтый плакат, вдохновленный не одной лишь коммерческой идеей. Какой-то американский философ при помощи агентства «Вайкин-пресс» установил на дороге такое изречение: «Революция – это форма правления, возможная только за границей».
Мистер Адамс наслаждался.
– Нет, сэры! – говорил он, позабыв на радостях о своей шляпе. – Вы просто не понимаете, что такое реклама в Америке. О, но! Американец привык верить рекламе. Это надо понять. Вот, вот, вот. У нас революция просто невозможна. Это вам говорит на дороге как непогрешимую истину агентство «Вайкин-пресс». Да, да, да, сэры! Не надо спорить! Агентство точно знает.
Тут очень оригинально смелое утверждение, что революция – это «форма правления». Кстати, самый факт появления такого плаката указывает на то, что есть люди, которых надо уговаривать, будто революции в Америке не может быть.
– Нет, сэры, когда вы видите из тридцати пяти полос воскресного выпуска газеты двадцать пять, занятых рекламой, не думайте, что ее никто не читает. О, но! Это было бы глупо так думать. Нет такой рекламы, которая не нашла бы своего читателя.
Мы подъехали к Ниагарскому водопаду перед вечером.
Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, обрушивавший с высоты небоскреба тысячи тонн воды, которую еще не успели разлить по бутылочкам и продать под видом самого освежающего, самого целебного напитка, благотворно действующего на щитовидную железу, помогающего изучению математики и способствующего совершению удачных биржевых сделок.
Мистер Адамс что-то кричал, но шум водопада заглушал его голос.
Вечером, когда мы уезжали из города Ниагары, миссис Адамс остановила автомобиль у тротуара, чтобы разузнать дорогу в Кливленд, который лежал на нашем пути к Детройту. Улица была пуста, если не считать двух пожилых людей, по виду рабочих, стоявших у фонаря. Мистер Адамс еще только начал опускать стекло автомобильной дверцы, а они уже бросились к машине, отталкивая друг друга, чтобы поскорее узнать, что нам нужно. Мистер Адамс спросил дорогу на Кливленд. Они заговорили вместе. Некоторое время ничего нельзя было понять. Но один из них в конце концов захватил инициативу в свои руки, оттер товарища и принялся объяснять нам.
– Боже ты мой! Дорогу на Кливленд! – говорил он горячо. – Да ведь я родился в Кливленде! Уж я-то знаю дорогу на Кливленд! Еще бы! На меня вы можете смело положиться. Ай-ай-ай! Дорогу на Кливленд! Нет, вам положительно повезло, что вы напали на меня!
Он так был счастлив помочь нам, с таким жаром объяснял, в каком месте надо свернуть направо, в каком налево и где можно дешево поужинать, что его товарищ чуть не плакал от зависти и все время пытался вступить в разговор. Но уроженец Кливленда не давал ему пикнуть. Он не дал пикнуть даже мистеру Адамсу. Когда мы уезжали, он сильно горевал. Он был готов ехать с нами до самого Кливленда, чтобы только быть уверенным, что мы не собьемся с дороги.
Провожали они нас такими мощными «гуд найт», как будто мы были их родственниками, уезжавшими на войну.
Дирборн
Наш кар торжественно въехал в то самое место, где его сделали только несколько месяцев тому назад, в город Дирборн – центр фордовской автомобильной промышленности. Боже ты мой! Сколько мы увидели здесь каров благородного мышиного цвета! Они стояли у обочин, дожидаясь своих хозяев, или катились по широчайшим бетонным аллеям дирборнского парка, или совсем новенькие, только что с конвейера, покоились на проезжающих грузовиках. А мы-то думали, что купили себе автомобиль единственного, неповторимого цвета! Правда, на дорогах мы уже встречали много мышиных автомобильчиков. Но мы утешали себя тем, что это другие оттенки того же цвета или что у них не такая обтекаемая форма, как у нашего, они не так каплевидны. Мы очень дорожили каплевидностью своей заводной мышки. А тут вдруг такой удар!
Если бы города могли выбирать для себя погоду, как человек подбирает галстук к носкам, то Дирборн обязательно выбрал бы к своим кирпичным двухэтажным домам ненастный день в желто-серую дождливую полоску. День был ужасен. Холодная водяная пыль носилась в воздухе, покрывая противным гриппозным блеском крыши, бока автомобилей и низкие здания Мичиган-авеню, соединяющей Дирборн с Детройтом. Сквозь дождь светились зажженные с утра вывески аптек.
– В такой самый день, – сказал мистер Адамс, оборачиваясь к нам, – один джентльмен, как рассказывает Диккенс, надел, по обыкновению, цилиндр и отправился в свою контору. Надо вам сказать, что дела этого джентльмена шли отлично. У него были голубоглазые дети, красивая жена, и он зарабатывал много денег. Это видно хотя бы из того, что он носил цилиндр. Не каждый в Англии ходит на работу в шелковой шляпе. И вдруг, переходя мост через Темзу, джентльмен молча прыгнул в воду и утонул. Но, но, сэры! Вы должны понять! Счастливый человек по дороге в свою контору бросается в воду! Джентльмен в цилиндре кидается в Темзу! Вам не кажется, что в Дирборне тоже хочется надеть цилиндр?
Улица кончилась. С высоты эстакады открылся суровый индустриальный вид. Звонили сигнальные колокола паровозов, разъезжавших между цехами. Большой пароход, свистя, шел по каналу, направляясь к самой середине завода. В общем, здесь было все то, что отличает промышленный район от детского сада, – много дыма, пара, лязга, очень мало улыбок и счастливого лепета. Тут чувствовалась какая-то особая серьезность, как на театре военных действий, в прифронтовой полосе. Где-то близко люди участвуют в чем-то очень значительном – делают автомобили.
Пока мистер Адамс и мистер Грозный, который вовсе был не мистер, а товарищ Грозный, представитель нашего «Автостроя» в Дирборне, получали для нас разрешение осмотреть завод, мы стояли в холле информационного бюро и рассматривали установленный на паркете «форд» нового выпуска. В зале он казался больше, чем на улице. Представлялось невероятным, что заводы Форда выпускают каждый день семь тысяч штук таких сложных и красивых машин.
Хотя был конец тридцать пятого года, Дирборн и Детройт были переполнены рекламными экземплярами модели тридцать шестого. Образцы автомобилей стояли в отельных вестибюлях, в магазинах дилеров. Даже в витринах аптек и кондитерских, среди пирожных, клистиров и сигарных коробок, вращались автомобильные колеса на толстых файретоновских шинах. Мистер Генри Форд не делал тайны из своей продукции. Он выставлял ее где только можно. Зато в лаборатории у него стоял заветный предмет – модель 1938 года, о которой ходят самые разноречивые слухи. Мотор у нее будто бы помещается сзади; радиатора будто бы вовсе нет; купе будто бы вдвое больше – и вообще тысяча и одна автомобильная ночь. Этого до поры до времени никто не увидит, в особенности люди из «Дженерал Моторс», который в нескольких милях от Форда изготовляет «шевроле» и «плимуты» – машины фордовского класса.
Разрешение было получено очень быстро. Администрация предоставила нам гостевой «линкольн», в котором была даже медвежья полость, очевидно из желания создать гостям с далекого севера наивозможно близкую им родную обстановку. К «линкольну» были приданы шофер и гид. Мы въехали в заводские дворы.
По застекленной галерее, соединяющей два корпуса, в желтоватом свете дня медленно плыли подвешенные к конвейерным цепям автомобильные детали. Это медленное, упорное, неотвратимое движение можно было увидеть всюду. Везде – над головой, на уровне плеч или почти у самого пола – ехали автомобильные части: отштампованные боковинки кузовов, радиаторы, колеса, блоки моторов; ехали песочные формы, в которых еще светился жидкий металл, ехали медные трубки, фары, капоты, рулевые колонки с торчащими из них тросами. Они то уходили вверх, то спускались, то заворачивали за угол. Иногда они выходили на свежий воздух и двигались вдоль стены, покачиваясь на крюках, как бараньи тушки. Миллионы предметов текли одновременно. От этого зрелища захватывало дыхание.
Это был не завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная, которая убыстряет свое течение, приближаясь к устью. Она текла и днем, и ночью, и в непогоду, и в солнечный день. Миллионы частиц бережно несла она в одну точку, и здесь происходило чудо – вылупливался автомобиль.
На главном фордовском конвейере люди работают с лихорадочной быстротой. Нас поразил мрачно-возбужденный вид людей, занятых на конвейере. Работа поглощала их полностью, не было времени даже для того, чтобы поднять голову. Но дело было не только в физическом утомлении. Было похоже, что люди угнетены душевно, что их охватывает у конвейера ежедневное шестичасовое помешательство, после которого, воротясь домой, надо каждый раз подолгу отходить, выздоравливать, чтобы на другой день снова впасть во временное помешательство.
Труд расчленен так, что люди конвейера ничего не умеют, у них нет профессии. Рабочие здесь не управляют машиной, а прислуживают ей. Поэтому в них не видно собственного достоинства, которое есть у американского квалифицированного рабочего. Фордовский рабочий получает хорошую заработную плату, но он не представляет собой технической ценности. Его в любую минуту могут выставить и взять другого. И этот другой в двадцать две минуты научится делать автомобили. Работа у Форда дает заработок, но не повышает квалификации и не обеспечивает будущего. Из-за этого американцы стараются не идти к Форду, а если идут, то мастерами, служащими. У Форда работают мексиканцы, поляки, чехи, итальянцы, негры.
Конвейер движется, и одна за другой с него сходят превосходные и дешевые машины. Они выезжают через широкие ворота в мир, в прерию, на свободу. Люди, которые их сделали, остаются в заключении. Это удивительная картина торжества техники и бедствий человека.
По конвейеру ехали автомобили всех цветов: черные, вашингтонские голубые, зеленые, машины цвета пушечного металла (так он официально называется), даже, ох, ох, благородные мышиные. Был один кузов ярко-апельсинового цвета, как видно будущий таксомотор.
Среди гама сборки и стука автоматических гаечных ключей один человек сохранял величавое спокойствие. Это был маляр, на обязанности которого лежало проводить тонкой кисточкой цветную полоску на кузове. У него не было никаких приспособлений, даже муштабеля, чтобы поддерживать руку. На левой руке его висели баночки с разными красками. Он не торопился. Он даже успевал окинуть свою работу взыскательным взглядом. На автомобиле мышиного цвета он делал зеленую полоску. На апельсиновом такси он провел синюю полоску. Это был свободный художник, единственный человек на фордовском заводе, который не имел никакого отношения к технике, какой-то нюрнбергский мейстерзингер, свободолюбивый мастер малярного цеха. Вероятно, в фордовской лаборатории установили, что проводить полоску именно таким средневековым способом выгоднее всего.
Загремел звонок, конвейер остановился, и в здание въехали маленькие автомобильные поезда с завтраком для рабочих. Не умывая рук, рабочие подходили к вагончикам, покупали сэндвичи, помидорный сок, апельсины – и садились на пол.
– Сэры, – сказал мистер Адамс, внезапно оживившись, – вы знаете, почему у мистера Форда рабочие завтракают на цементном полу? Это очень, очень интересно, сэры. Мистеру Форду безразлично, как будет завтракать его рабочий. Он знает, что конвейер все равно заставит его сделать свою работу, независимо от того, где он ел – на полу, за столом или даже вовсе ничего не ел. Вот возьмите, например, «Дженерал Электрик». Было бы глупо думать, сэры, что администрация «Дженерал Электрик» любит рабочих больше, чем мистер Форд. Может быть, даже меньше. А между тем у них прекрасные столовые для рабочих. Дело в том, сэры, что у них работают квалифицированные рабочие, и с ними надо считаться, они могут уйти на другой завод. Это чисто американская черта, сэры. Не делать ничего лишнего. Не сомневайтесь в том, что мистер Форд считает себя другом рабочих. Но он не истратит на них ни одной лишней копейки.
Нам предложили сесть в только что сошедшую с конвейера машину. Каждая машина делает два-три испытательных круга по специальной заводской дороге. Это в некотором роде образец очень плохой дороги. Можно объехать все Штаты и не найти такой. В общем, дорога была не так уж плоха. Несколько корректных ухабов, небольшая, даже симпатичная лужица – вот и все, ничего ужасного. И автомобиль, сделанный на наших глазах руками людей, не имеющих никакой профессии, показал замечательные свойства. Он брал крутые повороты со скоростью пятидесяти пяти миль в час, прекрасно сохранял устойчивость, на третьей скорости шел не быстрее пяти миль в час и так мягко перескакивал через ухабы, будто их и вовсе не было.
– Да, да, да! – радостно говорил Адамс. – Мистер Форд умеет делать автомобили. Но, но, сэры, о, но! Вы даже не понимаете, какой прогресс произошел в этом деле. «Форд» тридцать пятого года лучше, чем «кадиллак» двадцать восьмого года. За семь лет машина дешевого класса сделалась лучше, чем была машина высшего класса. Вот, вот, пожалуйста! Запишите в свои книжечки, мистер Илф и мистер Петров, если вы хотите знать, что такое Америка.
Здесь не только текли части, соединяясь в автомобили, не только автомобили вытекали из заводских ворот непрерывной чередой, но и сам завод непрерывно изменялся, совершенствовался и дополнял свое оборудование.
В литейной товарищ Грозный вдруг восторженно зачертыхался. Он не был здесь только две недели, и за это время в цехе произошли очень серьезные и важные изменения. Товарищ Грозный стоял посреди цеха, и на его лице, озаряемом вспышками огня, отражался такой восторг, что полностью оценить и понять его мог, конечно, только инженер, просто инженер, а не инженер человеческих душ.
Серо-желтый день быстро перешел в черно-желтые сумерки. Когда мы покидали завод, во дворе уже стояло громадное каре готовых автомобилей, и среди них, где-то в центре, мы заметили ярко-апельсиновый таксомотор, еще недавно шедший по конвейеру.
В парикмахерской на Мичиган-авеню, где мы стриглись, один мастер был серб, другой – испанец, третий – словак, а четвертый – еврей, родившийся в Иерусалиме. Обедали мы в польском ресторане, где подавала немка. Человек, у которого мы на улице спросили дорогу, не знал английского языка. Это был грек, недавно прибывший сюда, прямо к черту в пекло, с Пелопоннесского полуострова. У него были скорбные черные глаза философа в изгнании. В кинематографе мы внезапно услышали в темноте громко произнесенную фразу: «Маня, я же тебе говорил, что на этот пикчер не надо было ходить».
– Вот, вот, мистеры, – говорил Адамс, – вы находитесь в самой настоящей Америке.
Утром мы отправились к мистеру Соренсену, директору всех заводов Форда, разбросанных по миру.
Мы прошли через зал, на чистом паркетном полу которого были разложены детали стандартного автомобиля, и прямо в пальто и шляпах были введены в стеклянный директорский кабинет. Здесь стоял большой письменный стол, на котором не лежало ни одной бумажки, был только один телефон и настольный календарь.
В кабинет вошел высокий худой человек в сером костюме, с седой головой, свежим лицом и походкой легкоатлета. В руке он держал маленькую черную деталь из пластмассы. Это был мистер Соренсен, датчанин по происхождению, сын печника, сам когда-то печник, а потом модельщик.
Уже перед отъездом из Америки мы прочли в вашингтонской газете небольшую заметку, где перечислялся десяток людей, получающих наибольшее жалованье в стране. Мистер Соренсен был на десятом месте. Первое место занимала Мэй Вест, кинозвезда, вульгарная, толстая, недаровитая баба. Она получила в тридцать пятом году четыреста пятьдесят тысяч долларов. Соренсен получил сто двенадцать тысяч.
Он сразу заговорил про деталь, которую держал в руке. Раньше она делалась из стали, теперь ее сделали из пластмассы и сейчас испытывают.
– Мы все время находимся в движении, – сказал мистер Соренсен. – В этом вся суть автомобильной промышленности. Ни минуты застоя, иначе нас обгонят. Нам надо думать сейчас о том, что мы будем делать в сороковом году.
Он вышел из комнаты и вернулся, таща в руках отливку. Это был блок мотора, который он отлил из стали лично, своими директорскими руками.
– Мы еще долго будем испытывать, что получилось. Но, очевидно, это войдет в наш автомобиль.
Мы потрогали блок, который войдет в состав машины через несколько лет, и заговорили о Форде.
– Я познакомился с мистером Фордом тридцать пять лет тому назад, – сказал Соренсен.
– Каковы же ваши отношения сейчас?
– О, – сказал мистер Соренсен, – тридцать пять лет тому назад мистер Форд конструировал в каком-то сарае свой автомобиль и пришел ко мне на маленький литейный заводик, где я работал. Тогда мистер Форд был обыкновенным механиком, а я был модельщиком. Он принес мне свой чертеж и просил сделать модель. И с тех пор ничто не изменилось. Мистер Форд по-прежнему приносит мне свои идеи, и я по-прежнему их осуществляю.
Он сказал, что ничто не изменилось, в то время как даже в окно было видно, какие изменения произошли по вине дирборнского механика и его друга-модельщика.
Мистер Соренсен повел нас смотреть фотографию, где он был снят вместе с директором Горьковского завода Дьяконовым и Грозным. Простецки улыбаясь, все трое смотрели прямо в аппарат.
Мы успели втиснуть в разговор фразу насчет того, что хотели бы повидаться с Фордом, и мистер Соренсен сказал, что постарается выяснить, возможно ли это. Однако мы не были уверены в том, что свидание действительно состоится. Все предупреждали нас, что это очень трудно, что Форд стар, занят и неохотно соглашается на встречи.
Генри Форд
Утром позвонили от мистера Соренсена и сказали, что мистер Форд может нас принять.
Нас попросили зайти к мистеру Камерону, личному секретарю Форда. Мистер Камерон помещался в здании конструкторского бюро.
– Сейчас мистера Форда нет, – сообщил он нам, – и я не могу точно сказать, когда вы сможете с ним увидеться. Но ведь вы все равно осматриваете завод и, наверно, раз десять в день проезжаете мимо нашего «офиса». Когда будете ехать мимо, наведайтесь ко мне, – может быть, мистер Генри Форд будет в то время здесь.
Мы уже знали, что у Форда нет своего кабинета, что он не запирается у себя, а постоянно разгуливает по конструкторскому бюро. Поэтому мы нисколько не удивились и, накрывшись медвежьей полостью, снова поехали смотреть дирборнские чудеса.
В этот день мы начали с музея машин.
Здание музея имеет только один зал, размером в восемь гектаров. Пол выложен тиковым паркетом, который звенит под ногами, как сталь. Потолок подпирают металлические колонны. Они в то же время являются калориферами центрального отопления.
Музей еще не готов. Но замечательные экспонаты доставлены сюда со всего мира. Здесь десятки паровых машин, начиная чуть ли не от котла Уатта. Все машины устанавливаются на фундаменты, с тем чтобы после открытия музея они могли работать, наглядно демонстрируя старинную технику. Есть среди них необыкновенно пышные образцы – неуклюжие, тяжелые, на чугунных коринфских колоннах, выкрашенных зеленой масляной краской. Автомобильный отдел громаден. Как видно, тут собраны все типы и модели автомобилей, которые когда-либо существовали на свете. И нельзя сказать, что понятие о красоте было чуждо строителям автомобилей тридцать лет тому назад. Конечно, почти все эти машины кажутся теперь странными нашему взгляду, но среди них есть очень красивые экземпляры. В них много красной меди, сверкающей зеленоватой латуни, зеркальных стекол, сафьяна. С другой стороны, эти автомобили подчеркивают величие современной автомобильной техники, показывают, насколько лучше делают автомобили сейчас, насколько они дешевле, проще, сильнее, элегантнее.
Может быть, Форд и сам еще не знает, как будет выглядеть его музей. Здесь не чувствуется руководящей идеи в устройстве отделов и расстановке экспонатов. Но очевидно, Фордом двигало одно стремление – собрать всю эту разбросанную по миру и беспризорную старинную технику, покамест она еще не проржавела и не истлела на свалках. Он торопится. Все время свозят в музей новые и новые экспонаты. Здесь есть деревянные сохи, бороны, деревянные ткацкие станки, первые швейные машины, первые пишущие машины, древние граммофоны, паровозы и поезда.
На рельсах, вделанных в начищенный паркет, стоит старинный поезд с узорными чугунными решетками на тамбурах. Наружные стены вагонов расписаны розочками и листиками, а под окошками – в медальонах нарисованы сельские виды. Вагоны прицеплены к маленькому бойкому паровозику с медными фонарями, поручнями и гербами. В таком точно поезде, лет семьдесят пять тому назад, мальчик по фамилии Эдисон продавал пассажирам газеты. В таком точно поезде он получил исторический удар по уху от кондуктора, после чего лишился слуха. И в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, во время празднования восьмидесятилетия Эдисона, между Детройтом и Дирборном была восстановлена старинная железнодорожная ветка, и тот самый поезд с цветочками и пейзажами, который мы видели в музее, повез великого изобретателя. И так же, как семьдесят пять лет тому назад, Эдисон продавал газеты сидевшим в поезде гостям. Не было только грубияна кондуктора, сбросившего мальчишку с поезда. И когда Эдисона спрашивали, не повлияла ли глухота на его работу, он отвечал:
– Нисколько. Я даже избавился от необходимости выслушивать множество глупостей, на которые так щедры люди.
Смешной поезд, бренча, катился в Дирборн. А вокруг, на всем земном шаре, пылало электричество, звонили телефоны, звучали патефонные диски, электрические волны опоясывали мир. И все это вызвал к жизни глухой старик с лицом полководца, который медленно, поддерживаемый под руки, переходил из вагона в вагон и продавал газеты.
Форд утверждает в Америке культ Эдисона. В какой-то степени этот культ переносится и на самого Форда. Он человек того же, эдисоновского поколения. Он вызвал к жизни машину, он сделал ее массовой.
Уходя из музея, мы увидели в вестибюле вделанную в пол бетонную плиту. На ней видны отпечатки ног Эдисона и его собственноручная подпись.
Мы отправились в другой музей Форда, в так называемую «деревню», Гринфилд-вилледж. Деревня занимала большую территорию, и для осмотра ее посетителям подавались старинные кареты, дормезы и линейки. На козлах сидели кучера в шубах мехом наружу и цилиндрах. Они щелкали бичами. На кучеров было так же странно смотреть, как и на их лошадей. Въезд на автомобилях в Гринфилд-вилледж запрещен. Мы забрались в карету и покатили по дороге, давно нами не виданной. Это была тоже старомодная дорога, чудо пятидесятых годов девятнадцатого века, – грязь, слегка присыпанная гравием. Мы катили по ней неторопливой помещичьей рысцой.
«Деревня» – это недавнее начинание Форда. Трудно ответить на вопрос, что это такое. Даже сам Форд вряд ли мог бы точно объяснить, зачем она ему понадобилась. Может быть, ему хотелось воскресить старину, по которой он тоскует, а может быть, напротив, хотелось подчеркнуть убожество этой старины в сравнении с техническими чудесами современности. И все-таки в этом начинании нет традиционной и вздорной эксцентричности американских миллиардеров. То, что делает Форд в своих музеях, еще не ясно, но это несомненно умно – собрать и сохранить для потомства техническую старину.
В музейную деревню целиком перенесена из Менло-парка старая лаборатория Эдисона, та самая лаборатория, где производились бесчисленные опыты для нахождения волоска первой электрической лампы, где эта лампа впервые зажглась, где впервые заговорил фонограф, где многое произошло впервые.
В бедном деревянном доме со скрипучими полами и закопченными стенами зарождалась современная нам техника. Следы эдисоновского гения и титанического усердия видны и сейчас. В лаборатории было столько стеклянных и металлических приборов, столько банок и колб, что только для того, чтобы вытереть с них пыль, понадобилась бы целая неделя.
Входящих в лабораторию встречал кудрявый старик с горящими черными глазами. На голове у него была шелковая шапочка, какую обычно носят академики. Он с жаром занялся нами. Это был один из сотрудников Эдисона, кажется – единственный оставшийся в живых.
Он сразу же взмахнул обеими руками и закричал изо всей силы:
– Все, что здесь получил мир, сделали молодость и сила Эдисона! Эдисон в старости ничто в сравнении с молодым Эдисоном! Это был лев науки!
И старик показал нам галерею фотографических портретов Эдисона. На одних молодой изобретатель был похож на Бонапарта – на бледный лоб падала горделивая прядь. На других – походил на Чехова-студента. Старик продолжал оживленно махать руками. Мы даже призадумались над тем, откуда у американца такая экзальтация. Впрочем, тут же выяснилось, что старик – француз.
Ученый, говоря о своем великом друге, расходился все больше и больше. Мы оказались внимательными слушателями и были за это вознаграждены. Старик показал нам первую лампочку, которая зажглась в мире. Он даже представил в лицах, как это произошло: как они сидели вокруг лампочки, дожидаясь результата. Все волоски зажигались на мгновенье и сейчас же перегорали. И наконец был найден волосок, который загорелся и не потух. Они сидели час – лампа горела. Они сидели два часа, не двигаясь, – лампа горела. Они просидели всю ночь. Это была победа.
– Науке некуда уйти от Эдисона! – вскричал старик. – Даже современные радиолампы родились со светом этой лампочки накаливания.
Дрожащими, но очень ловкими руками старик приладил первую эдисоновскую лампочку к радиоприемнику и поймал несколько станций. Усиление было не очень большое, но довольно внятное. Потом старый ученый схватил листок оловянной бумаги и вложил его в фонограф, эту первую машину, которая заговорила человеческим голосом. До тех пор машины могли только гудеть, скрежетать или свистеть. Фонограф был пущен в ход, и старик произнес в рупор те слова, которые в его присутствии когда-то сказал в этот же рупор Эдисон. Это были слова старой детской песенки про Мэри и овечку. Песенка заканчивается смехом – ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха! – совершенно явственно произнес фонограф. Мы испытывали такое чувство, как будто этот аппарат родился только что, в нашем присутствии.
– В эту ночь Эдисон стал бессмертным! – завопил старик. На его глазах показались слезы. И он повторил: – Молодость была силой Эдисона!
Узнав, что мы писатели, старик вдруг стал серьезным. Он торжественно посмотрел на нас и сказал:
– Пишите только то, что вы думаете. Не для Англии, не для Франции, пишите для всего мира.
Старик ни за что не хотел, чтобы мы уходили. Он говорил нам об Эдисоне, об абиссинской войне, он проклинал Италию, проклинал войну и восхвалял науку. Напрасно мистер Адамс в течение часа пытался вставить хотя бы одно слово в этот ураган мыслей, соображений и восклицаний. Это ему не удалось. Француз не давал ему открыть рта. Наконец стали прощаться, и тут оба старика показали, как это надо делать. Они били друг друга по рукам, по плечам и по спинам.
– Гуд-бай, сэр! – кричал Адамс.
– Гуд-бай, гуд-бай! – надрывался старик.
– Тэнк ю вери, вери мач! – кричал Адамс, сходя вниз по лестнице. – Премного вам благодарен!
– Вери! Вери! – доносилось сверху.
– Нет, сэры, – сказал мистер Адамс, – вы ничего не понимаете. В Америке есть хорошие люди.
И он вынул большой семейный носовой платок в крупную красную клетку и, не снимая очков, вытер им глаза.
Когда мы проезжали мимо лаборатории, нам сообщили, что мистера Форда еще нет. Мы поехали дальше, на фордовский завод фар, расположенный в пятнадцати милях от Дирборна. Наш молодой гид неожиданно оказался разговорчивым и развлекал нас всю дорогу. Оказалось, что на фордовских заводах есть собственная негласная полиция. Она состоит из пятисот человек, и в ней служат, между прочим, бывший начальник детройтской полиции и Джо Луис, знаменитый боксер. При помощи этих деятельных джентльменов в Дирборне царит полный мир. Профсоюзных организаций здесь не существует. Они загнаны в подполье.
Завод, на который мы ехали, представлял особенный интерес. Это не просто завод, а воплощение некоей новой технической и политической идеи.
Мы уже много слышали о ней, так как она очень злободневна в связи с теми разговорами, которые ведутся в Америке о диктатуре машин и о том, как сделать жизнь счастливой, сохранив в то же время капитализм.
В разговоре с нами мистер Соренсен и мистер Камерон, представляющие вдвоем правую и левую руки Генри Форда, сказали, что, если бы им пришлось заново строить фордовское предприятие, они ни в коем случае не построили бы завода-гиганта. Вместо одного завода они выстроили бы сотни маленьких, карликовых заводиков, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии.
Мы услышали в Дирборне новый лозунг: «Деревенская жизнь и городской заработок».
– Представьте себе, – сказали нам, – лесок, поле, тихую речку, даже самую маленькую. Тут стоит крошечный заводик. Вокруг живут фермеры. Они возделывают свои участки, они же работают на нашем заводике. Прекрасный воздух, хорошие домики, коровы, гуси. Если начинается кризис и мы сокращаем производство, рабочий не умрет с голоду – у него есть земля, хлеб, молоко. Вы же знаете, что мы не благодетели, мы занимаемся другими вещами – мы строим хорошие дешевые автомобили. И если бы карликовые заводы не давали большого технического эффекта, мистер Генри Форд не обратился бы к этой идее. Но мы уже точно установили, что на карликовом заводе, где нет громадного скопления машин и рабочих, производительность труда гораздо выше, чем на большом заводе. Таким образом, рабочий живет дешевой и здоровой деревенской жизнью, а заработок у него городской. Кроме того, мы избавляем его от тирании коммерсантов. Мы заметили, что стоит нам поднять хоть немного заработную плату, как в Дирборне пропорционально подымаются все цены. Этого не будет, если исчезнет скопление в одном месте десятков и сотен тысяч рабочих.
Эта идея возникла у Форда, как он потом сказал нам, лет двадцать тому назад. Как всякое американское начинание, ее долго проверяют, прежде чем проводить в широких масштабах. Сейчас есть уже около двадцати карликовых заводов, и Форд увеличивает их число с каждым годом. Расстояние между заводами в десять, двадцать и даже пятьдесят миль не смущает Форда. При идеальном состоянии американских дорог – это не проблема.
Итак, все в идее клонится к общему благополучию. Жизнь деревенская, заработок городской, кризис не страшен, техническое совершенство достигнуто. Не сказали нам только, что в этой идее есть большая политика – превратить пролетариев в мелких собственников по духу и одновременно избавиться от опасного сосредоточения рабочих в больших индустриальных центрах. Кстати, и специальной фордовской полиции нечего будет делать. Можно будет и им дать на всякий случай по коровке. Пусть себе великий негр Джо Луис идиллически доит коровок. Пусть и бывший шеф детройтской полиции бродит по полям с венком на голове, как Офелия, и бормочет: «Нет работы, скучно мне, скучно, джентльмены!»
У американцев слово не расходится с делом. Поднявшись на пригорок, мы увидели картину, которую так ярко нам описывали. Завод фар стоял на маленькой речке, где плотина создавала всего лишь семь футов падения воды. Но этого было достаточно, чтобы привести в движение две небольшие турбины. Вокруг завода действительно были и лесок и лужок, виднелись фермы, слышались кукареканье, кудахтанье, собачий лай – одним словом, все сельскохозяйственные звуки.
Завод представлял собой одно зданьице, почти сплошь стеклянное. Самым замечательным здесь было то, что этот заводик, на котором работает всего лишь пятьсот человек, делает фары, задние фонарики и потолочные плафоны для всех заводов Форда. Среди феодального кукареканья и поросячьего визга завод изготовляет за один час тысячу фар, шестьсот задних фонарей и пятьсот плафонов. Девяносто восемь процентов рабочих – фермеры, и каждый из них имеет от пяти до пятидесяти акров земли. Завод работает в две смены, но если бы работал в полную силу, то выпускал бы в полтора раза больше продукции.
Что будут делать рабочие, не имеющие никаких акров, новая идея ничего не говорит, хотя эти люди и составляют весь рабочий класс Соединенных Штатов. Но если бы даже подозрительно подобревшим капиталистам и удалось посадить весь американский пролетариат на землю, что само по себе является новейшей буржуазной утопией, – то и тогда эксплуатация не только не исчезла бы, но, конечно, усилилась, приняв более утонченную форму.
Невзирая на раскинувшиеся вокруг завода деревенские ландшафты, у рабочих, тесно стоявших за маленькими конвейерами, был такой же мрачно-возбужденный вид, как и у дирборнских людей. Когда прозвучал звонок к завтраку, рабочие, как и в Дирборне, сразу расположились на полу и принялись быстро поедать свои сэндвичи.
– Скажите, – спросили мы мэнеджера, то есть директора, который прогуливался с нами вдоль конвейеров, – знаете ли вы, сколько фар произведено вами сегодня?
Мэнеджер подошел к стене, где на гвоздике висели длинные и узкие бумажки, снял верхнюю и прочел:
– До двенадцати часов дня мы сделали четыре тысячи двадцать три фары, две тысячи четыреста тридцать восемь задних фонарей и тысячу девятьсот девяносто два плафона.
Мы посмотрели на часы. Было четверть первого.
– Сведения о выработке я получаю каждый час, – добавил мэнеджер и повесил бумажку на гвоздик.
Мы снова подъехали к фордовскому офису. На этот раз навстречу нам в холл с некоторой поспешностью вышел мистер Камерон и пригласил нас войти. В своем кабинете мистер Камерон сосчитал нас глазами и попросил принести еще один стул. Мы сидели в пальто. Это было неудобно, и, когда мы собрались уже разоблачиться, в дверях комнаты показался Генри Форд. Он вопросительно посмотрел на гостей и сделал поклон. Произошла небольшая суета, сопутствующая рукопожатиям, и в результате этого передвижения Форд оказался в том углу комнаты, где не было стула. Мистер Камерон быстро все уладил, и Форд уселся на стул, легким движением заложив ногу на ногу. Это был худой, почти плоский, чуть сгорбленный старик с умным морщинистым лицом и серебряными волосами. На нем были свежий серый костюм, черные башмаки и красный галстук. Форд выглядел моложе своих семидесяти трех лет, и только его древние коричневые руки с увеличенными суставами показывали, как он стар. Нам говорили, что по вечерам он иногда танцует.
Мы сразу же заговорили о карликовых заводах.
– Да, – сказал мистер Форд, – я вижу возможность создания маленьких заводов, даже сталелитейных. Но пока что я не отказываюсь от больших заводов.
Он говорил о том, что в будущем видит страну покрытой маленькими заводами, видит рабочих освобожденными от ига торговцев и финансистов.
– Фермер, – продолжал Форд, – делает хлеб, мы делаем автомобили, но между нами стоит Уолл-стрит, стоят банки, которые хотят иметь долю в нашей работе, сами ничего не делая.
Тут он быстро замахал руками перед лицом, словно отгонял комара, и произнес:
– Они умеют делать только одно – фокусничать, жонглировать деньгами.
Форд ненавидит Уолл-стрит. Он великолепно понимает, что достаточно дать Моргану одну акцию, чтобы он прибрал к рукам все остальные. Фордовское предприятие – единственное в Штатах, которое не зависит от банков.
Во время разговора Форд все время двигал ногами. То упирал их в письменный стол, то клал одну ногу на другую, придерживая ее рукой, то снова ставил обе ноги на пол и начинал покачиваться. У него – близко поставленные колючие мужицкие глаза. И вообще он похож на востроносого русского крестьянина, самородка-изобретателя, который внезапно сбрил наголо бороду и оделся в английский костюм.
Форд приходит на работу вместе со всеми и проводит на заводе весь день. До сих пор он не пропускает ни одного чертежа без своей подписи. Мы уже сообщали, что кабинета у него нет. Камерон выразился о нем так:
– Мистер Форд циркулирует.
Сколько все-таки нужно силы и воли, чтобы в семьдесят три года так вот легко циркулировать!
Фордовский метод работы давно вышел за пределы простого изготовления автомобилей или других предметов. Эта система в величайшей степени повлияла на жизнь мира. Но тот человек, который эту систему выдумал, не вырос вместе с ней. Он остался тем, чем был, – механиком. Правда, гениальным механиком, но не больше. И в то время как его действия и действия других промышленников превратили Америку в страну, где никто уже не знает, что произойдет завтра, он упрямо твердит окружающим:
– Это меня не касается. У меня есть своя задача. Я делаю автомобили.
На прощанье Генри Форд, который интересуется Советским Союзом и относится к нему с некоторой симпатией, спросил нас:
– Каково сейчас финансовое положение вашей страны?
Мы только накануне прочли в «Правде» известную статью Гринько и поэтому могли дать ему самые свежие сведения.
– И очень хорошо, – сказал чудесный механик, улыбнувшись вдруг морщинистой дедушкиной улыбкой, – никогда не делайте долгов и помогайте друг другу.
Снова произошла суета, сопутствующая прощальным рукопожатиям, и осмотр одной из интереснейших достопримечательностей Америки – Генри Форда – закончился.
Страшный город Чикаго
Прошла неделя после выезда из Нью-Йорка. Постепенно у нас выработалась система путешествия. Мы ночевали в кэмпах или турист-гаузах, то есть обыкновенных обывательских домиках, где хозяева сдают приезжающим недорогие чистые комнаты с широкими удобными постелями – на которых обязательно найдешь несколько толстых и тонких, шерстяных, бумажных и лоскутных одеял, – с зеркальным комодиком, стулом-качалкой, стенным шкафом, трогательной катушкой ниток с воткнутой в нее иголкой и библией на ночном столике. Хозяева этих домиков – рабочие, мелкие торговцы и вдовы – успешно конкурируют с гостиницами, приводя их владельцев в коммерческую ярость.
Мы часто встречали на дороге рекламные плакаты отелей, довольно нервно призывающие путешественников опомниться и вернуть свое расположение гостиницам.
ПУСТЬ ВАШЕ СЕРДЦЕ НАПОЛНИТСЯ ГОРДОСТЬЮ,
КОГДА ВЫ ПРОИЗНОСИТЕ ИМЯ ОТЕЛЯ,
В КОТОРОМ ОСТАНОВИЛИСЬ
Это были завуалированные выпады против безымянных турист-гаузов и кэмпов.
– Нет, нет, сэры, – говорил мистер Адамс, когда спускались сумерки и нужно было подумать о ночлеге, – я спрашиваю серьезно: вы хотите, чтоб ваше сердце наполнилось гордостью? Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью, а кошелек пропорционально опустошается.
Нет, мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью! И как только становилось темно, а наш мышиный кар проезжал по «резиденшел-парт» очередного маленького городка, каких-нибудь Сиракуз или Вены, мы останавливались возле домика, отличающегося от остальных домиков города только плакатом: «Комнаты для туристов», входили внутрь и нестройным хором произносили: «How do you do!» – «Здравствуйте!» Тотчас же слышалось ответное: «How do you do!», и из кухни появлялась пожилая особа в переднике и с вязаньем в руке. Тут на сцену выступал мистер Адамс, любопытству которого мог бы позавидовать ребенок или судебный следователь. Маленький, толстый, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и обтирая платком бритую голову, он методично выжимал из хозяйки, обрадованной случаем поговорить, все городские новости.
– Шурли! – восклицал он, узнав, что в городе две тысячи жителей, что вчера была лотерея, что местный доктор собирается жениться и что недавно произошел случай детского паралича. – Шурли! Конечно!
Он расспрашивал хозяйку, давно ли она овдовела, где учатся дети, сколько стоит мясо и сколько лет осталось еще вносить в банк деньги за домик.
Мы уже давно лежали в своих постелях, на втором этаже, а снизу все еще слышалось:
– Шурли! Шурли!
Потом до наших ушей доносился скрип деревянных ступенек лестницы. Мистер Адамс подымался наверх и минуту стоял у дверей нашей комнаты. Ему безумно хотелось поговорить.
– Мистеры, – спрашивал он, – вы спите?
И, не получив ответа, шел к себе.
Зато утром, ровно в семь часов, осуществляя свое неоспоримое право капитана и главаря экспедиции, он шумно входил к нам в комнату, свежий, выбритый, в подтяжках, с капельками воды на бровях, и кричал:
Вставать, вставать, вставать! Гуд монинг, сэры!
И начинался новый день путешествия.
Мы пили помидорный сок и кофе в толстых кружках, ели «гэм энд эгг» (яичницу с куском ветчины) в безлюдном и сонном в этот час маленьком кафе на Мейн-стрит и усаживались в машину. Мистер Адамс только и ждал этого момента. Он поворачивался к нам и начинал говорить. И говорил почти без перерыва весь день. Он, вероятно, согласился с нами ехать главным образом потому, что почувствовал в нас хороших слушателей и собеседников.
Но вот что самое замечательное – его никак нельзя было назвать болтуном. Все, что он говорил, всегда было интересно и умно. За два месяца пути он ни разу не повторился. Он обладал точными знаниями почти во всех областях жизни. Инженер по специальности, он недавно ушел на покой и жил на маленький капитал, дававший скромные средства к жизни и независимость, которой он очень дорожил и без которой, очевидно, не мог бы просуществовать ни минуты.
– Только случайно я не сделался капиталистом, – сказал нам как-то мистер Адамс. – Нет, нет, нет, это совершенно серьезно. Вам это будет интересно послушать. В свое время я мечтал сделаться богатым человеком. Я зарабатывал много денег и решил застраховать себя таким образом, чтобы получить к пятидесяти годам крупные суммы от страховых обществ. Есть такой вид страховки. Надо было платить колоссальные взносы, но я пошел на это, чтобы к старости стать богатым человеком. Я выбрал два самых почтенных страховых общества в мире – петербургское общество «Россия» и одно честнейшее немецкое общество в Мюнхене. Сэры! Я считал, что если даже весь мир к черту пойдет, то в Германии и России ничего не случится. Да, да, да, мистеры, их устойчивость не вызывала никаких сомнений. Но вот в девятьсот семнадцатом году у вас произошла революция, и страховое общество «Россия» перестало существовать. Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В девятьсот двадцать втором году мне исполнилось ровно пятьдесят лет. Я должен был получить четыреста тысяч марок. Сэры! Это очень большие, колоссальные деньги. И в девятьсот двадцать втором году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо: «Весьма уважаемый герр Адамс, наше общество поздравляет Вас с достижением Вами пятидесятилетнего возраста и прилагает чек на четыреста тысяч марок». Это было честнейшее в мире страховое общество. Но, но, но, сэры! Слушайте! Это очень, очень интересно. На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек, так как в Германии в то время была инфляция и по стране ходили миллиардные купюры. Уверяю вас, мистеры, капитализм – это самая зыбкая вещь на земле. Но я счастлив. Я получил самую лучшую премию – я не стал капиталистом.
У мистера Адамса было легкое отношение к деньгам – немного юмора и совсем уже мало уважения. В этом смысле он совсем не был похож на американца. Настоящий американец готов отнестись юмористически ко всему на свете, но только не к деньгам. Мистер Адамс знал множество языков. Он жил в Японии, России, Германии, Индии, прекрасно знал Советский Союз. Он работал на Днепрострое, в Сталинграде, Челябинске, и знание старой России позволило ему понять Советскую страну так, как редко удается понять иностранцам. Он ездил по СССР в жестких вагонах, вступал в разговор с рабочими и колхозниками. Он видел страну не только такой, какой она открывалась его взору, но такой, какой она была вчера и какой она станет завтра. Он видел ее в движении. И для этого изучал Маркса и Ленина, читал речи Сталина и выписывал «Правду».
Мистер Адамс был очень рассеян, но это была не традиционная кроткая рассеянность ученого, а бурная, агрессивная рассеянность здорового, любознательного человека, увлекающегося каким-нибудь разговором или какой-нибудь мыслью и забывающего на это время весь мир.
Во всем, что касалось поездки, мистер Адамс был необычайно осторожен и уклончив.
– Сегодня вечером приедем в Чикаго, – говорила миссис Адамс.
– Но, но, но, Бекки, не говори так. Может, приедем, а может, и не приедем, – отвечал он.
– Позвольте, – вмешивались мы, – но до Чикаго осталось всего сто миль, и если считать, что мы делаем в среднем тридцать миль в час…
– Да, да, да, сэры, – бормотал мистер Адамс, – о, но! Еще ничего не известно.
– То есть как это неизвестно? Сейчас четыре часа дня, мы делаем в среднем тридцать миль в час. Таким образом, часам к восьми мы будем в Чикаго.
– Может, будем, а может, не будем. Да, да, да, сэры, серьезно… Ничего не известно. О, но!
– Однако что нам помешает быть в Чикаго к восьми часам?
– Нет, нет, нет, нельзя так говорить. Было бы просто глупо так думать. Вы не понимаете этого. Да, да, да, сэры.
Зато о мировой политике он говорил уверенно и не желал слушать никаких возражений. Он заявлял, например, что война будет через пять лет.
– Почему именно через пять? Почему не через семь?
– Нет, нет, мистеры, ровно через пять лет.
– Но почему?
– Не говорите мне «почему»! Я знаю. Нет, серьезно. О, но! Я говорю вам – война будет через пять лет.
Он очень сердился, когда ему возражали.
– Нет, не будем говорить! – воскликнул он. – Просто глупо и смешно думать, что война будет не через пять лет.
– Ладно. Приедем сегодня вечером в Чикаго, тогда поговорим об этом серьезно.
– Да, да, да, сэры! Нельзя так говорить – сегодня вечером мы приедем в Чикаго. О, но! Может, приедем, а может, не приедем.
Недалеко от Чикаго наш спидометр показал первую тысячу миль. Мы крикнули «ура».
– Ура! Ура! – кричал мистер Адамс, возбужденно подпрыгивая на своем диванчике. – Вот, вот, мистеры, теперь я могу вам совершенно точно сообщить. Мы проехали тысячу миль. Да, да, сэры! Не «может быть, проехали», а наверняка проехали. Так будет точнее.
Каждую тысячу миль нужно было сменять в машине масло и делать смазку.
Мы останавливались возле «сервис-стейшен», которая в нужную минуту обязательно оказывалась под боком. Нашу машину подымали на специальном электрическом станке, и, покуда мастер в полосатой фуражке выпускал темное, загрязненное масло, наливал новое, проверял тормоза и смазывал части, мистер Адамс узнавал, сколько он зарабатывает, откуда он родом и как живется людям в городке. Каждое, даже мимолетное знакомство доставляло мистеру Адамсу большое удовольствие. Этот человек был создан, чтобы общаться с людьми, дружить с ними. Он испытывал одинаковое наслаждение от разговора с официантом, аптекарем, прохожим, от которого узнавал дорогу, шестилетним негритенком, которого называл «сэр», хозяйкой турист-гауза или директором большого банка.
Он стоял, засунув руки в карманы летнего пальто и подняв воротник, без шляпы (посылка в Детройт почему-то не пришла), и жадно поддакивал собеседнику:
– Шурли! Я слушаю вас, сэр! Так, так, так. О, но! Это очень, очень интересно. Шурли!
Ночной Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной, отделяющей город от озера Мичиган, показался ошеломительно прекрасным. Справа была чернота, насыщенная мерным морским шумом разбивающихся о берег волн. По набережной, почти касаясь друг друга, в несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили, заливая асфальт бриллиантовым светом фар. Слева – на несколько миль выстроились небоскребы. Их светящиеся окна были обращены к озеру. Огни верхних этажей небоскребов смешивались со звездами. Бесновались электрические рекламы. Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было дрессированное. Прославляло оно тех же богов – «Кока-кола», виски «Джонни Уокер», сигареты «Кэмел». Были и надоевшие за неделю младенцы; худой младенец, который не пьет апельсинового сока, и его благоденствующий антипод – толстый, добрый младенец, который, оценив усилия фабрикантов сока, поглощает его в лошадиных дозах.
Мы подкатили к небоскребу с белой электрической вывеской «Стивенс-отель». Судя по рекламному проспекту, это был самый большой отель в мире – с тремя тысячами номеров, огромными холлами, магазинами, ресторанами, кафетериями, концертными и бальными залами. В общем, отель был похож на океанский пароход, весь комфорт которого прилажен к нуждам людей, на некоторое время вовсе отрезанных от мира. Только отель был гораздо больше. В нем, вероятно, можно прожить всю жизнь, ни разу не выходя на улицу, так как в этом нет никакой надобности. Разве только погулять? Но погулять можно на плоской крыше отеля. Там даже лучше, чем на улице. Нет риска попасть под автомобиль.
Мы вышли на набережную, которая носит название Мичиган-авеню, несколько раз с удовольствием оглядели этот замечательный проспект и выходящие на него парадные фасады небоскребов, свернули в первую, перпендикулярную набережной улицу и внезапно остановились.
– Нет, нет, нет, сэры! – закричал Адамс, восхищенный нашим удивлением. – Вы не должны удивляться. О, но! Это есть Америка! Нет, серьезно, было бы глупо думать, что чикагские мясные короли построят вам здесь санаторий.
Улица была узкая, не слишком светлая, удручающе скучная. Ее пересекали совсем уже узенькие, темные, замощенные булыжником, грязные переулки – настоящие трущобы, с почерневшими кирпичными стенами домов, пожарными лестницами и с мусорными ящиками.
Мы знали, что в Чикаго есть трущобы, что там не может не быть трущоб. Но что они находятся в самом центре города – это была полнейшая неожиданность. Походило на то, что Мичиган-авеню лишь декорация города и достаточно ее поднять, чтобы увидеть настоящий город.
Это первое впечатление в общем оказалось правильным. Мы бродили по городу несколько дней, все больше и больше поражаясь бессмысленному нагромождению составляющих его частей. Даже с точки зрения капитализма, возводящего в закон одновременное существование на земле богатства и бедности, Чикаго может показаться тяжелым, неуклюжим, неудобным городом. Едва ли где-нибудь на свете рай и ад переплелись так тесно, как в Чикаго. Рядом с мраморной и гранитной облицовкой небоскребов на Мичиган-авеню – омерзительные переулочки, грязные и вонючие. В центре города торчат заводские трубы и проходят поезда, окутывая дома паром и дымом. Некоторые бедные улицы выглядят как после землетрясения, сломанные заборы, покосившиеся крыши дощатых лачуг, криво подвешенные провода, какие-то свалки ржавой металлической дряни, расколоченных унитазов и полуистлевших подметок, замурзанные детишки в лохмотьях. И сейчас же, в нескольких шагах, – превосходная широкая улица, усаженная деревьями и застроенная красивыми особнячками с зеркальными стеклами, красными черепичными крышами, «паккардами» и «кадиллаками» у подъездов. В конце концов это близкое соседство ада делает жизнь в раю тоже не очень-то приятной. И это в одном из самых богатых, если не в самом богатом городе мира!
По улицам мечутся газетчики с криком:
– Убийство полицейского!
– Налет на банк!
– Сыщик Томас убил на месте гангстера Джеймса, по прозвищу «Малютка»!
– Гангстер Филиппс, по прозвищу «Ангелочек», убил на месте сыщика Паттерсона!
– Арест рэкетира!
– Киднап на Мичиган-авеню!
В этом городе стреляют. Было бы удивительно, если бы здесь не стреляли, не крали миллионерских детей (вот это и есть «киднап»), не содержали бы тайных публичных домов, не занимались ракетом. Ракет – самая верная и доходная профессия, если ее можно назвать профессией. Нет почти ни одного вида человеческой деятельности, которого бы не коснулся ракет. В магазин входят широкоплечие молодые люди в светлых шляпах и просят, чтобы торговец аккуратно, каждый месяц, платил бы им, молодым людям в светлых шляпах, дань. Тогда они постараются уменьшить налог, который торговец уплачивает государству. Если торговец не соглашается, молодые люди вынимают ручные пулеметы («машинган») и принимаются стрелять в прилавок. Тогда торговец соглашается. Это – ракет. Потом приходят другие молодые люди и вежливо просят, чтобы торговец платил им дань за то, что они избавят его от первых молодых людей. И тоже стреляют в прилавок. Это тоже ракет. Работники желтых профсоюзов получают от фабрикантов деньги за срыв забастовки. У рабочих они же получают деньги за то, что устраивают их на работу. И это ракет. Артисты платят десять процентов своего заработка каким-то агентам по найму рабочей силы даже тогда, когда достают работу сами. И это ракет. Доктор по внутренним болезням посылает больного печенью к зубному врачу для консультации и получает от него сорок процентов гонорара. Тоже – ракет.
А бывает так. Это рассказал нам один чикагский доктор.
– Незадолго до выборов в конгресс штата Иллинойс, – сказал доктор, – ко мне домой пришел человек, которого я никогда в жизни не видел. Это был «политишен» из республиканской партии. «Политишен» – делец, человек, профессией которого является низкая политика. Политика – для него заработок. Я ненавижу тип этих людей – мордатых, грубых, наглых. Обязательно у них во рту слюнявая сигара, шляпа надета чересчур набекрень, тупые глазищи и фальшивый перстень на толстом пальце. «Гуд монинг, док! – сказал мне этот человек. – Здравствуйте, доктор! За кого вы думаете голосовать?» Я хотел дать ему в морду и выкинуть его на улицу. Но, соразмерив ширину наших плеч, понял, что если кто и вылетит на улицу, то, скорее всего, это буду я. Поэтому я скромно сказал, что буду голосовать за того кандидата, который мне больше понравится. «Хорошо, – сказал «политишен». – У вас, кажется, есть дочь и она уже четыре года дожидается места учительницы?» Я ответил, что есть и дожидается. «Так вот, – сказал мой непрошеный гость, – если вы будете голосовать за нашего кандидата, мы постараемся устроить вашу дочь на работу. При этом мы ничего твердо вам не обещаем. Но если вы будете голосовать за нашего противника, то тут уж я могу сказать твердо: никогда ваша дочь не получит работу, никогда она не будет учительницей». На этом разговор закончился. «До свиданья, доктор! – сказал он на прощанье. – В день выборов я за вами заеду». Ну, конечно, я очень сердился, даже страдал, возмущался этим бесстыдством. Но в день выборов он действительно заехал за мной на автомобиле. Опять в дверь моего дома просунулась его толстая сигара. «Гуд монинг, док! – сказал он. – Могу вас подвезти к избирательному пункту». И, вы знаете, я с ним поехал. Я подумал, что, в конце концов, не все ли равно, кто будет избран – демократ или республиканец. А дочь, может быть, получит работу. Я еще никому не рассказывал об этом, кроме вас, – было стыдно. Но вот такой политической жизнью живу не я один. Всюду ракет, всюду оказывается принуждение в той или иной форме, и если хочешь быть по-настоящему честным, то надо стать коммунистом. Но для этого сейчас нужно все принести в жертву. Мне это трудно.
Чикагский ракет – самый знаменитый ракет в Америке. В Чикаго был мэр, по фамилии Чермак. Он вышел из рабочих, побывал в профсоюзных вождях и пользовался большой популярностью. Он даже дружил с нынешним президентом Рузвельтом. Они даже называли друг друга первым именем, так сказать – на «ты»: он Рузвельта – Фрэнк, а Рузвельт его – Тонни. Рабочие говорили о нем: «Тонни – наш рабочий человек. Уж этот не подведет». Газеты писали о трогательной дружбе президента с простым рабочим (видите, дети, чего может достичь в Америке человек своими мозолистыми руками!). Года два или три тому назад Чермака убили. После него осталось три миллиона долларов и пятьдесят тайных публичных домов, которые, оказывается, содержал расторопный Тонни. Итак – мэром Чикаго некоторое время был ракетир.
Из этого факта вовсе не следует, что все мэры американских городов ракетиры. И уж совсем не следует, что президент Соединенных Штатов дружит с негодяями. Это просто исключительное стечение обстоятельств; но случай с Чермаком дает прекрасное представление о том, что собою представляет город Чикаго в штате Иллинойс.
В первый вечер в Нью-Йорке мы были встревожены его нищетой и богатством. Здесь же, в Чикаго, человека охватывает чувство гнева на людей, которые в погоне за долларами выстроили в плодородной прерии, на берегу полноводного Мичигана этот страшный город. Невозможно примириться с мыслью о том, что город возник не в результате бедности, а в результате богатства, необычайного развития техники, хлебопашества и скотоводства. Земля дала человеку все, что только можно было от нее взять. Человек работал с усердием и умением, которыми можно только восхищаться. Выращено столько хлеба, добыто столько нефти и выстроено столько машин, что всего этого хватило бы, чтоб удовлетворить половину земного шара. Но на обильной, унавоженной почве вырос, наперекор разуму, громадный уродливый ядовитый гриб – город Чикаго в штате Иллинойс. Это какое-то торжество абсурда. Тут совершенно серьезно начинаешь думать, что техника в руках капитализма – это нож в руках сумасшедшего.
Могут сказать, что мы слишком впечатлительны, что мы увлекаемся, что в Чикаго есть превосходный университет, филармония, как говорят – лучший в мире водопровод, умная радикальная интеллигенция, что здесь была грандиозная всемирная выставка, что Мичиган-авеню – красивейшая улица в мире. Это правда. Все это есть в Чикаго. Но это еще больше подчеркивает глубину нищеты, уродство зданий и произвол ракетиров. Превосходный университет не обучает юношей, как бороться с нищетой, радикальная интеллигенция бессильна, полиция стреляет не столько в бандитов, сколько в доведенных до отчаяния забастовщиков, всемирная выставка сделала счастливыми только хозяев отелей, а красивейшая в мире Мичиган-авеню много проигрывает в соседстве с трущобами.
Хорошие люди в Чикаго решили нас развлечь и повезли в студенческий клуб Чикагского университета на бал, устроенный по случаю дарования независимости Филиппинам.
Студенческий бал оказался трезвым, веселым и во всех отношениях приятным. В большом зале танцевали филиппинские девушки, широконосые черноглазые красавицы, скользили по паркету японцы, китаянки, плыла над толпой белая шелковая чалма молодого индуса. Индус был во фраке, с белой грудью, поджарый обольститель с горящими глазами.
– Прекрасный бал, сэры, – сказал мистер Адамс, странно хихикая.
– Вам не нравится?
– Нет, сэры, я же сказал. Бал очень хороший.
И он внезапно напал на индуса, отвел его в сторону и стал выспрашивать, как ему живется в общежитии, сколько рупий в месяц посылает ему мама и какой деятельности он собирается посвятить себя по окончании университета. Индус вежливо отвечал на вопросы и с невыразимой тоской смотрел на толпу танцующих, откуда его вырвали так внезапно.
С потолка свисали филиппинские и американские флаги, оркестр на сцене был залит фиолетовым светом, музыканты высоко поднимали саксофоны, был тихий, хороший, семейный бал, без пьяных, без обиженных, без скандалов. Приятно было сознавать, что присутствуешь на историческом событии. Все-таки освободили филиппинцев, дали Филиппинам независимость! Могли ведь не дать, а дали. Сами дали! Это благородно.
На обратном пути в гостиницу мистер Адамс все время бормотал:
– Серьезно, сэры! О, но!..
– Что серьезно?
– Нет, нет, сэры, я все время хочу вас спросить: почему вдруг мы дали Филиппинам независимость? Серьезно, сэры, мы хорошие люди. Сами дали независимость, подумайте только. Да, да, да, мы хорошие люди, но терпеть не можем, когда нас хватают за кошелек. Эти чертовы филиппинцы делают очень дешевый сахар и, конечно, ввозят его к нам без пошлины. Ведь они были Соединенными Штатами до сегодняшнего дня. Сахар у них такой дешевый, что наши сахаропромышленники не могли с ними конкурировать. Теперь, когда они получили от нас свою долгожданную независимость, им придется платить за сахар пошлину, как всем иностранным купцам. Кстати, мы и Филиппин не теряем, потому что добрые филиппинцы согласились принять от нас независимость только при том условии, чтобы у них оставались наша армия и администрация. Ну, скажите, сэры, разве мы могли отказать им в этом? Нет, правда, сэры, я хочу, чтобы вы признали наше благородство. Я требую этого.
Лучшие в мире музыканты
Вечером, легкомысленно оставив автомобиль у подъезда отеля, мы отправились на концерт Крейслера.
Богатая Америка завладела лучшими музыкантами мира. В Нью-Йорке, в «Карнеги-холл», мы слушали Рахманинова и Стоковского.
Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок, Рахманинов подымается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду.
Высокий, согбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды черного старомодного сюртука, поправил огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: «Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары. И за все свое унижение я прошу немногого – тишины». Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла мертвой, отравленная новым, неизвестным до сих пор музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва. Но в партере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чувствовалось холодное равнодушие, как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг. Только с галерки донеслось несколько воплей энтузиастов.
Все концерты, на которых мы побывали в Америке, произвели такое же впечатление. На концерте знаменитого Филадельфийского оркестра, руководимого Стоковским, был весь фешенебельный Нью-Йорк. Непонятно, чем руководится фешенебельный Нью-Йорк, но посещает он далеко не все концерты. Мясные и медные короли, железнодорожные королевы, принцы жевательной резинки и просто принцессы долларов – в вечерних платьях, фраках и бриллиантах заняли бельэтаж. Видно, Стоковский понял, что одной музыки этой публике мало, что ей нужна и внешность. И выдающийся дирижер придумал себе эффектный, почти что цирковой выход. Он отказался от традиционного стучания палочкой по пюпитру. К его выходу оркестр уже настроил инструменты и водворилась полная тишина. Он вышел из-за кулис, чуть сгорбленный, похожий на Мейерхольда, ни на кого не глядя, быстро прошел по авансцене к своему месту и сразу же стремительно взмахнул руками. И так же стремительно началась увертюра к «Мейстерзингерам». Это был чисто американский темп. Ни секунды промедления. Время – деньги. Исполнение было безукоризненное. В зале оно не вызвало почти никаких эмоций.
Мясные и медные короли, железнодорожные королевы, принцы жевательной резинки и принцессы долларов увлекаются сейчас Бахом, Брамсом и Шостаковичем. Почему их привлекли одновременно глубокий и трудный Бах, холодный Брамс и бурный иронический Шостакович – они, конечно, не знают, не желают знать и не могут знать. Через год они безумно, до одурения («Ах, это такое сильное, захватывающее чувство!») увлекутся одновременно Моцартом, Чайковским и Прокофьевым.
Буржуазия похитила у народа искусство. Но она даже не хочет содержать это украденное искусство. Отдельных исполнителей в Америке покупают и платят за них большие деньги. Скучающие богачи пресытились Шаляпиным, Хейфецом, Горовицом, Рахманиновым, Стравинским, Джильи и Тотти даль Монте. Для миллионера не так уж трудно заплатить десять долларов за билет. Но вот опера или симфонический оркестр – это, понимаете ли, слишком дорого. Эти виды искусства требуют дотаций. Государство на это денег не дает. Остается прославленная американская благотворительность. Благотворители содержат во всей Америке только три оперных театра, и из них только нью-йоркская «Метрополитен-опера» работает регулярно целых три месяца в году. Когда мы говорили, что в Москве есть четыре оперных театра, которые работают круглый год, с перерывом на три месяца, американцы вежливо удивлялись, но в глубине души не верили.
Несколько лет тому назад меценаты получили публичную пощечину от великого дирижера Тосканини, который в то время руководил нью-йоркской филармонией. Дела филармонии шли плохо. Не было денег. Меценаты были заняты своим бизнесом и нимало не думали о судьбе каких-то кларнетов, виолончелей и контрабасов. Наконец наступил момент, когда филармония должна была закрыться. Это совпало с семидесятилетним юбилеем Артуро Тосканини. И великий музыкант нашел выход. Он не обратился за деньгами к мясным и медным королям. Он обратился к народу. После радиоконцерта он выступил перед микрофоном и про сил каждого радиослушателя прислать по доллару в обмен на фотографию, которую пришлет Тосканини со своим автографом. И Тосканини был вознагражден за свою долгую, трудную жизнь – филармония получила нужные ей средства, получила от людей, у которых нет денег на то, чтобы купить билет в театр и увидеть живого Тосканини. Говорят, большинство этих людей были бедные итальянские иммигранты.
В жизни Тосканини был маленький, но очень интересный случай.
Когда он служил дирижером в миланской опере «La Scala», в Италии был объявлен конкурс на лучшую оперу. Тосканини был членом жюри конкурса. Один довольно бездарный композитор, прежде чем представить свою рукопись, долго увивался вокруг знаменитого музыканта, льстил ему и всячески его ублажал. Он попросил, чтобы его оперу передали на отзыв Тосканини. Отзыв был убийственный, и оперу отвергли. Прошло десять лет, и вот в Нью-Йорке бездарный композитор снова встретился с Тосканини.
– Ну, маэстро, теперь дело прошлое, – сказал ему композитор, – но я хотел бы знать, почему вы отвергли тогда мою оперу?
– Она мне не понравилась, – ответил Тосканини.
– А я уверен, маэстро, что вы ее даже не прочли. Если бы вы ее прочли, она бы вам обязательно понравилась.
– Не говорите глупостей, – ответил Тосканини, – я великолепно помню вашу рукопись. Она никуда не годится. Ну что это такое!
Он присел к роялю и быстро сыграл наизусть несколько арий из скверной оперы, забракованной им десять лет назад.
– Нет, это никуда не годится, – приговаривал он, играя, – это ниже всякой критики!
Итак, был вечер, когда мы отправились на концерт Крейслера, легкомысленно оставив свой автомобиль у подъезда отеля. С озера дул холодный ветер. Нас основательно прохватило, хотя пройти нам нужно было несколько домов. Мы очень радовались, что успели купить билеты заранее.
В фойе было довольно пусто. Мы даже подумали сперва, что опоздали и что концерт уже начался. В зале тоже было немного народу, не больше половины.
«Однако чикагцы любят опаздывать», – решили мы.
Но мы напрасно поторопились обвинить чикагцев, этих пунктуально точных людей. Они не опоздали. Они просто не пришли. Концерт начался и закончился в полупустом зале.
На эстраде стоял пожилой человек в широкой визитке, с довольно большим животиком, на котором болталась цепочка с брелоками. Он стоял, широко расставив ноги и сердито прижав подбородком скрипку. Это был Крейслер – первый скрипач мира. Скрипка – опасный инструмент. На нем нельзя играть недурно или просто хорошо, как на рояле. Посредственная скрипичная игра ужасна, а хорошая – посредственна и едва терпима. На скрипке надо играть замечательно, только тогда игра может доставить наслаждение. Крейслер играл с предельной законченностью. Он играл утонченно, поэтично и умно. В Москве после такого концерта была бы получасовая овация. Чтобы ее прекратить, пришлось бы вынести рояль и погасить все люстры. Но тут, так же как в Нью-Йорке, игра не вызвала восторга публики. Крейслеру аплодировали, но не чувствовалось в этих аплодисментах благодарности. Публика как бы говорила скрипачу: «Да, ты умеешь играть на скрипке, ты довел свое искусство до совершенства. Но искусство, в конце концов, не такая уж важная штука. Стоит ли из-за него волноваться?» Крейслер, видимо, решил расшевелить публику. Лучше бы он этого не делал. Он выбирал пьесы все более и более банальные, какие-то жалкие вальсики и бостончики – произведения низкого вкуса. Он добился того, что публика наконец оживилась и потребовала «бисов». Это было унижение большого артиста, выпросившего милостыню.
Мы вышли на Мичиган-авеню с тяжелым чувством.
– Вот, вот, сэры, – сказал нам мистер Адамс, – вы требуете от американцев слишком многого. Несколько десятков лет тому назад со мной произошла одна история. Да, да, мистеры, вам будет интересно ее послушать. В Нью-Йорке впервые в мире состоялось представление вагнеровского «Парсифаля». Вы, наверно, знаете, что «Парсифаль» был впервые поставлен только после смерти Вагнера и это было в Нью-Йорке. Я, конечно, пошел. Сэры! Я очень люблю Вагнера. Я уселся в седьмом ряду и принялся слушать. Рядом со мной сидел огромный рыжий джентльмен. Да, да, сэры. Через пять минут после начала спектакля я заметил, что рыжий джентльмен спит. В этом не было ничего ужасного, если бы он во время сна не наваливался на мое плечо и не издавал довольно неприятного храпа. Я разбудил его. Он встрепенулся, но уже через минуту снова спал. При этом он опирался головой на мое плечо, как на подушку. Сэры! Я не злой человек, да, да, да. Но я не мог этого вынести. О, но! Я изо всей силы толкнул рыжего джентльмена локтем в бок. Он проснулся и долго смотрел на меня непонимающим взглядом. Потом на его лице выразилось страдание. «Простите, сэр, – сказал он, – но я очень несчастный человек, я приехал из Сан-Франциско в Нью-Йорк только на два дня, и у меня множество дел. И в Сан-Франциско у меня жена-немка. Вы знаете, сэр, немцы – сумасшедшие люди, они помешаны на музыке. Моя жена не составляет исключения. Когда я уезжал, она сказала: «Джемс, дай мне слово, что ты пойдешь на первое представление «Парсифаля». Боже! Какое это счастье – попасть на первое представление «Парсифаля»! Раз я не могу на нем быть, то пойди хоть ты. Ты должен это сделать для меня. Дай мне слово». Я дал ей слово, а мы, деловые люди, свое слово умеем держать. И вот я здесь, сэр!» Я посоветовал ему идти в свою гостиницу, так как слово он уже сдержал и ему уже не угрожает опасность стать нечестным человеком. И он сейчас же убежал, горячо пожав мою руку. Да, да, да, сэры. Мне понравился этот рыжий джентльмен. Вы не должны судить американцев слишком строго. Это честные люди. Они заслуживают глубокого уважения.
Слушая рассказ мистера Адамса, мы пошли к отелю и тут, к величайшему нашему ужасу, не нашли автомобиля. Не было нашего чудного мышиного кара. Миссис Адамс полезла в свою сумку и не нашла в ней ключа. Случилось самое страшное, что только могло произойти с нами в пути, – исчез автомобиль с ключом и автомобильным паспортом.
– Ах, Бекки, Бекки, – бормотал мистер Адамс в отчаянии. – Я тебе говорил, я говорил…
– Что ты мне говорил? – спросила миссис Адамс.
– О, но! Бекки! What did you do? Все пропало. Да, да, сэры! Я говорил. Нужно быть осторожным.
Мы вспомнили, что в машине лежали уложенные в дорогу чемоданы, так как мы решили выехать из Чикаго сейчас же после концерта и заночевать по дороге в каком-нибудь маленьком городке.
Мы шли по Мичиган-авеню, шатаясь от горя. Мы даже не чувствовали ледяного ветра, который раздувал наши пальто.
И тут внезапно мы увидели кар. Он стоял на другой стороне улицы. Левое переднее колесо въехало на тротуар, дверцы были раскрыты. Внутри горел свет. И даже фары нашего мышиного сокровища сконфуженно светились.
Мы бросились к нему, издавая крики радости. Какое счастье! Все было на месте – и ключ, и документы, и багаж. Занятые осмотром автомобиля, мы не заметили, как к нам приблизился огромный полисмен.
– Вы хозяева автомобиля? – спросил он громовым голосом.
– Иэс, сэр! – испуганно чирикнул мистер Адамс.
– А-а-а! – проревел гигант, глядя сверху вниз на маленького толстенького Адамса. – А вы знаете, черт вас побери, где надо ставить машины в городе Чикаго?
– Но, мистер офисер… – подобострастно ответил Адамс.
– Я не офисер! – заорал полицейский. – Я всего только полисмен. Вы что, разве не знаете, что нельзя оставлять автомобилей перед отелем на такой магистрали, как Мичиган-авеню? Это вам не Нью-Йорк. Я покажу вам, как надо ездить в Чикаго!
Мистеру Адамсу, вероятно, почудилось, что «мистер офисер» сейчас начнет его бить, и он закрыл голову руками.
– Да, да! – орал полицейский. – Это вам не Нью-Йорк, чтобы бросать ваше корыто посредине самой главной улицы!
Он, очевидно, сводил какие-то свои стародавние счеты с Нью-Йорком.
– Знаете ли вы, что мне пришлось лезть в ваш паршивый кар, перетаскивать его на это место, а потом два часа следить, чтобы его не украли?!
– Иэс, мистер офисер! – пролепетал Адамс.
– Я не офисер!
– О, о! Мистер полисмен! Ай эм вери, вери сори! Я очень, очень сожалею!
– Уэлл! – сказал полисмен, смягчаясь. – Это вам Чикаго, а не Нью-Йорк!
Мы думали, что нам дадут «тикет» (получающий «тикет» должен явиться в суд), что нас беспощадно оштрафуют, а может быть, даже посадят на электрический стул (кто их там знает в Чикаго!). Но гигант вдруг захохотал страшным басом и сказал:
– Ну, езжайте. И в другой раз помните, что это Чикаго, а не Нью-Йорк.
Мы поспешно влезли в машину.
– Гуд бай! – крикнул, оживившись, старик Адамс, когда машина тронулась. – Гуд бай, мистер офисер!
В ответ мы услышали лишь неясный рев.
К Тихому океану
На родине Марка Твена
С начала путешествия мы проехали штаты Нью-Йорк, Пенсильванию, Огайо, Мичиган, Индиану и Иллинойс. В памяти засели названия бесчисленных городков, где мы завтракали, обедали, ходили в кино или ночевали. Поукипси, Гудзон, Олбани, Троя, Оберн, Ватерлоо, Эйвон, Фридония, Эри, Сандусски, Толидо, Пиория, Спрингфильд.
Во всех этих городках и в сотне других, здесь не названных, на главной площади стоят памятнички солдату Гражданской войны Севера с Югом. Это очень смирные памятники, маленького роста и совсем не воинственные. Где-нибудь в старой Европе бронзовый или каменный вояка обязательно размахивает саблей или несется на отчаянной лошадке и, уж во всяком случае, выкрикивает что-нибудь вроде: «Вперед, чудо-богатыри!» Но памятники американских городков совершенно лишены воодушевления. Солдатик стоит, вяло опершись на винтовку; ранец на спине застегнут по всем правилам, голова склоняется на руки, и вот-вот ярый боец за освобождение негров задремлет, убаюканный осенней тишиной.
Памятники эти ввозились из Германии. Они совершенно одинаковы и разнятся один от другого не больше, чем стандартная модель «форда» от «форда», который снабжен пепельницей и потому стоит на полдоллара дороже. Есть солдатики совсем дешевые, такие маленькие, что их можно было бы держать в комнате; есть подороже, вроде уже описанного нами; есть, если так можно выразиться, модель люкс – солдатик, у ног которого лежит ядро. В общем, немецкий товар имелся на все цены, так что каждый городок выбирал себе памятник по карману. Только сравнительно недавно американцы освободились в этом смысле от иностранной зависимости и стали наконец изготовлять чугунных и каменных солдатиков своими руками и из своих материалов.
Кроме того, каждый американский городок, жители которого не лишены законного чувства патриотизма, располагает еще пушкой времен той же войны Севера с Югом и небольшой кучкой ядер. Пушка и ядра располагаются обычно неподалеку от солдатика и вкупе образуют военно-исторический раздел городка. Современная его часть нам уже известна и состоит из автомобильных заведений, аптек, ресторанов, магазинов пяти- и десятицентовых вещей и лавок колониальных товаров, принадлежащих фирме «Атлантик и Пасифик». Вывески этой компании, красные с золотыми буквами, есть в каждом городе. Лавки компании построены по одному образцу, и в каком углу страны ни очутился бы покупатель, он всегда знает, что в магазине «Атлантик и Пасифик» перец лежит на левом прилавке, ваниль – на такой-то полке, а кокосы – на такой-то. Эта величественная однотипность придает фирме «Атлантик и Пасифик» даже некие черты бессмертия. Представляется, что в случае гибели нашей планеты последними потухнут огни в лавках этой «Атлантической и Тихоокеанской компании»: так ревностно и преданно служит она потребителю, предоставляя ему обширный и всегда свежий ассортимент колониальных товаров, от бананов до сигарет и сигар, как из отечественных, так и импортных табаков.
Одинаково дурная погода провожала нас всю дорогу. Только первый день пути светило холодноватое, примороженное солнце. Уже в Буффало шел дождь, в Кливленде он увеличился, в Детройте превратился в чистое наказанье, а в Чикаго сменился свирепым холодным ветром, который срывал шляпы и чуть ли не тушил электрические рекламы.
Незадолго до Чикаго, в дожде и тумане, мы увидели мрачное видение металлургического завода Гери. Металлургия и непогода вдвоем создали такой ансамбль, что мороз подирал по коже. И только на другой день после того, как мы вырвались из Чикаго, мы увидели голубое небо, по которому ветер быстро и бесцеремонно гнал облака.
Дорога переменилась – не сама дорога, а все, что ее окружало. Мы проехали наконец промышленный Восток и очутились на Среднем Западе.
Есть три верные приметы, по которым американцы безошибочно определяют, что действительно начался настоящий Запад. С витрин ресторанчиков и аптек исчезают объявления, рекламирующие «хат дог», что означает «горячая собака».
«Горячая собака» не так уж далеко отстоит от обыкновенной собаки: это горячие сосиски. Во всем мире всегда острят насчет сосисок и собачины, но только на Востоке Америки эта шутка вошла в обиход, и собака сделалась официальным названием сосисок.
Вместо «хат дог» рестораны и аптеки выставляют в своих витринах плакаты, рекламирующие чисто западное кушанье: «бар-би-кью» – сэндвичи с жареной свининой.
Затем, вместо оптимистических «олл раит» и «о’кей» в разговорах жителей Запада слышится не менее оптимистическое, но чисто местное «ю бет», что означает: «держу пари», но употребляется во всех случаях жизни. Например, если вы для проформы спрашиваете, вкусен ли будет заказанный вами стейк из обеда № 3, девушка с милой улыбкой ответит:
– Ю бет! Держу пари!
Последняя, самая важная примета – это старые автомобили – даже не старые, а старинные. В машинах девятьсот десятого года, на тонких колесах, целыми семьями едут почтенные жители Запада. В старых и высоких фордовских купе неторопливо движутся фермеры в синих оверолах, простроченных по шву белыми нитками. Здоровенные лапы фермеров крепко лежат на рулях. Плетется куда-то семейство негров. Впереди сидит молодой негр, рядом с ним жена. На заднем сиденье дремлет седая теща, а молодые негритята с невероятным любопытством рассматривают наш желтый нью-йоркский номер. Семья едет, как видно, далеко, потому что к машине привязаны ведро и деревянная лестница. Высокоухие и долговязые мулы тащат по дороге деревенские фургоны и площадки. Возницы, тоже в оверолах, управляют стоя. Ни разу за всю дорогу мы не видели сидящего в своей повозке погонщика мулов. Это такой стиль – стоять в повозке. Старинных «фордов» делается все больше. Контуры их старомодны, немножко смешны и в то же время трогательны. В них чувствуется что-то почтенное. Чем-то они напоминают самого старого Генри Форда. Они узенькие, старенькие, но одновременно какие-то прочные. Они вызывают доверие и уважение.
Форд может смело гордиться этими машинами. Им по двадцать и по двадцать пять лет, а они все идут, возят, работают, честные, дешевые черные кареты. И всегда, встречая или обгоняя старинную модель «Т», мы с чистосердечной радостью восклицали:
– Вот опять едет старый Генри!
Старый Генри чуть дышит, все в нем трясется, от брезентового навеса остались клочья, а от запасного колеса только заржавленный обод, но старик движется, делает свое дело, милый и немножко комичный автомобильный ветеран.
Мы на Западе. Мы уезжали от зимы и приближались к лету. И мы выигрывали не только во времени года, но и просто во времени – из атлантического пояса мы перешли в центральный и на этом заработали лишний час. Сейчас в Нью-Йорке десять часов утра, у нас – только девять. По дороге в Сан-Франциско мы еще два раза отведем часы назад. Из западного пояса мы попадем в горный, а потом – в тихоокеанский.
На скрещении трех дорог, против маленького дощатого кафе, объявлявшего как о новинке, что здесь подается пиво не в бутылках, а в консервных банках, стоял столб, к которому были прикреплены широкие стрелы с названиями городов. Помимо направления и расстояния, стрелы эти указывали, что на Западе американцы делают то же самое, что и на Востоке, – выбирают для своих городов красивые, величественные и знаменитые названия. Приятно было узнать в этом маленьком городке, что от него до Эдины 42 мили, до Мемфиса – 66, до Мексики – 44, а до Парижа всего-навсего 17 миль. Но мы выбрали не Париж и не Мемфис. Нам нужен был город Ганнибал. Стрела доказывала, что нужно ехать направо и что до Ганнибала остается тридцать девять миль.
– Мистеры, – сказал Адамс, – напомните мне, чтоб я рассказал вам вечером про пиво в консервных банках. Это очень, очень интересное дело, сэры.
Ровно через тридцать девять миль показался Ганнибал. Чугунная доска, установленная «Историческим обществом штата Миссури» перед въездом в город, извещала, что здесь великий юморист Марк Твен провел свое детство, что в городе есть домик Марка Твена, парк с видом на реку Миссисипи, памятники, пещеры и так далее.
Покуда мы искали ночлег и мистер Адамс узнавал в том доме, который мы выбрали, как идут дела в городе, как здесь отразился кризис и что наша хозяюшка, опрятная старая американка, думает о Рузвельте, – уже стемнело. Осмотр достопримечательностей, рекомендованных «Историческим обществом штата Миссури», пришлось отложить до утра. Покамест старушка хозяйка распространялась насчет того, что дела в Ганнибале идут ничего себе и городу доставляют довольно большой доход туристы, приезжающие осматривать марк-твеновские реликвии, что кризис в свое время был довольно силен, но все-таки обошлось гораздо благополучнее, чем на Востоке, и что президент Рузвельт очень хороший человек и заботится о бедных людях, – стало еще темнее. В этот вечер мы успели побывать лишь в музее Марка Твена, помещавшемся на главной улице.
Это был временный музей, устроенный к празднованию столетия со дня рождения Марка Твена. Помещался он в здании банка «Ганнибал Трест Компани», лопнувшего как раз незадолго до юбилея. Поэтому фотографии и различные реликвии странно перемешивались здесь с конторскими перегородками и стальными запорами банковских кладовых. Над огромной (увы, навек опустевшей!) несгораемой кассой висело рулевое колесо речного парохода. Точно такое колесо вертел Марк Твен, когда юношей плавал матросом по Миссисипи. Кроме нас, был только еще один посетитель. Судя по его печальному лицу, он, несомненно, состоял в свое время вкладчиком банка «Ганнибал Трест Компани» и пришел сюда лишь затем, чтобы еще раз посмотреть на величественную и совершенно пустую банковскую кассу, где когда-то лежали его скромные сбережения.
На стенах висели фотографии. В особой комнатке стояла привезенная специально к юбилею кровать, на которой умер писатель, всюду лежали рукописи, первые издания его книг, ботиночки, шарфики и черные кружевные веера той девочки, с которой Твен писал свою Бекки Тачер. В общем, музей был собран кое-как и особенного интереса не вызывал.
Еще имелась в музее гипсовая модель памятника, на постройку которого уже объявлена национальная подписка. Здесь великий писатель окружен своими героями. Тут понаставлено пятьдесят, если не больше, фигур. Памятник обойдется в миллион долларов и при такой сравнительно небольшой цене будет, судя по модели, одним из самых безобразных памятников в мире.
Мы обедали, вернее – ужинали, в ресторанчике напротив музея. Мистер Адамс, который никогда ничего не пил, внезапно потребовал пива. Молодой вэйтер принес две консервные банки – в таких у нас продается зеленый горошек.
– Это громадное дело, – сказал мистер Адамс, глядя, как вэйтер вскрывает пивные баночки, – и до сих пор, сэры, оно никому не удавалось. Мешал запах жести. Пиво обязательно требует дубовой бочки и стеклянной посуды. Но вы, мистеры, должны понять, что перевозить пиво в бутылках неудобно и дорого. Бутылки занимают слишком много места. Это лишний расход при перевозке. Недавно нашли такой лак, запах которого в точности соответствует, как бы сказать, запаху пивной бочки. Между прочим, этот лак искали для нужд одного электрического производства, но вовсе не для пива. Теперь им покрывают внутренность консервных банок, и пиво не имеет никакого постороннего привкуса. Это громадное дело, мистеры!
Он даже выпил два бокала пива, которого вообще не любил. Выпил из уважения к технике. Пиво действительно было хорошее.
Выйдя утром из турист-гауза, мы увидели маленький, старый и совсем небогатый городок. Он красиво лежит на холмах, спускающихся к Миссисипи. Подъемы и скаты здесь – совсем как в волжском городке, стоящем на высоком берегу. Названий уличек мы не узнавали, но казалось, они называются так же, как волжские улицы, – Обвальная или Осыпная.
Вот он какой – город Ганнибал, город Тома Сойера и Гека Финна.
Удивительное дело! Город знаменит не производством автомобилей, как Детройт, не бойнями и бандитами, как Чикаго! Его сделали знаменитым литературные герои «Приключений Тома Сойера», самых милых и веселых приключений, существовавших когда-либо в мировой литературе.
Как и всюду, людей на улицах почти не было. Зато те, которые встречались, были настоящие твеновские типы – пугливые и добродушные негры, почтенный судья, спозаранку вцепившийся зубами в недорогую сигару, и мальчики в бархатных неизносимых штанах, державшихся на бархатных помочах. Собравшись в кучки, мальчики во что-то играли. Судя по тому, как они оглядывались по сторонам, они, может быть, играли на деньги.
Улица, где провел детство Марк Твен, тогда еще босоногий Сэм Клеменс, сохранилась почти в полной неприкосновенности. Над входом в домик писателя висит круглый белый фонарь с надписью: «Дом Марка Твена». Кстати, американцы говорят не Твен, а Твейн, и не Том Сойер, а Там Сойер. И даже самый серьезный, самый деловитый американец, когда говорят об этом всемирно знаменитом мальчишке, начинает улыбаться, глаза у него добреют.
В домике живут две бедные, почти нищие старушки, дальние родственницы семьи Клеменс. Они такие старые и тощие, что колеблются, как былинки. В этом домике опасно вздохнуть – можно выдуть старушек в окно.
В двух комнатках первого этажа тесно и пыльно. Нет, мистер Клеменс-старший, папа Марка Твена, хотя и был редактором местной ганнибальской газеты, но жил чрезвычайно скромно. Стоят кресла с вылезшими наружу пружинами и трясущиеся столики с фотографиями.
– На этом кресле, – сказала одна из старушек, – сидела тетя Полли, а в это окошко выскочил кот Питер, после того как Том Сойер дал ему касторки. А за этим столом сидела вся семья, когда все думали, что Том утонул, а он в это время стоял вот здесь и подслушивал.
Старушка говорила так, как будто бы все, что рассказал Твен в «Томе Сойере», точно происходило в действительности. Кончила она тем, что предложила купить фотографии. Старушки существуют единственно этим. Каждый из нас взял по полдолларовой фотографии.
– К нам так редко приходят, – со вздохом сказала старушка.
В комнате, ближайшей к выходу, висела на стене мемориальная доска с изображением писателя и идеологически выдержанной подписью, составленной местным банкиром – бескорыстным почитателем Марка Твена.
«Жизнь Марка Твена учит, что бедность есть скорее жизненный стимул, чем задерживающее начало».
Однако вид нищих, забытых старушек красноречиво опровергал эту стройную философскую концепцию.
Рядом с домом стоял маленький обыкновенный забор. Но бойкое «Историческое общество штата Миссури» уже успело укрепить на нем чугунную доску, гласящую, что это – заместитель того забора, который Том Сойер разрешил покрасить своим друзьям в обмен на яблоко, синий стеклянный шарик и прочие прекрасные предметы.
Вообще «Историческое общество штата Миссури» действует чисто по-американски. Все точно и определенно. Пишется не: «Вот дом, в котором жила девочка, послужившая прообразом Бекки Тачер из «Тома Сойера». Нет, это было бы, может быть, и правдиво, но слишком расплывчато для американского туриста. Ему надо сказать точно – та эта девочка или не та. Ему и отвечают: «Да, да, не беспокойтесь, та самая. Вы не тратили напрасно газолин и время на поездку. Это она и есть».
И вот у домика, стоящего напротив жилья старого Клеменса, висит еще одна чугунная доска: «Здесь был дом Бекки Тачер, первой любви Тома Сойера».
Старушки продали нам несколько фотографий. На одной была изображена сама Бекки Тачер в старости. Она вышла замуж, кажется, за адвоката. Незадолго до своей смерти Марк Твен приезжал в Ганнибал и сфотографировался вместе с ней. Большая фотография этих двух стариков висит в музее с трогательной подписью: «Том Сойер и Бекки Тачер».
На другой фотографии представлен индеец, выведенный Твеном под именем «индейца Джо». Этот снимок сделан в 1921 году. Индейцу тогда было сто лет. Так, по крайней мере, утверждает город Ганнибал.
В заключение мы отправились к Кардиффскому холму, где стоит один из самых редких памятников в мире – памятник литературным героям. Чугунные Том Сойер и Гек Финн отправляются куда-то по своим веселым делишкам. Недалеко от памятника играли довольно взрослые мальчишки. Они ничем не отличались от своих чугунных прообразов. Веселый крик стоял у подножия памятника.
Было еще довольно рано, когда мы покинули Ганнибал. По дороге во весь дух летели заспанные коммивояжеры. Днем они работают, вечером отсыпаются, а ночью переезжают с места на место. Ночью дорога пуста, и эти демоны коммерции имеют возможность мчаться полным ходом.
Мы катили между сжатыми полями кукурузы и пшеницы, мимо красных фермерских амбаров и дворов, где металлические ветряки качают воду из колодцев, и к середине дня достигли города Канзаса. Грубо говоря, Канзас находится в центре Америки. Отсюда приблизительно одинаковое расстояние и до Нью-Йорка, и до Сан-Франциско, и до Нью-Орлеана, и до канадской границы.
Итак, мы были в центре Соединенных Штатов, в центре прерий, в городе Канзасе, расположенном на реке Миссури. Что может быть более американским, чем такое место? Тем не менее хозяин ресторанчика, куда мы вбежали на минуту, чтобы согреться чашкой кофе, оказался бессарабским евреем из города Бендеры. Микроскопическая масонская звездочка сверкала в петлице его пиджака. Бендеры, Миссури, Бессарабия, масонство – тут было отчего закружиться голове!
Он вытащил из кармана коричневые маленькие фотографии и показал их нам. Это были его родственники, которые остались в Бендерах, – два провинциальных молодых человека, нежные курчавые головы которых подпирали стоячие воротники. Заодно хозяин ресторана показал и свою масонскую карточку. Фамилия нашего вольного каменщика была Морген, и он приехал в Америку тридцать лет тому назад.
– Морген, – повторил он, – вы, наверно, слышали – гут морген. Так это вот я и есть. Почти Морган!
– Где же ваши пятьдесят тысяч долларов, мистер Морган? – весело спросил Адамс.
– Какие пятьдесят тысяч долларов? – удивился хозяин.
– Но, но, сэр, не говорите так – «какие»! Ваши! Ваши пятьдесят тысяч долларов! Вы ведь приехали в Америку зарабатывать деньги! Где они, эти деньги?
– В банке! – с мрачным юмором ответил мистер Морген. – Там они все лежат, до одной копеечки, только не на мое имя.
В его потрепанной годами и борьбой фигуре, в его отчаянном юморе что-то показалось нам знакомым. Уже потом, уносясь по дороге в Амарилло, штат Техас, мы вспомнили, на кого похож наш бендерский масон.
В 1933 году мы были в Афинах. Распространяться о том, как мы бегали смотреть Акрополь и прочие древности, долгая история. Но один случай надо рассказать.
Томимые школьными воспоминаниями, мы решили поехать из Афин в Марафон. Нам рассказали, как это сделать. Надо пойти на площадь, откуда отправляются марафонские автобусы, там купить билеты и ехать – вот и все. Мы бодро двинулись в путь и где-то, уже у самой площади, заблудились. Парикмахер, у которого мы спросили дорогу, бросил брить клиента и вышел на улицу, чтобы объяснить нам, как лучше пройти. Клиент тоже вышел из заведения и, не смущаясь тем, что был в мыле, принял участие в выработке маршрута для нас. Понемножку собралась небольшая толпа, в центре которой мы застенчиво переминались, сами уже смущенные вызванным нами ажиотажем. Под конец для верности нам дали в провожатые пятилетнего мальчика.
Мальчик по-гречески называется «микро». Микро вел нас, время от времени маня пальцем и благожелательно раздвигая свои толстые алжирские губы.
На площади мы увидели старые автобусы, к задку которых веревками были привязаны потертые чемоданы. Это были марафонские автобусы. Нам сразу стала ясна вздорность и скука нашей затеи. Не сказав друг другу ни слова, мы решили отказаться от поездки. Микро получил пять драхм за беспокойство, а мы отправились в кофейню, расположенную напротив автобусной остановки, отдохнуть и выпить замечательного греческого кофе.
Четыре красивых и бедно одетых молодых бездельника играли в карты на войлочном коврике, покрывавшем мраморный столик. За стойкой находился хозяин, опустившийся человек. Он был в жилетке, но без воротничка. Выбрит, но не причесан. В общем, это был человек, который уже ни на что не обращал внимания – тянет свою лямку. Есть посетители – хорошо, нет – тоже не беда. Все равно ничего особенного в жизни уже не произойдет. Он равнодушно принял у нас заказ и ушел за стойку варить кофе.
И тут мы увидели висящий на стенке фотографический портрет хозяина в молодости. Круглая энергическая голова, победоносный взгляд, усы, подымающиеся к самому небу, мраморный воротничок, вечный бантик, сила и блеск молодости. Ах, сколько нужно было лет, сколько потребовалось неудач в жизни, чтобы такого усача-афинянина привести в то жалкое состояние, в котором застали его мы. Просто страшно было сравнивать портрет с его хозяином. Не надо было никаких объяснений. Вся жизнь неудачливого грека была перед нами.
Вот что напомнил нам мистер Морген, бессарабец, еврей и масон из Канзас-сити.
Солдат морской пехоты
В оклахомской газете мы видели мельком фотографию девушки, полулежащей в белой больничной кровати, и надпись: «Она улыбается даже на ложе страданий». Вчитываться в то, почему девушка улыбается на ложе страданий, не было времени, и газета была отложена в сторону. Мистер Адамс успел, однако, за кофе прочесть заметку под фотографией. Лицо его сморщилось, и он с недовольством уставился на газовый камин, который стоял в ресторанчике. Мы торопливо насыщались яйцами с бэконом перед выездом из Оклахомы.
Во многих местах Среднего Запада имеются выходы натурального газа. Газ этот по специальным трубопроводам доставляется в города и стоит сравнительно дешево. Мистер Адамс смотрел на розово-голубые струи огня, пылавшего в переносном никелированном камине, и сердито сопел.
– Мистеры, – сказал он, – я сам великий оптимист, но иногда я прихожу в отчаяние от американского оптимизма. – И он с отвращением повторил: – «Она улыбается даже на ложе страданий!»
Нам надо было спешить, и разговор на тему, волновавшую мистера Адамса, не завязался. А в дороге он о ней, как видно, забыл, увлекшись открывшимся нам удивительным зрелищем. Мы ехали сквозь светлый алюминиевый нефтяной лес.
Еще вчера, мчась к Оклахоме через степь, поросшую лишь непривлекательными пыльными букетиками, мы увидели первые нефтяные вышки. Большие поля были тесно заставлены решетчатыми железными мачтами. Качались, чуть поскрипывая, толстые деревянные коромысла. Людей не было. Здесь, в степной тишине, в глубоком молчании сосали нефть. Мы ехали долго, лес вышек густел, коромысла все раскачивались; иногда лишь виднелась фигура рабочего в овероле, прозодежде из прочной светло-синей парусины. Он неторопливо переходил от одной вышки к другой.
Лес вышек был светел, потому что все они были выкрашены алюминиевой краской. Это цвет елочного серебра. Он придает технической Америке необыкновенно привлекательный вид. Алюминиевой краской покрываются нефтяные баки, бензиновые и молочные автомобильные цистерны, железнодорожные мосты, фонарные столбы в городах и даже деревянные придорожные столбики.
В Оклахоме тоже стояли вышки и мерно качались коромысла. Нефть обнаружилась в самом городе. Вышки все ближе подступали к Оклахоме и наконец, сломив слабое сопротивление, ворвались в городские улицы. Город отдан на разграбление. Во дворах домов, на тротуарах, на мостовых, против школьных зданий, против банков и гостиниц – всюду сосут нефть. Качают все, кто в бога верует. Нефтяные баки стоят рядом с большими, десятиэтажными домами. Яйца с бэконом пахнут нефтью. На уцелевшем пустыре дети играют обломками железа и заржавленными гаечными ключами. Дома ломают к черту, на их месте появляются вышки и коромысла. И там, где вчера чья-то бабушка, сидя за круглым столиком, вязала шерстяной платок, сегодня скрипит коромысло, и новый хозяин в деловой замшевой жилетке радостно считает добытые галлоны.
Всюду мы видели решетчатые мачты и слышали оптимистическое скрипение.
Кроме нефтяных вышек, Оклахома удивила нас громадным количеством похоронных контор. В поисках ночлега мы, по обыкновению, направились в «резиденшел-парт», чтобы снять комнату. Не вглядываясь, мы подъехали к домику, на котором светилась вывеска, и с ужасом увидели, что это похоронное бюро. Еще трижды мы сослепу кидались к приветливо освещенным зданьицам и каждый раз отпрыгивали назад. Это все были похоронные бюро. Не было ни одной туристской вывески, никто не сдавал проезжающим комнат на ночь. Здесь предлагали только вечный отдых, вечный покой. По-видимому, жители Оклахомы так успешно накачались и насосались нефтью, что уже не нуждались в столь мелком подспорье, как сдача комнат.
Пришлось пойти на то, чтоб наше сердце наполнилось гордостью, и поселиться в отеле. Второразрядная гостиница, на которой мы остановили свой придирчивый выбор, называлась весьма пышно – «Кадиллак», но воздвигнута была, несомненно, еще до нефтяного расцвета, потому что из крана, откуда должна была литься горячая вода, шла холодная, а из крана холодной воды вообще ничего не лилось. Мистер Адамс искренне огорчился. Вместо словоохотливой хозяйки домика, знающей все городские новости, он увидел коридорного, малого лет пятидесяти, который на все вопросы отвечал с полнейшим безразличием: «Иэс, сэр» или: «Но, сэр». При этом он курил такую зловещую сигару, что после его ухода мистер Адамс долго еще откашливался и отсмаркивался, как утопающий, которого вытащили на берег в последнюю минуту перед гибелью. Через час мистер Адамс подошел к двери нашего номера и с надеждой постучал. Так как разлепить уже сомкнувшиеся веки не было никакой возможности, то мы ничего не ответили. Мистер Адамс снова деликатно стукнул в дверь. Ответа не было.
– Сэры, – сказал он голосом, от которого могло разорваться сердце, – вы не спите?
Но спать хотелось безумно. Мы не ответили. Мистер Адамс еще минутку постоял у двери. Ему очень хотелось поговорить. И он поплелся в свой номер с омраченной душой. Проклятые оклахомцы испортили ему вечер.
Утром мистер Адамс был полон сил и весел, как всегда. Бетонная дорога длинными волнами шла на подъем и видна была на несколько миль вперед. У края дороги, подняв кверху большой палец правой руки, стоял молодой солдат морской пехоты в расстегнутой черной шинели. Рядом с ним стоял такой же точно солдат. Большой палец правой руки он тоже держал поднятым кверху. Машина, шедшая впереди нас, пронеслась мимо молодых людей без остановки. Как видно, она была полна. Мы остановились.
Поднятый большой палец руки обозначает в Америке просьбу подвезти. Человек, который выходит на дорогу, уверен в том, что кто-нибудь его да подберет. Если не первая машина, то пятая, седьмая, десятая, но возьмут обязательно. Таким образом можно совершить большое путешествие: с одним проехать сто миль, с другим – еще сто, с третьим – целых пятьсот.
Двух человек мы не могли взять, нас было четверо в машине. Молодые люди назначили друг другу свидание на почте в городе Амарилло, и один из них, согнувшись, влез в автомобиль. Он аккуратно поставил в ногах свой маленький чемодан, вынул сигарету и попросил разрешения закурить. Мистер Адамс немедленно повернул голову назад, насколько это было возможно, и засыпал нашего спутника вопросами. О, мистер Адамс взял неслыханный реванш за Оклахому. Солдата морской пехоты он препарировал на наших глазах.
Это был почти мальчик, с красивым, чуть слишком уверенным, даже немножко нагловатым лицом. Но в то же время это был очень симпатичный мальчик. Отвечал он очень охотно.
О его товарище не надо беспокоиться. Он догонит его на какой-нибудь другой машине. Так было уже не раз. Ведь они делают большой «трип» – путешествие. Им дали перевод по службе из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Они просили этого перевода. Но им сказали, что добраться они должны своими силами. Они взяли месячный отпуск и вот едут уже три недели, пересаживаясь с одного автомобиля на другой. Думали пробыть в Чикаго три часа, а пробыли девять дней.
– Подвернулись хорошие девочки.
В Деймоне они тоже застряли. Их взяла в машину одна дамочка, довольно гордая с виду. Потом они вынули бутылку виски и выпили. Дама тоже выпила с ними, и вся ее гордость исчезла. Потом она угощала их пивом, потом заехали к ее сестре, муж которой был в отъезде. Веселились четыре дня, пока не приехал муж. Тогда пришлось удрать.
Форменная фуражка без герба молодцевато сидела на красивой голове солдата. Большие плоские пуговицы мундира светились как полагается. В петлицах сияли какие-то медные бомбочки и револьверы. Солдат совсем не хвастался. Американцы редко бывают хвастунами. Его просили рассказать о себе, вот он и рассказывает.
Позади раздался дружелюбный рев, и нас обогнал тускло мерцавший черный «бьюик». Рядом с хозяином кара сидел товарищ нашего спутника. Они обменялись веселыми нечленораздельными криками. Разговор продолжался.
Солдат рассказал нам, как он побывал во Франции. Там тоже с ним произошла интересная история. Когда их корабль пришел в Гавр, семерых отпустили в Париж погулять. Ну, они смотрели город, потом попали на Грэнд-бульвар и решили пообедать. Зашли в ресторанчик и начали очень скромно, заказали гэм энд эгг. Потом разошлись, пили шампанское и так далее. Платить, конечно, было нечем. Откуда у солдат морской пехоты могут быть средства на шампанское? Гарсон позвал метрдотеля, но они ему сказали:
– Знаете что, спишите стоимость нашего обеда с военных долгов, которые Франция до сих пор не заплатила Америке.
В общем, был грандиозный скандал. Об этом писали в газетах. Но от начальства им ничего не было, только выговор. Что он думает насчет войны?
– Насчет войны? Вы же сами знаете. Вот мы недавно воевали в Никарагуа. Разве я не знаю, что мы воевали не в интересах государства, а в интересах «Юнайтед Фрут», банановой компании? Во флоте эта война так и называется – банановая война. Но если мне говорят, что надо идти на войну, я пойду. Я солдат и должен подчиняться дисциплине.
Он получает двадцать пять долларов в месяц. В Сан-Франциско он надеется сделать карьеру быстрее, чем в Нью-Йорке, поэтому он и перевелся. У него в Нью-Йорке есть жена и ребенок. Жене он дает десять долларов в месяц. Кроме того, жена служит. Конечно, ему не следовало жениться. Ведь ему всего двадцать один год. Но раз уж так вышло – ничего не поделаешь.
В Амарилло солдат нас покинул. Он благодарственно откозырял, в последний раз послал нам свою победоносную улыбку и пошел на почту. Он был так освежающе молод, что даже его шалопайство не казалось противным.
Мы ночевали в фанерных кабинках Амарилло-кэмпа. Потушили плиты и газовые печи. Легли спать. Кэмп стоял у самой дороги. С шумом ветра проносились автомобили. Мчались осатаневшие коммивояжеры, тяжело рокотали великаны-грузовики. Свет их фар все время проходил по стене.
Амарилло – город новый и чистый. Он вырос на пшенице, и, кажется, ему нет и пятнадцати лет. Но это настоящий американский город, тут есть полный комплект городских принадлежностей: фонарные столбы, покрытые алюминием, жилые домики из отполированного лилового кирпича, громадная десятиэтажная гостиница, аптеки. Как говорится, что угодно для души. Вернее – для тела. Для души тут как раз ничего нет.
Когда мы пришли в аптеку, там сидело много девушек. Они завтракали, перед тем как отправиться на службу. Если в восемь часов утра или в восемь с половиной в аптеке завтракает аккуратно одетая девушка с выщипанными бровями, нарумяненная, как румянятся в Штатах, то есть сильно и грубовато, с подпиленными ногтями, вообще – готовая словно на парад, – знайте, что она сейчас отправляется на службу. Одета такая девица в зависимости от вкуса и средств, но всегда опрятно. Без этого она служить не сможет, не получит работы. А эти девушки – прекрасные работницы. Каждая из них знает стенографию, умеет работать на счетной машине, умеет корреспондировать и печатать на машинке. Без этих знаний нельзя получить никакой работы. Впрочем, теперь и с ними получить трудно.
Большинство таких девушек живет у родителей, заработок их идет на то, чтобы помочь родителям уплатить за домик, купленный в рассрочку, или за холодильный шкаф, тоже купленный в рассрочку. А будущее девушки сводится к тому, что она выйдет замуж. Тогда она сама купит домик в рассрочку, и муж будет десять лет не покладая рук работать, чтоб заплатить те три, пять или семь тысяч долларов, в которые этот домик обошелся. И все десять лет счастливые муж и жена будут дрожать от страха, что их выгонят с работы и тогда нечем будет платить за дом. И дом отберут. Ах, какую страшную жизнь ведут миллионы американских людей в борьбе за свое крохотное электрическое счастье!
Девушки были в коротких оленьих или песьих жакетах. Они улыбались, отламывая неземными пальчиками поджаренный хлеб. Хорошие, трудолюбивые, замороченные сумасшедшим американским счастьем девушки!
На одном из аптечных прилавков мы увидели немецкие готовальни.
– Мистер Адамс, неужели в Америке нет своих готовален?
– Конечно, нет! – с жаром ответил Адамс. – Мы не можем делать готовален. Да, да, сэры, не смейтесь. Не то что мы не хотим, мы не можем. Да, да, мистеры, Америка со всей своей грандиозной техникой не может поставить производство готовален. Та самая Америка, которая делает миллионы автомобилей в год! А вы знаете, в чем дело? Если бы готовальни нужны были всему населению, мы организовали бы массовое производство, выпускали бы десятки миллионов превосходных готовален за грошовую цену. Но население Соединенных Штатов, сэры, не нуждается в десятках миллионов готовален. Ему нужны только десятки тысяч. Значит, массового производства поставить нельзя, и готовальни придется делать вручную. А все, что в Америке делается не машиной, а рукой человека, стоит невероятно дорого. И наши готовальни стоили бы в десять раз дороже немецких. Мистер Илф и мистер Петров, запишите в свои книжечки, что великая Америка иногда бывает бессильна перед старой, жалкой Европой. Это очень, очень важно знать!
Робертс и его жена
Неширокий выступ северной части Техаса разделяет штаты Оклахома и Нью-Мексико. Амарилло находится в Техасе, и по дороге из этого городка в Санта-Фе нам то и дело встречались живописные местные жители.
Два ковбоя гнали стадо маленьких степных коровок, лохматых, как собаки. Громадные войлочные шляпы защищали ковбоев от резкого солнца пустыни. Большие шпоры красовались на их сапогах с фигурными дамскими каблучками. Ковбои гикали, на полном скаку поворачивая своих коней. Все это казалось немножко более пышным и торжественным, чем нужно для скромного управления коровьим стадом. Но что поделаешь! Это Техас! Тёксас, как говорят американцы. Уж тут знают, как пасти коров! Не нам, горожанам, давать им советы.
В старинном застекленном «форде» тоже ехали ковбои. Этим здоровенным парням было тесно в маленькой машине, и они сидели совершенно неподвижно, изредка задевая друг друга жесткими полями своих невероятных шляп. Обгоняя их, мы увидели сквозь стекло грубоватые профили и мужественные бачки. Пять ковбоев, пять шляп и пять пар бачек – это довольно большая нагрузка для тонконогого «форда» тысяча девятьсот семнадцатого года. Но «старый Генри», скрипя из последних сил, помаленьку двигался вперед.
Грузовики с высокими бортами везли куда-то лошадей и мулов. Удивительная все-таки страна! Здесь даже лошадей возят на автомобилях. Можно ли выдумать большее унижение для этого животного! Над высокими кузовами печально торчали длинные уши мулов и изредка показывалась благородная лошадиная морда, в глазах которой отражалась невыразимая дорожная тоска.
Не успели мы отдалиться от Амарилло, как увидели нового «хич-хайкера» с поднятым кверху большим пальцем руки. «Хич-хайкерами» называют в Америке людей, которые просят их подвезти. Наш вчерашний солдат морской пехоты тоже носил это звание. Мы остановились. Хич-хайкер опустил руку. Он был в овероле, из-под которого выбивались наружу расстегнутые воротнички двух рубашек. Поверх оверола на нем была еще светлая и чистая вельветовая куртка. Он сказал нам, что направляется в город Феникс, штат Аризона. Мы ехали совсем не туда, но до Санта-Фе хич-хайкеру было с нами по дороге, и мы пригласили его в машину.
Мистер Адамс не стал терять времени и сразу принялся за расспросы.
Нашего спутника звали Робертс. Он положил свою черную шляпу на колени и охотно принялся рассказывать о себе. Еще одна хорошая черта американцев – они общительны.
Один друг Робертса написал ему, что нашел для него в Фениксе работу по упаковке фруктов, на восемнадцать долларов в неделю. Надо проехать семьсот миль, денег на такую длинную дорогу у него, конечно, нет. Всю ночь он не спал: ехал в товарном вагоне, и было очень холодно. В вагоне было несколько бродяг. Робертсу было совестно ехать зайцем, и он на каждой станции выходил помогать кондукторам грузить багаж. Но бродяги спали, несмотря на холод, и никаких угрызений совести не испытывали.
Робертс ехал из Оклахомы. Там лежит в больнице его жена.
Он вытащил из кармана газетную вырезку, и мы увидели фотографию молодой женщины, полулежащей в белой больничной кровати, и заголовок: «Она улыбается даже на ложе страданий».
Мистер Адамс взволнованно замахал руками.
– Сэр, – закричал он, – я читал про вашу жену в газете!
Несколько часов подряд Робертс рассказывал нам историю своей жизни.
Он говорил не торопясь, не волнуясь, не набиваясь на жалость или сочувствие. Его просят рассказать о себе – он рассказывает.
Он родом из Техаса. Отец и отчим – столяры. Окончил «гайскул» – среднюю школу, но на дальнейшее образование не хватило средств. Работал на маленькой сельской консервной фабрике и сделался мастером. Работа на такой фабричке идет только три месяца в году. Нанимают сезонников, которые постоянно движутся с семьями по всей стране. Сначала они работают на юге, потом постепенно подымаются на север, где уборка урожая начинается позже. Это самые настоящие кочевники. Ничего не значит, что они белые и живут в Америке. Они были оседлыми людьми, которых современная техника вынудила перейти к кочевому образу жизни. Мужчинам платят двадцать центов в час, женщинам – семнадцать центов. Товар им отпускают из фабричной лавки, а потом вычитают забранное из жалованья. С фермерами тоже налажены особые отношения. Фермерам хозяин такой фабрики дает в долг семена и заранее, на корню, закупает урожай овощей. Даже не на корню, а еще раньше. Урожай закупается, когда еще ничего не посажено. Фермерам это невыгодно, но хозяин выбирает для заключения сделок весну, когда фермерам приходится особенно туго. В общем, хозяин этой фабрички умеет делать деньги.
Насчет умения делать деньги Робертс выразился не с возмущением, а с одобрением.
Но его хозяину все-таки живется нелегко. Его мучают местные банки. Будущее неизвестно. Наверно, банки его съедят. Этим всегда кончается в Америке.
Так вот, он был мастером у этого маленького фабриканта и женился на его дочке. Это был очень счастливый брак. Молодые супруги все делали вместе – ходили в кино, к знакомым, даже танцевали только друг с другом. Она была учительница, очень хорошая, умная девушка. Детей она не хотела – боялась, что они отнимут у нее мужа. И дела у них шли отлично. За четыре года совместной жизни они скопили две тысячи долларов. У них было восемнадцать породистых коров и свой автомобиль. Все шло так хорошо, что лучшего они не желали. И вот в феврале тридцать четвертого года произошло несчастье. Жена упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника. Начались операции, леченье, и за полтора года все, что у них было, ушло на докторов. В конце концов это больше походило на налет бандитов, чем на человеколюбивую медицинскую помощь. Доктора забрали все – и наличные деньги, и деньги, вырученные от продажи всех восемнадцати коров и автомобиля. Не осталось ни цента. Первый госпиталь брал по двадцать пять долларов в неделю, оклахомский берет теперь по пятьдесят. Жене нужно сделать металлический корсет – это будет стоить еще сто двадцать долларов.
Говоря о докторах, Робертс вовсе не жаловался на них. Нет, он выразился очень спокойно:
– Ничего не поделаешь. Мне не повезло.
Если с робертсами происходит в жизни беда, то редкий из них будет искать корни постигшего его несчастья. Это не в характере среднего американца. Когда его дела идут хорошо, он не скажет, что его кто-то облагодетельствовал. Он сам сделал себе деньги, своими руками. Но если дела идут плохо, он не станет никого винить. Он скажет, как сказал нам Робертс: «Мне не повезло» или: «У меня это дело не вышло. Значит, я не умею его делать». Робертса ограбили доктора, но, вместо того чтобы подумать – справедливо это или несправедливо, он успокаивает себя мыслью, что ему не повезло, и надеждой, что через год ему снова повезет. Иногда даже записка самоубийцы содержит в себе лишь одну эту примитивную мысль: «Мне не повезло в жизни».
Робертс не жаловался. Между тем за один год он потерял все. Жена стала навсегда калекой, хозяйство и деньги расхватали медицинские работники. Сам он стоит у дороги и просится в чужую машину. Единственное, что у него еще осталось, – это поднятый кверху большой палец правой руки.
В Фениксе он будет получать восемнадцать долларов в неделю, а жить на шесть-семь. Остальные будет тратить на лечение жены. Бедняжка хочет все-таки работать. Она думает преподавать дома латинский язык. Но кто в Оклахоме захочет брать домашние уроки латинского языка? Это маловероятно.
Сумрачно улыбаясь, Робертс снова показал нам газетную вырезку. Под фотографией значилась оптимистическая подпись:
«Она знает, что парализована на всю жизнь, но с улыбкой смотрит на будущее. – Ведь со мной мой Робертс! – сказала бедная женщина в беседе с нашим сотрудником».
Мистер Адамс внезапно схватил руку Робертса и потряс ее.
– Гуд бой, – пробормотал он и отвернулся. – Хороший мальчик.
Робертс спрятал вырезку и замолчал. На вид ему было лет двадцать восемь. Спокойный молодой человек с мужественно красивым лицом и черными глазами. Нос с небольшой горбинкой придавал ему чуть-чуть индейский вид. Робертс тут же объяснил, что в нем действительно есть четверть индейской крови.
Черт бы побрал этих техасцев! Они умеют пасти коров и выносить удары судьбы. А может быть, примесь индейской крови сделала нашего спутника таким стоически спокойным! Француз или итальянец на его месте, может быть, впал бы в религиозное помешательство, а может быть, проклял бы бога, но американец был спокоен. Его просили рассказать о себе – он рассказал.
Итак, мы разговаривали с ним несколько часов. Мы задали ему сотни вопросов и узнали про него все, что только можно было узнать. Мы ждали, естественно, что он захочет узнать что-нибудь и про нас. Этого тем более можно было ждать, что мы переговаривались между собой по-русски, на языке, который он вряд ли слышал в своем Техасе. Может быть, звук этой никогда не слышанной им речи вызовет в нем интерес к своим собеседникам? Однако он ни о чем не спросил нас, не поинтересовался узнать, кто мы такие, куда едем, на каком языке разговариваем.
Удивленные такой нелюбопытностью, мы спросили его, знает ли он о Советском Союзе, слышал ли он что-нибудь о нем.
– Да, – сказал Робертс, – я слышал про русских, но ничего о них не знаю. Но моя жена читает газеты, и она, наверно, знает.
Тут мы поняли, что он не расспрашивал нас вовсе не потому, что был излишне деликатен. Напротив – американцы даже несколько грубоваты. Нет, это просто его не интересовало, как, по всей вероятности, не интересовали ни близлежащая Мексика, ни свой Нью-Йорк.
Мы остановились позавтракать недалеко от Санта-Роза, в поселке при железнодорожной станции, выжженной солнцем. Хозяин заведения, где мы ели сэндвичи с сыром и консервированной ветчиной, был мексиканец с большим костистым носом. Сэндвичи делали он сам, его жена, не знавшая ни слова по-английски, и сын, худой мальчик с кривыми, кавалерийскими ногами и в разукрашенном медью ковбойском поясе. Мексиканская семейка приготовляла сэндвичи с такими пререканиями и шумом, словно делила наследство. Умелый, спокойный американский «сервис» исчез, будто его никогда и не было. Кстати, и взяли за сэндвичи вдвое больше, чем они стоят обычно. На главной улице поселка находился магазин индейских вещей – в витрине лежали кустарные одеяла, стояли расписанные горшки и индейские боги с большущими цилиндрическими носами. Все это железнодорожное богатство было освещено горячим ноябрьским солнцем. Однако жар был не настоящий, не летний, а какой-то ослабленный, словно консервированный.
В каких-нибудь нескольких милях от поселка, по которому мы недавно прогуливались с гордым видом иностранцев, с нами произошло первое автомобильное происшествие. Мы чуть не угодили в канаву.
Не будем рассказывать, как это случилось. Так или иначе, это было не слишком элегантно. Не будем также сообщать, кто был этому виной. Но можно поручиться, что это были не миссис Адамс и не ее муж. Одно только можно прибавить в нашу пользу. Когда машина сползала в канаву, никто из нас не воздымал рук к небу, не прощался с близкими и знакомыми. Все вели себя как полагается. Напряженно молчали, следя за тем, куда валится машина.
Автомобиль, однако, не перевернулся. Сильно накренившись, он остановился на самом краю. Мы осторожно вылезли, с трудом сохраняя равновесие (душевное тоже).
Не успели мы обменяться даже одним словом насчет того, что с нами случилось, как первая же проезжавшая мимо нас машина (это был грузовик) остановилась, и из нее вышел человек с прекрасной новой веревкой в руках.
Не говоря ни слова, он привязал один конец веревки к грузовику, другой к нашей машине и в одну минуту вытащил ее на дорогу. Все автомобилисты, проезжавшие в это время мимо нас, останавливались и спрашивали, не нужна ли помощь. Вообще спасители набросились на нас, как коршуны. Ежесекундно скрипели тормоза, и новый проезжий предлагал свои услуги.
Это было прекрасное зрелище. Автомобили сползались к нам без сговора, как это делают муравьи, когда видят собрата в беде. Честное слово, даже хорошо, что с нами произошел маленький «эксидент», иначе мы не узнали бы этой удивительной американской черты. Только выяснив, что помощь уже не нужна, автомобилисты ехали дальше.
Наш спаситель пожелал нам счастливого пути и уехал. На прощанье он посмотрел в сторону миссис Адамс и буркнул, что автомобилем должен все-таки управлять мужчина, а не женщина. Миссис Адамс вела себя, как истая леди. Она и не подумала сказать, что как раз вела машину не она.
Вытащивший нас на дорогу американец не пожелал даже выслушать нашей благодарности. Помощь в дороге не считается в Америке какой-то особенной доблестью. Если бы наш спаситель сам попал в беду, ему так же быстро и молча помогли бы, как он помог нам. О том, чтобы предложить деньги за помощь, даже и говорить нельзя. За это могут страшно обругать.
Через два дня в роли спасителей выступили мы сами.
Мы возвращались горной дорогой в Санта-Фе из индейской деревни близ городка Таос. Шел мокрый снег. Дорога обледенела, и наш автомобиль иногда непроизвольно делал довольно опасные повороты, подводя нас к самому краю обрыва. Мы ехали медленно, и на душе было довольно нудно.
Внезапно, за одним из поворотов, мы увидели перевернутый грузовичок, лежавший на боку поперек дороги. Возле него в полной растерянности бродил молодой мексиканец. То, что он был мексиканец, мы увидели еще издали. На нем были розовая рубашка, голубой галстук, серый жилет, малиновые башмаки, зеленые носки и темно-фиолетовая шляпа. В двух шагах от него, на откосе, лежал на спине в луже крови другой мексиканец – в нежно-зеленых бархатных штанах. Казалось, он был мертв.
Катастрофа, видимо, произошла только что, и уцелевший мальчишка настолько ошалел, что не мог толком объяснить, как она случилась. Он ходил вокруг грузовика и бессмысленно что-то бормотал. Он смахивал на сумасшедшего.
Лежавший открыл глаза и застонал. Этот ужасный звук привел разноцветного мексиканца в чувство, и он обратился к нам с просьбой отвезти раненого домой, в его деревню – Вилларде. Мы предложили отвезти его в ближайшую больницу, но мексиканец настаивал на том, чтоб везти в деревню. Для этого надо было сделать тридцать миль в сторону от нашей дороги. Все вместе мы с трудом посадили раненого в автомобиль.
В это время сзади подъехал на машине какой-то американец. Он спросил, не нужна ли помощь. Мы поблагодарили и сказали, что сейчас повезем раненого. Разноцветный мексиканец остался у своего искалеченного грузовика.
Дорога была очень тяжелая, и прошло три часа, прежде чем мы добрались до Вилларде. К нашей машине немедленно сбежалась вся деревня. Бог знает, чем занимались местные жители. Несмотря на будний день, они были в новеньких курточках из кожи и обезьяньего меха. Мы сдали раненого мексиканца его родственникам. Он на минуту пришел в себя и рассказал им все, что произошло. Его понесли в дом. В это время сзади, ныряя в ухабы, подъехала машина с американцем, предлагавшим нам свои услуги. Оказывается, он все время ехал за нами.
– Видите ли, – сказал он, – вы очень неосторожны. Ведь этот мексиканец мог умереть в вашей машине. Вы ведь не знаете, насколько тяжело он пострадал. А может быть, он уже умирал? Представляете ли вы себе, что могло произойти? Вы приезжаете в мексиканскую деревню, где вас никто не знает, и привозите труп одного из ее жителей. Мексиканцы первым долгом подумали бы, что это вы его и раздавили. Как вы доказали бы им, что он разбился на своей машине? Мексиканцы – люди очень горячие, и вам могло бы прийтись довольно скверно. И вот я подумал, не лучше ли поехать за вами и в случае чего стать вашим свидетелем?
Поступок этот дает хорошее представление о характере американцев.
Когда мы разъезжались каждый в свою сторону, американец дал нам свою визитную карточку. Вдруг его показания по этому делу все-таки понадобятся. Тогда пригодится его адрес. Из визитной карточки мы узнали, что наш свидетель – директор «грэмер-скул» – начальной школы. Для того чтобы оказать нам эту услугу, он сделал громадный крюк в сторону.
В характере американского народа есть много чудесных и привлекательных черт.
Это превосходные работники, золотые руки. Наши инженеры говорят, что, работая с американцами, они получают истинное удовольствие. Американцы точны, но далеки от педантичности. Они аккуратны. Они умеют держать свое слово и доверяют слову других. Они всегда готовы прийти на помощь. Это хорошие товарищи, легкие люди.
Но вот прекрасная черта – любопытство – у американцев почти отсутствует. Это в особенности касается молодежи. Мы сделали шестнадцать тысяч километров на автомобиле по американским дорогам и видели множество людей. Почти каждый день мы брали в автомобиль хич-хайкеров. Все они были очень словоохотливы, и никто из них не был любопытен и не спросил, кто мы такие.
На дороге нас встретила деревянная арка:
«Добро пожаловать в Нью-Мексико».
Тут же, возле арки, с нас слупили по двадцать четыре цента за галлон бензина. Бензин в Нью-Мексико стоит дороже, чем в Техасе. Гостеприимное приветствие было несколько отравлено коммерческим душком. В различных штатах бензин стоит по-разному: от четырнадцати до тридцати центов за галлон. Дороже всего он стоит, конечно, в пустынях, куда доставлять его приходится издалека. И часто на границах штатов можно увидеть плакат:
«Запасайтесь бензином здесь. В штате Аризона он стоит на четыре цента дороже».
Ну тут, конечно, не удержишься. Запасешься!
Придорожная глина была красного цвета, пустыня – желтая, небо – голубое. Иногда встречались низкорослые кедры. Двести миль мы ехали довольно избитой гравийной дорогой. Но рядом уже строится грандиозное шоссе Лос-Анжелос – Нью-Йорк.
Мы остановились у старого колодца, над которым висело громадное извещение:
«Ваш дед пил здесь воду, когда шел в Калифорнию за золотом».
В другом извещении этот колодец назывался первым в Америке. Рядом с историческим колодцем сидел в будочке хозяин и продавал цветные открытки с видом этого же колодца. У вбитого в землю столба ходили на цепках два молодых медведика. Хозяин про них сказал, что они очень злые. Но медведи, как видно, не знали английского языка, потому что самым подхалимским образом становились на задние лапы и выпрашивали у проезжающих угощение. За будочкой видна была старинная крепость с деревянным майн-ридовским частоколом. Вообще запахло сдиранием скальпов и тому подобными детскими радостями. Не хватало только индейской стрелы, впившейся в частокол и еще дрожащей от полета.
Вместе с нами у колодца остановилась старая, потрепанная машина. В ней, среди подушек и ватных одеял, сидела самая обыкновенная мама с белобрысым и зареванным мальчиком на коленях. На подножке, в особой загородке, стояла смирная дворняга с закрученным кверху толстым и добрым хвостом. Муж вылез из-за руля и разминал ноги, переговариваясь с владельцем исторического колодца.
Утирая сыну нос, мама быстро рассказала нам про свои семейные дела. Семья едет из Канзас-сити в Калифорнию. Муж получил там работу. Все имущество тут же, в автомобиле.
Собака беспокойно вертелась в своей загородке. Рядом с ней на подножке был укреплен добавочный бачок с бензином, и его запах душил собаку. Она жалобно смотрела на хозяйку. Ей, наверно, очень хотелось поскорее прибыть в Калифорнию.
Вечером мы въехали в Санта-Фе, один из стариннейших городов Соединенных Штатов Америки.
Санта-Фе
Собственно говоря, до сих пор неизвестно, чем мы руководствовались, выбирая отель в новом для нас городе. Обычно мы неторопливо катили по улицам, молча пропускали несколько отелей, как будто знали о них что-то плохое, и так же молча, без предварительного уговора, останавливались у следующего отеля, как будто знали о нем что-то хорошее. Неизвестно, что тут играло большую роль – наше писательское чутье или опытность старого путешественника, мистера Адамса, но отель всегда удовлетворял нашим требованиям. Вероятно, отвергнутые отели оказались бы не хуже. Четырехдолларовый номерок на двоих, хорошие, упругие кровати с несколькими одеялами и плоскими, как доллар, подушками, ванная комната с белым мозаичным полом и вечно шипящее центральное отопление.
Зато нам было точно известно, что скромные путешественники не должны селиться в отелях под названием «Мэйфлауэр». «Мэйфлауэр» назывался корабль, на котором прибыли в Америку первые переселенцы из Англии, и такое название обыкновенно дается самому дорогому отелю в городе.
В Санта-Фе мы остановились в отеле «Монтезума».
Когда мы вступили в холл «Монтезумы», несколько американцев, развалившихся в качалках с газетами в руках, жадно на нас посмотрели. В глазах у них горело неистребимое желание поговорить с кем-нибудь, поболтать, потрепаться. Как ни странно, но в занятой, сверхделовой Америке такие люди есть. Большей частью это уже немолодые мистеры в приличных костюмчиках приличного докторского цвета. То ли они уже достаточно заработали долларов, то ли потеряли надежду их заработать, во всяком случае, времени у них много, и, раскачиваясь в гостиничных качалках, они жадно подстерегают жертву. Не дай боже зацепить такого мистера неосторожным вопросом. Он не выпустит собеседника несколько часов подряд. Крикливым голосом американского оптимиста он будет рассказывать ему все, что только знает. И в каждой его фразе будет – «шур!», что значит «конечно!», или «шурли!», что тоже значит «конечно!», или «оф корс!», что тоже значит «конечно!». Кроме того, почти в каждой фразе обязательно будет слово «найс!» – «прелестно!».
Мы быстро проскользнули мимо людей в качалках, умылись и вышли на улицу, чтоб поискать местечко, где бы поужинать.
В действиях этого рода у нас наблюдалась большая систематичность, чем в поисках отеля. За полтора месяца жизни в Штатах нам так надоела американская кухня, что мы согласны были принимать внутрь любые еды – итальянские, китайские, еврейские, лишь бы не «брекфест намбр ту» или «динер намбр уан», лишь бы не эту нумерованную, стандартизованную и централизованную пищу. Вообще если можно говорить о дурном вкусе в еде, то американская кухня, безусловно, является выражением дурного, вздорного и эксцентрического вкуса, вызвавшего на свет такие ублюдки, как сладкие соленые огурцы, бэкон, зажаренный до крепости фанеры, или ослепляющий белизной и совершенно безвкусный (нет, имеющий вкус ваты!) хлеб.
Поэтому мы с нежностью посмотрели на светящуюся вывеску «Ориджинэл Мексикэн Ресторан» – «Настоящий мексиканский ресторан». Вывеска сулила блаженство, и мы быстро вошли внутрь.
На стенах ресторана висели грубые и красивые мексиканские ковры, официанты были в оранжевых рубашках из шелка и сатанинских галстуках цвета печени пьяницы. Очарованные этой, как говорится, оргией красок, мы беззаботно чирикали, выбирая себе блюда. Заказали суп, название которого сейчас уже забылось, и какую-то штучку, называвшуюся «энчалада».
Название супа забылось, потому что уже первая ложка его выбила из головы все, кроме желания схватить огнетушитель и залить костер во рту. Что же касается «энчалады», то это оказались длинные аппетитные блинчики, начиненные красным перцем, тонко нарезанным артиллерийским порохом и политые нитроглицерином. Решительно, сесть за такой обед без пожарной каски на голове – невозможно. Мы выбежали из «Ориджинэл Мексикан Ресторана» голодные, злые, гибнущие от жажды. Через пять минут мы уже сидели в аптеке, самой настоящей американской «драгстор», и ели (о, унижение!) централизованную, стандартизованную и нумерованную пищу (которую проклинали всего лишь полчаса назад), выпив предварительно по десяти бутылочек «джинджер-эйла».
Еле волоча ноги после этих ужасных приключений, мы отправились гулять по Санта-Фе. Американский кирпич и дерево исчезли. Тут стояли испанские дома из глины, подпертые тяжелыми контрфорсами, из-под крыш торчали концы квадратных или круглых потолочных балок. По улицам гуляли ковбои, постукивая высокими каблучками. К подъезду кино подкатил автомобиль, из него вышли индеец с женой. На лбу индейца была широкая ярко-красная повязка. На ногах индианки видны были толстенные белые обмотки. Индейцы заперли автомобиль и пошли смотреть картину. На высокой эстраде магазина для чистки обуви сидели четыре американских мальчика с прилизанными прическами. Им было лет по тринадцать-четырнадцать, и вид у них был чрезвычайно независимый.
Мистер Адамс долго смотрел на мальчиков и наконец, назвав их «сэрами», осведомился о том, что они предполагают делать сегодня вечером.
– Мы чистим ботинки, – сказал один из мальчиков, – потому что идем танцевать.
Больше ничего из молодых сэров не удалось выдоить, и мы отправились в свой отель, где шипящее отопление нагрело воздух в наших комнатах до двадцати пяти градусов.
В области температур американцы склонны к крайностям. Работают в чересчур натопленных помещениях и пьют чересчур холодные напитки. Все, что не подается горячим, подается ледяным. Середины нет.
Жара в номере и не совсем еще потушенное пламя «энчалады» привели к тому, что утром мы встали высушенные, хорошо прокаленные, готовые к дальнейшим приключениям.
Санта-Фе – столица штата Нью-Мексико, самого молодого штата Соединенных Штатов Америки. Столица самого молодого штата – один из самых старых американских городов. Однако, помимо нескольких действительно старинных зданий, все остальные дома в городе – чистенькие, новенькие, построенные в стиле старых испанских миссий. Весь город какой-то искусственный, как будто сделанный для американских туристов.
В длинном здании старого губернаторского дворца помещается теперь музей Нью-Мексико, экспонаты которого дают довольно хорошее представление об индейской, испанской и мексиканской материальной культуре. Древностей у американцев очень мало; они увлечены ими, тщательно их охраняют и не смотрят на туристов, интересующихся древностями, как на доходную статью. О, вам будут показывать без конца, объяснять, снабдят печатными, прекрасно изданными материалами! Все это бесплатно. И за самый вход в музей платы не берут.
За городом, среди суровых красных холмов стоит превосходное здание Рокфеллеровского института антропологии. Институт содержится на средства одного из сыновей Рокфеллера. Но что было бы, если бы сын Рокфеллера не увлекался антропологией? На это, пожалуй, не ответил бы сам вице-директор института, мистер Чэпмен, который знакомил нас с работой института.
Показав отлично организованные хранилища, где на тонких металлических полках были аккуратно расставлены богатые коллекции расписной индейской посуды; кладовые, где лежат индейские ковры и ткани, для сохранения которых поддерживается особая температура; лаборатории, в которых молодые ученые задумчиво сидят над обыкновенными с виду камнями, – показав нам все это, мистер Чэпмен, человек с великолепным, энергичным и тощим американским лицом сказал:
– Индейцам суждено исчезнуть. Мы прекрасно их изучаем, но очень мало делаем для того, чтобы они сохранились как народ.
В кафедральный собор мы попали к часу дня, но патер был так любезен, что немножко отложил свой обед. Он отпер собор, быстро и ловко преклонил колено и, поднявшись, повел нас смотреть стену с замечательными испанскими скульптурами. Мы стояли в запыленной кладовочке, где в беспорядке, как попало, на полках, на полу и шкафах стояли деревянные фигуры Иисусов, богородиц и святых. Фигуры были сделаны примитивно и бесподобно. Эти раскрашенные и позолоченные маленькие статуи поражали своим католическим великолепием.
Узнав, что мы приехали из Советского Союза, патер сделался еще любезнее.
– Я тоже коммунист, – сказал он, – но, конечно, не такой, как вы. Христос был больше чем человек. Поэтому он поступает не так, как поступают люди. И мы не можем об этом рассуждать.
Настоятелем старинной церкви святого Мигуэля, построенной в 1541 году, оказался француз из францисканских монахов. У него дело было поставлено на коммерческую ногу. Первым долгом он взял с нас за осмотр по семьдесят пять центов. Само здание церкви очень старо, но все скульптуры новые, фабричной немецкой работы. Алчному настоятелю они, однако, нравились, и он усердно приглашал нас ими любоваться, из чего можно было заключить, что в искусстве почтенный францисканец ничего не смыслил.
Он тоже спросил нас, откуда мы приехали, но не стал говорить об убеждениях. Сказал только, что их францисканский орден теперь никакой работы в России не ведет, и предложил купить открытки с цветными видами церкви святого Мигуэля.
Вернувшись в отель, мы принялись разбирать кипы набранных нами рекомендательных писем и освобождаться от тех, которые мы не использовали и уже не используем. Из пачки писем, которые мы получили от знакомого нью-йоркского писателя, одно, адресованное к известному американскому поэту Уитер Бинеру, было нам нужно сегодня, штук двенадцать были адресованы в места, куда мы еще только попадем, и три письма нам уже не были нужны.
Так как рекомендательные письма не запечатываются, то, прежде чем их уничтожить, мы мельком их проглядели. Письма были очень сердечные, мы обрисовывались в них с наилучшей стороны, но почему-то во всех трех мы были рекомендованы как страстные поклонники Марка Твена. Мы долго не могли сообразить, что натолкнуло доброго писателя выделить эту подробность в наших биографиях. Наконец мы вспомнили, что рассказывали однажды ему, как мы были в городе Гартфорде, штат Коннектикут, где Марк Твен жил в те годы, когда был уже знаменит и состоятелен. Мы описывали ему чудный, спокойный особняк Твена, который стоял рядом с домом Бичер-Стоу, написавшей «Хижину дяди Тома», рассказывали, что в этом доме сейчас находится библиотека и что на стенках библиотеки мы увидели подлинники знакомых с детства иллюстраций к «Принцу и нищему».
Мы не бог весть как замечательно говорим по-английски, и, может быть, из-за этого разговор сопровождался энергичной жестикуляцией, которая могла создать у нью-йоркского писателя впечатление, что мы являемся фанатическими поклонниками Марка Твена.
Захватив с собой рекомендательное письмо, мы отправились к Уитер Бинеру. На улицах Санта-Фе можно иногда увидеть индейцев племени пуэбло, которые пришли из своей деревни, чтобы продать ковер или чашку. Индейцы приходят и в музей, где покупают их миски и тонкие акварельные рисунки, необыкновенно точно изображающие военные танцы. Костюмы, украшения и оружие воспроизведены с научной добросовестностью, и эти акварели могут служить учебным пособием при изучении индейской культуры.
Мистер Уитер Бинер живет в доме, который от фундамента до крыши набит индейскими коврами, посудой и серебряными украшениями. Это настоящий музей.
Когда американский поэт прочел рекомендательное письмо, лицо его озарилось радостной улыбкой.
– Друг пишет мне, – сказал он, – что вы безумные почитатели Марка Твена.
Мы переглянулись.
– Это замечательно, – продолжал поэт. – Я лично был дружен с Твеном и могу доставить вам сейчас большое удовольствие. Твен подарил мне когда-то свою фотографию со стихотворным посвящением. Это очень редкая вещь – стихи Марка Твена, и вам, как его страстным поклонникам, будет интересно прочесть их.
И он потащил нас на лестницу, все стены которой были увешаны фотографиями американских и неамериканских писателей. Мы добросовестно посмотрели портрет Твена и выслушали стихотворное посвящение.
Мы провели у мистера Бинера очень интересный вечер и точно узнали от него, куда именно нам надо завтра отправиться, чтобы посмотреть индейцев.
Мистер Бинер сказал нам, что в Санта-Фе, расположенном в центре трех старинных цивилизаций – индейской, испанской и мексиканской, – живет много писателей, художников и поэтов. Они бегут сюда от современной Америки. Но Америка гонится за ними. Вслед за поэтами и художниками в Санта-Фе ринулись миллионеры. Они понастроили себе вилл и тоже вдыхают запахи древних цивилизаций, предварительно напитавшись вполне современными долларами.
Здесь живет и Мак-Кормик, известный промышленник, у которого было много предприятий в старой России. Недавно он поехал в Советский Союз как турист, пробыл одиннадцать дней и, вернувшись, читал в Санта-Фе лекцию о своей поездке, в которой больше всего сообщалось об «Интуристе», потому что за столь краткий срок он ни с чем больше не успел ознакомиться.
– Тут уже собралось столько миллионеров, – сказал Уитер Бинер, – что пора переезжать куда-нибудь в другое место. Впрочем, они и туда наедут. От них нет спасения.
Встреча с индейцами
Мистер Уитер Бинер посоветовал нам поехать в город Таос, в двух милях от которого находится большая деревня индейцев племени пуэбло.
Мы покинули Санта-Фе и отель «Монтезума» с его шипящим отоплением. К утру оно нашипело нам градусов тридцать выше нуля, и мы жадно дышали свежим воздухом, мчась по горной дороге.
Мы ехали вдоль Рио-Гранде, здесь еще маленькой зеленой речки, и через несколько десятков миль оказались в индейской деревне Сан-Ильдефонсо. За этим пышным испанским названием не было ни католических соборов, ни важных прелатов, ни молодых людей чистой кастильской крови. Небольшая площадь была окружена глинобитными домиками. Возле каждого из них виднелось на земле небольшое куполообразное сооружение. Это были печи, очаги. Посреди площади стояла громадная баба. Две больших косы, спускавшиеся на ее жирную грудь, были перевиты красными и зелеными шерстяными нитками. В мясистых ушах видны были дырочки от серег.
Когда мы спросили у нее об индейце Агапито Пина, с которым нам посоветовал познакомиться мистер Бинер, то выяснилось, что баба эта и есть Агапито Пина и что он вовсе не баба, а жирный индеец с бабьей фигурой.
Агапито Пина оказался весельчаком и балагуром. Он пригласил нас в свой домик, чисто вымазанный белой глиной и похожий на украинскую хату.
Был серый зимний денек. Внезапно посыпался снег, и вскоре все побелело – и удивительные куполообразные печи, и несколько голых деревьев, похожих на окаменевшие дымы, и вся бедная крестьянская площадь. В маленьком очаге агапитовского домика пылало одно полено, стоявшее торчком. Старая, высушенная индеанка сидела на корточках перед огнем. Это была мать Агапито Пина. Ей восемьдесят три года, но она седа только наполовину. Самому Агапито шестьдесят лет, и на его голове нет ни одного седого волоса. Старуха взяла предложенную нами сигарету и с удовольствием закурила. Агапито тоже взял сигарету, но спрятал ее в карман: как видно, для своей любимой мамы.
Внезапно Агапито запел индейскую песню, притопывая в такт ногой. Комната была крошечная, и Агапито танцевал совсем рядом с нами. Он заглядывал нам в глаза и, окончив одну песню, немедленно начал другую. На глиняном выступе лежали фотографии индейцев, исполняющих военные танцы. Запахло поборами, как в Неаполе или Помпеях.
Однако, закончив песни и пляски, Агапито Пина вовсе не стал клянчить денег, совсем не пытался всучить нам фотографию. Оказалось, что он желал просто доставить удовольствие своим гостям. Мы с радостью убедились, что это все-таки не Неаполь, а индейская резервация и что наши краснокожие братья относятся к туристам без той коммерческой страсти, которую вкладывают в это дело бледнолицые.
На чистых стенах комнатки висели связки разноцветных кукурузных кочанов. В углу стояли красиво расшитые праздничные туфли нашего хозяина.
В деревне занимаются земледелием. Каждый получает акр земли на душу. Богатых нет и нищих нет. Вернее, все нищие. О существовании Европы и океанов Агапито не знает. Правда, один знакомый индеец рассказывал ему недавно, что есть на свете город Нью-Йорк.
Агапито вышел на площадь, чтобы проводить нас, и толстые снежинки падали на его черные прямые волосы.
Дорога шла между красными пемзовыми горами с плоскими, срезанными вершинами. Цвет их удивительно походил на цвет кожи Агапито Пина: спокойно-красный, старинный, потемневший красный цвет. Краснота индейской кожи совершенно особенная. Это цвет их пористых скал, цвет их осенней природы. У них сама природа краснокожая.
День был сырой, плачевный, одновременно осенний и зимний. Сначала падал снежок, потом просеялся дождик, под конец дня надвинулся туман. Фары светили тускло, автомобили почти не попадались. Мы были одни среди грозной индейской природы. Глубоко внизу беспрерывно и негромко шумела Рио-Гранде.
Достигнув Таоса, мы остановились в сером и голубом кэмпе кёптэна О’Хей. Рослый кептэн взял ключи и повел нас показывать кабинки.
Он и в самом деле был капитаном, служил в американской армии. Бросил военную службу – надоело! Здесь, в Таосе, ему нравится. Дела идут хорошо, восемь месяцев в году кэмп полон. Кептэн и его жена не скучают. Каждый день в кэмпе останавливаются новые люди, видишь людей со всех концов страны, можно вечерком поболтать, найти интересного собеседника.
– Лучше быть хозяином кэмпа, чем капитаном армии, – сказал мистер О’Хей, отпирая дверь, – а жизнь у большой дороги интереснее, чем в большом городе.
Учреждение свое кептэн содержал образцово. Стены опрятных комнаток были разрисованы красно-синим индейским орнаментом, стояли низкие мягкие кроватки, у толстенькой печки-буржуйки лежали аккуратно приготовленные щепки и помещалось ведерко с углем. Из ведерка торчали каминные щипцы, чтобы проезжий не брал угля руками и не запачкался. В крошечной кухне стояла газовая плита с двумя конфорками.
Рядом с каждой кабинкой находился гаражик на одну машину. Как почти всегда в Америке, гараж не запирался. В гаражах кептэна О’Хей не было даже наружных дверей. Теоретически считается, что у вас могут машину украсть, но в действительности это бывает редко. Кто будет ночью, пыхтя, катить машину с запертым мотором, менять номер, прятаться от полиции? Сложно и невыгодно. Это не занятие для порядочного вора. Нет расчета. Вот если бы лежали деньги…
Мистер Адамс не раз распространялся на эту тему.
– У нас в маленьких городках, – говорил он, – люди уходят из дому, не запирая дверей. Сэры, вам может показаться, что вы попали в страну поголовно честных людей. А на самом деле мы такие же воры, как все, – как французы, или греки, или итальянцы. Все дело в том, что мы начинаем воровать с более высокого уровня. Мы гораздо богаче, чем Европа, и у нас редко кто украдет пиджак, башмаки или хлеб. Я не говорю о голодных людях, сэры. Голодный может взять. Это бывает. Я говорю о ворах. Им нет расчета возиться с ношеными пиджаками. Сложно. То же самое и с автомобилем. Но бумажку в сто долларов не кладите где попало. Я должен вас огорчить, сэры. Ее немедленно украдут. Запишите это в свои книжечки! Начиная от ста долларов, нет, даже от пятидесяти долларов, американцы так же любят воровать, как все остальное человечество. Зато они доходят до таких сумм, которые небогатой Европе даже не снились.
Мы снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш мышиный кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через две мили мы оказались у въезда в деревню индейцев поэбло, единственного из индейских племен, которое живет на том месте, где оно жило еще до появления в Америке белых людей. Все остальные племена согнаны со своих территорий и перегонялись по нескольку раз на все худшие и худшие места. Поэбло сохранили свою старинную землю только потому, как видно, что в ней не нашлось ничего такого, что вызвало бы интерес белого человека, – здесь нет ни нефти, ни золота, ни угля, ни удобных пастбищ.
Надпись на деревянной доске извещала, что для осмотра деревни надо получить разрешение губернатора племени. Маленькая хатка губернатора находилась тут же, поблизости. Оглашая воздух бодрыми «Гуд ивнинг», что значит «Добрый вечер», и приветственно подымая шляпы, мы вошли к губернатору и в удивлении остановились. Перед очагом, где ярко пылали два полена, сидел на корточках старый индеец. Отсвет пламени скользил по вытертой красной коже его лица. Сидя так, с закрытыми глазами, он походил на ястреба, дремлющего в зоологическом саду и изредка только приподымающего веки, чтобы с ненавистью и скукой посмотреть на людей, окружающих его клетку, или рвануть клювом дощечку с латинской надписью, свидетельствующей о том, что он действительно ястреб, владыка горных вершин.
Перед нами сидел один из тех, кто курил когда-то трубку мира или «становился на тропинку войны», кровожадный и благородный индеец. Что ж, ни капитан Майн Рид, ни Густав Эмар нас не обманывали. Такими мы в детстве и представляли себе индейцев.
Он не ответил на наши «ивнинги». Лицо его по-прежнему обращено было к огню. В ответ на слова о том, что мы хотим осмотреть деревню, он равнодушно и еле заметно кивнул головой, не сказав ни слова. К нам подошел молодой индеец и сказал, что губернатор очень стар и уже слаб, что он умирает.
Когда мы вышли из домика вождя, у нашего автомобиля вертелись мальчики. Это были индейские дети, черноглазые, с прямыми черными волосками, маленькими носами с горбинкой и кожей цвета медного пятака. Они издали смотрели на нас, в их взглядах не видно было страха. Они вели себя как молодые львята. Один львенок, впрочем, кончил тем, что подошел поближе и гордо потребовал, чтобы мы дали ему пять центов. Когда мы отказали ему, он не стал клянчить, а с презрением отвернулся.
Вокруг нас стояли удивительные дома. В деревне живет около тысячи человек, и все они расселились в трех домах. Это громадные глиняные здания в несколько этажей, составленные из прилепленных друг к другу отдельных комнаток. Дома подымаются террасами, и каждый этаж имеет плоскую крышу. Этажи сообщаются между собой приставными деревянными лестницами, обыкновенными, наспех сколоченными лестницами дворницко-малярного типа. Раньше, когда поэбло были независимы, все племя жило в одном колоссальном глиняном доме. Когда лестницы убирали внутрь, дом превращался в крепость, выставившую наружу только голые стены. Так живут и сейчас, хотя обстоятельства совсем переменились.
На площади пахло дымом и навозом. Путались под ногами бойкие рыжие поросята. На крышах дома стояли несколько индейцев. Они с головами были завернуты в одеяла и молчаливо смотрели на нас. Смирные индейские собаки бегали вверх и вниз по приставным лестницам с ловкостью боцманов. Быстро темнело.
К нам подошел седоватый индеец с властным лицом. Это был деревенский полисмен. Он тоже с головой был завернут в байковое, белое с голубым одеяло. Невзирая на его высокое звание, обязанности у него были довольно мирные и необременительные. Он сказал нам, что его дело – гонять по утрам детей в школу. Он пригласил нас зайти за ним завтра утром в эту школу – он отправится показывать нам деревню. Сегодня уже поздно, и люди ложатся спать. Разговор этот мы вели, стоя у ручья, протекавшего между домами. Широкое бревно, переброшенное через ручей, служило мостом. Ничего не напоминало здесь о тысяча девятьсот тридцать пятом годе, и наш автомобиль, смутно выделявшийся в темноте, казался только что прибывшей уэллсовской машиной времени.
Мы вернулись в Таос.
За пять минут мы проехали несколько сот лет, которые отделяли индейскую деревню от Таоса. В городе светились магазины, у обочин стояли автомобили, в лавчонке жарили истинно американский пап-корн, в аптеке подавали апельсиновый сок, все шло своим чередом, будто никаких индейцев никогда на свете не было.
Мы выехали на квадратную площадь, украшением которой служило антикварно-ресторанное заведение под названием «Дон Фернандо». Для городка, отстоящего далеко от железной дороги и имеющего всего лишь две тысячи жителей, ресторанчик был хорош. Подавали здесь молчаливые молодые индеанки, за которыми присматривал человечек с печальным лицом виленского еврея. Он же принял у нас заказ. Это и был сам дон Фернандо. Наше определение подтвердилось только наполовину. Дон Фернандо действительно был еврей, но не виленский, а швейцарский. Так он сам сказал. Что же касается обстоятельств, при которых он приобрел звание дона, то об этом он умолчал, но надо полагать, что, если бы коммерческие интересы этого потребовали, он без всякого смущения назвал бы себя и грандом.
Он рассказал нам, что из двух тысяч таосского населения около двухсот человек – это люди искусства. Они пишут картины, сочиняют стихи, создают симфонии, что-то ваяют. Сюда манит их обстановка: дикость природы, стык трех культур – индейской, мексиканской и пионерской американской, – а также дешевизна жизни.
Недалеко от нас сидела маленькая дама в черном костюме, которая часто смотрела в нашу сторону. Она глядела на нас и волновалась.
Когда мы были уже в антикварном отделении ресторана и рассматривали там замшевых индейских кукол и ярко раскрашенных богов с зелеными и красными носами, к нам снова подошел дон Фернандо. Он сказал, что с нами хотела бы поговорить миссис Фешина, русская дама, которая давно уже живет в Таосе. Увидеть русского, живущего на индейской территории, было очень интересно. Через минуту к нам подошла, нервно улыбаясь, дама, сидевшая в ресторане.
– Вы меня простите, – сказала она по-русски, – но когда я услышала ваш разговор, я не могла удержаться. Вы русские, да?
Мы подтвердили это.
– Вы давно в Америке? – продолжала миссис Фешина.
– Два месяца.
– Откуда же вы приехали?
– Из Москвы.
– Прямо из Москвы?
Она была поражена.
– Вы знаете, это просто чудо! Я столько лет здесь живу, среди этих американцев, и вдруг – русские.
Мы видели, что ей очень хочется поговорить, что для нее это действительно событие, и пригласили ее к себе в кэмп. Через несколько минут она подъехала на стареньком автомобиле, которым сама управляла. Она сидела у нас долго, говорила, не могла наговориться.
Она уехала в двадцать третьем году из Казани. Муж ее – художник Фешин, довольно известный в свое время у нас. Он дружил с американцами из АРА, которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз. Этому главным образом способствовал успех в делах. Картины продавались, денег появилась куча. Фешин, как истинный русак, жить в большом американском городе не смог, вот и приехали сюда, в Таос. Построили себе дом, замечательный дом. Строили его три лета, и он обошелся в двадцать тысяч долларов. Строили, строили, а когда дом был готов – разошлись. Оказалось, что всю жизнь напрасно жили вместе, что они вовсе не подходят друг к другу. Фешин уехал из Таоса, он теперь в Мексико-сити. Дочь учится в Голливуде, в балетной школе. Миссис Фешина осталась в Таосе одна. Денег у нее нет, не хватает даже на то, чтоб зимой отапливать свой великолепный дом. Поэтому на зиму она сняла себе домик за три доллара в месяц в деревне Рио-Чикито, где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио-Чикито нет. Надо зарабатывать деньги. Она решила писать для кино, но пока еще ничего не заработала. Дом продавать жалко. Он стоил двадцать тысяч, а теперь, при кризисе, за него могут дать тысяч пять.
Наша гостья говорила жадно, хотела наговориться досыта, все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла:
– Вот странно, говорить в Таосе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в русском языке ошибок?
Она говорила очень хорошо, но иногда вдруг запиналась, вспоминала нужное слово. Мы говорили ей:
– Слушайте, зачем вы здесь сидите? Проситесь назад в Советский Союз.
– Я бы поехала. Но куда мне ехать? Там все новые люди, я никого не знаю. Поздно мне уже начинать новую жизнь.
Она умчалась во тьму на своем старом тяжеловозе.
Странная судьба! Где живет русская женщина? В Рио-Чикито, штат Нью-Мексико, в Юнайтед Стейтс оф Америка, среди индейцев, мексиканцев и американцев.
Утром мы сразу отправились в деревню Поэбло, в школу, искать нашего полисмена. В Поэбло стоял туман. Из него слабо вырисовывались серые деревья, далекие и близкие горы. Меланхолические индейцы в своих одеялах по-прежнему стояли на крышах, похожие на затворниц гарема. Собаки бежали по своим домам, не трогая нас, расторопно подымались по лестницам и исчезали в дверях.
Школа была велика и отлично поставлена, как вообще школы в Штатах. Мы увидели отличные большие классы, паркетные полы, сияющие фаянсовые раковины, никелированные краны.
Полисмен не смог пойти с нами. Обязанности удерживали его в школе. Сейчас он как раз разбирал конфликт. Один индейский мальчик ударил совсем маленького индеянчика по голове. Полисмен медленно выговаривал виновнику потасовки. Кругом, молчаливые и важные, как вожди на большом совете, стояли мальчики. Обычного детского галдежа не было. Все торжественно слушали полисмена, шмыгая иногда красивыми орлиными носиками или почесывая прямые, тускло светящиеся черные волосы. Но как только полисмен, старчески шаркая туфлями, ушел, дети принялись скакать и бегать, как все маленькие шалуны на свете.
Директор школы, историк по специальности, бросил культурный Восток и приехал сюда, чтобы поближе узнать индейцев.
– Очень талантливые дети, талантливый народ, в особенности склонный, конечно, к искусству, – сказал директор. – Талантливый народ и загадочный. Я много лет живу среди них, но до сих пор этот народ для меня не понятен. Индейцы вынуждены посылать детей в школы, потому что обучение обязательно. Не будь этого – они не посылали бы ни одного ребенка. Ведь все преподаватели белые, и обучение идет на английском языке. Дети учатся большей частью очень хорошо. Но вот в какой-то год часть мальчиков, которым исполнилось десять-одиннадцать лет, внезапно перестает ходить в школу. Не ходит целый год. В этот год они проходят где-то (где – мы никогда не могли этого узнать) свое обучение. И когда такой мальчик снова появляется в школе, то он уже настоящий индеец и никогда не будет белым по культуре. Когда дети кончают мою школу, старики говорят им: «Выбирайте! Если хотите быть белыми людьми, уходите к ним и никогда к нам не возвращайтесь. А если вы хотите остаться индейцами, то забудьте все, чему вас учили». И почти всегда дети остаются дома. После окончания школы они изредка заходят и просят почитать старые американские газеты, а потом совсем перестают ходить. Это индейцы, настоящие индейцы, без электричества, автомобилей и других глупостей. Они живут среди белых, полные молчаливого презрения к ним. Они до сих пор не признают их хозяевами страны. И это неудивительно, если вспомнить, что в истории индейского народа не было случая, когда одно племя поработило бы другое. Поработить индейское племя нельзя, его можно вырезать до последнего человека (такие случаи бывали), и тогда только можно считать, что племя покорено.
Нас водила по деревне пятнадцатилетняя индианка. Внезапно она сказала:
– Вы знаете, что в Чикаго живет индейская женщина? Это моя сестра.
Очень редкий случай. Ее сестра вышла замуж за белого человека, художника. Наверно, это один из таосских фантазеров, приехавших сюда вдыхать запахи древних цивилизаций.
Посреди деревни стояла старая испанская церквушка. Поэбло – католики, но очень странные католики. На рождество и пасху они выносят статую мадонны и исполняют вокруг нее военный танец. Потом уходят в какую-то молитвенную яму и там молятся, но вряд ли уж по католическому обряду.
И, глядя на молчаливых и римски величавых краснокожих, мы повторяли себе, вспоминая слова директора школы:
«Да, да, они и католики, и говорят по-английски, и видели автомобиль и тому подобное, но все-таки они индейцы, самые настоящие индейцы, прежде всего индейцы – и ничего больше».
Напуганные происшествием на обледеневшей дороге, о котором было уже рассказано, мы прежде всего купили в Санта-Фе цепи, чудные цепи золотого цвета, и выехали в направлении на Альбукерк.
День несчастий
Из Санта-Фе в Альбукерк мы выехали на цыпочках, если можно применить это выражение к автомобилю.
Перед отъездом супруги Адамс занялись своим любимым делом – взявшись за ручки, отправились «брать информацию».
Они посетили «А.А.А.» (автомобильный клуб), несколько газолиновых станций, туристских бюро и вернулись, нагруженные картами. Лицо мистера Адамса выражало отчаяние. Миссис Адамс, напротив, была полна решимости. Дожидаясь в машине, мы еще издали услышали их взволнованные голоса.
– Сэры! – сказал нам мистер Адамс торжественно. – Мы взяли информацию. До Альбукерка сто миль. Впереди дождь. И есть место, где на протяжении одной мили дорога понижается на тысячу футов. Нет, сэры, не говорите мне ничего. Это ужасно!
– Но что же из этого следует? – спросила миссис Адамс спокойно.
– Бекки! Бекки! Не говори так – «что из этого следует». Ты сама не знаешь, что ты говоришь!
– Ну, хорошо, ты всегда прав. Но я все-таки хочу знать, чего ты добиваешься.
– Нет, нет, Бекки, нельзя так говорить. Надо быть рассудительной. О, но! Я предупреждаю вас, мистеры, нам угрожает опасность.
– Но все-таки чего ты хочешь? – спросила миссис Адамс, не повышая голоса. – Ты хочешь, чтобы мы вернулись назад?
– О Бекки! Не говори так – «вернуться назад»! Как ты можешь говорить такие слова?
– Тогда поедем!
– Нет, нет, Бекки! Серьезно! На одну милю понижение в тысячу футов. Нельзя так говорить – «едем»! Да, да, Бекки, ты не маленькая девочка.
– Хорошо. Тогда мы остаемся в Санта-Фе?
– Ты всегда так, – простонал мистер Адамс, – мне больно слушать твои слова. Как ты можешь говорить – «остаемся в Санта-Фе»! Нет, нет, не говори так. Сэры! Это ужасно!
Миссис Адамс молча включила мотор, и мы поехали. Но прежде чем выехать из города, миссис Адамс еще несколько раз «брала информацию». Это была единственная слабость нашего мужественного драйвера, водителя. Миссис Адамс подъезжала к колонке и давала сигнал. Из будочки выбегал бодрый юноша в полосатой фуражке. Миссис Адамс спрашивала дорогу до ближайшего города.
– Третья улица направо, мэм! – отвечал юноша, вытирая руки паклей. – И потом прямо, мэм!
– Все прямо? – спрашивала миссис Адамс.
– Иэс, мэм.
– И сначала проехать по этой улице три блока?
– Иэс, мэм.
– А потом направо?
– Иэс, мэм.
– А налево не надо?
– Но, мэм.
Миссис Адамс некоторое время молчала, внимательно выглядывая из окошечка.
– Значит, вторая улица направо?
– Но, мэм. Третья улица.
– Так, значит, третья улица?
– Иэс, мэм.
Юноша делал попытку убежать.
– А дорога хорошая? – спрашивала миссис Адамс, берясь за ручку скоростей.
– Иэс, мэм.
– Тэнк ю вери, вери мач! – кричал мистер Адамс.
– Вери, вери! – добавляла супруга.
– Вери мач! – поддерживали мы.
Наша машина трогалась с места, чтобы сейчас же остановиться у следующей колонки.
– Надо проверить, – озабоченно говорила миссис Адамс.
– Проверить никогда не мешает, – подтверждал мистер Адамс, потирая руки.
И снова начиналось – «иэс, мэм» и «но, мэм».
Информацию брали в общей сложности до пяти часов дня и из Санта-Фе выехали в сумерки, что еще увеличило опасения мистера Адамса. Он молчал до самого Альбукерка. Очевидно, его беспокойная душа была стеснена тяжелым предчувствием.
Стало совсем темно. Наши бледные фары, которые с таким усердием были изготовлены на карликовом заводе Форда, с трудом пробивали мглу, насыщенную водой.
Только один раз мистер Адамс нарушил свое трагическое молчание.
– Бекки! – воскликнул он. – Мы забыли пойти в Санта-Фе на почту за шляпой, которую, вероятно, уже успели переслать из Канзаса. Да, да, сэры, эта шляпа сведет меня с ума.
– Ничего, мы пошлем из Альбукерка открытку, чтобы шляпу переслали в Сан-Франциско, – ответила миссис Адамс.
Путешествие до Альбукерка прошло вполне благополучно. Мы не могли даже определить, в каком месте был тысячефутовый спуск, хотя в продолжение нескольких часов нервно вглядывались в тьму.
Но уже в самом городе, разыскивая кэмп для ночлега, мы съехали с дороги и застряли в большой луже. В первый раз за время путешествия, изнеженные бетонными дорогами и «сервисом», мы вылезли прямо в грязь и, охая, принялись подталкивать наш любимый кар, завязший по самый буфер. Машина не двигалась.
– Да, да, сэры, – восклицал мистер Адамс, ломая короткие толстые ручки, – вы просто не понимаете, вы не хотите понять, что такое автомобильное путешествие! Нет, серьезно, нет, мистеры, не говорите мне ничего, вы этого не понимаете.
В конце концов явился джентльмен в жилетке, с надвинутой на нос шляпой. Он подошел к миссис Адамс, назвал ее «мэм», потом сел на ее место и дал такой газ, что наш кар заволокло вонючим дымом. Раздалось неистовое жужжание, мистер Адамс в страхе отступил, и машина, разбрызгивая тонны жидкой грязи, выехала на дорогу.
Это было первое звено в цепи несчастий, постигших нас на следующий день.
Мы выезжали из Альбукерка в ужасное утро. Красивые глинобитные домики с торчащими наружу концами потолочных балок, плакаты «Кока-кола», монастыри, аптеки, старинные испанские миссии и такие же, как на Востоке, газолиновые станции – все было залито серой дождевой водой. Здесь у входа в домики висели деревянные ярма от воловьих упряжек (память о пионерах-золотоискателях). На крышах мексиканских хат сушились, вернее – мокли, связки красного перца. Мокли объявления об экскурсиях в окрестные индейские деревни и испанские миссии (до самой ближайшей – сто восемьдесят миль).
В это утро нам предстояло перевалить через Скалистые горы.
Вдруг среди ужасной хмари появился чудный просвет зеленого неба. Дорога шла кверху. Никаких гор мы не видели. Были видны лишь холмы и разрывы почвы. Дождь прекратился, и выглянуло солнце. Мы принялись восхищаться природою и резвились, как три знаменитых поросенка, не подозревавших об опасности.
Подымаясь все выше, автомобиль выехал наконец на громадное плато. Дорогу завалил тающий снег и лед. Было светло и холодно, как весной. Мы находились на высоте двенадцати тысяч футов.
– Смотрите, смотрите! – кричала миссис Адамс. – Какие скалы на горизонте. Какая красота! Тень, тень! Зеленая тень от скалы.
– Сэры! Это величественно! – надрывался мистер Адамс, возбужденно вертясь на месте. – Да, да, да, сэры, это зрелище облагораживает душу, возвыша…
Он вдруг замолчал и, вытянув шею, уставился на дорогу.
Машина начала вилять из стороны в сторону и скользить по мокрой ледяной каше. Она покачнулась, задние колеса занесло вбок. Миссис Адамс нажала тормоз, и машина стала поперек дороги.
Ах, как не хотелось вылезать из теплой машины и погружать ноги в тонких городских ботинках в ледяную сахарную воду! Было решено надеть цепи. Хотя мистер Адамс и не принимал непосредственного участия в надевании цепей, он счел своим долгом вылезть из машины и промочить ноги вместе со всеми.
– Я прошу тебя только об одном, – сказала ему миссис Адамс, руководившая работами, – не мешай.
– Но, Бекки, Бекки, – бормотал опечаленный супруг, – я обязан трудиться наравне со всеми.
Так Скалистые горы и остались в памяти: светлый и холодный весенний день 27 ноября, по зеленоватому и прозрачному небу мчатся маленькие плотные облачка, над краями плато выступают ровные, как забор, серые и синие скалы. Позади, внизу – Техас, Чикаго, Нью-Йорк, Атлантический океан, Европа. Впереди, внизу – Калифорния, Тихий океан, Япония, Сибирь, Москва. Мы стоим по щиколотку в ледяной жиже и неумело натягиваем цепи на твердые, чисто вымытые водой шины.
Через час цепи были надеты, и миссис Адамс включила мотор. В самой высокой точке перевала оказалась полуразвалившаяся бревенчатая хижина с вывеской «Кафе-бар». Там торговала девушка в бриджах, сапогах и тонкой кофточке с короткими рукавами. Хотя вокруг на много миль не было никакого жилья, внешность девушки никак нельзя было бы назвать деревенской. Это была типичная нью-йоркская, чикагская или амарилльская девица из кафе – плотная завивка, нарумяненные щеки, выщипанные брови, отлакированные ногти и безукоризненное профессиональное умение работать.
Мы выпили по стаканчику джина, согрелись и отправились в путь, позабыв обо всех наших горестях.
Но как только мы начали восхищаться природой, раздался ужасный грохот, и миссис Адамс, остановив машину, посмотрела сперва на нас, а потом на мистера Адамса.
– О Бекки, – пробормотал он, – видишь, видишь, я говорил…
– Что ты говорил?
– Нет, серьезно, Бекки, не спрашивай меня ни о чем. Это ужасно!
Однако ничего особенно ужасного не произошло. Просто порвалась неплотно прилаженная цепь и поломала подпорку левого крыла.
Мы сняли цепь и осторожно поехали дальше. Солнце грело все сильнее. Лед совершенно исчез, и мы, как кинематографические свинки, снова ожили. Мы восхищались суровой красотой плато и ярким днем.
– Нам хорошо, сэры! – говорил мистер Адамс. – А каково было пионерам, которые шли этой дорогой неделями, месяцами, без пищи, без воды. Да, да, сэры! Без воды, с женами и маленькими детьми…
Мистер Адамс вдруг замолк. Мы так и не узнали, каково приходилось пионерам. Вытянув шею, он с ужасом смотрел вперед.
Дорога была загорожена доской. На ней висел плакат:
«Дорога ремонтируется. Детур – одиннадцать миль». «Детур» – это значило объезд. Тут, собственно, и наступил редкий случай, когда в Америке могут понадобиться цепи. Но одной цепи уже не было. Посредине этого самого «детура», состоящего из размокшей розовой глины, стоял боком голубой двухэтажный рейсовый автобус компании «Серая борзая», шедший в Лос-Анжелос. Если застряла эта могучая машина, то что будет с нами? Автобус стоял накренившись, как корабль, налетевший на рифы. Ему на помощь шел ярко-желтый гусеничный трактор – дорожный плуг.
Перед нами уже несколько часов ехало странное существо, которое можно было назвать автомобилем только из милости: не автомобиль, а автовигвам с ржавой железной трубой от печки и развевающимися по ветру рваными ватными одеялами, составляющими стены воображаемой кабины. Внутри были видны металлический бак и большие замурзанные дети.
К нашему удивлению, автовигвам смело полез в глубокую мягкую грязь. Мы последовали за ним. Из окон «Серой борзой» выглядывали скучающие пассажиры. Вероятно, эти одиннадцать миль были самыми худшими в Америке, и надо было иметь какое-то особенное автомобильное счастье, чтобы нарваться именно на них. Во всяком случае, за всю поездку по Америке мы ни разу больше не видели такого плохого куска дороги.
Мы несколько раз застревали в огромных лужах жидкой грязи и подталкивали автомобиль плечами. Ботинки, брюки, края пальто, плечи и даже лица – все было покрыто розовой глиной.
Выехав на твердую дорогу, автовигвам остановился. Из него вылезла многочисленная семья и стала собирать щепки, чтобы развести огонь. Семья, очевидно, решила пообедать. Мы пронеслись мимо, поглядев на семью с некоторой завистью. После всех перенесенных нами страданий захотелось есть. Солнце припекало довольно сильно, мы быстро высохли и взыграли духом.
– Смотрите! Смотрите! – крикнула миссис Адамс, взмахнув руками. – Какие скалы!
– Бекки! Не отпускай руль и смотри только на дорогу, – сказал мистер Адамс, – мы опишем тебе потом все виды.
– Нет, вы только посмотрите, – крикнула Бекки, – скала похожа на замок.
– А вот эта – на башню.
– Сэры! Смотрите скорей! Нет, нет, это просто удивительно! Скала похожа на огромный надрезанный кусок сыру.
– Нет, скорее на пирог.
– С мясной начинкой.
– На длинную, длинную колбасу… знаете, мистеры, есть такая миланская колбаса, очень вкусная.
Есть хотелось все больше и больше. Проезжая живописные скалы, похожие, как нашел мистер Адамс, на тарелку горячего супа, мы поняли, что умираем от голода.
Однако новое происшествие отвлекло наши мысли. Мистер Адамс нечаянно приоткрыл дверцу, и его чуть не выбросило из машины вихрем встречного воздуха.
Когда мы ехали по главной улице города Галлопа, высматривая ресторанчик, раздался треск, по сравнению с которым известный нам звук лопнувшей цепи показался мелодичным стрекотанием кузнечика. Наш кар содрогнулся и стал. В первую секунду мы поняли, что живы, и обрадовались. Во вторую секунду сообразили, что являемся жертвой «эксидента», – в бок нашего нового серого грязного кара врезался старый зеленый полугрузовичок.
Вокруг наших автомобилей вмиг образовалась пробка. Мы с грустью смотрели на смятое крыло и слегка погнутую ступеньку. Виновник происшествия вылез из своего полугрузовичка, бормоча извинения.
– Сэр! – сказал мистер Адамс горделиво. – Вы врезались в наш кар.
Он был готов к бою.
Но боя не последовало. Наш противник и не думал отрицать своей виновности и упирал главным образом на «проклятые тормоза». Он был так смущен происшествием, а повреждения, которые он причинил нам, были так малы, что мы решили не таскать его по судам, и расстались друзьями.
Город Галлоп дал нам очень много для понимания Америки. Собственно, этот город совсем не отличался от других маленьких городков, и задача писателя сильно облегчается, так как внешность городка можно не описывать. Какой-нибудь старый галлопчанин, уехавший на два-три года, едва ли узнал бы свой родной город, так как нет ни одной приметы, по которой он мог бы его узнать. «Какой город?» – спросил бы он, высунувшись из автомобиля. И, только узнав, что он действительно в Галлопе, а не в Спрингфильде или Женеве, принялся бы целовать родную землю (асфальт). Именно этим вот отсутствием оригинальности и замечателен город Галлоп. Если американцы когда-нибудь полетят на Луну, они обязательно построят там точь-в-точь такой же город, как Галлоп. Ведь стоит же среди лунных пустынь Нью-Мексико этот бензиновый оазис с Мейн-стритом, «Манхэттен-кафе», где можно выпить помидорного соку, съесть яблочный пирог и, бросив пять центов в автомат, послушать граммофон или механическую скрипку; с универсальным магазином, где можно купить рубчатые бархатные штаны цвета ржавчины, носки, галстуки и ковбойскую рубашку; с магазином фордовских автомобилей; с кинематографом, где можно увидеть картину из жизни богачей или бандитов, и с аптекой, где подтянутые девушки, щеголеватые, как польские поручики, едят гэм энд эгг, прежде чем отправиться на работу. Добрый город Галлоп! Его не интересуют события в Европе, Азии и Африке. Даже американскими делами город Галлоп не слишком-то озабочен. Он гордится тем, что со своими шестью тысячами жителей имеет горячую и холодную воду, ванны, души, рефрижераторы и туалетную бумагу в уборных, – имеет тот же комфорт, что Канзас-сити или Чикаго.
Хотя не было еще трех часов, мистер Адамс уговорил нас не ехать дальше.
– Это роковой день, сэры, – говорил он, – это день несчастий. Да, да, было бы глупо не понять этого. Сэры! Мы обманем судьбу. Завтра она будет бессильна помешать нашему дальнейшему путешествию.
И он ушел в фордовский магазин узнавать, во что обойдется починка повреждений. Он просил подождать его в автомобиле, за углом. Прошло двадцать минут, в течение которых мы вели с миссис Адамс беседу о несчастьях сегодняшнего дня.
– Ну, сегодня нам уже бояться нечего, – сказала миссис Адамс. – Все несчастья позади.
Прошло еще десять минут, а мистера Адамса все не было.
– Я знаю, – воскликнула миссис Адамс, – его никуда нельзя пускать одного. Я уверена, что сейчас он сидит с дилером и разговаривает с ним о Лиге Наций, совершенно позабыв, что мы его ждем.
Еще через десять минут к нам подбежал мальчик-рассыльный и передал, что мистер Адамс просит нас немедленно прийти к нему в магазин. Миссис Адамс побледнела.
– С ним что-нибудь случилось? – спросила она быстро.
– Но, мэм, – ответил мальчик, глядя в сторону.
Мы бросились в магазин со всех ног. Странное зрелище предстало нашим глазам. Думается, что не только мы, но ни один житель Галлопа за все время существования городка не видел ничего подобного. Было похоже, что тяжелый бомбардировщик «Капрони» только что сбросил здесь весь запас бомб, предназначенных для негуса Хайле Селасие. Большое зеркальное стекло магазина лежало на тротуаре, расколоченное вдребезги. В пустой раме окна, на фоне двух новеньких «фордов», стоял мистер Адамс, держа в руках дужку от очков. Палец его правой руки был порезан, но он, не обращая на это внимания, что-то еще втолковывал насчет Лиги Наций растерянному хозяину магазина.
– Но, но, сэр, – говорил он, – вы не знаете, что такое Лиг оф Нэйшенс!
– Что ты наделал! – воскликнула миссис Адамс, тяжело дыша.
– Но, но, Бекки! Нет, серьезно, я ничего не наделал. Я прошел сквозь витрину. Разговаривал с этим сэром и не заметил, что иду не в дверь, а в окно. Что я мог сделать, сэры, если это окно такое большое, что похоже на дверь! И еще к тому же доходит до земли.
Миссис Адамс принялась ощупывать своего любимого мужа. Это было просто невероятно – мистер Адамс был абсолютно невредим, только разлетелись очки.
– И тебе не было больно? – спрашивала миссис Адамс. – Это же все-таки толстое зеркальное стекло!
– Но, Бекки, я был так удивлен, что ничего не почувствовал.
Мистер Адамс вознаградил ошеломленного дилера за потерю и радостно сказал:
– Вы не должны думать, сэры, что я потерял здесь даром время. Я все узнал насчет ремонта вашего кара. Его не стоит сейчас чинить. О, но! Это был не последний эксидент. Нам еще успеют намять бока. Когда вернемся в Нью-Йорк, починим и закрасим все сразу. Не будем торопиться, сэры! Вы всегда успеете израсходовать ваши доллары.
Мы так боялись, что несчастья этого дня еще не кончились, что шли по улице, осторожно передвигая ноги и поминутно оборачиваясь, как затравленные олени. Только уже улегшись в кровати, мы успокоились немного и поняли, что день несчастий миновал.
Пустыня
Америка готовилась к рождеству. В маленьких городках уже сияли перед магазинами разноцветные электрические лампочки картонных елок, надетых на уличные фонари. Традиционный Санта Клаус, добрый рождественский дед с большой белой бородой, разъезжал по улицам в раззолоченной колеснице. Электрические вентиляторы выбрасывали изнутри колесницы искусственный снег. Хоры радиоангелов исполняли старые английские песни. Санта Клаус держал в руках плакат универсального магазина: «Рождественские подарки – в кредит». Газеты писали, что предпраздничная торговля идет лучше, чем в прошлом году.
Чем дальше мы подвигались по направлению к Калифорнии, чем жарче становилось солнце, а небо чище и голубее, тем больше было искусственного снега, картонных елей, седых бород, тем шире становился кредит на покупку рождественских подарков.
Мы переехали границу Аризоны. Резкий и сильный свет пустыни лежал на превосходной дороге, ведущей во Флагстаф. Надоедливые рекламные плакаты почти исчезли, и только изредка из-за кактуса или пожелтевшего «перекати-поля» высовывался на палочке нахальный плакатик «Кока-кола». Газолиновые станции попадались все реже. Зато шляпы редких здесь жителей становились все шире. Мы еще никогда не видели и, вероятно, не увидим таких больших шляп, как в Аризоне, стране пустынь и кэньонов.
Едва ли можно найти на свете что-либо величественнее и прекраснее американской пустыни. Целую неделю мы мчались по ней, не уставая восхищаться. Нам повезло. Зима в пустыне – это то же светлое и чистое лето, только без удручающей жары и пыли.
Край, в который мы заехали, был совершенно глух и дик, но мы не чувствовали себя оторванными от мира. Дорога и автомобиль приблизили пустыню, сдернули с нее покрывало тайны, не сделав ее менее привлекательной. Напротив того – красота, созданная природой, дополнена красотой, созданной искусными руками человека. Любуясь чистыми красками пустыни, со сложной могучей архитектурой, мы никогда не переставали любоваться широким ровным шоссе, серебристыми мостиками, аккуратно уложенными водоотводными трубами, насыпями и выемками. Даже газолиновые станции, которые надоели на Востоке и Среднем Западе, здесь, в пустыне, выглядели гордыми памятниками человеческого могущества. И автомобиль в пустыне казался вдвое красивей, чем в городе, – его обтекаемая полированная поверхность отражала солнце, а тень его, глубокая и резкая, властно лежала на девственных песках.
Дороги в пустыне – вероятно, одно из самых замечательных достижений американской техники. Они так же хороши, как и в населенных местах. Те же четкие и ясные желто-черные таблицы напоминают о поворотах, узких мостах и зигзагах. Те же белые с черной каемкой знаки указывают номера дорог, а деревянные стрелы с названиями городков – расстояние до этих городков. В пустыне есть также особые дорожные сооружения, которые встречаются довольно часто и называются «каттл гард». Огромные земельные участки скотоводов отделены друг от друга колючей проволокой, чтобы скот не переходил с участка на участок, чтобы не было тяжб и живописным ковбоям не приходилось пускать в ход свои кольты. Но как сделать, чтобы скот не переходил с участка на участок через шоссе? Ведь шоссе не перегородишь колючей проволокой! И вот некий безымянный изобретатель додумался. Проволока доходит до шоссе. Здесь на дороге лежит металлическая решетка, покрывающая канаву. Автомобилям это нисколько не мешает, а коровы боятся, что их ноги провалятся сквозь прутья, и поэтому воздерживаются от нежелательных экскурсий в чужие участки. По-американски просто!
В Америке путешественника не угнетают обычные дорожные сомнения: «Где мы сейчас? Найдем ли мы ночлег? Не врет ли спидометр? Уж слишком мы забрались на Запад – не пора ли передвинуть стрелку часов?» Нет. Путешественника не волнует вопрос о ночлеге. Он привык к тому, что на дороге его поджидают кэмпы, то есть лагери, состоящие из нескольких маленьких домиков (в каждом домике – комната, душ и газовая кухня, а рядом с домиком – гараж). Ежедневно на дороге можно встретить на маленьком столбике плакат: «Через полмили – проверка спидометра». И действительно, через полмили стоит новый столбик. И от этого столбика до следующего будет пять миль, и вы можете проверить правильность своего спидометра – прибора, отмечающего пройденное расстояние. Встретится вам и совсем уже заботливый плакат: «Пора передвинуть стрелку часов». А на вопрос: «Где мы сейчас?» – есть точный, даже несколько торжественный ответ:
«Покидаете Нью-Мексико. Въезжаете в Аризону».
Звучит это так, как будто вы покидаете землю и въезжаете на небо.
Мы весело катили по пустыне, совершенно позабыв о вчерашних ужасах. Уже казалось невероятным, что на свете существуют грязь, снег и холод. Мистер Адамс, хорошенько выспавшийся в Галлопе и основательно закусивший на дорогу, чувствовал себя великолепно. Он был полон идей и томился желанием поговорить. Мы перебрали десяток тем; выслушали мысли мистера Адамса о положении в Германии после фашистского переворота, о состоянии школьного дела в Америке и о шансах Рузвельта на новых выборах.
Но мистеру Адамсу всего этого казалось мало. Он нетерпеливо поглядывал на дорогу в надежде увидеть человека с поднятым кверху пальцем. Навстречу машине летел красный придорожный песок. Людей в пустыне не было. Но тут мистеру Адамсу пришла на помощь природа, которой он и отдал весь распиравший его запас чувств.
Мы проезжали «painted desert» – «окрашенную пустыню».
До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы. Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и палевый цвета. Тона были ослепительно чисты.
Слово «пустыня» часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров.
Но впереди нас ожидало нечто еще более замечательное.
Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но, вглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень представлял собою мелкие частицы окаменевшего леса.
На этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не так давно лес этот нашли в виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище – посреди пустыни в великой тишине лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твердость мрамора.
В заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют чурбанчики окаменевшего дерева. Их распиливают, полируют. Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и желтыми жилками. Нет таких мраморов и малахитов, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом.
В музее нам сказали, что этим деревьям сто пятьдесят миллионов лет. Самому музею было, вероятно, не больше года. Это было маленькое, но вполне современное здание с металлическими рамами окон и дверей, с водопроводом, с горячей и холодной водой. Выйдя из такого зданьица, ожидаешь найти здесь метрополитен, аэропорт и универсальный магазин, а находишь сразу же, без малейшего перехода, пустыню на несколько сотен миль.
Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется, с собою нельзя брать ни одной песчинки. Но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут же шла бойкая торговля кусочками дерева по пятнадцати центов и выше. Какой-то кустарь-одиночка с мотором (гудевшим на всю пустыню) лихорадочно выделывал сувениры – брошки и браслеты, пилил, точил и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью: «На добрую память».
Мы уложили в автомобиль несколько кусочков дерева и, живо представляя себе, как в скором времени они поедут в чемоданах через океан, двинулись в путь.
Неподалеку от заводика, у края дороги, подняв кверху большой палец, стоял человек с чемоданчиком.
Мы уже говорили о том, что американцы очень общительны, доброжелательны и всегда готовы услужить. Когда вам оказывают помощь, ну, скажем, вытаскивают из канавы ваш автомобиль, то делается это просто, скромно, быстро, без расчета на благодарность, даже словесную. Помог, отпустил шутку и отправился дальше.
Поднятый большой палец, как известно, обозначает просьбу подвезти. Этот сигнал сделался такой же неотъемлемой частью американского автомобилизма, как дорожные знаки, указывающие поворот, или предел скорости, или пересечение с железной дорогой.
Для писателя, ловца душ и сюжетов, такой обычай представляет большие удобства. Герои сами лезут к вам в автомобиль и сразу же охотно выкладывают историю своей жизни.
Мы остановились. Человеку с чемоданчиком надо было попасть в Сан-Диэго, Калифорния. До Флагстафа нам было по пути. Новый спутник влез в машину, положил на колени свой багаж и, дождавшись вопроса о том, кто он такой и откуда едет, принялся рассказывать.
Он родом из штата Массачузетс. Там работал всю жизнь, был слесарем. Пять лет назад переехал в другой город, сразу потерял работу, и на этом кончилась его старая жизнь. Началась новая, к которой он никак не может привыкнуть. Все время он ездит в поисках какого-нибудь дела. Много раз он пересек страну от океана до океана, но работы не нашел. Иногда его берут в автомобиль, однако чаще он ездит с бродягами в товарных вагонах. Это быстрее. Но он сам не бродяга. Он несколько раз с упорством повторил это. Видимо, его уже не раз принимали за бродягу.
Пособия ему не дают, потому что у него нет постоянного места жительства.
– Я очень часто встречаю таких вот людей вроде меня, – сказал он, – и среди них есть даже люди с высшим образованием – доктора, юристы. С одним таким доктором я очень подружился, и мы скитались вместе. Потом мы решили написать книгу. Мы хотели, чтобы весь мир узнал, как мы живем. Мы стали каждый день записывать все, что видели. У нас было уже много написано. Я слышал, что если выпустить книгу, то за это хорошо заплатят. Однажды мы попали в штат Небраска. Здесь нас поймали в вагоне, нашли у нас рукопись, разорвали ее, а нас побили и выбросили вон. Вот так я живу.
Он не жаловался. Он просто рассказывал. С тою же простотой, с какой молодой солдат морской пехоты рассказывал о том, как они с приятелем познакомились в Чикаго с какими-то девушками и неожиданно застряли на неделю. Моряк не хвастался, безработный не искал сочувствия.
Человек выпал из общества. Естественно, он находит, что общественный строй надо изменить. Что же надо сделать?
– Надо отобрать у богатых людей их богатства.
Мы стали слушать его еще внимательней. Он сердито ударил большим грязным кулаком по спинке сиденья и повторил:
– Отобрать деньги! Да, да! Отобрать деньги и оставить им только по пять миллионов! Безработным дать по кусочку земли, чтоб они могли добывать хлеб и есть его, а им оставить только по пять миллионов.
Мы спросили, не много ли это – по пять миллионов.
Но он был тверд.
– Нет, надо им все-таки оставить по пять миллионов. Меньше нельзя.
– Кто же отберет эти богатства?
– Отберут! Рузвельт отберет. Пусть только выберут второй раз президентом. Он это сделает.
– А если конгресс не позволит?
– Ну, конгресс согласится! Ведь это справедливая штука. Как же можно не согласиться? Тут дело ясное.
Он был так увлечен этой примитивной идеей, ему так хотелось, чтобы вдруг, сама собой, исчезла несправедливость, чтобы всем стало хорошо, что даже не желал думать о том, как все это может произойти. Это был настоящий ребенок, которому хочется, чтобы все было сделано из шоколада. Ему кажется, что стоит только попросить доброго Санта Клауса, как все волшебно изменится. Санта Клаус примчится на своих картонных, посеребренных оленях, устроит теплую снежную пургу – и все образуется. Конгресс согласится. Рузвельт вежливо отберет миллиарды, а богачи с кроткими улыбками эти миллиарды отдадут.
Миллионы американцев находятся во власти таких детских идей.
Как на веки вечные избавиться от кризиса?
О, это совсем не так трудно. Государство должно давать каждому старику, достигшему шестидесяти лет, по двести долларов в месяц, с условием, чтобы эти деньги он обязательно тратил. Тогда покупательная способность населения возрастет в неслыханных размерах, и кризис немедленно кончится. Заодно старики будут замечательно хорошо жить. Все ясно и просто. Как все это сделается – не так уж важно. Старикам до такой степени хочется получить по двести долларов в месяц, а молодым так хочется, чтобы кризис кончился и они наконец получили бы работу, что они с удовольствием верят всему. Таунсенд, изобретатель этого чудодейственного средства, в самый короткий срок завоевал миллионы горячих приверженцев.
По всей стране созданы таунсендовские клубы и комитеты. И так как выборы президента приближаются, то таунсендовская идея обогатилась новой поправкой. Теперь предлагают выдавать по двести долларов каждому человеку, достигшему пятидесяти пяти лет.
Гипноз простых цифр действует с невероятной силой. В самом деле, какой ребенок не мечтал о том, как было бы хорошо, если бы каждый взрослый дал ему по копейке. Взрослым это ничего не стоит, а у него, ребенка, была бы куча денег.
Здесь не говорится ни о передовых американских рабочих, ни о радикальной интеллигенции. Речь идет о так называемом среднем американце – главном покупателе и главном избирателе. Это простой, чрезвычайно демократический человек. Он умеет работать и работает много. Он любит свою жену и своих детей; слушает радио, часто ходит в кино и очень мало читает. Кроме того, он очень уважает деньги. Он не питает к ним страсти скупца, он их уважает, как уважают в семье дядю – известного профессора. И он хочет, чтобы в мире все было так же просто и понятно, как у него в доме.
Когда ему продают комнатный рефрижератор, или электрическую плиту, или пылесос, то продавец никогда не пускается в отвлеченные рассуждения. Он точно и деловито объясняет, сколько центов в час будет стоить электрическая энергия, какой придется дать задаток и какая получится от всего этого экономия. Покупатель хочет знать цифры, выгоду, выраженную в долларах.
Таким же способом ему продают политическую идею. Ничего отвлеченного, никакой философии. Он дает голос, а ему обещают двести долларов в месяц или обещают уравнять богатства. Это – цифры. Это понятно. На это он пойдет. Он, конечно, будет очень удивлен, когда заметит, что эти идеи работают совсем не так добросовестно, как рефрижератор или пылесос. Но сейчас он еще верит в них.
Во Флагстафе мы попрощались с нашим попутчиком.
Когда он вылез из автомобиля, мы увидели, до какой степени бедности дошел этот человек. Его дрянное пальто было в пуху, зеленоватые щеки были давно не бриты, а в ушах скопилась пыль Пенсильвании, Канзаса, Оклахомы. Когда он прощался, на его скорбном лице появилась оптимистическая улыбка.
– Скоро все пойдет хорошо, – сказал он. – А им – по пять миллионов, и ни цента больше.
Когда мы выезжали из Флагстафа, держа путь на Грэнд-кэньон, мистер Адамс сказал:
– Ну, как вы думаете, почему этот несчастный человек все-таки хочет оставить миллионерам по пяти миллионов? Не знаете? Ну, так я вам скажу. В глубине души он еще надеется, что сам когда-нибудь станет миллионером. Американское воспитание – это страшная вещь, сэры!
Грэнд-кэньон
К вечеру каждого дня наш старик, которого мы успели очень полюбить, уставал.
Пройденные триста миль, впечатления, бесконечные разговоры, наконец, почтенный возраст брали свое – мистер Адамс утомлялся, и какое-то звено в его действиях выпадало.
Если к вечеру миссис Адамс просила мужа проверить у кого-нибудь на дороге, едем ли мы в верном направлении, старик начинал беспокойно вертеться на своем месте. По его движениям можно было судить, что он не знает, как надо взяться за дело. Просто забыл. Ему надо было опустить стекло, высунуть голову и, сказав: «Пардн ми, сэр», что значит: «Извините меня», осведомиться о дороге. Все это он делал аккуратно. И вскрикивал: «Пардн ми», и пытался высунуть голову. Но он забывал самое важное – опустить стекло. Это звено у него выпадало. И каждый раз, не в силах понять, почему голова не высовывается, он пытался выбить стекло локтем. Только неслыханная прочность американской продукции спасала лоб и руку мистера Адамса от порезов. Мы стали вообще остерегаться возлагать на него поручения такого рода под вечер.
Мы быстрым ходом двигались по пустынной дороге, чтобы сегодня же успеть в Грэнд-кэньон, Великий кэньон, одно из величайших географических чудес мира.
Мы устали и поэтому забыли о контроле над миссис Адамс. Она сейчас же это заметила и со скорости в пятьдесят миль перешла на шестьдесят. Потом воровато оглянулась на нас и прибавила еще пять миль. Теперь мы шли со скоростью больше ста километров в час. Это типично женская черта. Женщина всегда стремится ехать быстрее, чем этого требуют обстоятельства. Воздух завыл, разрываемый на куски нашим каром.
Опять мы ехали по цветной пустыне. Чистые синие холмы лежали по всему горизонту. Закат тоже был чистый, наивный, будто его нарисовала провинциальная барышня задолго до того, как в голову ей пришли первые, страшные мысли о мужчинах. Краски пустыни были такие свежие и прозрачные, что передать их можно было только альбомной акварелью. Несколько завитков ветра, попавшие в наш автомобиль через опущенное стекло, прыгали друг на друга, как чердачные коты. В драке они зацепляли нас, срывали шляпы и обдували бритую голову мистера Адамса. Как известно, на мистере Адамсе до сих пор не было шляпы в результате сложных почтовых операций, которые мы производили всю дорогу. Вечер, однако, был довольно прохладный, и кожа на голове мистера Адамса посинела, ничем не отличаясь теперь по цвету от холмов окрашенной пустыни.
В полной темноте, тихие и немного пришибленные виденными красотами природы, мы прибыли в Грэнд-кэньон и остановились в одном из домиков его кэмпа. Дом был сложен из громадных бревен. Он должен был давать представление о первобытной, пионерской жизни американцев. Зато внутри он был обставлен вполне современно, и кровати, как всегда, были превосходны (в Америке покупателю продается не кровать, ему продают хороший сон). Итак, это были комнаты с отличным сном, с центральным отоплением, водой горячей, водой холодной и нью-йоркскими переносными штепсельными лампами с большими картонными абажурами. Ножки ламп очень длинны, эти лампы высотой в человеческий рост, и стоят они не на столе, а на полу.
После ужина туристам, собравшимся в небольшом театральном зале гостиницы, тоже сложенной из гигантских бревен, показали короткую рекламную кинокартину, в которой изображался спуск на дно кэньона под руководством опытных проводников. После картины был дан концерт.
На сцену вышел толстый мальчик с банджо. Он независимо уселся на эстраде и стал щипать струны своего инструмента, изо всей силы отбивая такт ногами в ковбойских сапожках. На публику он смотрел высокомерно, и сразу было видно, что людьми он считает только ковбоев, а всех остальных – просто трухой. За ним появился очень высокий, худой и носатый ковбой с гитарой. Он посмотрел на публику и сказал:
– Слушайте, тут мы должны были петь втроем, но остальные, как видно, не придут, так что я буду петь один… А то, может быть, не надо петь? Я-то, вообще говоря, петь не умею.
У него было красивое насмешливое лицо. В маленьких черных глазах так и было написано:
«Ну, чего мы будем валять дурака? Пойдем лучше выпьем где-нибудь. Это гораздо интереснее. Не хотите? Ну, тогда я все-таки буду петь. Вам же хуже будет!»
Толстый мальчик по-прежнему гремел на банджо. Гитара звучала негромко, и ковбой пел, скорее выговаривал свои песенки, иногда переходя на тирольский фальцет. Песенки были простые и смешные. Вот что рассказывалось в одной из них:
«Когда я мальчиком купался в реке, у меня украли сложенную на берегу одежду. Идти голым домой было неудобно, и, дожидаясь темноты, я развлекался тем, что вырезал на стволе старой яблони свои инициалы. Прошло много лет с тех пор, я выбрал себе красивую девушку и женился на ней. Представьте себе, что случилось, когда мы в первый раз вошли в спальню. Моя красивая жена спокойно вынимает изо рта искусственные челюсти и кладет их в стакан с водой. Потом она снимает с себя парик и открывает свою лысую голову. Из лифа она вынимает громадные куски ваты. Моя красотка на глазах превращается в огородное пугало. Но это еще не все. Это чучело снимает с себя юбку и хладнокровно отвинчивает свою деревянную ногу. И на этой ноге я вижу внезапно свои инициалы. И черт меня побери, если это не те самые инициалы, которые я вырезал когда-то на стволе старой яблони, когда в детстве у меня украли одежду».
Все хохотали, и мы тоже. Это было очень старомодно, наивно и смешно. Ковбой по-прежнему сатирически улыбался. По-прежнему у него в глазах сверкало приглашение зайти куда-нибудь за угол, чтобы хлопнуть несколько больших стопок виски. Но насчет того, что петь он не умеет, ковбой соврал. Пел он хорошо и долго смешил всех.
После него вышел негр. Здесь не было конферансье и никто не объявлял имен артистов. Да они и не были артистами. Все выступавшие были служащие Грэнд-кэньона и давали концерт по совместительству.
Негр был отчаянно молодой и длинноногий. Ноги у него, казалось, начинались от подмышек. Он танцевал и выбивал чечетку с истинным удовольствием. Руки его как-то замечательно болтались вдоль тела. Он был в штанах с подтяжками и рабочей рубашке. Закончив танец, он весело взял метелку, стоявшую в углу, и ушел, скаля зубы.
Утром мы увидели его возле бревенчатого домика, в котором ночевали. Он подметал аллею. И подметал он чуть ли не с таким же удовольствием, как танцевал. И казалось даже, что он продолжает танцевать, а метла – только оформление танца. Он раздвинул свои большие серые губы и пожелал нам доброго утра.
Мы побежали смотреть кэньон.
Представьте себе вот что. Берется громадная горная цепь, подрезывается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она вынимается. Остается как бы форма горной цепи. Горы – наоборот. Это и есть Грэнд-кэньон, Великий кэньон, гигантские разрывы почвы.
На горы надо смотреть снизу вверх. На кэньон – сверху вниз. Зрелище Грэнд-кэньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс. Мы долго простояли у края этой великолепной бездны. Мы, четверо болтунов, не произнесли ни слова. Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Еще глубже, почти поглощенная тенью, текла река Колорадо.
Грэнд-кэньон – это грандиозный национальный парк, занимающий сотни квадратных миль. Как все американские национальные парки (заповедники), он превосходно организован. Отели и дороги, снабжение печатными и фотографическими изданиями, картами, проспектами, справочниками, наконец, устные объяснения – все здесь на очень высоком уровне. Сюда американцы приезжают целыми семьями на отдых. И этот отдых недорог – кабинки в этом лагере не дороже, чем в любом другом, а еда стоит почти столько же, сколько и всюду. За посещение парка берут всего доллар, после чего на ветровое стекло автомобиля наклеивается цветной ярлык – и можете жить и странствовать по парку хоть месяц, хоть год.
Надо было бы, конечно, спуститься на дно кэньона и прожить там с полгода в бревенчатом домике с центральным отоплением, среди хаоса природы и идеального сервиса, но не было времени. Мы сделали лишь то, что могли, – объехали кэньон на автомобиле.
Внезапно мы увидели странные похороны. По прекрасной дороге парка медленно подвигался автомобиль с гробом. Он шел со скоростью пешехода. За гробом шествовали люди в белых кожаных фартучках, нацепленных на обыкновенные пиджачные одежды. Один был в цилиндре и визитке. Некоторые из провожающих несли на плечах палки. За процессией беззвучно катились десятка три пустых автомобилей.
Это хоронили старого ковбоя, служившего в парке. Старый ковбой был при жизни масоном, и все люди в белых фартуках тоже были масоны. Палки были древками знамен. Похороны шли по нашему маршруту, и мы примкнули к хвосту колонны. Из лесу вышла лань и пугливо посмотрела на автомобильное стадо. Охота в парке, конечно, запрещена, и лань не боялась выстрела. Но ей очень хотелось перебежать дорогу. Она несколько раз пыталась это сделать и отпрыгивала назад, озадаченная бензиновым запахом, который шел от масонов. В конце концов лань решилась, изящно перескочила дорогу перед нашим каром, сразу отделившись всеми четырьмя ногами от земли, раз-другой мелькнула между деревьями и пропала в лесу.
– Мистеры, – сказал Адамс, – нельзя больше медлить. Надо вылить воду из радиатора и влить туда незамерзающую смесь. Ночи уже холодные, и вода может замерзнуть. Наш радиатор к черту пойдет. Здесь, в парке, мы поставили машину в теплый гараж, но я не ручаюсь вам, мистеры, что и в следующую ночь он нам попадется.
В теплом гараже Грэнд-кэньона мы видели чей-то автомобиль после «эксидента». Сквозь крышку большого «бьюика» пробились толстые ветви дерева. Мотор вдавился в сиденье шофера. Внутри машины лежали сучья и зеленые листья. Водитель этого «бьюика» заснул, сидя за рулем. Это бывает в Америке. Ровная дорога, баюкающее покачивание машины, дневная усталость – и человек незаметно для себя засыпает на скорости в пятьдесят миль. Пробуждение почти всегда бывает страшным. «Бьюик», который мы видели, врезался в дерево с такой силой, что на месте катастрофы нельзя было разобрать, где начинается произведение «Дженерал Моторс» и где кончается произведение природы. Как ни странно, спящий драйвер не только остался жив, но и вообще не получил повреждений. Мальчик из гаража степенно высказал мнение, что хозяин машины будет отныне спать в местах более безопасных, чем движущийся автомобиль, например в кровати. Мы все посмотрели на миссис Адамс. Хотя она никогда не засыпала на ходу, у всех у нас на лицах было написано: «Вот видите!» – как будто мы уже не раз ловили нашу драйвершу храпящей за рулем. Это мы сделали на всякий случай.
Все новые и новые декорации, одна импозантней другой, раскрывались на каждом повороте кэньона. Голубая и розовая утренняя дымка рассеялась. Мы останавливались у парапетов и заглядывали в пропасть. Она была сейчас абрикосового цвета. На расстоянии мили под нами виднелась посветлевшая немножко река. Мы рявкали изо всех сил, вызывая эхо. И долго наши московские голоса прыгали по скалам, возвращаясь назад и отдаваясь в пространстве.
Наконец мы проехали выходную будку. Контролера в ней не было. Сегодня был большой американский праздник «День благодарения» – «Тенкс-гивин-дей», и многие служащие не работали. Однако на стекле своей будки контролер оставил записочку, содержание которой было таково: «До свидания. Приезжайте сюда снова».
– Сэры, – назидательно сказал мистер Адамс, – запишите это в свои книжечки.
И он пустился в длинные и интересные рассказы об американском сервисе. Рассказывал он до тех пор, пока мы не отъехали от контрольной будки кэньона на сорок миль. Тут он поднес к глазам свою левую руку и застыл.
– Бекки, – сказал он без воодушевления, – ты вынула мои часы из-под подушки?
– Нет, – сказала Бекки, бросив на мужа раскаленный взгляд.
– Но, но, – застонал мистер Адамс, – не смотри, пожалуйста, на меня. Так нельзя делать. Смотри только на дорогу.
– Ты оставил часы в кэмпе, – сказала миссис Адамс, не сводя глаз с дороги.
– Нет, нет, Бекки, – горячился Адамс, – я их не оставил в кэмпе, я их забыл под подушкой.
Мы остановились. Выяснилось, что часы стоят двадцать пять долларов. Но это было еще не самое главное. Несчастье заключалось в том, что часы были подарены мужу самой миссис Адамс.
Стали считать, что выгоднее, – сделать из-за часов лишних восемьдесят миль или забыть про часы и ехать дальше? Выходило, что выгоднее возвратиться, тем более что оставленный предмет был дорог как память, чего никак нельзя будет сказать про сэкономленный бензин.
Все-таки назад мы не поехали. Представился случай позвонить в кэмп по телефону с ближайшей газолиновой станции. Кэмп ответил, что тот сотрудник, который убирал наш домик, сейчас ушел, но нет никакого сомнения в том, что он немедленно доставит в управление кэмпа часы, если только они лежали под подушкой.
– Уэлл, – сказала миссис Адамс, – тогда мы не будем возвращаться. Часы же можно прислать нам в Сан-Франциско, до востребования.
Человек из кэмпа тоже сказал, что все это «уэлл» – хорошо, и одновременно попросил прислать ключ от домика, который мистер Адамс, уезжая, не вернул. Миссис Адамс бросила страшный взгляд на мужа и сказала, что мы немедленно вернем ключ по почте.
В силу всех этих обстоятельств мы целых два часа ехали молча.
Человек в красной рубашке
Из Грэнд-кэньона вела новая, еще не изъезженная туристами дорога. Высокие и густые леса национального парка постепенно редели и наконец вовсе исчезли. Их заменили желтые скалы, закончившиеся спуском в новую пустыню. Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей: «scenic road», что значит живописная дорога. Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще добились и того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа.
– Нет, серьезно, сэры, – говорил мистер Адамс, поминутно высовываясь из машины, – вы не хотите понять, что такое американский сервис. Это – высшая степень умения обслужить. Вам не надо карабкаться по скалам в поисках удобной точки для наблюдения. Вы все можете увидеть, сидя в машине. А поэтому покупайте автомобили, покупайте газолин, покупайте масло!
Мы привыкли к пустыням, полюбили их и новую пустыню, открывавшуюся нам с довольно большой высоты, встретили как старого друга. Здесь начиналась резервация (заповедник) кочевого индейского племени наваго, или, как его называют, навайо. Это одно из самых больших индейских племен. В нем шестьдесят тысяч человек. Еще пять лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно, с появлением новой дороги, сюда понемногу стали проникать туристы.
Наваго ненавидят и презирают «бледнолицых братьев», которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца. Индеец будет привязывать новорожденного младенца к маленькой доске и класть его прямо на грязный земляной пол вигвама, но не станет брать у белого человека его культуры.
Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое упорное сопротивление индейцев – вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества.
Правительства, которые уничтожали индейцев, пытаются теперь сохранить их небольшое потомство. Во главе индейского департамента в Вашингтоне поставлен либеральный джентльмен. Устроены так называемые индейские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепили сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открыты музеи индейского искусства. У индейцев покупают за грош их рисунки, ковры, раскрашенные глиняные миски и серебряные браслеты. Построили несколько превосходно оборудованных школ для индейских детей. Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен, когти его притупились, зубы выпали. Но шкура его прекрасна.
Устраивая резервации, школы и музеи, забывают, что в основе развития народа лежит родной язык. В индейских школах преподают только белые и только на английском языке. Индейской же письменности не существует вовсе.
Правда, каждое индейское племя говорит на своем особом языке, но это не препятствие. Была бы охота. И многие американские ученые, знатоки индейской культуры, в короткий срок создали бы письменность, хотя бы для нескольких важнейших племен.
К полудню мы приехали в поселок Камерон. Здесь было несколько домиков – почта, торговый пункт, где индейцам продают товары, маленькая, но превосходно оборудованная гостиница с ресторанчиком, кэмп и два глиняных индейских вигвама.
Мы вошли в один из них. Отца семейства не было дома. На полу сидела красавица индианка, похожая на цыганку (обычно индейцы мужчины красивее женщин). Ее окружал целый выводок детишек. Самый маленький, грудной, был привязан к дощечке, которая лежала на земле. Самому большому было лет семь. Дети были грязные, но очень красивые, как мать.
– Бекки! Бекки! – взволнованно крикнул мистер Адамс. – Скорей иди сюда! Здесь маленькие дети!
Адамсы очень соскучились по своей бэби и никогда не пропускали ни одного младенца, чтобы не взять его на руки, не приласкать, не подарить ему конфетку. Дети очень благоволили к мистеру Адамсу, охотно шли к нему на руки, лепетали что-то об овечках и лошадках; мамаши, польщенные вниманием, смотрели на мистера Адамса благодарным взглядом и отпускали ему на прощание такое нежное «гуд-бай», как будто он был не случайно встретившимся путешественником, а добрым дедушкой, приехавшим из Канзаса, чтобы навестить своих горячо любимых внучат. В общем, супруги Адамс получали от таких встреч большое удовольствие.
– Где, где дети? – воскликнула миссис Адамс, поспешно доставая из сумочки шоколадку и нагибаясь, чтобы войти в низенькую дверь вигвама.
– Ну, юные джентльмены, – бодро сказал мистер Адамс, – кто из вас хочет получить шоколадку первым?
Малыши испуганно заревели. Красавица мать растерянно пыталась их успокоить. Только старший, семилетний, которому, видно, тоже очень хотелось зареветь, пересилил себя, сжал грязные кулачки и посмотрел на нас с такой яростью, что мы тотчас же ушли.
– Вот, вот, сэры, – сконфуженно сказал мистер Адамс, – индейцы с самых малых лет воспитывают в детях ненависть к белым. О, но! Да, да, да. Индейцы наваго – умные люди. За что бы им, в самом деле, любить белых!
Когда мы выходили, к вигваму подъехал старинный заржавленный автомобиль (такого древнего экземпляра мы не видели даже в Техасе), и из него вышел отец семейства.
– How do you do, sir! – сказал мистер Адамс, затевая разговор.
Индеец не ответил. Он показал на свои губы и сделал рукой отрицательный жест. Он не хотел разговаривать с белыми людьми. Проходя к своему вигваму с охапкой сухого бурьяна, он даже не посмотрел в нашу сторону. Мы интересовали его не больше, чем пыль пустыни. Его величественной походке и непроницаемости его лица мог бы позавидовать старый английский дипломат.
Как отчетливо мы представили себе в ту минуту лицемерие всех этих индейских департаментов, школ, музеев, резерваций, всей этой суетливой благотворительности старого грешника, неумело замаливающего грехи прошлого.
Когда мы выезжали из Камерона, нас предупредили, что теперь долго не будет жилья.
Прекрасная дорога давала возможность развить очень большую скорость. Мы мчались по пустыне часов пять, не встретив ни души. Только однажды появилась белая лошадь. Она уверенно шла куда-то, одна, без провожатого. Да еще немного подальше был «детур» миль на десять. Здесь несколько шоссейных рабочих на дорожных машинах заканчивали последний участок пути.
По обе стороны дороги лежала окрашенная пустыня. Мы гнались за солнцем, медленно опускавшимся в Тихий океан, куда-то в Японию, которая с американской точки зрения является страной заходящего солнца. Мы пересекали территорию наваго. Но где были эти шестьдесят тысяч нищих и гордых людей – этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами. Несколько раз в течение дня на горизонте вырисовывалась фигура всадника, появлялся клуб пыли и быстро исчезал.
Если и раньше пустыня казалась нам разнообразной, то сейчас она изменялась чуть ли не каждую минуту. Сперва шли ровные, как бы засыпанные какао холмики, формой своей напоминавшие вигвамы (так вот откуда индейцы заимствовали свою архитектуру!). Потом началось нагромождение гладких и круглых, на вид мягких, как подушки, и даже как подушки морщинистых у края, темно-серых возвышенностей. Затем мы оказались на дне небольшого кэньона. Тут пошла такая архитектура, такие мавзолеи, бастионы и замки, что мы совершенно перестали говорить и, высунувшись из окон, следили за проносящимся мимо нас каменным видением тысячелетий. Солнце зашло, пустыня стала розовой. Все это кончилось целым храмом на скале, окруженным ровными террасами. Дорога повернула к этому храму. Под ним протекала река Литтл-Колорадо. Через нее был перекинут новый висячий мост. Тут кончалась резервация наваго. Сразу стало темно и холодно. Иссяк бензин. Захотелось есть. Но не успел мистер Адамс высказать мысль о том, что теперь все пропало и нам придется ночевать в пустыне, как сейчас же за мостом сверкнул огонек, и мы подъехали к домику. Возле домика мы со вздохом облегчения заметили газолиновую станцию. Кроме этих двух сооружений, которые стояли прямо в пустыне, даже не обнесенные заборами, не было ничего. Домик представлял собою то, что по-русски и по-испански называется «ранчо», а по-английски – «рэнч». И вот здесь, в пустыне, где на двести миль в окружности нет ни одного оседлого жилья, мы нашли: превосходные постели, электрическое освещение, паровое отопление, горячую и холодную воду, – нашли такую же обстановку, какую можно найти в любом домике Нью-Йорка, Чикаго или Галлопа. В столовой перед нами поставили помидорный сок в стопочках и дали «стейк» с костью в виде буквы Т, такой же красивый и невкусный, как в Чикаго, Нью-Йорке или Галлопе, и взяли с нас за все это почти столько же, сколько это стоит в Галлопе, Чикаго или Нью-Йорке, хотя, пользуясь безвыходным положением путешественников, могли взять сколько угодно.
Это зрелище американского standard of life (уровня жизни) было не менее величественным, чем окрашенная пустыня. Если вы спросите, что можно назвать главной особенностью Соединенных Штатов Америки, мы можем ответить: вот этот домик в пустыне. В этом домике заключена вся американская жизнь: полный комфорт в пустыне рядом с нищими шалашами индейцев. Совсем как в Чикаго, где рядом с Мичиган-авеню помещается свалка. Куда бы вы ни ушли, путешественник, на Север, на Юг или на Запад, в Нью-Йорк, в Нью-Орлеан или Нью-Джерси, – вы всюду увидите комфорт и бедность, нищету и богатство, которые, как две неразлучных сестры, стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех мостов великой страны.
На парапете крыльца лежало пионерское ярмо, по бокам от него были расставлены несколько чурбанчиков окаменевшего дерева. На крыльце нас встретил седоватый ковбой, хозяин домика и газолиновой станции. Он приехал в пустыню из Техаса двадцать лет тому назад. В те времена любой гражданин Соединенных Штатов мог бесплатно получить в пустыне шестьсот акров земли и заняться скотоводством. Нужно было лишь вложить в эту землю двести долларов. Ковбой был тогда еще молодым человеком. Он завел скот, построил домик, женился. Еще пять лет тому назад от домика было двести миль до ближайшей дороги, можно было ездить только верхом. Но вот недавно провели дорогу, начали появляться туристы, ковбой выстроил газолиновую станцию, а из своего домика сделал гостиницу. В его бревенчатом холле горит большой камин, на стенах висят оленьи головы, индейские ковры и шкура леопарда, стоят несколько кресел-качалок и переносных ламп с картонными абажурами (точь-в-точь такие же стояли в номере нашего нью-йоркского отеля). Есть пианино и радио, которое беспрерывно играет или сообщает новости. Жена и дочка стряпают и подают. Сам ковбой, типичный американский муж и отец, с добродушной, немного задумчивой улыбкой помогает им по хозяйству, подкладывает в камин поленья и торгует газолином. Но уже видны элементы будущего большого отеля. Уже есть столик со специальным отделением для конвертов и бумаги. Покуда там еще лежат обыкновенные конверты, но скоро, наверно, на них появится виньетка с изображением отельного фасада, индейского профиля и красиво выведенного названия: «Отель Пустыня» или «Отель Наваго-бридж», уже выставлены для продажи индейские ковры и безделушки. Среди этих ковров есть два, которые хозяин не хочет продавать, хотя ему уже один раз давали по двести пятьдесят долларов за каждый.
– Но, сэр, – сказал мистер Адамс, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, – вы должны рассказать нам, чем замечательны эти ковры.
Старый ковбой оказался прекрасным собеседником.
– Уэлл, – сказал он медленно, – это религиозные индейские ковры, или, как индейцы называют, платья. Они достались мне давно от одного индейца. Видите, джентльмены, у наваго есть поверье, что, если кто-нибудь заболеет, больного нужно закутать в эти платья. Поэтому они всегда приходят за ними ко мне. Я им, конечно, никогда не отказываю. В то время как больной лежит, закутанный в ковры, племя танцует особый танец, посвященный его выздоровлению. Иногда танцует несколько дней подряд. Я очень люблю и уважаю наваго. Мне было бы очень неприятно продать ковры и лишить их такого целебного средства.
Хозяин поднялся, подошел, постукивая высокими каблучками своих ковбойских сапог, к камину и подложил большое полено. Потом вернулся и продолжал:
– Наваго действительно замечательный народ. Они безукоризненно честны. У них совершенно не бывает преступлений. Мне кажется, они даже не знают, что такое преступление. За двадцать лет я научился их так уважать, как никогда не уважал ни одного белого человека. И мне их очень жалко. У них здорово умирают дети. Ведь они не хотят никакой помощи от белых. Белому влиянию они не поддаются, не пускают белых в свои вигвамы. У меня с наваго хорошие отношения, но хотя я двадцать лет живу с ними – я чужой для них человек. А народ замечательный, уж такой честный народ, что и представить трудно.
Старый ковбой рассказал нам историю об одном индейце из племени наваго, который решил вдруг заняться торговлей.
– У индейца каким-то образом оказался небывалый капитал – двести долларов. То ли он продал скот, то ли нашел на своем участке немножко нефти, только деньги у него появились. И он решил торговать. Он отправился из пустыни в ближайший городок, закупил на двести долларов разных товаров и привез их в свое родное кочевье. Представьте себе индейца, занимающегося коммерцией! Ведь это был первый такой случай в истории племени наваго. Торговля пошла довольно живо. Но вот я заметил, что мой друг-индеец стал торговать несколько странным способом. Меня это так поразило, что я сперва подумал даже, что он сошел с ума. Он, видите ли, продавал свои товары ровно за такую же цену, какую заплатил за них сам. Ну, тут я принялся втолковывать другу, что так торговать нельзя, что он разорится, что товары надо продавать дороже их цены.
– То есть как это дороже? – спросил меня индеец.
– Очень просто, – ответил я, – ты, скажем, купил вещь за доллар, а должен продать ее за доллар двадцать.
– Как же я продам ее за доллар двадцать, если она стоит только доллар? – спрашивает меня этот коммерсант.
– В том-то и заключается торговля, – говорю я, – купить дешевле, а продать дороже.
Ну, тут мой индеец страшно рассердился.
– Это обман, – сказал он, – купить за доллар, а продать за доллар двадцать. Ты советуешь мне обманывать людей.
Тогда я ему говорю:
– Это вовсе не обман. Ты просто должен заработать. Понимаешь – заработать.
Но с моим другом-индейцем сделалось что-то странное. Он перестал вдруг понимать самые обыкновенные вещи.
– Как это – заработать? – спросил он.
– Ну, оправдать свои расходы.
– У меня не было никаких расходов.
– Но ты все-таки ездил в город, покупал, привозил, работал!
– Какая же это работа! – сказал мне индеец. – Покупать, привозить. Это не работа. Нет, что-то ты мне не то советуешь!
Убедить его не было никакой возможности. Как я ни старался – ничего не вышло. Он был упрям как бык и твердил все время одно: «Ты мне советуешь нечестное дело». Я ему говорю: «Это торговля», а он мне говорит: «Значит, торговля – нечестное дело». И, представьте себе, он продолжал торговать так же, как и начал, а вскоре и совсем бросил это занятие. И закрылось единственное у племени наваго коммерческое предприятие с индейским капиталом.
Мы вспомнили об этом индейце месяц спустя, когда сидели в сенате Соединенных Штатов Америки во время допроса Джона Пирпонта Моргана-младшего сенатской комиссией. Мы еще вернемся к этому эпизоду в конце книги.
Комиссия занималась вопросом о роли Моргана в вовлечении Соединенных Штатов Америки в мировую войну.
– Скажите, – спросил сенатор Най, – ведь вы знали, что, экспортируя в Европу деньги, вы поддерживаете войну?
– Да. Знал.
– Почему же вы это делали?
– Как почему? – удивился громадный старик, приподнявшись на своем стуле. – Да ведь это бизнес! Торговля! Они покупали деньги, я их продавал.
…Жена позвала нашего хозяина в столовую, помочь ей накрывать на стол. Вскоре позвали и нас.
Когда мы обедали, в комнату вошел высокий человек в сапогах и ярко-красной суконной рубахе, опоясанной лентой револьверных патронов. У него были рыжеватые волосы с сильной проседью, роговые очки и ослепительная улыбка. Его сопровождала женщина. Они поздоровались с хозяевами и уселись за соседний столик. Человек в красной рубахе услышал, что мы говорим между собою на каком-то иностранном языке, и громко сказал женщине, которая пришла вместе с ним:
– Ну, жена, это, наверно, французы. Наконец-то ты имеешь случай поговорить по-французски.
– Я не знаю французского языка, – ответила жена.
– Как ты не знаешь! Вот тебе раз! Мы с тобой женаты пятнадцать лет, и в течение этого времени ты каждый день твердила мне, что родилась в двух часах езды от Парижа.
– Я и родилась в двух часах езды от Парижа.
– Ну, так поговори с людьми по-французски.
– Да говорю тебе, что не знаю французского языка. Я родилась в Лондоне, а Лондон действительно в двух часах езды от Парижа, если лететь на самолете.
Человек в красной рубахе шумно захохотал. Видно, эта семейная шутка повторялась каждый раз, когда супруги встречались с иностранцами.
Почва для выступления мистера Адамса была подготовлена, и он не замедлил выступить.
– Я вижу, сэр, что вы веселый человек, – сказал мистер Адамс, делая вежливый шажок вперед.
– Шурли! – воскликнул человек в красной рубахе.
И он в свою очередь сделал шаг по направлению к мистеру Адамсу.
В глазах обоих светилось такое неутолимое, сумасшедшее желание поговорить, что нам стало ясно – они должны были встретиться сегодня в пустыне, они не могли не встретиться. С такой неестественной быстротой вспыхивает лишь любовь с первого взгляда.
– How do you do! – сказал мистер Адамс, делая еще один шаг вперед.
– How do you! – сказал человек в красной рубахе и тоже сделал шаг. – Вы из Нью-Йорка? – спросил он.
– Шурли! – взвизгнул мистер Адамс. – А вы живете здесь?
– Шурли! – зарычал незнакомец.
Через секунду они со страшной силой уже хлопали друг друга по спинам, причем низенький Адамс хлопал своего нового друга почти что по талии, а высокий друг хлопал мистера Адамса почти что по затылку.
У мистера Адамса был необыкновенный нюх на новые знакомства. Человек в красной рубахе оказался одним из самых интересных людей, каких мы встречали в Соединенных Штатах Америки.
– Это единственный белый человек, – сказал о нем наш хозяин-ковбой, – которого индейцы приняли как своего. Он живет с индейцами и иногда приезжает ко мне в гости.
Биография этого человека необычайна.
По окончании колледжа он сделался миссионером, женился и отправился к месту своей новой службы – в пустыню, к индейцам наваго, чтобы обращать их в христианство. Однако новый миссионер скоро понял, что индейцы не хотят христианства. Все его попытки разбивались об упорное сопротивление индейцев, которые не только не хотели принимать новую веру, но и вообще не желали иметь никакого дела с белыми людьми. Ему приходилось очень трудно, но индейцы ему понравились. Через год он отправился к своему начальству и заявил, что отказывается обращать индейцев в христианство.
– Я вижу свой христианский долг в том, чтобы помогать людям, – сказал он, – вне зависимости от того, какую религию они исповедуют. Я хорошо все продумал. Если вы хотите, я останусь жить в пустыне с индейцами, но предупреждаю – я не буду делать ни малейшей попытки обратить их в христианство. Иначе я никогда не стану своим человеком у индейцев. Я просто буду помогать им чем могу, буду звать для них докторов, буду объяснять, как надо ухаживать за детьми, давать житейские советы. До сих пор еще не было случая, чтобы наваго приняли белого человека. Но если мне это удастся, тогда мы можем подумать и об обращении их в христианство.
Церковной администрации такие речи показались слишком радикальными.
– Вы должны действовать, как все миссионеры, – сказали ему.
Он отказался.
Тогда его уволили со службы. И чудак остался со своими опасными идеями, с женой и без копейки денег.
Он снова поехал в пустыню. На этот раз с твердой решимостью никогда оттуда не возвращаться. Это было восемнадцать лет тому назад. Он поселился в кочевье наваго и стал вести жизнь индейца. Денег у него не было. Он, так же как индейцы, занимался охотой и скотоводством. Проходили годы. Индейцы привыкли к странному веселому и храброму человеку в очках. Постепенно ему стали доверять, он становился своим человеком. Иногда он ездил в город, устраивал подписку для индейских детей, уговаривал индейцев лечиться у докторов и не привязывать новорожденных к дощечке. Он в совершенстве овладел языком наваго и очень полюбил индейцев. Он все никак не мог собраться начать пропаганду христианства. «С этим я еще успею», – думал он. А еще через некоторое время и совсем бросил думать о христианстве. Оглянувшись назад, он понял, что прошла большая и, по всей вероятности, лучшая часть его жизни и что прошла она хорошо. Он был счастлив.
– Я хотел сделать индейцев христианами, – сказал нам человек в красной рубахе, опоясанной лентой револьверных патронов, – но получилось совсем не так, как я ожидал: они сделали меня индейцем. Да! Теперь я самый настоящий индеец. Хотите, я сниму с вас скальп?
И, громко хохоча, он сделал вид, что хочет снять скальп с мистера Адамса.
Потом он сел и, все еще продолжая улыбаться, задумчиво добавил:
– Я не знаю более честных, благородных и чистых людей, чем индейцы. Они научили меня любить солнце, луну, пустыню, научили понимать природу. Я не представляю себе, как мог бы жить сейчас вдали от индейцев.
– Сэр! – сказал вдруг мистер Адамс. – Вы хороший человек!
Он вынул платок и вытер глаза, не снимая очков. На следующий день мы поднялись в шесть часов. Начинало светать, но солнце еще не взошло. Было холодно, как в эту пору в Москве. Мы дрожали в своих демисезонных пальто. Песок был покрыт инеем. Пустыня казалась сумрачной и не такой красивой, как вчера. Мы сбегали к мосту, чтобы еще раз посмотреть на речку Литтл-Колорадо. Над нами снова была скала в виде храма, окруженного террасами. На этот раз и она показалась нам не такой волшебной, как вчера. Когда мы, согреваясь на ходу, бежали обратно к домику, взошло солнце. Пустыня сразу же осветилась и стала красивой. Через полчаса мы уже сняли пальто, а еще через полчаса стало просто жарко.
Перед тем как отправиться в дальний путь (до Боулдер-дам надо было проехать триста миль), мы остановились у газолиновой станции. Там мы увидели миссионера в красной рубахе. Он заменял ковбоя, который был занят по хозяйству. Они с Адамсом снова принялись хлопать друг друга по спинам.
– Ай эм болшевик! – крикнул бывший миссионер на прощание, показывая на свою красную рубаху и хохоча во все горло. – Гуд-бай!
– Гуд-бай, сэр! – крикнул мистер Адамс в ответ.
Дорога шла в гору. И, оглядываясь назад, на пустыню наваго, мы долго еще видели маленький домик, и мост, и газолиновую станцию, рядом с которой виднелась красная рубашка миссионера-индейца.
В последний раз мы смотрели на пустыню наваго, удивляясь тому, как в центре Соединенных Штатов, между Нью-Йорком и Лос-Анжелосом, между Чикаго и Нью-Орлеаном, окруженные со всех сторон электростанциями, нефтяными вышками, железными дорогами, миллионами автомобилей, тысячами банков, бирж и церквей, оглушаемые треском джазбандов, кинофильмов и гангстерских пулеметов, – умудрились люди сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни.
Юный баптист
Подъем среди желтых скал продолжался часа полтора. Давно уже скрылись маленький домик ковбоя, газолиновая станция и мост через речку Литтл-Колорадо, а пустыня индейцев наваго все еще лежала позади внизу, последний бесплодный приют чистокровных, стопроцентных американцев, вся беда которых заключается в том, что у них красная кожа и что они способны не к торговле, а к рисованию и к воинственным, но безопасным танцам.
Еще два-три поворота, и пустыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный курортный Тироль, в Швейцарию, на Кавказ. Это было возвращение междупланетных путешественников с Марса на Землю, в один из ее красивейших уголков – в девственный лес Канаб. На дороге лежал чистый пушистый снег. По сторонам возвышались ровные большие сосны. Сверкало декабрьское солнце.
В Америке бывают такие метаморфозы.
Чудесное видение скоро кончилось. Дорога пошла вниз, и мы въехали в штат Юта, о чем извещал небольшой плакат. Тут снова была пустыня, но уже более теплая. Проехали небольшой поселок. Вокруг домиков росли деревья и было несколько газолиновых станций. Прошли две белые женщины. Одна из них везла в коляске младенца, цивилизованного младенца, родители которого знают, что такое радио, механический бильярд и витамины. Это уже не индейский младенец, прикованный к дощечке.
– Вы знаете, сэры, что в штате Юта живут мормоны? – спросил мистер Адамс.
Мы снова принялись жалеть, что не заехали в город Соленого озера и так и уедем из Америки, не увидев мормонов.
– Нет, серьезно, сэры, нельзя так рассуждать, – сказал мистер Адамс, – из города Соленого озера мы ни за что не пробрались бы в Калифорнию, так как в это время года перевалы уже наверно обледенели. О, но! Я прошу вас вспомнить Скалистые горы!
– Хич-хайкер! – крикнула вдруг миссис Адамс. Мы увидели человека, который стоял у дороги с чемоданчиком в ногах.
– Возьмем? – спросил мистер Адамс. Мы некоторое время вглядывались в хич-хайкера, оценивая его. На нем был ярко-желтый брезентовый пыльник. На вид хич-хайкеру было лет двадцать.
– Стоит ли? Уж слишком у него скучный оптимистический пыльник.
– А вдруг он мормон! – сказал мистер Адамс. Это решило дело.
– Возьмем!
Хич-хайкер, к сожалению, оказался не мормоном, а обыкновенным, весьма верующим баптистом.
Мальчик был хороший. Он снял свой пыльник и оказался в сером пиджаке и рабочих вельветовых штанах цвета ржавчины. У него было смуглое прыщавое лицо с небольшими черными бачками. Его история – это обыкновенная история американского молодого человека. Сын небогатого фермера из Небраски. Конечно, окончил «гай-скул». Конечно, ездил в Аризону, чтобы найти работу и скопить денег на поступление в колледж. Конечно, работы не нашел. Сейчас согласен заняться чем угодно. У него хорошие руки. Работать он умеет. Хочет попытать счастья в Калифорнии. Если и там ничего не выйдет, придется вернуться к отцу и провести скучную фермерскую зиму. Что ж! Станет охотиться на диких кошек и койотов. А весной будет видно. Вернее – ничего не будет видно. Дела плохи. Колледж недосягаем. А на поправку дел нет никаких надежд. Как и все молодые люди его возраста, наш хич-хайкер оказался совершенно лишенным чувства любопытства и за всю дорогу ни о чем нас не спрашивал. Но зато охотно говорил о себе и отвечал на вопросы.
Когда его спросили, что он знает о Москве, он ответил:
– Там делали пятилетний план.
– А что это такое – пятилетний план?
– Это когда все работают и им за это дают кушать три раза в день.
– Ну, хорошо, сэр, – сказал мистер Адамс, – допустим, что это так. А что вы еще слышали?
– Я слышал, что пятилетний план был удачный и теперь там делают второй пятилетний план.
– Ну, а что представляет собою второй пятилетний план?
– Я не знаю, – ответил молодой человек. – Я слышал, что там все имеют работу и помогают друг другу. Но все равно, скоро будет война и сейчас же после войны второе пришествие Христа на землю. И русских ждет гибель, так как они безбожники. Без веры в бога никто не спасется от адских мук. Так говорит библия.
– А кто вам сказал, что скоро будет второе пришествие?
– Это говорил наш пастор.
– И скоро?
– Очень скоро, – совершенно серьезно ответил молодой баптист, – года через два-три.
– Отлично, сэр! – воскликнул мистер Адамс. – Предположим, что это так. Вы только что сказали, что русские помогают друг другу и что у них все работают. Значит, они хорошие люди?
– Да, – ответил баптист подумав.
– Прекрасно, сэр! Они не эксплуатируют один другого и любят друг друга. С вашей точки зрения, они организовали царство божие на земле. Но они не верят в бога. Как быть? Ну, ну, сэр! Ответьте мне на этот вопрос!
– Раз они не верят в бога, они не войдут в рай, – сказал баптист твердым голосом, – они погибнут.
– Но ведь они хорошие люди. Вы сами сказали.
– Все равно. Да, они делают хорошее дело. Это нам и пастор говорил, потому что, понимаете, пастор – справедливый человек. Но в библии сказано, что хороших дел мало. Нужна вера. Так что им суждено погибнуть.
– Нет, серьезно, сэр, – настаивал мистер Адамс, – вы умный молодой человек и окончили гай-скул. Неужели Христос, вторично придя на землю, покарает сто семьдесят миллионов прекрасных русских парней, которые добились того, что у них нет голодных и безработных, что все сыты и счастливы? Да, да, да, сэр! Вы только подумайте! Сто семьдесят миллионов человек, людей труда, хороших, честных. Неужели бог окажется таким жестоким и не пустит их в рай?
Наш хич-хайкер тяжело задумался. Ему было явно жалко хороших русских парней. Он долго колебался, прежде чем ответить.
Но даже эта поразительная, ужасающая и трогательная картина встречи ста семидесяти миллионов советских атеистов с маленьким баптистским богом не смогла переубедить нашего спутника.
– Видите, – сказал он, запинаясь, – так сказано в библии. А ее нужно либо принимать целиком, либо…
– Ну, ну, сэр, либо… – воскликнул мистер Адамс в полном восторге.
– Без веры в бога никто не спасется, – пробормотал наш спутник.
– Смотрите! Смотрите! – крикнула миссис Адамс. Мы въезжали в Зайон-кэньон (Сионский кэньон), и разговор с юным баптистом прекратился.
В контрольной будочке никого не было. Мы остановили машину и дали несколько гудков, но никто не пришел.
– Обратите внимание, сэры, – сказал мистер Адамс, – с нас не хотят брать долларов. Да, да, да, мы увидим Зайон-кэньон бесплатно.
Некоторое время мы ехали между тесных красных скал, из которых в разные стороны торчали сосны и какие-то корни. Ущелье расширялось. Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами, некоторые – исчерчены, как арифметическая бумага.
– Хотите, сэры, – сказал мистер Адамс, – я продам вам прекрасное литературное сравнение? Сколько дадите? Ничего не дадите? Хотите даром? Ну, хорошо: ветер писал на этих скалах свою историю. Подойдет? Запишите в свои книжечки. Нет, серьезно, я считаю, что обогатил этим русскую литературу.
Мы сделали несколько поворотов. Ущелье расширялось еще больше. Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Грэнд-кэньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто если и не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Грэнд-кэньон мы смотрели сверху. Зайон-кэньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Грэнд-кэньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены кэньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова. Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Мы проехали медно-красную выемку и очутились в новом огромном ущелье. Очень высоко, на фоне неба, виднелись красные башни, карусели, пирамиды, морды животных. Над дорогой и под ней косо росли сосны. Вниз сползали высохшие русла речек. Далеко на освещенной солнцем скале блеснул замерзший ручеек, как аккуратно приклеенная полоска жести.
Мы въехали в туннель. Некоторое время мы подвигались в полной темноте. Потом впереди показался свет. В стене туннеля была прорублена широкая арка, которая выходила на терраску с каменными перилами. Мы вышли из машины. Дверца хлопнула, как пушка. Всюду были скалы. Виднелся маленький кусочек неба. Внизу стояло тихое болотце воды. В такой торжественной обстановке человек либо молчит, либо начинает делать ужасные глупости. Мы вдруг, ни с того ни с сего, стали издавать пронзительные крики, чтобы узнать, есть ли здесь эхо. Оказалось, что эхо есть.
В туннеле, который протянулся на полтора километра, был прорублен специально для обозрения кэньона и стоил больше миллиона долларов, строители устроили еще несколько окон. И из каждого окна открывался новый вид. Очень далеко внизу светились асфальтовые петли дороги, по которой бесшумно катились маленькие автомобили. Почти все скалы и резкая тень от них обязательно что-нибудь или кого-нибудь напоминали – кошачью голову, когти, тень от паровоза. Венцом всего была колоссальная фигура индейца, высеченная природой в скале, – индеец со спокойным строгим лицом и с какой-то коробочкой на голове, все-таки напоминающей перо.
Мы выехали из туннеля и через пять минут уже спускались по тем петлям дороги, на которые только что смотрели из окна. На шоссе валялись желтые опавшие листья. Попалось несколько лужиц, покрытых тонким льдом. Тень противоположной стены коснулась ноги индейца. Была полная, беспредельная тишина. Мы ехали на самой малой скорости, выключив мотор. Мы спускались вниз тихо и торжественно, как парящая птица.
Появилось деревцо с желтенькими цыплячьими листьями, за ним другое – с зелеными листьями. Мы попали в лето.
Сегодня в один день, вернее, даже за несколько часов перед нами прошли все четыре времени года.
Перед тем как покинуть Зайон-кэньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и которая называется «Храм Синоуава». Посредине расселины на огромном цоколе сидел пузатый, безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли, что это сделано не людьми, а природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки.
Мы уже не удивлялись тому, что природа предвосхитила индейскую архитектуру, индейские рисунки и даже самого индейца. Такие выводы, напрашивающиеся после пустыни наваго, показались после Зайон-кэньона слишком бедными и нерешительными. Здесь было ясно, что все искусство и египетское, и греческое, и китайское, и готика, и стиль Империи, и даже голый формализм – все это уже когда-то было, было миллионы лет тому назад гениально придумано природой.
– Будем веселиться, сэры, – сказал мистер Адамс, когда мы, узнав дорогу на Лас-Вегас, дали хороший ход. – Прошу помнить, что за всю эту красоту мы не заплатили ни одного цента.
Не успел он это сказать, как на пути показалась будочка, из которой приветливо выглядывал человек в форменной фуражке. Он остановил нас, взял два доллара и, проведя языком по круглой зеленой бумажке, наклеил ее на стекло нашего кара.
– Гуд-бай, сэр! – сказал мистер Адамс печально и сейчас же добавил: – Нет, серьезно, мистеры, два доллара за всю эту красоту! О, но! Я считаю, что мы дешево отделались!
Наш попутчик-баптист попросил ссадить его в ближайшем городке. Он долго тряс нам руки и твердил, что мы хорошие люди. Он взвалил свой фанерный чемоданчик на плечо, взял под мышку желтый пыльник и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, он повернулся и спросил:
– А если бы я попал в Россию, я тоже получил бы работу?
– Конечно, – ответили мы, – как и все люди в России.
– Так… – сказал юный баптист. – Значит, была бы работа! Так…
Он хотел сказать еще что-то, но, видно, раздумал и быстро, не оглядываясь, пошел по улице.
На гребне плотины
Хотя мы множество раз торжественно давали мистеру Адамсу честное слово с наступлением сумерек останавливаться, наш испытанный кар подъезжал к городку Лас-Вегас в полной темноте. Луна еще не взошла. Где-то впереди медленно вращался белый маячок. Через некоторое время он ушел влево, потом остался позади. На смену ему пришел другой маячок. В этом месте наш путь совпадал с трассой воздушной пассажирской линии на Лос-Анжелос. Иногда из тьмы вырывался колеблющийся свет. Он быстро разрастался, и вот высоко впереди появлялись два автомобильных глаза. Минуту они бежали нам навстречу, потом снова исчезали и уже совсем близко выскакивали опять. Дорога шла волнами, с холма на холм. Великое молчание пустыни прерывали лишь тяжелые вздохи и бормотание мистера Адамса.
– Бекки! Бекки! Не так быстро. Сорок миль в час – это слишком много.
– Оставь меня в покое, – сдержанно ответила миссис Адамс, – иначе я сойду, и дальше можете ехать сами.
– Ну, Бекки! Бекки! It’s impossible! – стонал муж.
– I don’t want to speak with you! – воскликнула жена.
И супруги устроили короткую словесную стычку на английском языке. Воздушные маяки освещали их гневные профили и стекла очков.
Наконец впереди появились огоньки Лас-Вегас. Чего только не вообразит москвич в морозный декабрьский вечерок, услышав за чаем речи о ярких дрожащих огнях города Лас-Вегас! Живо представятся ему жгучие мексиканские взгляды, пейсы, закрученные, как у Кармен, на шафранных щечках, бархатные штанишки тореадоров, навахи, гитары, бандерильи и тигриные страсти.
Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы все же смутно на что-то надеялись. Слишком уж заманчиво играли огни чужого города в теплой черной пустыне. Кто его знает! А вдруг, проснувшись в кэмпе и выйдя на улицу, мы увидим южные кофейни под тентами, живописные базарчики, где над горами овощей возвышается наглая морда верблюда, услышим говор толпы и крики осликов. Но Соединенные Штаты соединенными усилиями нанесли нашему воображению новый удар. Проснувшись в кэмпе и выехав на улицу, мы увидели город Галлоп во всем блеске его газолиновых колонок, аптек, пустых тротуаров и забитых автомобилями мостовых. Нам показалось даже, что сейчас, как в Галлопе, из-за угла выскочит зеленый полугрузовичок и ударит нас в бок, а после этого мистер Адамс с кроткой улыбкой на лице пройдет сквозь витрину автомобильного магазина. Скучно было глядеть на это однообразное богатство. Проезжая пустыню, мы побывали в нескольких десятках городов, и, если не считать Санта-Фе и, может быть, Альбукерка, все это были Галлопы. Едва ли можно найти на свете более парадоксальное положение: однообразные города в разнообразной пустыне.
Лас-Вегас окончательно излечил нас. С тех пор мы уже никогда не надеялись натолкнуться в новом городе на какую-нибудь неожиданность. Это принесло пользу, потому что во время дальнейшего пути нас все-таки подстерегали замечательные сюрпризы. Чем меньше мы их ожидали, тем приятней они были для нас.
В Лас-Вегас мы оставались ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы съесть в аптеке «брекфест намбр три» и, развернувшись возле сквера, где росли столбы электрического освещения, ринуться вон из города. Сделали мы это так поспешно, что нарушили правила уличного движения, установленные в городе Лас-Вегас, – поехали навстречу потоку автомобилей, в то время как возле сквера разрешалось двигаться лишь в одну сторону. К нам немедленно подкатил полицейский автомобиль. Сидевший в нем полисмен велел нам остановиться.
– Ай’м вери, вери сори, – сказала миссис Адамс тонким голосом. – Я очень, очень извиняюсь!
– Вери, вери, мистер офисер! – поддержал мистер Адамс.
На этот раз нам тоже не дали страшного «тикета». Полисмен был рад, что наивные нью-йоркские провинциалы произвели его в «офисеры», и ограничился лишь небольшой речью о правилах уличного движения в городе Лас-Вегас, которая была выслушана мистером Адамсом с глубоким вниманием, сопровождавшимся восклицаниями:
– Шурли, мистер офисер! Иэс, мистер офисер! Оф корс, мистер офисер!
В заключение полисмен указал нам путь в Боулдер-сити.
Проехав три блока, мы заметили, что полицейский автомобиль снова нас догоняет. Неужели «мистер офисер» раздумал и все-таки решил вручить нам «тикет»? Миссис Адамс помчалась вперед, но полицейский «паккард» быстро настиг нас, и «мистер офисер», высунувшись из окошечка, сказал:
– Леди! Я поехал за вами, так как боялся, что вы спутаете дорогу. Так и оказалось. Вы проехали два блока лишних.
– Тэнк ю вери, вери мач! – вскричал мистер Адамс, облегченно вздохнув.
– Вери, вери! – поддержала миссис Адамс.
– Вери мач! – отозвались мы, как эхо в Сионском кэньоне.
До Боулдер-сити было всего тридцать миль, и через каких-нибудь пятьдесят минут мы уже подъехали к правительственной будочке, такой самой, какие бывают при въезде в американские национальные парки. Здесь будочка стояла у въезда в Боулдер-сити – городок, возникший во время строительства величайшей в мире плотины Боулдер-дам на реке Колорадо. В будочке нам дали билеты, на которых были отпечатаны правила для посещающих строительство, и мы проехали в городок.
Как это ни странно, но о Боулдер-дам мы слышали в Соединенных Штатах Америки очень мало. Газеты об этом строительстве почти не писали, и только ко времени окончания постройки плотины, когда на торжественное ее открытие приехал Рузвельт, кинохроника посвятила Боулдер-дам несколько кадров.
Мы видели эту хронику и запомнили речь президента. Он говорил о значении правительственной работы, восхвалял каких-то губернаторов и сенаторов, имеющих к строительству какое-то отношение, и ни одним словом не упомянул о людях, которые спроектировали и выстроили эту плотину, этот великий памятник победы человека над природой.
Посещение Боулдер-дам, помимо возможности собственными глазами увидеть техническое чудо, представляло для нас особый интерес. Мы собирались встретиться с инженером Томсоном, одним из немногих американских инженеров, получивших от советского правительства орден Трудового Красного Знамени.
Белые домики Боулдер-сити так ослепительно отражали вечное солнце пустыни, что на них больно было смотреть. Хотя городок выстроен временно, сейчас уже наполовину пуст, а после окончания монтажных работ на станции совершенно опустеет и, вероятно, будет снесен – он показался нам более приятным, чем его асфальтово-бензиновые собратья (типа Галлопа), собирающиеся существовать вечно. В нем очень много газонов, цветников, баскетбольных и теннисных площадок.
С мистером Томсоном мы встретились в гостинице и сейчас же отправились на строительство.
Томсон, главный монтажный инженер «Дженерал Электрик» – худой, черный сорокалетний человек с длинными угольными ресницами и очень живыми глазами, – несмотря на день отдыха (мы приехали в воскресенье), был в рабочих брюках и короткой замшевой курточке с застежкой-молнией. Нам сказали, что он один из лучших, а может быть, и самый лучший шеф-монтер в мире, некоторым образом чемпион мира по монтажу колоссальных электрических машин. У чемпиона были загорелые, покрытые свежими ссадинами, мозолистые руки. Томсон вырос в Шотландии. В его безукоризненной английской речи заметно выделяется раскатистое шотландское «р». Во время войны он был английским летчиком. В его лице таится еле заметное выражение грусти, которое часто бывает у людей, отдавших войне несколько лет своей жизни. Он курит трубку, а иногда, по старой фронтовой привычке, свертывает из желтой бумаги скрутки.
Профессия почти что отняла у него родину – так, по крайней мере, нам показалось. Он англичанин, работает в американской компании и разъезжает по всему миру. Вероятно, нет ни одной части света, где мистер Томсон не смонтировал бы нескольких машин. В СССР Томсон прожил семь лет, работал в Сталинграде и на Днепрострое, получил орден Трудового Красного Знамени; теперь вот здесь, в пустыне, под страшным солнцем монтирует машины гидростанции Боулдер-дам. Тут он проработает еще год. Что будет потом? Он не знает. Может быть, поедет в Южную Америку, а может быть, «Дженерал Электрик» пошлет его куда-нибудь в другое место – Индию, Австралию или Китай.
– Я очень хотел бы съездить в СССР, – сказал Томсон, – посмотреть, как там теперь. Ведь я оставил у вас кусок своего сердца. Видите ли, у нас с женой нет детей, и я называю своими детьми смонтированные мной машины. В России у меня несколько детей, самых любимых детей. Мне хотелось бы их повидать.
Он стал вспоминать людей, с которыми работал.
– Я никогда не забуду минуты, когда монтаж Днепрогэса был закончен и я передал Винтеру рубильник, чтобы он своей рукой включил первый ток. Я сказал ему: «Мистер Винтер, суп готов». На глазах у Винтера были слезы. Мы расцеловались по русскому обычаю. У вас есть много хороших инженеров, но Винтер – фигура совершенно исключительная. Таких, как он, мало на свете. Их можно пересчитать по пальцам. Что он сейчас? Где он?
Мы сказали, что Винтер руководит Главгидроэнергостроем.
– Это очень жалко, – сказал Томсон. – Нет, правда, такой человек не должен работать в канцелярии.
Мы объяснили, что Главгидроэнергострой – не канцелярия, а нечто гораздо более значительное.
– Я это понимаю, – ответил Томсон, – но все равно это не дело для мистера Винтера. Это полководец. Он должен быть на поле сражения. Он должен быть начальником какой-нибудь стройки. Я знаю, вы продолжаете очень много строить. Сейчас уже дело прошлое, и обо всем можно говорить откровенно. Большинство наших инженеров не верили, что из первой пятилетки что-нибудь выйдет, им казалось невероятным, что ваши необученные рабочие и молодые инженеры смогут когда-либо овладеть сложными производственными процессами, в особенности электротехникой. Ну, что ж! Вам это удалось! Теперь это факт, которого никто не будет отрицать.
Томсон попросил миссис Адамс пустить его к рулю автомобиля, так как нам предстоял довольно опасный участок пути, и ловко повел машину по головокружительному спуску на дно кэньона.
По дороге нам несколько раз открывался вид на плотину.
Представьте себе быструю горную реку Колорадо, протекающую по дну огромного каменного коридора, стены которого представляют собой высочайшие, почти отвесные скалы черно-красного цвета. Высота скал шестьсот пятьдесят футов. И вот между двух созданных природой стен кэньона руки человека создали из железобетона третью стену, преграждающую течение реки. Эта стена идет полукругом и похожа на застывший водопад.
Полюбовавшись на Боулдер-дам снизу, мы поднялись наверх, чтобы пройти по поверхности плотины. Томсон попросил нас идти только по правой стороне. Мы с громадной высоты увидели осушенное дно кэньона со следами, оставленными великой стройкой, – кусками опалубки и строительным мусором. На дно бездны медленно спускался подвешенный к стальному тросу железнодорожный вагон.
Мы прошли до конца плотины и повернули обратно.
– Теперь можно перейти на левую сторону, – сказал мистер Томсон.
Это был хорошо подготовленный эффект.
По ту сторону плотины лежало большое, чистое, прохладное озеро.
Дойдя до центра плотины, мистер Томсон внезапно остановился, широко расставив ноги по обе стороны белой черты.
– Теперь, – сказал он, – я стою одной ногой в Аризоне, а другой – в Неваде.
Боулдер-дам, расположенный на стыке четырех штатов – Аризоны, Невады, Юты и Калифорнии, – дает пустыне не только электричество, но и воду. Кроме электростанции, здесь будет еще центр оросительной системы Всеамериканского канала.
– Скажите, – спросили мы Томсона, – кто автор проекта Боулдер-дам?
К нашему удивлению, он не ответил на этот вопрос. Он мог лишь сообщить названия акционерных обществ, которые по заказу правительства выполняли эту работу.
– Вероятно, – сказал Томсон, улыбаясь, – если какого-нибудь строителя спросить, кто здесь монтирует турбины, он не сможет назвать мое имя. Он скажет просто, что монтаж ведет «Дженерал Электрик Компани». Инженеры у нас, в Америке, не пользуются известностью. У нас известны только фирмы.
– Позвольте, мистер Томсон, но это большая несправедливость. Мы знаем, кто построил собор Петра в Риме, хотя он был построен несколько веков тому назад. Авторы Боулдер-дам, где соединены замечательная техника и удивительное строительное искусство, имеют право на известность.
– Нет, – сказал мистер Томсон, – я не вижу в этом несправедливости. Лично я, например, не ищу известности. Я вполне удовлетворен тем, что мою фамилию знают двести специалистов в мире. Кроме того, состояние современной техники таково, что действительно не всегда можно определить автора того или иного технического произведения. Эпоха Эдисона кончилась. Пора отдельных великих изобретений прошла. Сейчас есть общий технический прогресс. Кто строит Боулдер-дам? Шесть известных фирм. И это все.
– Но вот в СССР есть инженеры и рабочие, которые пользуются большой популярностью. Газеты о них пишут, журналы печатают их портреты.
– Вы просто увлечены строительством. Оно играет у вас сейчас слишком большую роль. А потом вы позабудете о нем и перестанете прославлять инженеров и рабочих.
Мы долго еще говорили о славе, вернее – о праве на славу. Нам кажется, мы не убедили друг друга ни в чем. Позиция Томсона была нам ясна: капитализм отказал ему в славе – вернее, присвоил его славу, и этот гордый человек не желает о ней даже слышать. Он отдает своим хозяевам знания и получает за это жалованье. Ему кажется, что они квиты.
Стоя на вершине одного из самых прекрасных сооружений нашего века, о котором доподлинно известно лишь то, что оно неизвестно кем построено, мы говорили о славе в Соединенных Штатах.
Слава в этой стране начинается вместе с «паблисити». «Паблисити» же делают человеку только тогда, когда это кому-то выгодно.
Кто пользуется в Америке действительно большой, всенародной славой? Люди, которые делают деньги, или люди, при помощи которых делает деньги кто-то другой. Исключений из этого правила нет. Деньги! Всенародную славу имеет чемпион бокса или чемпион футбола, потому что матч с их участием собирает миллион долларов. Славу имеет кинозвезда, потому что ее слава нужна предпринимателю. Он может лишить ее этой всенародной славы в ту минуту, когда этого ему захочется. Славу имеют бандиты, потому что это выгодно газетам и потому что с именами бандитов связаны цифры с большим количеством нулей.
А кому может понадобиться делать славу Томсону или Джексону, Вильсону или Адамсу, если эти люди всего только строят какие-то машины, электростанции, мосты и оросительные системы! Их хозяевам даже невыгодно делать им славу. Знаменитому человеку придется платить больше жалованья.
– Нет, серьезно, сэры, – сказал нам мистер Адамс, – неужели вы думаете, что Форд знаменит в Америке потому, что он создал дешевый автомобиль? О, но! Было бы глупо так думать! Просто по всей стране бегают автомобили с его фамилией на радиаторе. В вашей стране знаменит совсем другой Форд. У вас знаменит Форд-механик, у нас – Форд —удачливый купец.
Нет, пожалуй, милейший мистер Томсон прав, отмахиваясь от американской славы. Слава в Америке – это товар. И, как всякий товар в Америке, она приносит прибыль не тому, кто ее произвел, а тому, кто ею торгует.
«Золотой штат»
Рекорд миссис Адамс
На границе Калифорнии нас остановили у инспекторской станции, обсаженной небольшими кактусами, и обыскали автомобиль.
В Калифорнию нельзя провозить ни фруктов, ни цветов. Калифорнийцы боятся, что в их штат могут занести бактерии, вызывающие болезни растений.
Инспектор наклеил на ветровое стекло нашего кара ярлык с изображением неестественно синих далей и зеленых пальм, и мы очутились в Калифорнии, в «Золотом штате».
Однако, проехав инспекторский домик, никаких пальм мы не нашли. Продолжалась пустыня, такая же величественная и прекрасная, как в Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Только солнце стало горячей, и появилось много кактусов. Целый лес кактусов торчал из песка по обе стороны дороги. Кактусы были большие, величиной с яблоню. Их ветви, такие же толстые, как самый ствол, казались искалеченными в пытке, как бы обрубленными до локтя, растопыренными руками.
Так прошло полдня. Мы позавтракали бананами и орехами, как обезьяны. Дорога переходила с плато на плато, неуклонно повышаясь. Кактусы исчезли так же внезапно, как и появились. На горизонте показалась решетчатая башня. За ней – вторая, потом третья. Они походили на боевые машины марсианских воинов. Мы пересекли линию высокого напряжения, построенную для передачи тока со станции Боулдер-дам в Калифорнию. Электричество мерно шагало через пески и холмы пустыни.
– Сэры, – спросил мистер Адамс, – у вас звенит в ушах? Признавайтесь.
Мы прислушались. В ушах действительно звенело. Мистер Адамс очень обрадовался.
– Это разреженный воздух, – сказал он. – Пусть это вас не поражает, мистеры. О, но! Мы незаметно забрались на довольно большую высоту. Но я думаю, что это последний наш перевал.
Мистер Адамс, как и всегда, оказался прав. Вскоре мы стали спускаться по красивой извилистой дороге вниз – в новую пустыню. Мы увидели ее с очень большой высоты. Она была совсем не похожа на те пустыни, к которым мы успели привыкнуть за неделю. Окутанная легким туманом испарений, она проявлялась постепенно, с каждым новым витком дороги. Мы осторожно съезжали все ниже и ниже. После большого перерыва снова началась жизнь: вспаханные поля, оросительные каналы, зеленая озимь, длинные, уходящие в туманный горизонт коричневые виноградники и нефтяные вышки города Бекерсфильда. Был декабрь. Появились пальмы, деревья, девушки в юбках и девушки в брюках. Девушки в своих длинных широких брюках из тонкой шерсти и с легким платочком на шее были признаком того, что близок Голливуд. Это кинематографический стиль – ходить в таких брюках. В них – просторно и удобно.
Эта часть Калифорнии – орошенная пустыня. Если Калифорнию лишить орошения на одну лишь неделю, она превратится в то, чем была, – в пустыню. Если не полить цветов один день, они пропадут.
– Нет, серьезно, сэры! – вскричал мистер Адамс. – Калифорния – это замечательный штат! Здесь принципиально не бывает дождя. Да, да, да – именно принципиально. Вы просто оскорбите калифорнийца, если скажете ему, что здесь возможен дождь. Если же в день вашего приезда дождь все-таки идет, калифорниец страшно сердится, пожимает плечами и говорит: «Это что-то непонятное. Живу здесь двадцать лет, здесь у меня одна жена умерла, а другая заболела, здесь у меня дети выросли и кончили гай-скул, а дождь вижу в первый раз!» Нет, правда, сэры. Вы не хотите понять, что такое Калифорния. Уверяю вас – дождь здесь все-таки бывает!
Бекерсфильдские нефтяные вышки, в отличие от оклахомских, металлических, были сделаны из дерева. Здесь более старые месторождения нефти. И опять, рядом с вышками, мы увидели жалкие лачуги. Таков закон американской жизни: чем богаче место, чем больше миллионов высасывают или выкапывают там из земли, тем беднее и непригляднее хибарки людей, выкапывающих или высасывающих эти миллионы.
Впрочем, сосут нефть не только крупные компании. Сосут – так сказать, в индивидуальном порядке – и местные жители, владельцы домиков и фордиков. Они делают скважину рядом с нефтеносными землями компаний прямо в своем садике, в гараже или гостиной и сосут себе полегоньку несколько галлонов в день. Такой способ добычи американцы называют почему-то «дикой кошкой».
Бекерсфильд отличается от сотни виденных нами Галлопов только пальмами. Но это довольно существенная разница: Галлоп с пальмами гораздо приятнее Галлопа без пальм.
Торговля и реклама носят здесь более оживленный характер, чем в пустыне. После бесконечных и однообразных «Пей Кока-кола» здесь чувствовалась нью-йоркская лихость в заботах о потребителе.
Хозяин маленькой газолиновой станции при выезде из Бекерсфильда повесил над своим заведением комического человечка, составленного из пустых банок от автомобильного масла. Человечек раскачивался по ветру, гремел и стонал, как одинокое, всеми забытое привидение. И в его стонах явственно слышалось: «Покупайте только пенсильванское масло. Это масло из квакерского штата. Квакеры – хорошие люди, у них не может быть плохого масла!»
А еще дальше, над ремонтной автомобильной станцией («сервис-стейшен»), висел такой залихватский плакат, что мистер Адамс, заметивший его первым, громко забил в ладоши и крикнул:
– Бекки! Стоп здесь!.. Да, да, сэры, – сказал он, – вы должны вдуматься в этот плакат, если хотите понять американскую душу.
На плакате значилось:
«Автомобильный сервис. Здесь вас всегда встретят с дружеским смехом!»
Мы живо представили себе бытовую картинку: изуродованного пассажира на исковерканной машине, вроде той, которую мы видели в гараже Грэнд-кэньона, встречают хихиканьем.
– Нет, нет, мистеры, серьезно, смех – это стиль американской жизни.
Это правильно. Американский смех, в общем, хороший, громкий и жизнерадостный смех, иногда все-таки раздражает.
Предположим, встречаются два американца.
1-й американец (улыбаясь). How do you do!
2-й американец (показывая часть зубов). How do you do!
1-й. Как поживаете? (Смеется.)
2-й. Очень хорошо. Спасибо! (Показывает все тридцать два зуба, среди которых видны три золотых.) А вы как поживаете?
1-й. Вери найс! Прекрасно! (Громко смеется.) Как идут ваши дела?
2-й. Найс! (Хохочет.) А ваши?
1-й. Великолепно! (Бешено хохочет.) Ну, до свиданья, кланяйтесь жене!
2-й. Спасибо. Ха-ха-ха! Вы тоже кланяйтесь! (Извергая целый водопад смеха, изо всей силы хлопает первого по плечу.) Гуд-бай!
1-й (покачивается от хохота и хлопает по плечу второго). Гуд-бай!
(Садятся в свои автомобили и разъезжаются в разные стороны с огромной скоростью.)
В таком разговоре возможен еще один вариант, который, в общем, почти не меняет дела:
1-й американец (улыбаясь). Как идет ваш бизнес?
2-й американец (смеется). Очень плохо. Вери бед. А ваш?
1-й (хохочет). Омерзительно! Вчера вылетел со службы.
2-й (надрываясь от смеха). Как поживает ваша жена?
1-й. Она довольно опасно заболела. (Пытается сделать серьезное лицо, но бодрый, жизнерадостный смех вырывается наружу.) Вчера был… ха-ха-ха… Вчера… ах, не могу!.. Вчера был доктор.
2-й. Риали? Правда? Ах, как жалко! Я вам сочувствую, дружище! (С бодрым смехом хлопает первого по плечу.)
Американцы смеются и беспрерывно показывают зубы не потому, что произошло что-то смешное, а потому, что смеяться – это их стиль.
Америка – страна, которая любит примитивную ясность во всех своих делах и идеях.
Быть богатым лучше, чем быть бедным. И человек, вместо того чтобы терять время на обдумывание причин, которые породили бедность, и уничтожить эти причины, старается всеми возможными способами добыть миллион.
Миллиард лучше, чем миллион. И человек, вместо того чтобы бросить все дела и наслаждаться своим миллионом, о котором мечтал, сидит в офисе, потный, без пиджака, и делает миллиард.
Заниматься спортом полезнее для здоровья, чем читать книги. И человек все свое свободное время отдает спорту.
Человеку необходимо иногда развлекаться, чтобы отдохнуть от дел, и он идет в кино или бурлеск, где его не заставят думать над каким-нибудь жизненным вопросом, так как это помешало бы ему отдыхать.
Смеяться лучше, чем плакать. И человек смеется. Вероятно, в свое время он принуждал себя смеяться, как принуждал себя спать при открытой форточке, заниматься по утрам гимнастикой и чистить зубы. А потом – ничего, привык. И теперь смех вырывается из его горла непроизвольно, независимо от его желания. Если вы видите смеющегося американца, это не значит, что ему смешно. Он смеется только по той причине, что американец должен смеяться. А скулят и тоскуют пусть мексиканцы, славяне, евреи и негры.
Мы выехали на прекрасную четырехполосную дорогу Лос-Анжелос – Сан-Франциско и снова попали в автомобильный вихрь, от которого стали было отвыкать в пустыне. Дорога, разделенная белыми полосами, была черная – цвета смолы, она жирно блестела. Мимо, сверкнув стеклами, со свистом проносились автомобили. Издали они казались очень высокими, так как дорога отражала их колеса. Мчались «бьюики», «форды», «крайслеры», «паккарды», ревели и фыркали, как коты, бесчисленные машины. Вечное движение идет на американских дорогах.
Калифорния славится автомобильными катастрофами. Вдоль дороги все чаще стали попадаться большие плакаты, увещевавшие шоферов ехать поосторожнее. Они были превосходно выполнены, лаконичны и страшны. Огромный полисмен, держа труп девочки в левой руке, правой указывал прямо на нас. Внизу была подпись: «Прекратите эти убийства!» На другом плакате был изображен обезумевший, всклокоченный человек с детским трупом на руках. И подпись: «Что я наделал!»
– Нет, Бекки, я не хочу, чтобы нас встречали дружеским смехом, – говорил мистер Адамс. – Сэры, вы хотите, чтобы наш разбитый кар встретили дружеским смехом? Бекки, ты должна держаться сорока миль.
Миссис Адамс попыталась было возражать, но плакаты произвели на нас такое сильное впечатление, что мы присоединились к мистеру Адамсу, и наш авантюристически настроенный драйвер покорился.
– Бекки, – восклицал мистер Адамс, – неужели ты хочешь, с трудом держа мой тяжелый труп, кричать на всю Калифорнию: «Что я наделала!»
Потом мистер Адамс углубился в карту и, сосредоточенно ворча, стал проводить по ней какие-то прямые и кривые линии.
– Сэры! – сказал он наконец. – Мы должны заехать в Секвойя-парк. Это тут недалеко. У города Делано надо будет свернуть направо. Крюк небольшой – миль шестьдесят, не больше. Заедем на пять минут, а потом снова на дорогу, и прямо в Сан-Франциско. Нет, сэры, не говорите мне ничего. Будет просто глупо не заехать в Секвойя-парк. Нет, правда, мы должны быть настоящими путешественниками.
Сейчас мы очень благодарны мистеру Адамсу за то, что он затащил нас в Секвойя-парк; но тогда мы были слишком утомлены путешествием через пустыню, слишком переполнены впечатлениями и слишком сильно стремились в Сан-Франциско, чтобы сразу согласиться на этот шаг.
Состоялся летучий совет, на котором мистер Адамс, всегда такой осторожный, держал себя, как Суворов.
Было принято решение – заехать в Секвойя-парк на пять минут.
Покуда мы доехали до Делано, прошло часа два. Справа показались горы. Мы свернули к ним. Это была Сиерра-Невада, горная цепь, протянувшаяся на пятьсот миль между плоскогорьем Колорадо и Калифорнийской долиной.
Снова перед нами были суровые горные виды, снова миссис Адамс, в восторге подымая обе руки и высовываясь из окна, кричала: «Смотрите, смотрите!» – и мы умоляли ее положить руки обратно на рулевое колесо и обратить глаза на дорогу, клятвенно обещая, что за обедом мы опишем ей все красоты в художественной форме. Но до обеда было еще далеко.
Начался подъем по живописной дороге среди мелких скал, ручейков и густой, сверкающей на солнце хвои. Как радостно было с каждым поворотом возноситься все выше к голубому небу, туда, где на недосягаемой для нас высоте виднелась снежная вершина. Внизу, в почти отвесных зеленых склонах просвечивали узкие полоски дороги, по которой мы проехали уже час назад, а ручейков и вовсе не стало видно. Скоро солнце тоже оказалось внизу.
– Где же секвойи? – тоскливо спрашивали мы.
– Нет, не говорите мне – «где секвойи?», – довольно растерянно отвечал мистер Адамс. – Секвойи скоро будут.
– Но уже время обеда, – заметила миссис Адамс, поглядев на часы и одновременно с этим проделывая новый головокружительный поворот.
– Нет, Бекки, серьезно, нельзя так рассуждать – «уже время обеда!». Нет, правда, мне больно слушать, когда ты так рассуждаешь.
– Мы думали, что заедем на пять минут, а уже прошло часа четыре.
Но вот показалась входная будочка национального парка, и мы, облегченно вздохнув, отдали по доллару. Однако прошло еще около часа пути, прежде чем мы увидели первую секвойю.
– Смотрите, смотрите! – крикнула миссис Адамс, останавливая автомобиль.
Сперва мы ничего не могли заметить. Вровень с дорогой неподвижно стоял целый лес хвойных вершин, стволы которых росли из склонов под нашими ногами. Но одна вершина, смешавшись с прочими, чем-то отличалась от них. Приглядевшись, мы заметили, что ее хвоя темнее и имеет несколько другую форму. Мы осторожно посмотрели вниз. В то время как стволы других деревьев оканчивались совсем близко, косо врастая в склоны, – этот ствол, толстый, как башня, шел прямо в бездну, и невозможно было проследить, где он начинается.
– Ну, что вы скажете, сэры! – ликовал мистер Адамс. – Вы, кажется, спрашивали, где секвойи?
– Смотрите, смотрите! – снова крикнула миссис Адамс.
На этот раз пришлось посмотреть не вниз, а вверх. Рядом с нами подымался из земли ствол другого гигантского дерева. Неудивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленьким и большим, мог бы сразу отметить этот феномен.
Мы медленно поехали дальше, от дерева к дереву. Оказалось, что первые два, перед которыми мы остановились в изумлении, были самыми маленькими экземплярами. Теперь мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово «человек» перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово – «дерево». Секвойи, принадлежащие, по мирному выражению ученых, «к семейству хвойных», растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта.
Самому большому дереву четыре тысячи лет. Называется оно «Генерал Шерман». Американцы – люди чрезвычайно практичные. Возле «Шермана» висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить сорок домов, по пяти комнат в каждом доме, и что если это дерево положить рядом с поездом «Юнион Пасифик», то оно окажется длиннее поезда. А глядя на дерево, на весь этот прозрачный и темный лес, не хотелось думать о пятикомнатных квартирах и поездах «Юнион Пасифик». Хотелось мечтательно произносить слова Пастернака: «В лесу клубился кафедральный мрак» – и стараться как можно спокойней представить себе, что это «семейство хвойных» мирно росло, когда на свете не было не только Колумба, но и Цезаря, и Александра Македонского, и даже египетского царя Тутанхамона.
Вместо пяти минут мы пробыли в лесу часа два, пока сумрак не сгустился еще больше. Об обеде нельзя было и думать до возвращения в долину. И мы поступили бы лучше всего, если б, не медля ни минуты, отправились обратно. Но тут вдруг супруги Адамс переглянулись, и на их лицах появились две совершенно одинаковые зловещие улыбки. Нам стало ясно, что задумали наши милые друзья. Тщетно мы умоляли их опомниться, подумать о бэби. Супруги были непреклонны. Взявшись за ручки, они отправились «брать информацию». К счастью, они вернулись очень быстро, так как «брать информацию» было решительно негде, разве что у «Генерала Шермана». Лес давно уже опустел. Стало очень холодно.
– Ну, вот и прекрасно. Едем обратно старой дорогой.
– Придется ехать, – со вздохом сказала миссис Адамс, запуская мотор.
– Нет, серьезно, сэры, – сказал мистер Адамс, – хорошо было бы разузнать, нет ли какой-нибудь другой дороги в долину.
– Зачем же нам другая дорога? Есть прекрасная дорога, по которой мы ехали.
– Сэры! Лишняя информация никогда не помешает.
И тут, к нашему ужасу, мы увидели фигуру сторожа. Делать ему было нечего, настроение у него было прекрасное, и он что-то весело насвистывал. Супруги Адамс набросились на него, как вурдалаки.
– How do you do! – сказала миссис Адамс.
– How do you do! – ответил сторож.
И пошли расспросы. Не менее пятидесяти раз сторож сказал «иэс, мэм!» и такое же количество раз «но, мэм!».
– Сэры! – воскликнул мистер Адамс, усаживаясь в машину. – Есть новая дорога. Мимо дерева «Генерал Грант». Оно тут близко, в пятнадцати милях.
– Но уже темно. Мы все равно ничего не увидим.
– Да, да, да, сэры! О, но! Не говорите так – «мы ничего не увидим». Не надо так говорить.
Перед тем как окончательно двинуться в путь, миссис Адамс решила еще раз удостовериться в правильности полученной информации и снова подозвала сторожа.
– Значит, ехать прямо? – спросила она.
– Иэс, мэм.
– Пока не доедем до «Генерала Гранта»?
– Иэс, мэм.
– А потом направо?
– Но, мэм. Налево.
– Значит, налево?
– Иэс, мэм.
– А не направо?
– Но, мэм.
– До третьего перекрестка?
– Но, мэм. До второго перекрестка.
– Тэнк ю вери мач! – крикнул мистер Адамс.
И начался великий ночной поход с вершин Сиерра-Невады в Калифорнийскую долину. Около двух часов мы ехали в полной тьме. Что росло вокруг, мы не видели и больше, вероятно, никогда не увидим. Возможно, что был там и генерал Грант, и генерал Ли, и еще десяток южных и северных генералов. На поворотах свет наших фар скользил по ровным меловым скалам. Слева была глубочайшая черная пропасть, очень далеко внизу еле светились несколько огоньков. Вдруг наша машина дернулась, задние колеса стало заносить. Мы сразу же вспомнили день несчастий, Скалистые горы, Галлоп – и замерли. Автомобиль, потерявший управление, косо стал поперек дороги, метров десять скользил задом и наконец остановился в нескольких сантиметрах от края бездны.
– Нет, нет, сэры, – забормотал мистер Адамс, силясь выйти из машины и ударяя локтем в стекло, – спокойней, спокойней… Да, да, да… Это ужасно! Все пропало!
Выйдя на дорогу, мы увидели, что стоим на льду. Одна цепь была в порядке. Мы ее надели и стали осторожно толкать машину. Миссис Адамс ловко развернулась, и автомобиль осторожно двинулся дальше. У нас вошло в традицию во время тяжелых дорожных переживаний сохранять горделивое молчание. Молчали мы и сейчас. Только мистер Адамс горячо шептал:
– Бекки! Бекки! Не больше пяти миль в час! Нет, серьезно. Ты должна понимать, что такое падение с высоты Сиерра-Невады.
Между вершинами нависших над бездной елей показался очень большой червонный месяц.
Спуск по обледеневшей дороге совершался долго. Мы потеряли всякое представление о времени, а наши желудки всякое представление о еде. Наконец ледяной наст окончился, но прибавилась новая беда. Красный столбик прибора, показывающего уровень бензина в баке, опустился почти до предела и был еле заметен.
– Наш газолин к черту пошел! – с восторгом и ужасом крикнул мистер Адамс.
Мы проехали еще некоторое время, прислушиваясь к работе мотора и соображая, как мы устроимся на ночь, когда бензин иссякнет и машина остановится.
И тут произошло то, что должно было произойти в Америке, стране автомобильных чудес. Показалась газолиновая станция, маленькая станция, всего с одной колонкой. Но как мы ей обрадовались! Снова начинался сервис! Начиналась жизнь! Заспанный человек, бормоча «иэс, мэм» и «но, мэм», налил полный бак бензина. Проехав миль двадцать, мы заметили, что он забыл привернуть пробку. Мы до самого города Фрезно ехали без пробки, боясь выбрасывать из окна окурки, так как решили, что открытый бензин может воспламениться и наш кар «к черту пойдет», а вместе с ним, естественно, к черту пойдем и мы.
Долгое время мы ехали по дороге, с двух сторон обсаженной пальмами.
Город Фрезно, знаменитый, как объяснил нам мистер Адамс, тем, что в нем живет много греков, спал. На улицах не было ни души. Только один полисмен огромного роста медленно обходил магазины и возле каждого из них останавливался, чтобы посмотреть, цел ли замок. Американские греки могли спать спокойно.
Когда мы подъехали к гостинице, было двенадцать часов ночи. Спидометр показывал, что в этот день мы проехали триста семьдесят пять миль. Миссис Адамс просидела за рулем шестнадцать часов подряд. Это был настоящий рекорд. Мы хотели крикнуть «ура», но не смогли. Не было голоса.
Сан-Франциско
Миль за пятьдесят до Сан-Франциско путешественники становятся свидетелями борьбы двух конкурирующих организаций – хозяев моста Сан-Матео и хозяев парома. Дело в том, что в Сан-Франциско, если ехать туда со стороны Окленда, можно проникнуть лишь через залив. Сперва вдоль дороги попадаются скромные небольшие плакаты. На одних рекламируется мост, на других – паром. Путешественник еще ничего не понимает. А плакаты становятся все шире и выше, все убедительней звучат голоса хозяев моста и хозяев парома.
«Самый краткий и дешевый путь в Сан-Франциско – через мост Сан-Матео!» – гремят хозяева моста.
«Самое быстрое и приятное путешествие в Сан-Франциско – на пароме! Первоклассный ресторан. Очаровательный вид на Золотые Ворота!» – надрываются хозяева парома.
В том месте, где дороги разветвляются, плакаты достигают идиотических размеров. Они заслоняют небо и солнце. Здесь путешественник должен окончательно выбрать направление.
Мы выбрали паром. Очевидно, из чувства противоречия хозяевам моста Сан-Матео. Мы видели, как несколько машин решительно направились в сторону моста. Вероятно, из чувства отвращения к хозяевам парома.
Проехав Окленд, бензиново-асфальтовый вид которого лишний раз подтвердил, что мы находимся в Америке, мы остановились у пристани паромов. Там уже дожидалась небольшая очередь автомобилей. Ждать пришлось недолго, минут десять. Зазвонил колокол, и к пристани причалил широконосый паром с двумя тонкими и высокими, поставленными рядышком трубами. Матросы бросили сходни, и из парома гуськом выехали на волю несколько десятков автомобилей. Мы не увидели ни одного пешего пассажира. Машины проехали мимо нашей моторизованной очереди и направились в Окленд. Тотчас же снова зазвонил колокол, и на еще тепленькие, пахнущие бензином и маслом места гуськом двинулась наша очередь. Вся операция выгрузки и погрузки заняла не больше двух минут. Автомобили расположились на нижней палубе, по обе стороны машинного отделения, в два ряда с каждой стороны. И паром отчалил.
– Я думаю, можно не запирать машину, – заметила миссис Адамс, глядя на пассажиров, которые, легкомысленно оставив дверцы своих каров открытыми, устремились на верхнюю палубу.
– Но ключ от мотора я на всякий случай возьму с собой, – сказал мистер Адамс. – Ты должна помнить, Бекки, что осторожность – лучший друг путешественника.
Мы поднялись наверх. Над машинным отделением было крытое помещение, с деревянными диванчиками, двумя механическими бильярдами, автоматом, выбрасывающим жевательную резинку, и маленьким ресторанчиком. На носу и на корме помещались палубы для прогулок, а с боков, над автомобилями, выдавались мостики с двумя спасательными шлюпками на концах. На корме трещал звездный флаг.
Тут был старинный пароходный мир, с запахом водорослей и горячего машинного масла, со вкусом соли на губах, с облупившейся эмалью поручней, со свистками и паром, со свежим новороссийским ветром и севастопольскими чайками, которые с криком носились за кормой. Залив был так широк, что сначала мы не могли различить на горизонте другого берега. В этом месте ширина залива больше пяти миль. Казалось, что мы выходим в открытое море.
– Я думаю, сэры, – сказал мистер Адамс, – что вы не собираетесь любоваться Золотыми Воротами?
Мы сказали, что именно собираемся.
– И напрасно, сэры. Золотые Ворота очень напоминают ваши московские Мясницкие ворота в том смысле, что их вовсе нет. А есть просто выход из залива в океан, который, кстати, с парома и не виден.
– Но паром всю дорогу рекламировал вид на Золотые Ворота.
– Нет, серьезно, сэры, – сказал мистер Адамс, – вы слишком многого требуете от акционерного общества сан-францисских паромов. Нет, правда, вы получаете право ехать через залив, вы получаете приют для вашего кара, вы можете получить из автомата жевательную резинку. А вы еще хотите видеть Золотые Ворота! Надо, мистеры, пожалеть хозяев парома. Если уже сейчас они еле существуют из-за конкуренции моста Сан-Матео, то что станется с ними через два года, когда будет закончена вот эта штука, только на одну борьбу с которой они истратили миллион долларов!
И мистер Адамс показал рукою на сооружение, представлявшееся издали протянутыми через залив проводами.
Так вот оно, всемирное чудо техники – знаменитый висячий мост! Чем ближе подходил к нему паром, тем грандиозней казался мост. Правее, совсем почти на горизонте, виднелись контуры второго строящегося моста через залив.
«Импайр Стейт Билдинг», Ниагара, фордовский завод, Грэнд-кэньон, Боулдер-дам, секвойи и теперь висячие сан-францисские мосты – все это были явления одного порядка. Американская природа и американская техника не только дополняли друг друга, чтобы, объединившись, поразить воображение человека, подавить его, – они давали очень выразительные и точные представления о размерах, размахе и богатстве страны, где все во что бы то ни стало должно быть самое высокое, самое широкое и самое дорогое в мире. Если уж блестящие дороги, то полтора миллиона километров! Если уж автомобили, то двадцать пять миллионов штук! Если уж дом, то сто два этажа! Если уж висячий мост, то с главным пролетом в полтора километра длиною.
Теперь миссис Адамс могла спокойно кричать: «Смотрите! Смотрите!» Ее никто не останавливал. И она широко пользовалась своим правом. Паром проходил мимо поднимавшегося из воды решетчатого пилона. Он был широк и высок, как «Генерал Шерман». С высоты его наш паром казался, вероятно, таким маленьким, как человек на дне Грэнд-кэньона. Пилон до половины был выкрашен серебристой алюминиевой краской. Другая половина была еще покрыта суриком.
Отсюда уже хорошо был виден Сан-Франциско, подымавшийся из воды, как маленький Нью-Йорк. Но он казался приятней Нью-Йорка. Веселый, белый город, спускающийся к заливу амфитеатром.
– Вот, вот, сэры, – говорил мистер Адамс, – вы не знаете, что собою представляет этот залив! Серьезно. В нем могут свободно разместиться военные флоты всех держав мира. Да, да, да. Хорошо было бы собрать здесь все эти флоты и пустить их ко дну.
Весело болтая, мы попеременно любовались то мостом, то городом.
– Откуда вы, земляки? – раздался вдруг явно волжский бас.
Мы оглянулись. Перед нами стоял матрос с парома, в суконной форменке, из-под которой виднелся одинаковый у всех моряков мира полосатый тельник. На черной ленте его синей фуражки выведено название парома: «Голден Гейт» («Золотые Ворота»). У него широкое красное лицо, седые виски и голубенькие глаза.
– Неужели из России?
– Из Москвы.
– Ах ты боже мой! – воскликнул палубный матрос парома «Голден Гейт». – Неужели из Москвы! Да вы не думайте, я вам не враг. Ну как в России? Как в Москве? А в Сибири вы не бывали?
И, не дожидаясь ответа ни на один из своих вопросов, он торопливо стал рассказывать о себе. Он, видно, давно томился желанием поговорить и теперь говорил, захлебываясь и поглядывая на приближающийся берег.
– И в Благовещенске не бывали? Жалко, мой родной городок. Черт меня знает! Сорвался в девятнадцатом году, во время Колчака. Не то чтоб бежал, а так… А впрочем, вернее – бежал… Фу, как вспомню! У меня на Амуре три брата плавают. Все вроде меня, пошире даже. Все трое капитаны, пароходами командуют. А ведь я, знаете, тоже был капитаном. У нас в семье все капитаны. Капитанская семья. И вот теперь… Эх, черт… Простой матрос. И где? На пароме! Еще спасибо, что взяли…
– Что ж это вы так? Ведь были бы сейчас капитаном.
Раздался свисток. Паром быстро подходил к берегу.
– Зато камфорт! – Он произнес на английский лад: «камфорт». – Имею камфорт!
Мы так и не поняли – говорил он серьезно или горько иронизировал над своим паромным «камфортом».
– Ну, счастливо оставаться! – крикнул он. – Бегу! Служба!
Мы поторопились вниз и поспели как раз вовремя, потому что с парома опускали сходни и все автомобили, кроме нашего, уже нетерпеливо фыркали.
– Скорей давай ключ от мотора! – крикнула мужу миссис Адамс.
По быстроте, с которой мистер Адамс стал рыться в карманах, мы поняли, что сейчас произойдет катастрофа. Не найдя ключа в жилетке, он торопливо принялся за пиджак.
– Ну что же ты! – подгоняла миссис Адамс. Первые машины уже съезжали на берег.
– Сейчас, Бекки, сейчас!..
Сзади раздался нетерпеливый сигнал.
– Ты потерял ключ! – сказала миссис Адамс.
– Ах, Бекки, Бекки, – бормотал мистер Адамс, копаясь в карманах и поднося к глазам какие-то слежавшиеся бумажки, – не говори так – «ты потерял ключ».
А вокруг стон стоял от автомобильных сигналов. Гудели машины позади нас и машины, поджидавшие своей очереди на берегу. К нам подбежала группа матросов.
– Живей, живей! – кричали они.
Оглушенный криками, мистер Адамс вместо планомерных поисков стал делать совершенно непонятные движения – он протер очки и заглянул под автомобиль, потом посмотрел на пол, поочередно поднял обе ноги, потом сделал попытку побежать на верхнюю палубу.
Но ждать дольше было просто невозможно. Лихие матросы, среди которых мы заметили нашего амурского капитана, живо усадили нас в машину и с криком, очень похожим на «вира», принялись толкать ее к пристани.
– Ай’м вери, вери сори! – бормотал мистер Адамс, раскланиваясь в обе стороны, как президент. – Ай’м терибли сори! Я ужасно сожалею!
Под непрерывные звонки парома, гудки автомобилей и обидный смех шоферов матросы выкатили нас на булыжную пристань и, виляя задами, побежали обратно на паром. А мистер Адамс остался лицом к лицу со своей разгневанной супругой.
– Ай’м терибли сори! – продолжал бормотать мистер Адамс, отвешивая поклоны.
– Ну! – воскликнула миссис Адамс. – Мы долго еще будем стоять здесь на пристани?
– Ах, Бекки, не говори так, – сказал мистер Адамс, приходя в себя, – нет, серьезно, мне больно, когда ты так говоришь.
– Ну, хорошо, я только хочу знать, что мы будем здесь делать на пристани? Куда ты девал ключ?
Мы стали наперерыв вспоминать, как мистер Адамс взял ключ и как он сказал при этом, что осторожность – лучший друг путешественника.
– Ну, вспомни, вспомни, куда ты его положил!
– Ах, Бекки! Как я могу сказать, куда я его положил? Ты рассуждаешь как маленькая девочка. Нет, правда, ты не должна так рассуждать.
– Дай я! – решительно сказала миссис Адамс и, запустив два пальца в жилетный карман мужа, сразу же вытащила оттуда ключ. – Что это такое?
Мистер Адамс молчал.
– Я спрашиваю тебя, что это такое?
– Нет, серьезно, Бекки, – забормотал мистер Адамс, – не говори так – «что это такое?». Это ключ, Бекки. Ведь ты сама прекрасно видишь.
Через минуту мы уже катили по улицам Сан-Франциско.
Это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Вероятно, потому, что нисколько Америку не напоминает. Большинство его улиц подымаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион «американские горы» и доставляет пассажиру много сильных ощущений. Тем не менее в центре города есть кусок, который напоминает ровнейший в мире Ленинград, с его площадями и широкими проспектами. Все остальные части Сан-Франциско – это чудесная приморская смесь Неаполя и Шанхая. Сходство с Неаполем мы можем удостоверить лично. Сходство с Шанхаем находят китайцы, которых в Сан-Франциско множество.
К завоеваниям города следует отнести то, что главная его улица называется не Мейн-стрит, и не Стейт-стрит, и не Бродвей, а просто Маркет-стрит – Базарная улица. Мы тщетно искали «Ап-таун» и «Даун-таун». Нет! В Сан-Франциско не было Верхнего города и Нижнего города. Или, вернее, их было слишком много, несколько сот верхних и нижних частей. Вероятно, житель Фриско, как его приятельски называют моряки всего мира, на нас обидится, скажет, что Сан-Франциско не хуже Нью-Йорка и Галлопа и что он, житель Фриско, отлично знает, где у него ап-таун и где даун-таун, где делают бизнес и где отдыхают после этого бизнеса в кругу семьи, что зря мы хотим возвести на Сан-Франциско напраслину и вырвать его из родной семьи остальных американских городов. Возможно, что это и так. На наш иностранный взгляд, Сан-Франциско больше похож на европейский город, чем на американский. Здесь, как и везде в Соединенных Штатах Америки, непомерное богатство и непомерная нищета стоят рядышком, плечо к плечу, так что безукоризненный смокинг богача касается грязной блузы безработного грузчика. Но богатство здесь хотя бы не так удручающе однообразно и скучно, а нищета хотя бы живописна.
Сан-Франциско – из тех городов, которые начинают нравиться с первой же минуты и с каждым новым днем нравятся все больше.
С высокого Телеграфного холма открывается прекрасный вид на город и бухту. Тут устроена широкая площадка с белой каменной балюстрадой, уставленной вазами.
Сверкающий на солнце залив во всех направлениях пересекают белые паромы. У пристаней стоят большие океанские пароходы. Они дымят, готовясь к отходу в Йокогаму, Гонолулу и Шанхай. С аэродрома военного городка подымается самолет и, блеснув крылом, исчезает в светлом небе. Посреди бухты, на острове Алькатрас, похожем издали на старинный броненосец, можно рассмотреть здание федеральной тюрьмы для особо важных преступников. В ней сидит Аль Капонэ, знаменитый главарь бандитской организации, терроризовавшей страну. Обыкновенных бандитов в Америке сажают на электрический стул. Аль Капонэ приговорен к одиннадцати годам тюрьмы не за контрабанду и грабежи, а за неуплату подоходного налога с капиталов, добытых грабежами и контрабандой. В тюрьме Аль Капонэ пописывает антисоветские статейки, которые газеты Херста с удовольствием печатают. Знаменитый бандит и убийца (вроде извозчика Комарова, только гораздо опасней) озабочен положением страны и, сидя в тюрьме, сочиняет планы спасения своей родины от распространения коммунистических идей. И американцы, большие любители юмора, не видят в этой ситуации ничего смешного.
На Телеграфном холме выстроена высокая башня, с верхушки которой, как мы сказали, открывается еще более широкий вид на город. Однако наверх нас не пустили. Оказывается, утром с башни бросился и разбился вдребезги безработный молодой человек, и на этот день вход в башню решили закрыть.
Сан-Францисская бухта отделена от океана двумя полуостровами, которые выступают с северной и южной стороны бухты и оканчиваются высокими мысами, образующими выход в океан. Это и есть Золотые Ворота. Северный полуостров скалист и покрыт дикими лесами. Сан-Франциско лежит на южном полуострове, лицом к бухте.
Мы проехали к Золотым Воротам. У выхода в океан на высоком месте разбит прекрасный парк и выстроен музей изящных искусств с большим количеством копий знаменитых европейских скульптур. Здесь кончается «Линкольн-хайвей»: автострада Нью-Йорк – Сан-Франциско. Американские техники – люди удивительной скромности. Завершение своего бетонного шедевра, соединяющего Атлантический океан с Тихим, они отметили памятным столбиком высотой в три фута; на нем изображены буква «L», маленький бронзовый барельеф Линкольна и выбита надпись: «Западная оконечность дороги Линкольна». Имена строителей дороги остались неизвестными. Что ж! Люди, которые через полтора года будут проезжать по сан-францисским мостам, не будут знать, кто эти мосты проектировал и строил.
Благодаря любезности строителей моста мы получили возможность осмотреть работы. Мы сели в военный катер, который поджидал нас в гавани, и отправились на островок Херба-Буэна, расположенный на середине залива. Островок находится в ведении военного ведомства, и для его посещения надо было получить особые пропуска. Мост Сан-Франциско – Окленд, длиной в семь километров, состоит из нескольких мостовых пролетов различных систем. Особенно интересна его западная – висячая – часть длиною в 3,2 километра. Она соединяет Сан-Франциско и остров Херба-Буэна и состоит из висячих пролетов, связанных центральным устоем. На острове западная часть моста встречается с восточной, соединяющей остров с Оклендом. Эта часть состоит из консольного пролета, протянувшегося на четыреста с лишком метров, и еще нескольких пролетов, перекрытых решетчатыми фермами.
Главная работа на острове, уже почти законченная, – это широчайший и высочайший туннель, пробитый в скалах. Он-то и соединяет оба участка. Туннель и мост будут двухэтажными. По верхнему этажу в шесть рядов будут двигаться автомобили. Не забыты и пешеходы – для них будут устроены два тротуара. По нижнему этажу в два ряда пойдут грузовики, и между ними – электрическая железная дорога. По сравнению с этим мостом величайшие европейские и американские мосты покажутся просто маленькими.
Сейчас кончают сплетать стальной канат, на котором повиснет мост. Его толщина около метра в диаметре. Это он-то показался нам тонкими проводами, повисшими над заливом, когда мы подъезжали к Сан-Франциско. Трос, который на наших глазах сплетали в воздухе движущиеся станки, напоминал Гулливера, каждый волосок которого был прикреплен лилипутами к колышкам. Повисший над заливом трос снабжен предохранительной проволочной сеткой, по которой ходят рабочие. Мы отважились совершить вдоль троса небольшое путешествие. Чувствуешь себя там, словно на крыше небоскреба, только с той разницей, что под ногами нет ничего, кроме тонкой проволочной сеточки, сквозь которую видны волны залива. Дует сильный ветер.
Хотя путешествие было совершенно безопасным, мы с отчаяньем охватили руками трос.
– Какой толстый! – говорила миссис Адамс, стараясь не глядеть вниз.
– Прекрасный трос, – подтвердил мистер Адамс, не выпуская из рук стальной опоры.
– Трос сплетен из семнадцати с половиной тысяч тонких стальных проволок, – разъяснил нам наш провожатый.
Мы пришли в восторг от этой цифры и уцепились за трос с еще большей силой.
– Сэры, – сказал нам мистер Адамс, глядя в небо и почти повиснув на тросе, – мне еще никогда не приходилось видеть такого троса. Это очень хороший трос. Сколько, вы говорите, проволочек?
– Семнадцать с половиной тысяч!
– Нет, серьезно, сэры, такого троса никогда не было в мире. – И мистер Адамс с нежностью погладил стальной канат.
– А теперь мы подымемся еще выше, – предложил проводник, – до самой вершины пилона.
Но нас невозможно было оторвать от троса.
– Ай-ай-ай, какой трос! – восклицал мистер Адамс. – Нет, нет, сэры, вы только посмотрите, какой он толстый! Сколько проволочек?
– Семнадцать с половиной тысяч, – сказал проводник.
– Прямо не хочется от него уходить, – заметил мистер Адамс.
– А мы и не уйдем от него. Ведь мы будем подыматься вдоль троса, – наивно сказал проводник.
– Нет, нет, сэры, в этом месте трос особенно хорош! О, но! Но, сэры, это чудесный трос! Вы только вглядитесь, какая безукоризненно тонкая и в то же время прочная работа.
Мистер Адамс нечаянно посмотрел вниз и зажмурил глаза.
– Прекрасный, прекрасный трос, – бормотал он, – запишите в свои книжечки.
– Не хотите ли посмотреть консольный пролет восточной части моста? – предложил проводник.
– Нет, нет, сэр! Что вы! О, но! Нет, серьезно, это чудный трос! Мне ужасно нравится. Да, да, да, отличный, превосходный трос! Интересно было бы знать, из какого количества проволочек он составлен?
– Из семнадцати с половиной тысяч, – сказал проводник печально.
Он понял, что мы больше никуда не пойдем, и предложил спуститься. Весь обратный путь мы проделали, не выпуская троса из рук и восхищаясь его небывалыми качествами.
Только очутившись на твердой скалистой земле острова Херба-Буэна, мы поняли, что такое героизм людей, которые, весело посвистывая, сплетали трос над океаном.
Американский футбол
На пятый день жизни в Сан-Франциско мы заметили, что город начинает нас засасывать, как когда-то, давным-давно, тысячу городов, десять пустынь и двадцать штатов тому назад, нас чуть было не засосал Нью-Йорк. Наши записные книжки покрылись густыми записями, означающими сроки деловых свиданий, деловых завтраков и деловых «коктейл-парти». Мы вели жизнь деловых американцев, не имея при этом ровно никаких дел. Наши дни были наполнены боязнью опоздать на свидание. С проклятьями мы ползали по комнате в поисках потерявшейся запонки. Подобно Чичикову, мы нанесли визит градоправителю – мэру города, итальянцу Росси, седому лысому джентльмену с черными бровями. Он показал нам письмо из Гонолулу, которое было послано только вчера. Письмо это привез «Чайна-клиппер» – летающая лодка Сикорского. Ровно пять минут мы хвалили мэру город Сан-Франциско. А он угостил нас превосходными сигарами. Наше счастье, что Сан-Франциско действительно прекрасный город и нам не пришлось лгать мистеру Росси. Мы вышли из Сити-хауза с приятными улыбками на лицах и с тревогой в душе. Пора было вырваться из кольца деловых свиданий и начать действительно деловую жизнь, то есть бесцельно бродить по городу.
Мы впервые обогнули мыс у Золотых Ворот и выехали на набережную. Вдоль набережной тянулся пляж, на который с громом набегали волны Тихого океана. Стоял солнечный, но ветреный декабрьский день. Купальный сезон уже окончился, и выходящие на набережную увеселительные заведения были пусты. Сюда выезжает Сан-Франциско отдыхать и веселиться в теплые воскресные дни. Здесь можно померить силу, проехаться на сталкивающихся друг с дружкой электрических автомобильчиках, получить за десять центов портрет будущей жены с описанием ее характера, сыграть в механический бильярд и вообще получить сполна весь американский развлекательный рацион. Но как красиво это место. Набережная по масштабу не уступала океану – обоим не было конца.
В ресторанчике «Топси», специальностью которого является зажаренная в сухарях курица, в знак чего крыша заведения украшена петушиной головой, а зал – портретами кур, мы видели, как веселится небогатый житель Сан-Франциско. Он берет за пятьдесят центов порцию курицы и, съев ее, танцует до упаду. Если ему надоедает танцевать, он вместе со своей «герл» съезжает, не жалея праздничных брюк, по отполированному деревянному желобку, который установлен в зале специально для веселящихся куроедов.
Быть может, под влиянием океана, климата или толкущихся здесь моряков со всего света, но в ресторанном деле Сан-Франциско наблюдается не свойственная Америке игра ума. В ресторане Бернштейна, где-то в центре, возле Маркет-стрит, подают только рыбные блюда, сам ресторанчик устроен в виде корабля, кушанья разносят люди в капитанских и матросских костюмах. Всюду висят спасательные круги с надписью: «Бернштейн». Конечно, это не такая уж художественная фантазия, но после аптекарского завтрака номер три человек получает некоторое удовольствие, тем более что стоит оно не дороже, чем визит в аптеку. Недалеко от пристани есть совсем уж замечательное пищевкусовое заведение – это итальянский ресторанчик «Лукка». Хозяин его производит впечатление мага, волшебника и благотворителя. За обед волшебник берет, правда, не так уж мало – доллар; но зато человек за ту же плату имеет право здесь снова и снова требовать понравившееся ему блюдо. Однако – главный сюрприз впереди. После обеда, когда посетитель надевает пальто, ему дают аккуратно перевязанный ленточкой пакетик с пирожными.
– Но я не заказывал пирожных! – говорит посетитель бледнея.
– Это бесплатно, – отвечает официант, глядя на него жгучими неаполитанскими глазами. – В виде подарка.
Но и это еще не все. Посетителю вручают какой-то билетик. Оказывается, по этому билету он имеет право завтра утром прийти в кондитерскую «Лукки» и бесплатно получить стакан кофе с булочкой. В эту минуту потрясенный мозг посетителя никак не может осознать, что стоимость пирожных и кофе с булочкой вошла в честно заплаченный им доллар и что весь гениальный коммерческий расчет «Лукки» построен на том, что многие посетители не придут завтра за кофе и булочкой, так как у них не будет для этого времени. Но здесь, как говорится, дорога выдумка.
Освободившись от визитов, мы чувствовали себя бодро и жизнерадостно, как студенты после экзамена. То обстоятельство, что мы видели в Париже и Москве настоящего Родена, спасло нас от необходимости смотреть в музее копии с его произведений, и мы блуждали по городу без плана и цели. А так как все наше путешествие проходило весьма мудро и было подчинено строгому плану мистера Адамса, то на эти часы свободных блужданий мы смотрели как на заслуженный отдых.
Непонятно, как и почему мы попали в «Тропикал Свиминг Пул», то есть зимний бассейн. Мы постояли, не снимая пальто, в огромном, довольно старом деревянном помещении, где был тяжелый оранжерейный воздух, торчали какие-то бамбуковые жерди и висели портьеры, полюбовались на молоденькую парочку в купальных костюмах, деловито игравшую в пинг-понг, и на толстяка, который барахтался в большом ящике, наполненном водой, заметили несколько механических бильярдов и автомат с жевательной резинкой – и побежали дальше, в Японский сад.
Этот сад подарила городу японская императрица. В нем все маленькое – горбатые бамбуковые мостики, карликовые деревья и японский домик с раздвижными бумажными дверьми. В нем живет японец и, если посетители пожелают, устраивает им настоящий японский чай. Мы сидели в карликовой бамбуковой беседке и распивали зеленый душистый кипяток, который бесшумно подавал нам вежливый хозяин. Когда мы почувствовали себя совсем уже на блаженных островах Ниппона, наши спутники рассказали, что этот японец недавно погубил свою жену. Он так мучил ее, что она облила себя керосином и подожгла.
Из японского садика мы отправились в китайский квартал. Он был живописен и грязноват. Все в нем было китайское – жители, бумажные фонари и длинные полотнища с иероглифами. Но в лавках сидели только японцы и продавали кимоно, халаты, деревянные туфли, раскрашенные фотографии и китайские безделушки со штампом: «Made in Japan».
Наш вольный день закончился посещением футбольного матча. Играли команды двух университетов – «Санта-Клара» и «Христиан-Тексас».
Но прежде чем перейти к описанию этого события, которое в какой-то степени помогло нам понять, что такое Америка, необходимо сказать несколько слов об американском футболе вообще.
Футбол в Америке – это значит: самый большой стадион, самое большое скопление людей и автомобилей в одном месте, самый громкий крик, который только может вылететь из уст существа, имеющего две руки, две ноги, одну голову и одну, надетую набекрень, шляпу; это значит – самая большая касса, специальная футбольная пресса и особая футбольная литература (рассказы, повести и романы из футбольной жизни). Большое футбольное состязание в Америке – событие гораздо более значительное, чем концерт симфонического оркестра под управлением Тосканини, ураган во Флориде, война в Европе и даже похищение дочки знаменитого миллионера. Если какой-нибудь бандит хочет прославиться, он не должен совершать своего сенсационного преступления в день футбольного матча между армией и флотом, а найти для этого более подходящее, спокойное время. Муссолини, например, выбрал очень удобный момент для нападения на Абиссинию. В тот день в Америке не было футбольной игры, и дуче получил хорошее «паблисити» на первой странице газет. А то пришлось бы ему перекочевать на вторую или даже на третью страницу.
Матч, который мы видели в Сан-Франциско, нельзя было отнести к большим играм. Однако это была не такая уж маленькая игра, и мы не посоветовали бы Джильи или Яше Хейфецу давать в этот день концерт в Сан-Франциско.
Трибуны стадиона, переполненные в центре, по краям были почти пусты. Но в общей сложности народу на стадионе собралось тысяч тридцать. Сперва игра казалась непонятной и поэтому неинтересной.
Американский футбол ничего общего с европейским не имеет. Эти игры настолько не похожи друг на друга, что, когда в Нью-Йорке, в театре кинохроники, внезапно показали кусочек футбольного матча двух европейских команд, с публикой сделался припадок смеха.
Итак, некоторое время мы не могли понять, что происходит на поле. Люди в кожаных шлемах, немного похожие на водолазов, одни в красном, другие в белом, становились друг против друга, нагнув головы и спины, и несколько секунд стояли не двигаясь. Потом раздавался свисток, и люди бешено срывались с места. Красные и белые смешивались вместе, как нам казалось, хватая один другого за ноги. Такой переполох бывает в курятнике, когда туда заползает хорек. Чудилось даже хлопанье крыльев. Потом все падали друг на друга, образуя большую шевелящуюся кучу тел. Публика подымалась с мест и громко кричала. Свистел судья. Футболисты становились по своим местам, и все начиналось сызнова.
Первые минуты мы даже не видели мяча, то есть мы замечали его, но только на секунду, на две, а затем снова теряли его из виду. Постепенно мы научились следить за мячом и оценивать положение. К первому перерыву мы уже кое-что понимали в американском футболе, а ко второму – были уже великими его знатоками, повторяли фамилии лучших игроков и орали вместе со всеми зрителями.
В общих чертах американский футбол представляет собою вот что: есть две команды, у каждой стороны – ворота, но без верхней перекладины. Травяное поле расчерчено белыми поперечными полосами, и каждая из этих полос берется с боем. Мы не будем подробно описывать правил игры. Они слишком сложны. Важно то, как играют, что делают с мячом. Мяч – кожаный, не круглый, а продолговатый. Это, как видно, для того, чтобы его можно было крепче и удобнее держать, прижимая к животу. Когда команды выстраиваются, согнувшись, друг против друга, позади стоят три игрока. Центральный игрок бросает мяч назад из-под раздвинутых ног одному из них. Противник не сразу видит, кому попал мяч, и в этом заключается преимущество начинающих. Получивший мяч либо бьет его ногою далеко вперед в расчете, что свой игрок его поймает, либо по возможности незаметно передает мяч партнеру из рук в руки. И в этом и в другом случае получивший мяч прижимает его к животу или к боку и бежит вперед. Его имеют право толкать, хватать за ноги, ставить ему подножку. Иногда (это бывает очень редко и вызывает овации всего стадиона) игроку удается увернуться от всех нападающих и пронести мяч за крайнюю черту в лагере противника. Однако чаще всего его ловят и валят на землю. Если он при этом не выпустил мяча из рук, следующий тур, или, если хотите, пароксизм футбола, начинается с того места, где упал человек с мячом. Иногда получивший мяч, если он хороший бегун, делает огромный круг, чтобы обогнуть врагов. Но враги быстро распознают того, кто держит мяч, и мчатся ему наперерез. Он передает мяч другому, тот – третьему; но прорваться очень трудно, почти невозможно, и человека с мячом иной раз валят на землю дальше от гола, чем в ту минуту, когда начинался тур, и, таким образом, бывает потеряно несколько футов. Между турами команда, владеющая мячом, совещается по поводу дальнейшей тактики. По традиции, она отходит немного в сторону и, образовав кружок так, что видны только согнутые спины и расставленные ноги, а головы, почти касаясь друг друга, образуют центр, шепчется. Но вот придуман страшный план, игроки выстраиваются, и начинается новая захватывающая потасовка.
Команды «Санта-Клара» и «Христиан-Тексас» были почти одинаковой силы. Христианские молодые люди Техаса были немного сильнее. Почти во всех схватках тактика их сводилась к тому, что игрок, получивший мяч, бросался головой вперед в самую гущу санта-кларовцев и старался выиграть хотя бы дюйм расстояния. Его сейчас же валили. Начиналась новая схватка, и опять выигрывался дюйм. Это напоминало атаку на Западном фронте во время мировой войны, когда после трехдневной артиллерийской подготовки частям удавалось продвинуться на сто метров вперед. Медленно и неуклонно техасцы подвигались к воротам санта-кларовцев. Напряжение все усиливалось. Все громче кричали молодые люди в шапках набекрень. Теперь все наше внимание было устремлено на публику.
На трибуне стадиона друг против друга сидели студенты университетов, «болеющих» за свои команды. С нашей стороны сидели несколько тысяч санта-кларовцев в красных фуражках, со своим оркестром. Напротив нас весь центр трибун занимали специально приехавшие из Техаса христианские молодые люди в белых фуражках и тоже со своим оркестром.
Когда до последней линии «Санта-Клары» оставалось футов двадцать, техасцы поднялись со своих мест, сняли белые фуражки и, ритмично размахивая ими в сторону ворот противника, принялись кричать под команду дирижера оркестра:
– Гоу! Гоу! Гоу!
В точном переводе это значит «иди!», но скорее это надо было понимать: «Вперед! Вперед! Вперед!»
Оркестр тоже вскочил и, подымая трубы к самому небу, издавал в такт «Гоу! Гоу!» какофонические звуки.
Санта-кларовцы в своих красных фуражках понуро молчали. К перерыву победительницей вышла команда «Христиан-Тексас». Новый позор свалился на голову бедных студентов «Санта-Клары». По традиции в перерыве играет обычно оркестр победителей. И вот, в то время как игроки, выплевывая травку и выковыривая ее из ноздрей и ушей, приводили себя в порядок, чтобы приготовиться к следующему тайму, – затрещала барабанная дробь, взвыли фанфары, и на поле парадным маршем вышел белый оркестр «Христиан-Тексас». Впереди шел тамбурмажор, делая танцевальные па и виртуозно играя тонкой булавой. Оркестр исполнил марш университета. При этом сидевший без дела оркестр «Санта-Клары» испытывал такие страдания, какие, вероятно, испытывал Вагнер, слыша ненавистные звуки «Травиаты». А подлый оркестр противников все играл и играл. Теперь музыканты исполняли модные фокстроты и песенки, шагая гуськом по полю, сходясь, расходясь и выделывая различные фигуры. Дирижер извивался всем телом, выбивал чечетку и нарочно делал всякие нахальные телодвижения, чтобы раздразнить и уничтожить пораженных врагов.
Начался следующий тайм.
За стенами стадиона были видны уходящие вверх и вниз дома Сан-Франциско, тесно и свежо зеленели деревья садов, травяная площадка блестела на солнце, а легкий аромат водорослей, устриц, юности и счастья, несшийся от океана, смешивался с приторным аптекарским запахом виски. Публика для подогревания энтузиазма и в память о «сухом законе» вынимала из кармана плоские бутылочки и глотала виски прямо из горлышка, тут же на трибунах.
И снова началась интересная потасовка. На этот раз «Санта-Клара» начала недурно. Линия борьбы все ближе и ближе подходила к воротам христианских молодых людей. Тут поднялись красные фуражки. И санта-кларовские ребята принялись накачивать своих футболистов.
– Гоу! Гоу! Гоу! – кричали они звонкими юношескими голосами.
Оркестр «Санта-Клары», вскочив на скамейки, устроил такой музыкальный сумбур, что от него одного проклятые и нахальные христианские молодые люди должны были обратиться в пепел. С каждым новым свистком судьи линия игры подвигалась к воротам техасцев. Санта-кларовцы буквально лбом пробивали путь и завоевывали дюймы и футы зеленой травки. Понукаемые криками, они сгибались в три погибели и, как бодливые козлы, бросались головою в стену, состоящую из вражеских животов.
– Санта-Клара! – надрывались над нами какие-то молодые люди. – Санта-Клара! Гоу! Гоу!
Глаза их были вытаращены. Рты широко раскрыты. К зубам прилипли позабытые жевательные резинки. Близился час расплаты.
И вдруг произошло нечто ужасное. Произошло такое, от чего обе враждующие трибуны поднялись и издали единый раздирающий крик, в котором было все – и торжество, и гордость, и ужас. Одним словом, это был универсальный крик, самый громкий крик, на который только способны тридцать тысяч человек. Лучший футболист «Христиан-Тексаса» неожиданно схватил мяч и помчался к воротам «Санта-Клары». Ему нужно было пересечь все поле. Ему бежали навстречу, за ним гнались сзади, его пытались схватить за ноги сбоку. Ему бросились под ноги наиболее отчаянные защитники «Санта-Клары». Но маленький футболист, прижав мяч к животу, все бежал и бежал. Это было какое-то чудо. Сперва он бежал по краю поля, потом резко свернул на середину. Он перепрыгнул через бросившегося ему под ноги санта-кларовца и ловко увильнул от десятка тянувшихся к нему рук. Трудно передать волнение публики. Наконец игрок пробежал последнюю линию и остановился. Это было все. «Христиан-Тексас» выиграл. Наша трибуна была посрамлена. Противоположная – бурно ликовала.
«Русская горка»
Мы вернулись с футбола в прекрасном настроении и наперерыв принялись рассказывать Адамсам о наших футбольных впечатлениях. Адамсы не пошли с нами на футбол, решив воспользоваться этим временем, чтобы сходить на почту.
– Не говорите мне про футбол, – сказал нам мистер Адамс. – Это ужасная, варварская игра. Нет, серьезно, мне больно слушать, когда вы говорите про футбол. Вместо того чтобы учиться, молодые люди занимаются черт знает чем. Нет, серьезно, не будем говорить про эти глупости.
Мистер Адамс был чем-то расстроен. Перед ним лежали большой лист бумаги, сплошь испещренный цифрами и какими-то закорючками, и маленькая посылочка.
– Значит, так, Бекки, – сказал он, – шляпа в Сан-Франциско еще не пришла. А ведь мы послали в Санта-Фе распоряжение переслать шляпу именно в Сан-Франциско!
– Ты твердо помнишь, что в Сан-Франциско? – спросила миссис Адамс. – Мне почему-то казалось, что в последний раз ты просил переслать шляпу в Лос-Анжелос.
– Нет, нет, Бекки, не говори так. У меня все записано.
Мистер Адамс снял очки и, приблизив бумагу к глазам, принялся разбирать свои записи.
– Да, да, да, – бормотал он, – вот. По последним сведениям, шляпа была переслана из Детройта в Чикаго. Потом в Сан-Луи. Но так как мы не поехали в Сан-Луи, я письменно распорядился послать шляпу в Канзас. Когда мы были в Канзасе, шляпа еще не успела туда прийти.
– Хорошо, – сказала миссис Адамс, – это я помню. В Санта-Фе мы забыли пойти на почту, и ты писал им письмо из Лас-Вегас! Помнишь, одновременно с этим ты послал ключ в Грэнд-кэньон. Не спутал ли ты адреса?
– Ах, Бекки, как ты можешь так подумать! – простонал мистер Адамс.
– Тогда что это за посылка? – воскликнула Бекки. – Она такая маленькая, что в ней не может быть шляпы!
Супруги Адамс пришли с почты только что и еще не успели открыть посылочки. Ящичек вскрывали долго и аккуратно, горячо обсуждая, что в нем может содержаться.
– А вдруг это мои часы из Грэнд-кэньона! – заметил мистер Адамс.
– Как это могут быть часы из Грэнд-кэньона, если ящичек выслан из Санта-Фе!
Наконец посылку вскрыли. В ней лежал ключ с круглой медной бляхой, на которой была выбита цифра «82».
– Так и есть! – воскликнула миссис Адамс.
– Что «так и есть», Бекки? – льстиво спросил мистер Адамс.
– Так и есть! Это ключ от номера в Грэнд-кэньоне, который ты по ошибке послал в Санта-Фе на почту. А распоряжение о пересылке шляпы ты, очевидно, послал в Грэнд-кэньон, в кэмп. Я думаю, просьба возвратить часы, которые я тебе подарила, тоже вместо Грэнд-кэньона попала в Санта-Фе.
– Но, Бекки, не говори так опрометчиво, – пробормотал мистер Адамс. – Почему обязательно я во всем виноват? Нет, серьезно, Бекки, я призываю тебя к справедливости. Тем более что это все легко исправить. Мы напишем… Да… Куда же мы напишем?
– Прежде всего надо послать ключ и этот проклятый плед, который ты захватил во Фрезно.
– Но, Бекки, ведь я оставил во Фрезно бинокль, а он, я думаю, дороже пледа.
– Хорошо. Значит, ключ – в Грэнд-кэньон, плед – во Фрезно, а в Санта-Фе – насчет часов… То есть нет, насчет часов – в Грэнд-кэньон, а в Санта-Фе надо прежде всего послать извинение. Затем…
– А шляпа, Бекки? – ласково спросил мистер Адамс.
– Да погоди ты! Да, шляпа. Со шляпой мы сделаем так…
В это время раздался стук в дверь, и в комнату вошел человек огромного роста, с широкими круглыми плечами и большой круглой головой, на которой сидела маленькая кепка с пуговкой. Человек этот, очевидно чувствуя величину своего тела, старался делать совсем маленькие шажки и при этом ступать как можно тише. Тем не менее паркет под ним затрещал, как будто в комнату вкатили рояль. Остановившись, незнакомец сказал тонким певучим голосом на превосходном русском языке:
– Здравствуйте. Я к вам от нашей молоканской общины. Вы уж пожалуйста. Это уж у нас такой порядок, если кто из России приезжает… Просим пожаловать на наше молоканское чаепитие. У меня и автомобиль с собой, так что вы не беспокойтесь.
Мы много слышали о русских молоканах в Сан-Франциско, оторванных от родины, но, подобно индейцам, сохранивших язык, свои нравы и обычаи.
Через пять минут мистер Адамс и посланец молоканской общины были друзьями. Мистер Адамс показал хорошее знание предмета и ни разу не спутал молокан с духоборами или субботниками.
По пути на Русскую горку, где живут сан-францисские молокане, наш проводник рассказывал историю их переселения.
Когда-то, давным-давно, молокане жили на Волге. Их притесняло царское правительство, подсылало к ним попов и миссионеров. Молокане не поддавались. Тогда их переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать то, что делали веками, – сеять хлеб. Но жить становилось все труднее, преследования делались ожесточеннее, и молокане решили покинуть родную страну, оборотившуюся к ним мачехой. Куда ехать? Люди едут в Америку. Поехали в Америку и они – пятьсот семейств. Было это в тысяча девятьсот втором году. Как они попали в Сан-Франциско? Да так как-то. Люди ехали в Сан-Франциско. Поехали в Сан-Франциско и они. Нашему гиганту провожатому было на вид лет сорок. Значит, попал он в Америку шестилетним мальчиком. Но это был такой русский человек, что даже не верилось, будто он умеет говорить по-английски. В Америке молокане хотели по-прежнему заняться хлебопашеством, но на покупку земли не было денег. И они пошли работать в порт. С тех пор сан-францисские молокане – грузчики. В городе молокане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков, выстроили небольшую молельню, которую торжественно называют «Молокан-черч», устроили русскую школу, и горка стала называться «Русской горкой». Октябрьскую революцию молокане встретили не по-молокански, а по-пролетарски. Прежде всего в них заговорили грузчики, а уж потом молокане. Впервые за свою жизнь люди почувствовали, что у них есть родина, что она перестала быть для них мачехой. Во время коллективизации один из уважаемых молоканских старцев получил от своих племянников из СССР письмо, в котором они спрашивали у него совета – входить им в колхоз или не входить. Они писали, что другой молоканский старец в СССР отговаривает их от вступления в колхоз. И старый человек, не столько старый молоканский проповедник, сколько старый сан-францисский грузчик, ответил им – вступать. Этот старик с гордостью говорил нам, что теперь часто получает от племянников благодарственные письма. Когда в Сан-Франциско приезжал Трояновский, а потом Шмидт, молокане встречали их цветами.
Мы долго ехали по городу, подымаясь с горки на горку. Кажется, проехали китайский квартал.
– А вот и Русская горка, – сказал наш могучий драйвер, переводя рычаг на вторую скорость.
Машина зажужжала и принялась карабкаться по булыжной мостовой вверх.
Нет, тут ничего не напоминало Сан-Франциско! Эта уличка походила скорей на окраину старой Тулы или Калуги. Мы остановились возле небольшого дома с крыльцом и вошли внутрь. В первой комнате, где на стене висели старинные фотографии и вырезанные из журналов картинки, было полно народу. Тут были бородатые, пожилые люди в очках. Были люди и помоложе, в пиджаках, из-под которых виднелись русские рубашки. Точно такую одежду надевали русские дореволюционные рабочие в праздничный день. Но самое сильное впечатление произвели женщины. Хотелось даже провести рукой по глазам, чтобы удостовериться, что такие женщины могут быть в тысяча девятьсот тридцать шестом году, и не где-нибудь в старорусской глуши, а в бензиново-электрическом Сан-Франциско, на другом конце света. Среди них мы увидели русских крестьянок, белолицых и румяных, в хороших праздничных кофтах с буфами и широких юбках, покрой которых был когда-то увезен из России, да так и застыл в Сан-Франциско без всяких изменений; увидели рослых старух с вещими глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это бы еще ничего. Но откуда взялся ситец в самую настоящую цинделевскую горошинку! Женщины говорили мягко и кругло, певучими окающими голосами и, как водится, подавали руку лопаточкой. Многие из них совсем не умели говорить по-английски, хотя и прожили в Сан-Франциско почти всю свою жизнь. Собрание напоминало старую деревенскую свадьбу, когда все уже в сборе, а веселье еще не начиналось.
Почти все мужчины были высокие и плечистые, как тот первый, который за нами заехал. У них были громадные руки – руки грузчиков.
Нас пригласили вниз. Внизу было довольно просторное подвальное помещение. Там стоял узкий длинный стол, уставленный пирожками, солеными огурцами, сладким хлебом, яблоками. На стене висели портреты Сталина, Калинина и Ворошилова. Все расселись за столом, и началась беседа. Нас расспрашивали о колхозах, заводах, о Москве. Подали чай в стаканах, и вдруг самый огромный из молокан, довольно пожилой человек в стальных очках и с седоватой бородкой, глубоко набрал воздух и запел необычайно громким голосом, сначала показалось даже – не запел, а закричал:
Извела меня кручина,
Подколодная змея.
Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я.
Песню подхватили все мужчины и женщины. Они пели так же, как и запевала, – во весь голос. В этом пении не было никаких нюансов. Пели фортиссимо, только фортиссимо, изо всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного неприятное вначале, пение становилось все слаженнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нем было что-то грустное. В особенности хороши были бабьи голоса, исступленно выводившие высокие ноты. Такие вот пронзительные и печальные голоса неслись куда-то над полями, в сумерки, после сенокоса, неустанно звенели, медленно затихая и смешиваясь наконец со звоном сверчков. Люди пели эту песню на Волге, потом среди курдов и армян, возле Карса. Теперь поют ее в Сан-Франциско, штат Калифорния. Если погнать их в Австралию, в Патагонию, на острова Фиджи, они и там будут петь эту песню.
Песня – вот все, что осталось у них от России. Потом человек в очках подмигнул нам и запел:
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.
Мистер Адамс, который уже несколько раз вытирал глаза и был растроган еще больше, чем во время разговора с бывшим миссионером о мужественных индейцах наваго, не выдержал и запел вместе с молоканами.
Но тут нас ожидал сюрприз. В словах: «Черные дни миновали, час искупленья настал» – молокане сделали свою идеологическую поправку. Они спели так: «Черные дни миновали, путь нам Христос указал». Мистер Адамс, старый безбожник и материалист, не разобрал слов и бодро продолжал петь, широко раскрывая рот.
Когда песня окончилась, мы спросили, что означает это изменение текста.
Запевала снова значительно подмигнул нам и сказал:
– У нас песенник есть. Мы поем по песеннику. Только это – баптистская песня. Мы ее так специально для вас спели.
Он показал сильно потрепанную книжицу. В предисловии сообщалось:
«Песни бывают торжественные, унывные и средние».
«Путь нам Христос указал» – очевидно, считается средней.
Для того чтобы доставить нам удовольствие, молокане с большим воодушевлением спели песню Демьяна Бедного – «Как родная меня мать провожала», спели полностью, строчка в строчку, а затем долго еще пели русские песни.
Потом опять была беседа. Разговаривали друг с другом о разных разностях. Расспрашивали нас, нельзя ли устроить возвращение молокан на родину.
Рядом с нами заспорили два старика.
– Вся рабства под солнцем произошла от попов, – сказал один старик.
Другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора.
– Мы двести лет попам не платили! – воскликнул первый.
Второй с этим тоже согласился, и опять в тоне спора. Мы в эту двухсотлетнюю распрю не вмешивались.
Пора было уходить. Мы распрощались с нашими радушными хозяевами. Напоследок, уже стоя, молокане повторили «Как родная меня мать провожала», – и мы вышли на улицу.
С Русской горки хорошо был виден светящийся город. Он распространился далеко во все стороны. Внизу кипели американские, итальянские, китайские и просто морские страсти, строились чудесные мосты, на острове в федеральной тюрьме сидел Аль Капонэ, а здесь в какой-то добровольной тюрьме сидели люди со своими русскими песнями и русским чаем, сидели со своей тоской огромные люди, почти великаны, потерявшие родину, но помнящие о ней ежеминутно и повесившие в память о ней портрет Сталина.
Капитан Икс
Жалко было покидать Сан-Франциско. Но Адамсы были неумолимы – все путешествие должно было уложиться в два месяца, и ни одним днем больше.
– Да, да, сэры, – говорил мистер Адамс, сияя, – мы не должны мучить нашу бэби больше чем шестьдесят дней. Мы получили сегодня письмо. На прошлой неделе бэби повели в зоологический сад и показали ей аквариум. Когда бэби увидела столько рыб сразу, она закричала: «No more fish!» – «Не надо больше рыб!» Наша бэби скучает. Нет, нет, сэры, мы должны ехать как можно скорее.
Полные сожаления, мы в последний раз проезжали по живописным горбатым улицам Сан-Франциско. Вот в этом маленьком сквере мы могли посидеть на скамеечке и не посидели, по этой шумной улице мы могли бы гулять, но не были на ней ни разу, вот в этом китайском ресторанчике могли бы расчудесно позавтракать, но почему-то не позавтракали. А притоны, притоны! Ведь мы забыли самое главное – знаменитые притоны старого Фриско, где шкиперы разбивают друг другу головы толстыми бутылками от рома, где малайцы отплясывают с белыми девушками, где дуреют от опиума тихие китайцы. Ах, забыли, забыли! И уже ничего нельзя поделать, надо ехать!
Мы уносились все дальше и дальше от Сан-Франциско по дороге, проложенной вдоль океана. Еще вчера мы были в Калифорнийском университете. Мы видели профессора славянской литературы, мистера Кауна, и он, держа в руках книжку рассказов Льва Толстого на татарском языке, рассказывал своим студентам о национальной политике СССР, о культурном развитии народов. Маленький, седой и элегантный, профессор перемежал свою лекцию остротами, несколько десятков молодых людей внимательно слушали о далекой стране с новым и удивительным укладом жизни. Вечер мы провели в домике профессора, на берегу Сан-Францисской бухты, возле Беркли. Мистер Каун пригласил к себе человек пятнадцать своих лучших студентов. Пылал камин, молодые люди и девушки сидели на полу, болтали, щелкали китайские орешки. Одна из девушек поднялась, ушла куда-то и через десять минут вернулась с мокрыми распущенными, как у русалки, волосами. Она купалась в заливе. На кухне, в большом деревянном ящике спали шесть новорожденных щенков. Профессор часто ходил туда и, умиленно сложив руки, смотрел на песиков. Потом мы вышли на берег залива и, озаренные лунным светом, бродили по песчаному пляжу. Молодые люди сели в кружок и хором спели несколько студенческих песен. Сначала была исполнена боевая песня «медведей», направленная против станфордских студентов, заклятых врагов Калифорнийского университета на футбольном поле. Студенты Калифорнийского университета называют себя «медведями». Напевшись вдоволь (пели они довольно стройно, но жидковато: один молоканин мог бы заглушить их своим голосом), они рассказали нам, что в Калифорнийском университете учится студент восьмидесяти четырех лет от роду. Движет им не только необычайная любовь к знаниям. Есть еще одно обстоятельство. Давно-давно, когда этот более чем старый студент был юношей, он получил от дяди наследство. По точному смыслу завещания, наследник должен был пользоваться процентами с огромного капитала до тех пор, пока не окончит университета. После этого наследство должно было быть обращено на благотворительные цели. Таким образом дядя-бизнесмен хотел убить наповал двух зайцев – дать образование племяннику и замолить перед богом грехи, неизбежно связанные с быстрым обогащением. Но племянник оказался не меньшим бизнесменом, чем дядя. Он записался в университет и с тех пор числится студентом, получая проценты с капитала. Продолжается это хамство уже шестьдесят пять лет, и покойный дядя-бизнесмен никак не может перекочевать из ада в рай. В общем, забавный случай в истории Калифорнийского университета.
Все это было вчера, а сегодня, обдуваемые океанским ветром, мы мчались по «Золотому штату», направляясь к Лос-Анжелосу. Проезжая городок Монтерей, мы увидели возле одного деревянного дома памятную доску: «Здесь жил Роберт Льюис Стивенсон вторую половину 1879 года». Мы ехали по дороге не только удобной и красивой, но и какой-то щеголеватой. Все вокруг казалось щеголеватым – и светлые домики, и пальмы, листья которых блестели так, как будто их только что выкрасили эмалевой зеленой краской, и небо, вид которого ясно показывал, что дожидаться появления на нем облаков безнадежное дело. Только океан гремел и бесновался, как неблаговоспитанный родственник на именинах в порядочном семействе.
– Сэры, – сказал мистер Адамс, – вы едете по одному из немногих мест в Соединенных Штатах, где живут рантье. Америка это не Франция, где рантье встречаются в каждом городе. Американцы почти никогда не останавливаются на какой-то заранее установленной сумме – они продолжают добывать и добывать. Но находятся чудаки, которые решают вдруг предаться отдыху. Чаще всего это бывают не очень богатые люди, потому что богатый человек может устроить себе Калифорнию даже в своем нью-йоркском доме. Калифорния привлекает дешевизной жизни и климатом. Смотрите, смотрите! В этих домиках, которые мы сейчас проезжаем, живут маленькие рантье. Но не только рантье живут в Калифорнии. Иногда попадаются представители особой человеческой породы – американские либералы. Сэры! Наши радикальные интеллигенты – честные, хорошие люди. Да, да, сэры, было бы глупо думать, что Америка – это только стандарт, только погоня за долларами, только игра в бридж или поккер. Но, но, сэры! Вспомните того молодого мистера, у которого мы провели вечер недавно.
«Молодой мистер», старый знакомый Адамса, происходил из аристократической семьи. Родители его были очень богаты. Он получил прекрасное воспитание, и его ожидала легкая, утонченная жизнь, без забот и дум, с тремя автомобилями, гольфом, красивой и нежной женой, вообще всем, что только могут дать в Америке богатство и происхождение из пионерской семьи, предки которой высадились на «Мэйфлауэре» несколько веков назад. Но от всего этого он отказался.
Мы пришли к нему поздно вечером (это было в большом промышленном городе). У него была наемная квартира, состоящая из одной просторной комнаты с газовым камином, пишущей машинкой, телефоном и почти без мебели. Хозяин и его жена, немецкая коммунистка, были не по-американски бледны. Это была бледность людей, рабочий день которых не регламентирован и слишком часто простирается за полночь, людей, у которых нет ни времени, ни денег, чтобы заниматься спортом, людей, питающихся как попало и где попало и полностью отдающих себя избранному делу.
Убедившись в несправедливости капиталистического строя, молодой человек не ограничился чтением приятных, возвышающих душу книг, сделал все выводы, пошел до конца, бросил богатого папу и вступил в коммунистическую партию. Сейчас это партийный работник.
Через полчаса после нас пришел еще один гость, секретарь районного комитета партии. Мебели не хватило, и хозяин уселся на пол. Перед нами были два типичных представителя американского коммунизма – коммунист-рабочий и коммунист-интеллигент.
Секретарь был молодой, скуластый, похожий на московского комсомольца. Казалось, ему не хватало для полного сходства только кепки с длинным козырьком, нависшим, как карниз. Он был докером и сейчас проводил большую забастовку портовых грузчиков.
– Мы потеряли уже нескольких человек убитыми, но будем бороться до конца, – сказал он. – Вчера ночью полиция пыталась подвезти к пароходам штрейкбрехеров. Они стали теснить наших пикетчиков и пустили в ход револьверы. Место стычки полицейские осветили прожектором. Многим рабочим грозил арест. Тогда один из наших прорвался к прожектору и бросил в стекло булыжник. Прожектор потух, и рабочим в темноте удалось отстоять свои позиции и не пропустить штрейкбрехеров. Эту забастовку трудно проводить, потому что у нас нет единства профессионального движения – грузчики бастуют, а моряки работают. На нашем побережье идет забастовка, а на Атлантическом побережье работают. Конечно, хозяева этим пользуются и направляют грузы в атлантические порты. Это им обходится дороже, но для них дело сейчас не в деньгах. Им надо нас сломить. Мы много все-таки работаем над единством профессионального движения и надеемся на успех.
Он внезапно задумался и промолвил:
– Если бы нам достать хоть какой-нибудь автомобиль, хоть самый старый. У меня огромный район. Когда мне нужно поехать куда-нибудь по партийным делам, я выхожу на дорогу и поднимаю большой палец. Большой палец – это все средства, отпущенные мне на передвижение.
Он заговорил о тридцати долларах, которые нужны, чтобы начать борьбу против средневековой эксплуатации мексиканцев и филиппинцев на луковичных плантациях. Но их не было, этих тридцати долларов. Их еще только надо было доставать.
Некоторые партийные работники живут на два доллара в неделю. Смешная цифра для страны миллионеров. Но что ж, со своими жалкими крохами они мужественно встали на борьбу с Морганами. И делают успехи. Морганы со своими миллиардами, со своей могучей прессой боятся их и ненавидят.
Миссис Адамс с женой нашего хозяина давно ушли куда-то и сейчас только вернулись с хлебом и колбасой. Покамест мы доканчивали разговор, они делали бутерброды на шатающемся столике. Зрелище, о котором у нас знают уже только по музейным рисункам, изображающим быт русских революционеров накануне тысяча девятьсот пятого года.
– …Да, мистер Илф и мистер Петров, я вижу, вы вспомнили этих хороших людей, – продолжал Адамс. – Американцы умеют увлекаться идеями. А так как они вообще деловые люди и умеют работать, то и в революционном движении они занимаются делом, а не болтовней. Вы видели этого секретаря. Очень деловой молодой человек. Я вам советую, сэры, остановиться в Кармеле, вы увидите там людей еще более интересных. В Кармеле живет Линкольн Стеффенс. Сэры, это один из лучших людей Америки.
Дорога то подходила к океану, то уходила от него снова. Иногда мы проезжали длинными аллеями высоких пальм, иногда поднимались на пригорки среди зеленых садов и курортных домиков. В маленьком тихом городке Кармел мы позавтракали в ресторанчике, на стенах которого были развешаны фотографии знаменитых киноартистов с их автографами. Тут уже пахло Голливудом, хотя до него было еще миль двести.
Заросшие зеленью улички Кармела спускаются к самому берегу океана. Тут, так же как и в Санта-Фе и Таосе, живет много художников и писателей.
Альберт Рис Вильямс, американский писатель и друг Джона Рида, совершивший вместе с ним путешествие в Россию во время революции, большой седой человек с молодым лицом и добродушно сощуренными глазами, встретил нас во дворе маленького ветхого дома, который он снимал помесячно. Его домик походил на все американские домики только тем, что там был камин. Все остальное было уже не похоже. Стояла неожиданная тахта, накрытая ковром, было много книг, на столе лежали брошюры и газеты. Сразу бросалось в глаза – в этом доме читают. В своей рабочей комнате Вильямс открыл большую камышовую корзину и чемодан. Они были доверху наполнены рукописями и газетными вырезками.
– Вот, – сказал Вильямс, – материалы к книге о Советском Союзе, которую я заканчиваю. У меня есть еще несколько корзин и чемоданов с материалами. Я хочу, чтобы моя книга была совершенно исчерпывающей и дала американскому читателю полное и точное представление об устройстве жизни в Советском Союзе.
Вильямс несколько раз был у нас и в один из своих приездов прожил целый год в деревне.
Вместе с Вильямсом и его женой, сценаристкой Люситой Сквайр, мы отправились к Линкольну Стеффенсу. На Люсите Сквайр было холщовое мордовское платье с вышивкой.
– Это я ношу в память о России, – сказала она.
Мы шли берегом океана, не уставая им восхищаться.
– Черное море лучше, – заметила Люсита Сквайр. Мы похвалили Кармел, его домики, деревья, тишину.
– Москва мне больше нравится, – сухо заметила Люсита Сквайр.
– Вы ее не слушайте, – сказал Вильямс, – она одержимая. Она постоянно думает о Москве. Ей ничего не нравится на свете, только Москва. После того как она побывала там, она возненавидела все американское. Вы же слышали! Она сказала, что Черное море красивее, чем Тихий океан. Она даже способна сказать, что Черное море больше, чем Тихий океан: только потому, что Черное море – советское.
– Да, – сказала Люсита упрямо, – я это говорю и буду говорить. Хочу в Москву! Мы не должны сидеть здесь ни минуты!
Разговаривая так, мы подошли к дому Линкольна Стеффенса, почти не видному с улички за густой зеленью.
Стеффенс – знаменитый американский писатель. Его автобиография в двух томах стала в Америке классическим произведением.
Сердечная болезнь не позволяла ему встать с постели. Мы вошли в комнату, где стояла головами к окну железная белая кровать. В ней, опираясь на подушки, полулежал старик в золотых очках. Немножко ниже его груди, на одеяле, стояла низенькая скамеечка, на которой помещалась портативная пишущая машинка. Стеффенс заканчивал статью.
Болезнь Стеффенса была неизлечима. Но, как и все обреченные люди, даже понимающие свое положение, он мечтал о будущем, говорил о нем, строил планы. Собственно, для себя у него был только один план: уехать в Москву, чтобы увидеть перед смертью страну социализма и умереть там.
– Я не могу больше оставаться здесь, – тихо сказал он, поворачивая голову к окну, будто легкая и вольная природа Калифорнии душила его, – я не могу больше слышать этого идиотского оптимистического смеха.
Это сказал человек, который всю свою жизнь верил в американскую демократию, поддерживал ее своим талантом писателя, журналиста и оратора. Всю жизнь он считал, что общественное устройство Соединенных Штатов идеально и может обеспечить людям свободу и счастье. И какие бы удары ни получал он на этом пути, он всегда оставался верным ему. Он говорил: «Все дело в том, что в нашей администрации мало честных людей. Наш строй хорош, нам нужны только честные люди».
А теперь он сказал нам:
– Я хотел написать для своего сына книгу, в которой решил рассказать всю правду о себе. И на первой же странице мне пришлось…
Внезапно мы услышали короткое глухое рыдание: Линкольн Стеффенс плакал. Он закрыл руками свое тонкое и нервное лицо – лицо ученого.
Жена подняла его голову и дала ему платок. Но он, уже не стесняясь своих слез, продолжал:
– Мне пришлось открыть сыну, как тяжело всю жизнь считать себя честным человеком, когда на самом деле был взяточником. Да, не зная этого, я был подкуплен буржуазным обществом. Я не понимал, что слава и уважение, которыми я был награжден, являлись только взяткой за то, что я поддерживал несправедливое устройство жизни.
Год тому назад Линкольн Стеффенс вступил в коммунистическую партию.
Мы долго обсуждали, как перевезти Стеффенса в Советский Союз. Ехать поездом ему нельзя, не позволит больное сердце. Может быть, пароходом? Из Калифорнии через Панамский канал – в Нью-Йорк, а оттуда через Средиземное море – на черноморское побережье. Пока мы строили эти планы, Стеффенс, обессиленный разговором, лежал в постели, положив руку на пишущую машинку. Затихший, в белой рубашке с отложным воротом, худой, с маленькой бородкой и тонкой шеей, он походил на умирающего Дон-Кихота.
Было уже темно, когда мы шагали назад, к дому Вильямса. За нами шел мистер Адамс под ручку с Бекки и, вздыхая, бормотал:
– Нет, нет, сэры, было бы глупо думать, что в Америке мало замечательных людей.
Вечер мы провели у одного кармельского архитектора, где собралась на вечеринку местная интеллигенция.
В довольно большом испанском зале, с деревянными балками под потолком, было много людей. Маленький, как куколка, хозяин, бритый, но с длинными артистическими волосами, учтиво угощал собравшихся прохладительными напитками и сиропами. Дочка его с решительным видом подошла к роялю и громко сыграла несколько пьес. Все слушали с крайним вниманием. Это напоминало немую сцену из «Ревизора». Гости остановились в той позиции, в какой застигла их музыка, – кто со стаканом, поднесенным ко рту, кто с изогнутым в разговоре станом, кто с тарелочкой в руках, на которой лежало тощее печенье. Один только низенький человек, ширина плеч которого равнялась его росту, не проявлял достаточной деликатности. Он что-то громко рассказывал. Заросшие мясом, сплющенные уши выдавали в нем боксера. Мистер Адамс потащил нас к нему. Его представили нам как бывшего чемпиона мира по боксу, мистера Шарки, человека богатого (три миллиона долларов), удалившегося от дел и отдыхающего в Кармеле среди радикальной интеллигенции, которой он очень сочувствует.
Мистер Шарки радостно вытаращил свои бледноватые глазки и сразу дал нам пощупать свои мускулы. Все гости уже перещупали мускулы мистера Шарки, а он все не мог успокоиться, все сгибал свои короткие могучие руки.
– Надо выпить, – сказал вдруг мистер Шарки.
С этими словами он увел к себе человек пятнадцать архитекторовых гостей, включая его музыкальную дочку и нас с Вильямсами и Адамсами.
Чемпион мира снимал прекрасный домик, прямо к окнам которого Тихий океан подкатывал свои освещенные лунным светом волны. Шарки открыл шкаф, оттуда появились ромы, джины, разные сорта виски и даже греческая мастика, то есть все самое крепкое, что только изготовляет мировая спиртоводочная промышленность.
Составив адские смеси и раздав гостям бокалы, мистер Шарки раскрыл свои бледные глаза еще шире и принялся бешено врать.
Первым долгом он заявил, что убежден в невиновности Бруно Гауптмана, убийцы ребенка Линдберга, и мог бы явиться свидетелем по этому делу, если бы не боялся обнаружить свою связь с бутлегерами, торговцами спиртом во время «сухого закона».
Потом он рассказал, как однажды, командуя трехмачтовой шхуной, он поплыл к Южному полюсу, как шхуна обледенела и команда хотела его убить, но он один подавил бунт всей команды и благополучно вывел корабль в теплые широты. Это был слишком красочный, слишком корсарский рассказ, чтобы не выпить по этому случаю еще разик.
Потом мистер Шарки сообщил, что обожает радикальную интеллигенцию и что в Америке надо как можно скорее делать революцию. Потом он повел всех в спальню и показал трех девочек, спавших в трех кроватках. Тут же он рассказал весьма романтическую историю о том, как от него убежала жена с его же собственным швейцаром, как он гнался за ними, настиг и с револьвером в руке заставил изменника-швейцара жениться на соблазненной им женщине. Своих девочек он учит по утрам маршировать, считая, что это правильное воспитание.
В общем, мистер Шарки не давал своим гостям скучать ни минуты.
Он повел гостей в гимнастический зал, снял с себя рубашку и, голый по пояс, стал подтягиваться на турнике. В заключение он надел боксерские перчатки и вызвал желающих на товарищеский матч.
В глазах мистера Адамса зажегся тот огонек, который мы уже видели, когда он садился на электрический стул и когда он пел вместе с молоканами духовные гимны. Этот человек должен был испытать все.
Ему нацепили на руки кожаные перчатки, и он с мальчишеским визгом бросился на чемпиона мира. Отставной чемпион стал прыгать вокруг мистера Адамса, защищая себя с деланым ужасом. Оба толстяка прыгали и истерически взвизгивали от смеха. В конце концов мистер Адамс повалился на скамью и стал растирать слегка поврежденное плечо. Потом гости выпили еще по бокалу и разошлись по домам.
Наутро, попрощавшись с Линкольном Стеффенсом, мы выехали в Голливуд.
Через полгода мы получили от нашего друга, мистера Адамса, письмо. Конверт был полон газетных вырезок. Мы узнали много новостей о Кармеле. Рис Вильямс кончил свою книгу о Советском Союзе, но теперь, с опубликованием проекта новой Конституции, он снова сел за работу, чтобы внести в книгу нужные дополнения.
Добрейший мистер Шарки, наивный, как дитя, капитан шхуны и бутлегер, «чемпион мира» Шарки оказался полицейским агентом, связанным с фашистским «Американским легионом», а кроме того – старым провокатором, предавшим когда-то Биля Хейвуда, знаменитого лидера «Индустриальных рабочих мира». И вовсе он не мистер Шарки. Он также еще и кептэн Вакси, он же Бергер, он же Форстер. В дни войны, когда он предал в Чикаго Биля Хейвуда, он был знаменитым чикагским ракетиром и носил кличку «Капитан Икс».
А еще через месяц мы прочли в газете, что в городе Кармел, штат Калифорния, на семидесятом году жизни умер писатель Линкольн Стеффенс.
Так и не пришлось ему умереть в стране социализма.
Он умер от паралича сердца за своей машинкой. На листе бумаги, который торчал из нее, была недописанная статья об испанских событиях. Последние слова этой статьи были следующие:
«Мы, американцы, должны помнить, что нам придется вести такой же бой с фашистами».
Четыре стандарта
Страшно выговорить, но Голливуд, слава которого сотни раз обошла весь мир, Голливуд, о котором за двадцать лет написано больше книг и статей, чем за двести лет о Шекспире, великий Голливуд, на небосклоне которого звезды восходят и закатываются в миллионы раз быстрее, чем об этом рассказывают астрономы, Голливуд, о котором мечтают сотни тысяч девушек со всех концов земного шара, – этот Голливуд скучен, чертовски скучен. И если зевок в маленьком американском городе продолжается несколько секунд, то здесь он затягивается на целую минуту. А иногда и вовсе нет сил закрыть рот. Так и сидишь, зажмурив в тоске глаза и раскрывши пасть, как пойманный лев.
Голливуд – правильно распланированный, отлично асфальтированный и прекрасно освещенный город, в котором живут триста тысяч человек. Все эти триста тысяч либо работают в кинопромышленности, либо обслуживают тех, кто в ней работает. Весь город занят одним делом – крутит картины, или – как выражаются в Голливуде – «выстреливает» картины. Треск съемочного аппарата очень похож на треск пулемета, отсюда и пошел термин «выстреливать». Все это почтенное общество «выстреливает» в год около восьмисот картин. Цифра грандиозная, как и все цифры в Америке.
Первая прогулка по голливудским улицам была для нас мучительна. Странное дело! Большинство прохожих казались нам знакомыми. Никак нельзя было отделаться от мысли, что где-то мы уже видели этих людей, знакомы с ними и что-то про них знаем. А где видели и что знаем – хоть убейте, никак не вспоминается!
– Смотрите, смотрите, – кричали мы друг другу, – ну, этого, в светлой шляпе с модной узенькой лентой, мы ведь безусловно видели. Эти нахальные глаза невозможно забыть! Где же мы с ним встречались?
Но за человеком с нахальными глазами шли еще сотни людей – были старики, похожие на композиторов, но фальшиво насвистывавшие модную песенку «Чикта-чик» из картины «Цилиндр», и старики, похожие на банкиров, но одетые как мелкие вкладчики банка, и молодые люди в самых обыкновенных кожаных курточках, но смахивающие на гангстеров. Только девушки были в общем все на одно лицо, и это лицо было нам мучительно, неприятно знакомо, как знакомы были физиономии молодых людей с гангстерскими чертами и почтенные старики, не то банкиры, не то композиторы, не то бог знает кто. Под конец это стало невыносимо. И только тогда мы сообразили, что всех этих людей видели в кинокартинах, что все это актеры или статисты, люди второго и третьего плана. Они не настолько известны, чтобы точно запомнить их лица и фамилии, но в то же время в памяти заложено какое-то смутное воспоминание об этих людях.
Где мы видели этого красавца с мексиканскими бачками? Не то он подвизался в картине под названием «Люби только меня», не то – в танцевальной кинопьесе «Встретимся ровно в полночь».
Аптеки в Голливуде роскошны. Отделанные никелем и стеклом, снабженные вышколенным персоналом в белых курточках с погончиками, эти учреждения достигли такого совершенства в работе, что больше напоминают машинные залы электрических станций. Этому впечатлению способствуют шипенье кранов, легкий гул маленьких моторчиков, сбивающих «молтед милк», и металлический вкус сэндвичей.
Над городом светило сильное рождественское солнце. Плотные черные тени падали на асфальтовую землю. В голливудском климате есть что-то неприятное. В солнце нет ничего солнечного, оно похоже на горячую луну, хотя и греет очень сильно. В воздухе все время ощущается какая-то болезненная сухость, и запах отработанного бензина, пропитавшего город, несносен.
Мы прошли под уличными фонарями, на которые были насажены искусственные картонные елки с электрическими свечами. Эта декорация была устроена торговцами по случаю наступления рождества. Рождество в Америке – это великий и светлый праздник коммерции, ни в какой связи с религией не стоящий. Это грандиозная распродажа завали, и при всей нелюбви к богу мы никак не можем обвинить его в соучастии в этом темном деле.
Но прежде чем рассказать о боге, о торговле и голливудской жизни, надо поговорить об американском кино. Это предмет важный и интересный.
Мы, московские зрители, немножко избалованы американской кинематографией. То, что доходит в Москву и показывается небольшому числу киноспециалистов на ночных просмотрах, – это почти всегда лучшее, что создано Голливудом.
Москва видела картины Луи Майльстона, Кинг Видора, Рубена Мамульяна и Джона Форда, кинематографическая Москва видела лучшие картины лучших режиссеров. Московские зрители восхищались свинками, пингвинами и мышками Диснея, восхищались шедеврами Чаплина. Эти режиссеры, за исключением Чаплина, который выпускает одну картину в несколько лет, делают пять, восемь, десять картин в год. А, как нам уже известно, американцы «выстреливают» в год восемьсот картин. Конечно, мы подозревали, что эти остальные семьсот девяносто картин не бог весть какое сокровище. Но ведь видели мы картины хорошие, а о плохих только слышали. Поэтому так тяжелы впечатления от американской кинематографии, когда знакомишься с ней на ее родине.
В Нью-Йорке мы почти каждый вечер ходили в кино. По дороге в Калифорнию, останавливаясь в маленьких и больших городах, мы ходили в кино уже не почти, а просто каждый вечер. В американских кино за один сеанс показывают две большие картины, маленькую комедию, одну мультипликацию и несколько журналов хроники, снятой разными кинофирмами. Таким образом, одних больших кинокартин мы видели больше ста.
Кинорепортер в Америке дает самые последние новости, мультипликации Диснея великолепны, среди них попадаются настоящие шедевры, техника американского кино не нуждается в похвалах – всем известно, что она стоит на очень высоком уровне, – но так называемые «художественные» картины просто пугают.
Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека – смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость. Верблюд может неделю обходиться без воды, известный сорт американских зрителей может двадцать лет подряд смотреть бессмысленные картины. Каждый вечер мы входили в помещение кинематографа с какой-то надеждой, а выходили с таким чувством, будто съели надоевший, известный во всех подробностях, завтрак № 2. Впрочем, зрителям, самым обыкновенным американцам – работникам гаражей, продавщицам, хозяевам торговых заведений, – картины эти нравятся. Сначала мы удивлялись этому, потом огорчались, потом стали выяснять, как это произошло, что такие картины имеют успех.
Тех восьми или десяти картин, которые все-таки хороши, мы так и не увидели за три месяца хождения по кинематографам. В этом отношении петух, разрывавший известную кучу, был счастливее нас. Хорошие картины нам показали в Голливуде сами режиссеры, выбрав несколько штук из сотен фильмов за несколько лет.
Есть четыре главных стандарта картин: музыкальная комедия, историческая драма, фильм из бандитской жизни и фильм с участием знаменитого оперного певца. Каждый из этих стандартов имеет только один сюжет, который бесконечно и утомительно варьируется. Американские зрители из года в год фактически смотрят одно и то же. Они так к этому привыкли, что, если преподнести им картину на новый сюжет, они, пожалуй, заплачут, как ребенок, у которого отняли старую, совсем истрепавшуюся, расколовшуюся пополам, но любимую игрушку.
Сюжет музыкальной комедии состоит в том, что бедная и красивая девушка становится звездой варьете. При этом она влюбляется в директора варьете (красивый молодой человек). Сюжет все-таки не так прост. Дело в том, что директор находится в лапах у другой танцовщицы, тоже красивой и длинноногой, но с отвратительным характером. Так что намечается известного рода драма, коллизия. Имеются и варианты. Вместо бедной девушки звездой становится бедный молодой человек, своего рода гадкий утенок. Он выступает с товарищами, все вместе они составляют джаз-банд. Бывает и так, что звездами становятся и молодая девушка, и молодой человек. Разумеется, они любят друг друга. Однако любовь занимает только одну пятую часть картины, остальные четыре пятых посвящены ревю. В течение полутора часов мелькают голые ноги, и звучит веселый мотивчик обязательной в таких случаях песенки. Если на фильм потрачено много денег, то зрителю показывают ноги лучшие в мире. Если фильм дешевенький, то и ноги похуже, не такие длинные и красивые. Сюжета это не касается. Он в обоих случаях не поражает сложностью замысла. Сюжет подгоняется под чечетку. Чечеточные пьесы публика любит. Они имеют кассовый успех.
В исторических драмах события самые различные, в зависимости от того, кто является главным действующим лицом. Делятся они на два разряда: древние – греко-римские и более современные – мушкетерские. Если в картине заправилой является Юлий Цезарь или, скажем, Нума Помпилий, то на свет извлекаются греко-римские фибролитовые доспехи, и молодые люди, которых мы видели на голливудских улицах, бешено «рубают» друг друга деревянными секирами и мечами. Если главным действующим лицом является Екатерина Вторая, или Мария-Антуанетта, или какая-нибудь долговязая англичанка королевской крови, то это будет уже мушкетерский разряд, то есть размахивание шляпами с зацеплением пола страусовыми перьями, многократное дуэлирование без особого к тому повода, погони и преследования на толстозадых скакунчиках, а также величественная, платоническая и скучная связь молодого бедного дворянина с императрицей или королевой, сопровождающаяся строго отмеренными поцелуями (голливудская цензура разрешает поцелуи лишь определенного метража). Сюжет пьесы такой, какой бог послал. Если бог ничего не послал, играют и без сюжета. Сюжет не важен. Важны дуэли, казни, пиры и битвы.
В фильмах из бандитской жизни герои с начала до конца стреляют из автоматических пистолетов, ручных и даже станковых пулеметов. Часто устраиваются погони на автомобилях. (При этом машины обязательно заносит на поворотах, что и составляет главную художественную подробность картины.) Такие фильмы требуют большой труппы. Десятки актеров выбывают из списка действующих лиц уже в самом начале пьесы. Их убивают другие действующие лица.
Говорят, фильмы эти очень похожи на жизнь, с той только особенностью, что настоящие гангстеры, совершающие налеты на банки и похищающие миллионерских детей, не могут и мечтать о таких доходах, какие приносят фильмы из их жизни.
Наконец, фильм с участием оперного певца. Ну, тут, сами понимаете, особенно стесняться нечего. Кто же станет требовать, чтобы оперный певец играл, как Коклен-старший! Играть он не умеет и даже не хочет. Он хочет петь, и это законное желание надо удовлетворить, тем более что и зрители хотят, чтоб знаменитый певец пел как можно больше. Таким образом, и здесь сюжет не имеет значения. Обычно разыгрывается такая история. Бедный молодой человек (хотелось бы, конечно, чтоб он был красивым, но тут уже приходится считаться с внешними данными певца, – животик, мешки под глазами, короткие ножки) учится петь, но не имеет успеха. Почему он не имеет успеха, понять нельзя, потому что в начале учебы он поет так же виртуозно, как и в зените своей славы. Но вот появляется молодая красивая меценатка, которая выдвигает певца. Он сразу попадает в «Метрополитен-опера», и на него вдруг сваливается колоссальный, невероятный, сногсшибательный, чудовищный и сверхъестественный успех, такой успех, какой не снился даже Шаляпину в его лучшие годы. Вариант есть только один: успеха добивается не певец, а певица, и тогда, согласно шекспировским законам драмы, роль мецената играет уже не женщина, а богатый привлекательный мужчина. Оба варианта публика принимает с одинаковой радостью. Но главное – это популярные арии, которые исполняются по ходу действия. Лучше всего, если это будет из «Паяцев», «Богемы» или «Риголетто». Публике это нравится.
Во всех четырех стандартах сохраняется единство стиля.
Что бы ни играла голливудская актриса – возлюбленную крестоносца, невесту гугенота или современную американскую девушку, – она всегда причесана самым модным образом. Горизонтальный перманент одинаково лежит и на средневековой голове, и на гугенотской. Здесь Голливуд на компромисс не пойдет. Любая уступка истории – секиры так секиры, аркебузы так аркебузы, пожалуйста! Но кудри должны быть уложены так, как это полагается в тысяча девятьсот тридцать пятом году. Публике это нравится. Средних веков много, и не стоит из-за них менять прическу. Вот если она изменится в девятьсот тридцать седьмом году, тогда будут укладываться волосы по моде тридцать седьмого года.
Все исторические драмы представляют собой одну и ту же холодную американскую любовь на разнообразных фонах. Иногда на фоне завоевания гроба господня, иногда на фоне сожжения Рима Нероном, иногда на фоне картонных скандинавских замков.
Кроме главных стандартов, есть несколько второстепенных, например картины с вундеркиндами. Тут дело зависит уже от случая. Надо искать талантливого ребенка. Сейчас как раз такое даровитое дитя найдено – это маленькая девочка Ширли Темпл. Детский сюжет есть один – дитя устраивает счастье взрослых. И пятилетнюю или шестилетнюю девчушечку заставляют за год сниматься в нескольких картинах, чтобы устроить счастье ее родителей, которые зарабатывают на своей дочке, словно это внезапно забивший нефтяной фонтан.
Кроме того, попадаются картины из жизни рабочего класса. Это уже совсем подлая фашистская стряпня. В маленьком городочке, на Юге, где идиллически шумят деревья и мирно светят фонари, мы видели картину под названием «Риф-Раф». Здесь изображен рабочий, который пошел против своего хозяина и хозяйского профсоюза. Дерзкий рабочий стал бродягой. Он пал весьма низко. Потом он вернулся к хозяину, легкомысленный и блудный сын. Он раскаялся и был принят с распростертыми объятиями.
Культурный американец не признает за отечественной кинематографией права называться искусством. Больше того: он скажет вам, что американская кинематография – это моральная эпидемия, не менее вредная и опасная, чем скарлатина или чума. Все превосходные достижения американской культуры – школы, университеты, литература, театр – все это пришиблено, оглушено кинематографией. Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук – и после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратиться в идиота.
Все это мы почувствовали еще по дороге в Голливуд.
Когда мы возвращались после первой прогулки в свой отель (остановились мы, по странному стечению обстоятельств, на бульваре Голливуд, в отеле «Голливуд», помещавшемся в городе Голливуде, – ничего более голливудского уже нельзя придумать), мы задержались у витрины зоологического магазина. Здесь на подстилке из мелко нарезанной газетной бумаги резвились уродливые и добрые щенята. Они бросались на стекло, лаяли, обнимались, вообще предавались маленьким собачьим радостям. В другой витрине сидела в клетке крошечная обезьяна с еще более крошечным новорожденным обезьянчиком на руках. Если мама была величиной чуть побольше кошки, то дитя было совсем уже микроскопическое, розовое, голое, вызывающее жалость. Мама нежно лизала своего ребеночка, кормила его, гладила голову, не сводила с него глаз. На зрителей она не обращала никакого внимания. Это было воплощение материнства.
И тем не менее никогда в жизни мы не видели более злой карикатуры на материнскую любовь. Все это было так похоже на то, что делают люди, и в то же время почему-то так неприятно, что небольшая толпа, собравшаяся у витрины, не произнесла ни слова. У всех на лицах были странные, смущенные улыбки.
Мы с трудом оторвались от обезьяньей витрины.
Потом мы признались друг другу, что, глядя на обезьяну с ребенком, подумали об американской кинематографии.
Она так же похожа на настоящее искусство, как обезьянья любовь к детям похожа на человеческую. Очень похожа и в то же время невыносимо противна.
Бог халтуры
Окна нашей комнаты выходили на бульвар Голливуд. На одном углу перекрестка была аптека, на другом – банк. За банком виднелось новенькое здание. Весь фасад его занимали электрические буквы: «Макс Фактор».
Много лет назад Макс Фактор, молодой человек в продранных штанах, приехал с юга России в Америку. Без долгих размышлений Макс принялся делать театральный грим и парфюмерию. Вскоре все сорок восемь объединившихся Штатов заметили, что продукция мистера Фактора начинает завоевывать рынок. Со всех сторон к Максу потекли деньги. Сейчас Макс невероятно богат и любит рассказывать посетителям волшебную историю своей жизни. А если случайно посетитель родом из Елисаветграда, Николаева или Херсона, то он может быть уверен, что счастливый хозяин заставит его принять на память большую банку крема для лица или набор искусственных ресниц, имеющих лучшие отзывы Марлены Дитрих или Марион Дэвис. Недавно Фактор праздновал какой-то юбилей – не то двадцатилетие своей плодотворной деятельности на гримировальном фронте, не то очередную годовщину своей удачной высадки на американском берегу. Пригласительные извещения представляли собой сложное и богатейшее сооружение из веленевой бумаги, великолепного бристольского картона, высококачественного целлофана и стальных пружин. Это были толстые альбомы, напыщенный текст которых извещал адресата о том, что его имеют честь пригласить и что он имеет честь быть приглашенным. Но в последнюю минуту гостеприимный Фактор, как видно, усомнился в том, поймут ли его. Поэтому на обложке большими буквами напечатано: «Приглашение».
Под нашими окнами восемнадцать часов в сутки завывали молодые газетчики. Особенно выделялся один, пронзительный и полнозвучный. С таким голосом пропасть на земле нельзя. Он, несомненно, принадлежал будущему миллионеру. Мы даже высунулись однажды из окна, чтобы увидеть это молодое дарование. Дарование стояло без шапки. На нем были «вечные» парусиновые штаны и кожаная голливудская курточка. Продавая газеты, дарование вопило так, что хотелось умереть, чтобы не слышать этих страшных звуков. Скорее бы он уже заработал свой миллион и успокоился! Но через два дня уважаемый мальчик и все его товарищи-газетчики завизжали еще сильнее. Какая-то довольно известная киноактриса была найдена мертвой в своем автомобиле, и ее загадочная смерть была сенсацией целых четыре или пять дней. Херстовский «Экзаминер» только этим и занимался.
Однако еще страшнее, чем отчаянные продавцы газет, оказалась кроткая женщина, стоявшая против наших окон. На ней был мундир Армии спасения – черный капор с широкими лентами, завязанными на подбородке, и черный сатиновый балахон. С самого утра она устанавливала на углу деревянный треножник, с которого свисало на железной цепке ведро, закрытое решеткой, и начинала звонить в колокольчик. Она собирала на елку для бедных. Пожертвования надо было опускать в это самое домашнее ведро. Но бессердечные, занятые своей кинохалтурой, голливудцы не обращали внимания на женщину в капоре и денег не давали. Она не приставала к прохожим, не приглашала их внести свою лепту, не пела духовных песен. Она действовала более убедительными средствами – звонила в колокольчик, медленно, спокойно, беспрерывно, бесконечно. Она делала небольшой антракт только для того, чтобы сходить пообедать. Обедала она удивительно быстро, а пищу, как видно, не переваривала никогда, потому что больше с поста не уходила. Иногда нам хотелось выбежать из гостиницы и отдать этой ужасной особе все свои сбережения, лишь бы прекратился звон колокольчика, доводивший нас до бешенства. Но останавливала мысль о том, что женщина, обрадованная успехом сбора пожертвований, начнет приходить на наш угол еще раньше, а уходить еще позже.
Из всех виденных нами рекламных приемов, из всех способов навязывания, напоминания и убеждения – колокольчик показался нам наиболее убедительным и верным. В самом деле, зачем просить, доказывать, уговаривать? Всего этого не надо. Надо звонить в колокольчик. Звонить день, неделю, год, звонить до тех пор, пока обессилевший, замученный звоном, доведенный до галлюцинаций житель не отдаст своих десяти центов.
Через несколько дней нам стало легче. Мы начали осматривать киностудии. То, что у нас называется кинофабрика, в Америке носит название студии. Уходили мы из гостиницы рано, возвращались поздно. Звона колокольчика мы почти не слышали. Зато появилась новая загадка. Каждый раз, когда мы возвращались к себе и брали в конторке ключ от номера, служащий отеля вручал нам пришедшие письма и листки, на которых было записано, кто нам звонил по телефону. И каждый раз среди имен знакомых и друзей попадалась такая записка: «Мистеру Илф и мистеру Петров звонил кептэн Трефильев». Так продолжалось несколько дней. Нам все время звонил кептэн Трефильев. Потом записки стали подробней. «Звонил кептэн Трефильев и просил передать, что хочет увидеться». «Снова звонил кептэн Трефильев и просил назначить ему день и час для встречи». В общем, кептэн обнаружил довольно большую активность. Мы совершенно терялись в догадках относительно того, кто такой кептэн Трефильев и чего ему от нас надо. Мы сами стали им интересоваться, спрашивали кинематографистов о нем, но никто ничего вразумительного нам не сообщил. Последняя записка гласила, что неутомимый кептэн звонил снова, что он очень сожалеет о том, что никак не может нас застать, и что он надеется на то, что мы сами ему позвоним в свободное время. Из приложенного адреса было видно, что Трефильев живет в одной гостинице с нами. Тут мы почуяли, что нам не избежать встречи с энергичным капитаном.
Несколько дней мы осматривали студии. Конечно, мы не вдавались в техническую сторону дела, но техника здесь видна сама, она заставляет на себя смотреть. Так же как и на всех американских предприятиях, которые мы видели (кроме фордовских конвейеров, где властвует лихорадка), в голливудских студиях работают не слишком торопливо, но уверенно и ловко. Нет ажиотажа, вздыбленных волос, мук творчества, потного вдохновения. Нет воплей и истерик. Всякая американская работа немножко напоминает цирковой аттракцион – уверенные движения, все рассчитано, короткое восклицание или приказание – и номер сделан.
Средняя картина в Голливуде «выстреливается» за три недели. Если она снимается больше трех недель, это уже разорение, убыток. Бывают исключения, но исключения тоже носят американский характер. Известный драматург Марк Канели снимает сейчас картину по своей прославившейся пьесе «Зеленые пастбища». Это очаровательное произведение на тему о том, как бедный негр представляет себе рай господень. У мистера Канели особые условия. Он автор пьесы, сам написал сценарий по ней и сам его ставит. В виде исключения ему дана особая льгота – он должен снять картину за полтора месяца. Его картина принадлежит к классу «А». Картины, которые «выстреливаются» в три недели, относятся к классу «Б».
Перед началом съемок все собрано, до последней веревочки. Сценарий в порядке, актеры проверены, павильоны подготовлены. И «выстреливанье» картины идет стремительно и безостановочно.
Марк Канели ставит свои «Зеленые пастбища» в студии «Братья Уорнер». Сейчас не помнится точно, сколько картин в год делают «Братья Уорнер» – восемьдесят, сто или сто двадцать. Во всяком случае, они делают множество картин. Это великая, образцово поставленная фабрика халтуры. «Зеленые пастбища» для предприимчивых «Братьев» – не частое событие. Редко ставят картину по хорошему литературному сценарию. Здесь, говорят, недавно слепили какую-то картину за восемь дней, и она оказалась ничуть не хуже других картин класса «Б» – опрятная, чистенькая и тошнотворная картина.
На территории студии построен целый город.
Это самый странный город в мире. С типичной улицы маленького американского городка, с гаражом и лавчонкой пятицентовых товаров, мы вышли на венецианскую площадь. Сейчас же за дворцом дожей виднелся русский трактир, на вывеске которого были нарисованы самовар и папаха. Все декорации сделаны очень похожими на оригиналы. Даже в нескольких шагах нельзя поверить тому, что эти монументальные входы в соборы, эти угольные шахты, океанский порт, банкирская контора, парагвайская деревня, железнодорожная станция с половинкой пассажирского вагона сделаны из легких сухих досок, крашеной бумаги и гипса.
Странный, призрачный город, по которому мы шли, менялся на каждом шагу. Века, народы, культуры – все было здесь спутано с необыкновенной и заманчивой легкостью.
Мы вошли в громадный полутемный павильон. Сейчас в нем не работали, но еще недавно здесь происходил великий пир искусства. Об этом можно было судить по громадному многопушечному фрегату, который занимал весь павильон. Кругом еще лежали груды оружия – кортики, абордажные крючья, офицерские шпаги, топоры и прочий пиратский реквизит. Здесь дрались не на шутку. Фрегат был сделан весьма добросовестно, и если бы это был целый корабль, а не только половина его, то, вероятно, на нем можно было бы выйти в океан хоть сейчас, захватывая купеческие корабли во славу великих корсаров – «Братьев Уорнер».
В следующем павильоне мы увидели свет юпитеров и раззолоченную декорацию из «мушкетерского стандарта». Знаменитый киноартист Фредерик Марч стоял в камзоле, чулках и башмаках с пряжками. Его матовое, необыкновенно красивое лицо светилось в тени декораций.
Сейчас в павильоне происходила такая работа – примеряли свет для Фредерика Марча. Но так как большого актера стараются не утомлять, то свет примеряли на статисте. Когда все будет готово, Марч выйдет сниматься.
Еще в каком-то павильоне мы увидели артистку Бетти Дэвис, которую наши зрители знают по картине «Преступление Марвина Блейка». Она сидела в кресле и негромко, но сердито говорила, что вот уже десять дней не может найти часа, чтобы вымыть волосы. Некогда! Надо «выстреливать» картину.
– Я должна сниматься каждый день, – утомленно говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой.
В ожидании съемки актриса с отвращением, вернее, с полным безразличием смотрела на «сэт», где в свете юпитеров ходил перед аппаратом человек с мучительно знакомым лицом. Где мы видели этого второклассного актера? В картине «Похитители детей» (пулеметы и погони) или в картине «Любовь Валтасара» (катапульты, греческий огонь и «мене, текел, фарес»)?
По лицу Валтасара, который сейчас снимался в цилиндре и фраке (картина типа «Малютка с Бродвея»), сразу было видно, что работа не вызывает у него никакого воодушевления. Надоело и противно.
Это чрезвычайно типично для каждого, хотя бы немного мыслящего голливудца. Они презирают свою работу, великолепно понимая, что играют всякую чушь и дрянь. Один кинематографист, показывая нам студию, в которой он служит, буквально издевался над всеми съемками. Умные люди в Голливуде, а их там совсем немало, просто воют от того попирания искусства, которое происходит здесь ежедневно и ежечасно. Но им некуда деваться, некуда уйти. Проклинают свою работу сценаристы, режиссеры, актеры, даже техники. Лишь хозяева Голливуда остаются в хорошем расположении духа. Им важно не искусство, им важна касса.
В самом большом павильоне снимали сцену бала на пароходе. На площадке толпились несколько сот статистов. Место съемки было изумительно освещено. Голливудские студии располагают огромным количеством света – и его не жалеют. Наступил перерыв в съемке, уменьшили свет, и статисты, запыхавшись от танцев, устремились в полуосвещенные углы павильона отдохнуть и поболтать. Девчонки в морских формочках, с орденами и адмиральскими эполетами сейчас же громко залопотали что-то свое, дамское. Молодые люди в белых морских мундирах, с туповатыми глазами кинематографических лейтенантов, прогуливались по павильону, переступая через лежащие на полу электрические кабели.
О, эти великолепные кинолейтенанты! Если бы благодарное человечество вздумало вдруг поставить памятник богу Халтуры, то лучшей модели, чем кинематографический лейтенант, не найти. Когда в начале картины появляется герой в белом кителе и лихо надетой морской фуражке, можно сразу со спокойной душой убираться вон из зала. Ничего доброго, осмысленного и интересного в картине уже не произойдет. Это сам бог Халтуры, радостный и пустоголовый.
Покуда мы рассматривали декорацию и статистов, позади вдруг послышался русский голос, хороший такой голос, сочный, дворянский:
– Что, Коля, пойдем сегодня куда-нибудь?
Другой голос штабс-капитанского тембра ответил:
– А на какие шиши, Костенька, мы пойдем?
Мы живо обернулись.
Позади нас стояли два джентльмена во фраках. Коричневый грим покрывал их довольно потрепанные лица. Стоячие воротнички заставляли их гордо задирать головы, но уныние было в глазах. Ах, совсем уже не молод был Коля, да и Костя со своими морщинами выглядел староватым. Они постарели здесь, в Голливуде, – два, очевидно, владивостокских эмигранта. Совсем не весело играть безымянного пароходного джентльмена в танцевальной картине из жизни молодых идиотов. Сейчас потушат свет, надо будет сдать фраки и стоячие воротнички в местный цейхгауз. Всю жизнь они имели дело с цейхгаузами, и так, видно, будет до самой смерти.
Раздался сигнал, зажегся ослепительный свет. Девчонки, лейтенанты, фрачные джентльмены заторопились на площадку.
Мы вышли из студии и уже через полчаса медленно катили вместе с автомобильным потоком, пробираясь в городок Санта-Моника подышать воздухом океана. Великая столица кинематографии пахла бензином и поджаренной ветчиной. Молодые девушки в светлых фланелевых брюках деловито шли по тротуарам. В Голливуд собираются девушки со всего мира. Здесь нужен самый свежий товар. Толпы еще не взошедших звезд наполняют город, красивые девушки с неприятными злыми глазами. Они хотят славы – и для этого готовы на все. Может быть, нигде в мире нет такого количества решительных и несимпатичных красавиц.
Кинозвезды обоего пола (в Америке мужчинам тоже дается чин «звезды») живут на улицах, которые ведут к океану. Здесь мы увидели человека, профессия которого, по всей вероятности, неповторима. Он один представляет этот удивительный способ зарабатывания денег. Человек этот сидел под большим полосатым зонтом. Рядом с ним был установлен плакат: «Дома кинозвезд здесь. От 9 часов утра до 5 часов 30 мин. вечера». Это гид, показывающий туристам дома кинозвезд. Не внутреннее убранство этих домов и не Глорию Свэнсон за утренним чаем (внутрь его не пустят), а так – с улицы. Вот, мол, здание, в котором обитает Гарольд Ллойд, а вот особнячок, где живет Грета Гарбо.
Хотя деловой день был в разгаре, никто не ангажировал гида, и на его лице было написано нескрываемое отвращение к своей вздорной профессии и к американской кинематографии.
Еще немножко дальше мы увидели молодого человека, который стоял прямо посреди мостовой. На груди его висел плакат:
«Я голоден. Дайте мне работу».
К этому человеку тоже никто не подходил. Океан был широк, ровный ветер дул на берег, и спокойный шум прибоя напоминал о том, что на свете есть настоящая жизнь с настоящими чувствами, которые необязательно укладывать в точно установленное количество метров, наполненных чечеткой, поцелуями и выстрелами.
Когда мы вступили в вестибюль своего отеля, навстречу нам поднялась с дивана могучая фигура. Опираясь на палку, фигура приблизилась к нам и громким, плотным голосом произнесла:
– Разрешите представиться. Капитан Трефильев, бывший белогвардеец.
У капитана было большое улыбающееся лицо. Он приветливо посмотрел на нас своими кабаньими глазками и сразу же заявил, что давно уже не занимается политической деятельностью, – хотя мы, собственно, ничего не слышали о капитане даже тогда, когда он ею занимался.
Капитан схватил нас за руки, посадил на диван и сразу же, не теряя ни минуты времени, заговорил. Первым долгом он сказал, что это именно ему было поручено привезти в Сибирь известный приказ Деникина о подчинении его Колчаку. Так как нам помнилась другая фамилия, мы не изобразили особого удивления, несмотря даже на то, что капитан очень картинно рассказывал, как он вез приказ вокруг всего света.
– Понимаете, мчался на курьерских! С поезда на пароход! С парохода на поезд! С поезда опять на пароход! С парохода опять на поезд! Через Европу, Атлантику, Америку, Тихий океан, Японию, Дальний Восток… Приезжаю мокрый, как цуцик, а Колчака уже нет. Вывели в расход! Ну, я рванулся назад. С поезда на пароход, с парохода на поезд, с поезда опять на пароход. Бац! Еще в Америке узнаю: уже и Деникина нет – передал командование Врангелю. Что за черт! Опять я с поезда на пароход, с парохода на поезд. Приезжаю в Париж – уже и Врангеля нет. Ну, думаю, идите вы все куда хотите, – а сам дал задний ход в Америку. Сейчас я путешественник и лектор.
Капитан вынул толстый портсигар и стал угощать нас русскими папиросами с мундштуком.
– Сам набиваю, – сказал он, – гильзы выписываю из Болгарии. Эту американскую дрянь в рот не возьму. – И сейчас же, без всякого перехода сообщил: – Видите кожу на моем лице? Замечательная кожа, а? Удивительно гладкая и розовая. Как у молочного поросенка. Я вам открою секрет. В шестнадцатом году на фронте под Ковелем мне взрывом снаряда сорвало с лица к чертовой матери всю кожу. Пришлось пересадить кожу с моего же зада. А? Как вам это нравится? Здорово? Чудо медицины! Замечательная кожа! А? Дамам я, конечно, этого не рассказываю, но вам, как писателям и психологам, рассказал. Только, уж пожалуйста, никому ни слова!
Потом он заставил нас поочередно подержать его палку.
– Здорово? А? – запальчиво кричал он. – Двадцать два фунта чистого железа! Я был болен, заниматься спортом не могу, так что ношу палочку, чтоб не ослабели мускулы.
На прощанье он сообщил, что недавно, перед отъездом в Южную Америку, ему надо было запломбировать сразу семь зубов.
– Абсолютно не было времени! Я, понимаете, так забегался перед отъездом, так устал, что заснул в кресле у дантиста. Просыпаюсь ровно через час – и что бы вы думали? – семь зубов запломбированы. А я даже и не слышал. Чудо медицины! А?
Когда мы подымались к себе по лестнице, капитан громко кричал нам вдогонку:
– Только, уж пожалуйста, господа, дамам ни гу-гу!
При этом он показывал на свои розовые щеки и приветственно махал двадцатидвухфунтовой палкой.
Голливудские крепостные
Мы сидели с одним американским кинематографистом в маленьком голливудском кафе, убранном, как многие из них, в каком-то багдадском стиле.
Стоял знойный декабрьский вечерок, и входные двери кафе были широко открыты. Сухой ветер стучал листьями уличных пальм.
– Вы хотите знать, – говорил кинематографист, – почему мы, со своей изумительной техникой, со своими прекрасными актерами, с режиссерами, среди которых есть лучшие художники мира, почему мы, делающие иногда, но очень редко, превосходные фильмы, почему мы день и ночь изготовляем наши возмутительные, идиотские картины, от которых зритель мало-помалу тупеет? Вы хотите это знать? Извольте, я вам расскажу.
Кинематографист заказал рюмку шерри.
– Надо вспомнить, кто был отрицательной фигурой в старой американской кинематографической драме. Это почти всегда был банкир. В тогдашних кинопьесах он был подлецом. Теперь просмотрите тысячи фильмов, сделанных в Голливуде за последние годы, – и вы увидите, что банкир как отрицательный персонаж исчез. Он даже превратился в тип положительный. Теперь это – добрый, симпатичный деляга, помогающий бедным или влюбленным. Произошло это потому, что сейчас хозяевами Голливуда стали банкиры, крупные капиталисты. Они-то, понимаете сами, уж не допустят, чтоб их изображали в фильмах мерзавцами. Скажу вам больше. Американская кинематография – это, может быть, единственная промышленность, куда капиталисты пошли не только ради заработка. Это неспроста, что мы делаем идиотские фильмы. Нам приказывают их делать. Их делают нарочно. Голливуд планомерно забивает головы американцам, одурманивает их своими фильмами. Ни один серьезный жизненный вопрос не будет затронут голливудским фильмом. Я вам ручаюсь за это. Наши хозяева этого не допустят. Эта многолетняя работа уже дала страшные плоды. Американского зрителя совершенно отучили думать. Сейчас рядовой посетитель кино стоит на необыкновенно низком уровне. Посмотреть что-нибудь более содержательное, чем танцевально-чечеточный фильм или псевдоисторическую пьесу, ему очень трудно. Он не станет смотреть умную картину, а подхватит свою девочку и перейдет в соседнее кино. Поэтому европейские фильмы, где все-таки больше содержания, чем в американских, имеют у нас весьма жалкий сбыт. Я вам рассказываю ужасы, но таково действительное положение вещей. Нужно много лет работы, чтобы снова вернуть американскому зрителю вкус. Но кто будет делать эту работу? Хозяева Голливуда?
Наш собеседник говорил очень искренне. Как видно, эта тема мучила его постоянно.
– … У нас ведь нет ни одного независимого человека, кроме Чаплина. Мы служим у своих хозяев и делаем все, что они прикажут. Вы спросите меня: как же все-таки появляются те несколько хороших картин, которые делает Голливуд? Они появляются против воли хозяина. Это случайная удача, уступка хозяина слуге, которым дорожат, чтобы он сдуру не бросил работы. Иногда приходится хороший фильм прятать от хозяев, чтобы они не успели его испортить. Вы знаете Луи Майльстона? Когда он делал «На Западном фронте без перемен», то, боясь хозяев, которые имеют обыкновение ездить на съемки и давать советы, он распустил слух, что у него на съемках все время производятся взрывы и что это очень опасно для жизни. Хозяева испугались и оставили хитрого Майльстона в покое. Но все-таки скрыть все до конца ему не удалось. Однажды его вызвал к себе взволнованный хозяин и спросил:
– Слушайте, Луи, говорят, в вашем фильме несчастный конец, это правда?
– Да, это правда, – сознался Майльстон.
– Это же невозможно! – завопил хозяин. – Американская публика не будет смотреть фильм с таким концом. Надо приделать другой конец.
– Но ведь фильм снимается по знаменитой книге Ремарка, а там конец именно такой, – ответил Майльстон.
– Этого я не знаю, – нетерпеливо сказал хозяин, – я этого Ремарка не читал, и меня это не касается. Достаточно того, что мы заплатили массу денег за право инсценировки. Но я повторяю вам: американская публика не станет смотреть картину с таким концом.
– Ладно, – сказал Майльстон, – я сделаю другой конец.
– Вот и прекрасно! – обрадовался хозяин. – Как же это теперь получится?
– Очень просто. У Ремарка войну выигрывают французы, как это и было в действительности. Но раз вы желаете обязательно изменить конец, я сделаю, чтобы войну выиграли немцы.
Только этим остроумным ответом Майльстон спас свою картину. Она имела громадный успех. Но так бывает очень редко. Обычно даже известный, даже знаменитый режиссер вынужден делать все, что ему прикажут. Вот сейчас – это произошло всего лишь несколько дней назад – один кинорежиссер, известный во всем мире, получил сценарий, который ему понравился. Он уже несколько лет искал какую-нибудь значительную вещь для постановки. Представляете себе его удовольствие и радость, когда он наконец ее нашел! Но в этой картине должна была сниматься Марлена Дитрих, звезда Голливуда. Она прочла сценарий и решила, что роли других артистов слишком велики и удачны, что они помешают ей выделиться в картине. И вот несравненная Марлена потребовала, чтобы эти роли были сокращены. Пьеса была испорчена бесповоротно. Режиссер отказался ставить сценарий в таком обезображенном виде. Как видите, режиссер, о котором я вам рассказываю, настолько велик и знаменит, что смеет отказаться от работы, которая ему неприятна. Такие люди в Голливуде насчитываются единицами. Итак, звезда победила, потому что для наших хозяев звезда – это главное. Американская публика ходит на звезду, а не на режиссера. Если на афише стоит имя Марлены Дитрих, или Греты Гарбо, или Фредерика Марча, публика все равно принесет в кассу свои миллионы, какой бы пустяк ни разыгрывали эти замечательные артисты. Все кончилось очень просто – позвали другого режиссера, который ни от чего не смеет отказываться, иначе потеряет работу, и поручили ему ставить испорченный сценарий. Он проклял свою жалкую судьбу и принялся «выстреливать» картину.
Может быть, вы думаете, что нами управляют какие-нибудь просвещенные капиталисты? К сожалению, это самые обыкновенные туповатые делатели долларов. О «Метро-Голдвин-Майер» вы, конечно, знаете. Их студии выпускают в год массу картин. А вот что я могу рассказать про старого Голдвина – хозяина этой фирмы.
Однажды он приходит к своим знакомым и радостно сообщает:
– Вы знаете, у моей жены такие красивые руки, что с них уже лепят бюст.
Рассказывают также, что одна из актрис Голдвина, получавшая у него десять тысяч долларов в неделю (звезды получают совершенно умопомрачительный, свинский гонорар, но тут нет никакой благотворительности – звезда, которая получает десять тысяч долларов в неделю, приносит своему хозяину по крайней мере столько же тысяч чистого дохода в ту же неделю), пригласила его к себе на завтрак в свой замок, который успела купить во Франции. Перед завтраком старому Голдвину показали здание. Старик добросовестно ощупал шелковые обои, потрогал кровати, проверяя упругость матрацев, внимательно рассмотрел боевые башни. Но особенно его заинтересовали старинные солнечные часы. Когда ему объяснили их устройство, он пришел в восторг и воскликнул:
– Вот это здорово! Что они теперь следующее выдумают!
Вы видите, нам приходится иметь дело с людьми настолько невежественными, что солнечные часы они принимают за последнее изобретение. Таков их уровень знаний, уровень культуры. И эти люди не только дают деньги на производство картин. Нет, они вмешиваются во все, вносят поправки, меняют сюжеты, они указывают нам, как делать картины. Ну, я наговорил вам столько мрачных вещей, что, пожалуй, хватит! Знаете что! Сядем в машину, поедем кататься, освежимся.
Мы поехали за город и попали к запасному водоему, который обеспечивает Лос-Анжелос на случай порчи водопроводных станций.
Ночь была черна. В тишине и мраке мы действительно отдохнули, пришли в себя от страшных голливудских рассказов.
Вернувшись к себе в «Голливуд-отель», мы заснули чугунным сном, лишенным видений, отдыха и спокойствия, ну, словом, всего, чем так чудесен сон.
Молитесь, взвешивайтесь и платите!
Подготовка к рождеству принимала все более и более обширные размеры. Миллионы индеек и индюков были убиты, ощипаны и выставлены в лавках, очаровывая голливудцев желтоватым подкожным жирком и сиреневыми печатями санитарной инспекции, оттиснутыми на грудках.
Мы уже говорили, что американское рождество – праздник, не имеющий никакого отношения к религии. В этот день празднуется вовсе не рождение господа бога. Это праздник в честь традиционной рождественской индейки. В этот день господь, застенчиво улыбаясь, отступает на задний план.
С поклонением индейке связан еще один странный обряд – поднесение подарков друг другу. Многолетняя, умело проведенная торговая реклама сделала так, что поднесение подарков превратилось для населения в своего рода повинность, из которой торговля извлекает неслыханные прибыли. Вся заваль, собравшаяся за год в магазинах, продается в несколько дней по повышенным ценам. Магазины переполнены. Ошалевшие покупатели хватают все, что только увидят. Американец делает подарки не только своей жене, детям или друзьям. Подарки делаются и начальству. Актер из киностудии делает подарки своему режиссеру, кинооператору, звукооператору, гримеру. Девушка из конторы делает подарок своему хозяину, писатель делает подарок издателю, журналист – редактору. Большинство подарков имеет совершенно незамаскированный характер взятки.
Идут подарки и по нисходящей линии – от старших к младшим. Но это тощий ручеек по сравнению с мощными фонтанами любви и уважения, которые бьют снизу вверх.
Актер дарит гримеру две бутылки хорошего шампанского в расчете, что тот весь год будет гримировать его особенно хорошо, режиссеру делается подарок для поддержания дружбы, которая полезна, операторам – чтоб помнили, что этого актера надо бы получше снять и записать его голос.
Выбор подарка – очень тонкая штука. Надо знать, кому и что дарить, чтобы вместо благодарности не вызвать обиды. Подарочная горячка причиняет американцам много хлопот, дорого обходится, но зато доставляет торговцам райские минуты и недели.
Дарят друг другу сигары, вина, духи, шарфы, кофты, безделушки. Магазинные мальчики носятся по городу, развозя подарки, упакованные в специальную рождественскую бумагу. Грузовики тоже развозят только подарки. Сопутствуемый оркестрантами в красивых генеральских мундирах, разъезжает красноносый Санта-Клаус с ватной бородой, окутанный нафталиновой метелью. За богом подарков бегут мальчики. Взрослые кряхтят при виде рождественского деда и напряженно вспоминают, кому еще осталось сделать подношения. Не дай боже забыть кого-нибудь – на весь год будут испорчены отношения.
Собственно, только в таких случаях и упоминается в горячие предрождественские дни имя бога.
В Америке много религий и много богов: протестантский, католический, баптистский, методистский, конгрегационный, пресвитерианский, англиканский. Миллионы людей хотят во что-то верить, и десятки могучих церковных организаций предлагают им свои услуги.
Старые, если так можно сказать, европейские религии страдают некоторой отвлеченностью. Пусть себе ютятся в Европе, на этом старом, дряхлом материке. В Америке, рядом с небоскребами, электрическими стиральными машинами и другими достижениями века, они как-то бледнеют. Нужно что-нибудь более современное, эффектное и, наконец надо говорить честно и откровенно, что-нибудь более деловое, чем вечное блаженство на небесах за праведную жизнь на земле.
В этом отношении наиболее американизированной является секта, называющая себя «Христианской наукой». У нее миллионы приверженцев, и по существу своему она является чем-то вроде колоссальной лечебницы, только без участия докторов и лекарств. «Христианская наука» велика и богата. Замечательные храмы с красивыми банковскими портиками принадлежат ей во многих городах и городках.
«Христианская наука» не предлагает ждать бесконечно долго вознаграждения на небесах. Она делает свой бизнес на земле. Эта религия практична и удобна. Она говорит:
– Ты болен? У тебя грыжа? Поверь в бога – и грыжа пройдет!
Христианство как наука, как нечто немедленно приносящее пользу! Это понятно среднему американцу, это доходит до его сознания, замороченного годами непосильной и торопливой работы. Религия, которая так же полезна, как электричество. Это годится. В это можно верить.
– Ну, хорошо! А если грыжа все-таки не пройдет?
– Это значит, что вы недостаточно веруете, недостаточно отдались богу. Верьте в него – и он поможет вам во всем.
Он поможет во всем. В Нью-Йорке мы зашли как-то в одну из церквей «Христианской науки», в центре города. Небольшая группа людей сидела на скамьях и слушала пожилого джентльмена, одетого в хороший, сшитый у портного костюм. (В Америке костюм, сделанный по заказу, является признаком состоятельности.)
Мистер Адамс, который сопровождал нас в этой экскурсии, навострил уши и, наклонив голову, внимательно прислушивался. Он сделал нам рукой знак подойти поближе. То, что мы услышали, очень походило на сцену в нью-йоркской ночлежке, куда мы попали в первый же вечер по приезде в Америку. Только там уговаривали нищих, а здесь уговаривали богатых. Но уговаривали совершенно одинаково – при помощи живых свидетелей и неопровержимых фактов.
– Братья, – говорил пожилой джентльмен, – двадцать лет тому назад я был нищ и несчастен. Я жил в Сан-Франциско. У меня не было работы, жена моя умирала, дети голодали. Мне неоткуда было ждать помощи, как только от бога. И как-то утром голос бога мне сказал: «Иди в Нью-Йорк и поступи на службу в страховое общество». Я бросил все и пробрался в Нью-Йорк. Голодный и оборванный, я ходил по улицам и ждал, когда господь мне поможет. Наконец я увидел вывеску страхового общества и понял, что бог послал меня именно сюда. Я вошел в это громадное и блестящее здание. В моем ужасном костюме меня не хотели пустить к директору. Но я все-таки прошел к нему и сказал:
– Я хочу получить у вас работу.
– Вы знаете страховое дело? – спросил он меня.
– Нет, – ответил я твердым голосом.
– Почему же вы хотите работать именно в страховом обществе?
Я посмотрел на него и сказал:
– Потому, что господь бог послал меня к вам.
Директор ничего не ответил мне, вызвал секретаря и приказал ему принять меня на службу лифтером. Дойдя до этого места, рассказчик остановился.
– Что же случилось с вами потом? – нетерпеливо спросил один из слушателей.
– Вы хотите знать, кто я такой теперь? Теперь я вице-президент этого страхового общества. И это сделал бог.
Мы вышли из церкви немножко ошеломленные.
– Нет, сэры, – горячился мистер Адамс, – вы слышали? Если один деловой человек может совершенно серьезно сказать другому деловому человеку под стук арифмометров и телефонные звонки, что бог прислал его сюда получить службу, и эта рекомендация бога действительно принимается во внимание, то вы сами видите – это очень удобный деловой бог. Настоящий американский бог контор и бизнеса, а не какой-нибудь европейский болтун с уклоном в бесполезную философию. Даже католицизм в Америке приобрел особые черты. Патер Коглин построил собственную радиостанцию и рекламирует своего бога с неменьшей исступленностью, чем рекламируется «Кока-кола». Серьезно, сэры, европейские религии не подходят американцам. Они построены на недостаточно деловой базе. Кроме того, они слишком умны для среднего американца. Ему нужно что-нибудь попроще. Ему надо сказать, в какого бога верить. Сам он не в силах разобраться. К тому же разбираться некогда – он человек занятой. Повторяю, сэры, ему нужна простая религия. Скажите ему точно, какие выгоды эта религия приносит, сколько ему это будет стоить и чем эта религия лучше других. Но уж пожалуйста, точно. Американец не выносит неопределенности.
Однажды, когда мы сидели в своем «Голливуд-отеле», расположенном на Голливуд-бульваре, и работали, в нашу комнату вбежали Адамсы. Мы никогда еще не видели их в таком состоянии. На мистере Адамсе пальто висело только на одном плече. Он издавал нечленораздельные крики, и с каждой минутой лицо его становилось краснее. Миссис Адамс, кроткая миссис Адамс, которая не теряла присутствия духа и выдержки даже на ледяных перевалах, бегала по комнате и время от времени восклицала:
– Почему у меня не было с собой револьвера! Я бы ее застрелила, как собаку!
– Нет, Бекки! – кричал Адамс. – Это я застрелил бы ее, как собаку!
Мы испугались.
Что с вами? Кого – как собаку? За что – как собаку!
Но прошло минут десять, прежде чем Адамсы успокоились и могли приступить к рассказу о том, что их так рассердило.
Оказывается, они рано утром, не желая нас будить, отправились в Лос-Анжелос послушать проповедь известной в Америке создательницы новой религии, Эмми Макферсон.
После пререканий о том, кому рассказывать, верх взял, как всегда, мистер Адамс.
– Сэры! Это просто невероятно! – кричал он зычным голосом. – Вы много потеряли, что не были вместе с нами. Запишите в свои книжечки, что вы все потеряли, мистеры. Итак, мы с Бекки пришли в храм Эмми Макферсон. Несмотря на то что до начала проповеди еще оставался целый час, церковь была переполнена. Там сидело больше тысячи человек. И всё хорошие, простые люди. Распорядители приняли нас, как видно, за каких-то важных особ и посадили в первом ряду. Очень хорошо, сэры. Мы сидим и ждем. Да, да, да, конечно, разговорились пока что с соседями. Прекрасные люди. Один – фермер из Айовы, другой тоже специально приехал сюда. У него в Неваде маленький рэнч. Хорошие, честные люди, которые хотят во что-то верить, они томятся по духовной пище. Им надо обязательно что-нибудь дать, это им нужно, сэры! Наконец раздается музыка, гремит туш, прямо как в цирке, – и появляется Эмми Макферсон, завитая, вся в локончиках, с малиновым маникюром, в белом хитоне, намазанная, накрашенная. Уже не очень молодая, но еще хорошенькая. Все в восторге. Еще бы! Вы только подумайте, сэры! Вместо скучного попа выходит современная хорошенькая женщина. И вы знаете, что она говорила? Это был ужас!
– Если бы у меня был револьвер, – вставила миссис Адамс, – я бы ее…
– Но, но, Бекки, не надо быть такой кровожадной. Нет, серьезно, не перебивай меня. Итак, сэры, я не стану вам передавать, что она болтала. В Европе это вызвало бы смех даже у самых темных людей. Но мы в Америке, мистеры. Здесь надо говорить только очень простые вещи. Честное слово, эти хорошие люди, наполнявшие церковь, были в восхищении. Та духовная пища, которую предложила им Эмми Макферсон, не подошла бы даже канарейке, если бы канарейка нуждалась в религии. Грубое шарлатанство, сдобренное жалкими остротами и довольно большой порцией эротики в виде хора молодых девушек в просвечивающих белых платьицах. Но самое главное, мистеры, было только впереди. Оказалось, что Эмми Макферсон нужны сто тысяч долларов на ремонт храма. Сто тысяч долларов, сэры, это большие деньги даже в богатой Америке. И надо вам сказать, что американцы не очень любят расставаться со своими долларами. Вы сами понимаете, что если бы она просто попросила у собравшихся пожертвовать на ремонт храма, то собрала бы весьма немного. Но она выдумала гениальную штуку! Умолк потрясавший своды оркестр, и завитая, как ангел, сестра Макферсон снова обратилась к толпе. Речь ее поистине была вдохновенна. Мистеры, вы все потеряли, потому что вы не слышали этой удивительной речи. «Братья, – сказала она, – нужны деньги. Конечно, не мне, а богу. Можете вы дать богу один пенни с каждого фунта веса вашего тела, которое он даровал вам по неизреченной своей милости? Только один пенни! Совсем немного! Только один пенни просит у вас бог! Неужели вы ему откажете?»
Тут же по рядам забегали служители, раздавая листовки, на которых было напечатано:
МОЛИТЕСЬ, ВЗВЕШИВАЙТЕСЬ И ПЛАТИТЕ!Только 1 пенни с фунта живого веса! Взвешивайтесь сами! Взвешивайте родных! Взвешивайте знакомых!
Вы знаете, мистеры, ведь это гениально придумано! С тонким знанием свойств американского характера. Американцы любят цифры. Убедить их легче всего цифрами. Так просто они не дали бы денег. Но один пенни с каждого фунта веса – в этом есть что-то бесконечно убедительное и деловое. Кроме того, это интересное занятие. Фермер вернется к себе в Айову и целую неделю будет взвешивать своих соседей и родственников. Хохоту будет!..
Да, да, да, сэры, служители снова забегали по рядам, на этот раз с большими подносами. Собрали полные подносы денег в несколько минут. Средний американец весит фунтов сто восемьдесят. Мой толстый сосед из Невады отдал два доллара! А человек он явно небогатый. Его убедили с помощью идиотской арифметики. Сэры, я говорю вам вполне серьезно. Религия всех этих шарлатанских сект находится где-то на полпути от таблицы умножения к самому вульгарному мюзик-холлу. Немножко цифр, немножко старых анекдотов, немножко порнографии и очень много наглости. Запишите это в свои книжечки, сэры!
Божья страна
Эмми Макферсон переполнила меру терпения мистера Адамса.
– Нет, серьезно, мистеры, – говорил он, расхаживая по нашему номеру, – мы с Бекки решили ехать. Нет, нет, сэры, я вас отлично понимаю. Вы писатели, вам надо хорошенько познакомиться с американской кинематографией. Да, да, вам это совершенно необходимо. Но нам с Бекки здесь нечего делать. Отпустите нас в Мексику.
С этими словами мистер Адамс разостлал на кровати большую, уже разорванную на сгибах карту и навалился на нее животом.
– Мы поедем в Мексику и отдохнем на берегу моря. Мы с Бекки уже ходили в «Чембер оф Коммерс» и взяли там информацию. Кроме того, мы сейчас пойдем в «А.А.А.» и там тоже возьмем информацию. Правда, Бекки? Возле самой границы есть прекрасное место – мексиканская деревушка Энсенадо. Чудесный пляж, хорошая дорога. Потом встретимся в Сан-Диэго. Отсюда начинается наш обратный путь в Нью-Йорк. Как вы думаете, сэры?
Несмотря на то что путешествие доставляло любопытным супругам Адамс большое удовольствие, они начали бояться, что мы не вернемся в Нью-Йорк к назначенному сроку. Между тем без своей бэби они стали сильно тосковать и по целым дням охотились за маленькими детьми, сжимали их в объятиях, душили поцелуями. Задержка в Голливуде сверх намеченного срока их испугала.
– Если мы тронемся из Сан-Диэго двадцать шестого декабря, то как раз вовремя успеем вернуться домой, – говорил мистер Адамс, красным карандашом вырисовывая на карте наш обратный путь. – Вдоль мексиканской границы мы поедем в Эль-Пасо, потом через Сан-Антонио мы попадем в Нью-Орлеан, а там, прорезав почти все черные штаты, доберемся до Вашингтона.
Как ни жалко было расставаться с нашими спутниками, пришлось это сделать, потому что знакомство с Голливудом требовало еще нескольких дней. Мучить же мистера Адамса, заставляя его таскаться с нами по студиям, было бы слишком бесчеловечно. Мы условились встретиться двадцать пятого декабря в Сан-Диэго – городе, лежащем на тихоокеанском побережье, у самой мексиканской границы. Если к этому дню мы не приедем, то супруги тронутся в путь без нас, и нам придется догонять их поездом.
Мы так привыкли к Адамсам, что, стоя у нашего вымытого, блиставшего свежестью кара, прощались бесконечно и никак не могли распрощаться. Впрочем, в последнюю минуту Адамсы снова юркнули в «Чембер оф Коммерс» (торговую палату) за дополнительной информацией и не выходили оттуда так долго, что мы, не дождавшись их, отправились по своим делам.
Мы познакомились в Голливуде с множеством людей, узнали много интересного. Но один грех лежит на нашей совести. Мы были в Голливуде и не увиделись с Чаплином, хотя это можно было сделать и мы очень этого желали.
Произошло это обидное происшествие из-за того, что свидание с Чаплином нам взялся устроить человек, который вообще не мог этого сделать, даже если бы работал над этим год. К сожалению, мы потеряли много дней, прежде чем узнали об этом. Когда же мы взялись за дело с другого конца, Чаплин, закончив музыку к «Новым временам», уехал отдыхать. Потом наступил светлый праздник коммерции: «мерри кристмас» – «веселое рождество». Потом нам надо было уезжать. Так и погибла встреча с Чаплином.
Разговоры с Майльстоном, Мамульяном и другими режиссерами из первого десятка убедили нас в том, что эти прекрасные мастера изнывают от пустяковых пьес, которые им приходится ставить. Как все большие люди в искусстве, они хотят ставить значительные вещи. Но голливудская система не позволяет им этого.
Мы видели нескольких русских, которые оказались в Голливуде. Они много работают, иногда преуспевают, иногда не преуспевают, но и те и другие чувствуют себя виноватыми в том, что сидят здесь, а не в Москве. Они не говорят об этом, но это видно по всему.
Когда Художественный театр был в Америке, один совсем молоденький актер остался сниматься в Голливуде. Остался на три месяца, а сидит уже больше десяти лет. Он относится к числу тех, которые преуспевают. Дела его идут в гору.
В чем же это выражается? Он получает пятьсот долларов в неделю. Заключил со своей фирмой семилетний контракт. Не подумайте, что это большое счастье – семилетний контракт. Суть такого контракта заключается в том, что актер, подписавший его, действительно обязан семь лет служить только в студии, с которой он связался. Сама же студия имеет право каждые полгода пересмотреть этот контракт и отказаться от услуг актера. Так что семилетний он для служащего, а для хозяина он только полугодовой.
Работать надо много. Рано утром он выезжает на съемку, домой возвращается поздно вечером. Отснялся в одной картине, получил неделю отдыха – и начинает сниматься в другой. Остановки нет. Только успевай менять грим. Так как он иностранец и говорит по-английски не совсем чисто, то играет тоже иностранцев – мексиканцев, испанцев, итальянцев. Только и знай, что меняй бачки с испанских на итальянские. Так как лицо у него сердитое, а глаза черные, то играет он преимущественно негодяев, бандитов и первозданных хамов.
– Это ж факт! – кричал он нам. – От одной картины до другой такой маленький перерыв, что я почти не успеваю ознакомиться с ролью. Честное слово.
Показав нам свой домик (хороший американский домик с электрическими приборами, газовым отоплением в полу и серебряной елкой), автомобиль (хороший американский туринг-кар, с зажигалками и радио) и жену (хорошая русская жена с серыми глазами), актер приступил к тому, что его, как видно, больше всего волновало.
– Ну, а как в Союзе?
Получив самый обстоятельный ответ насчет того, как в Союзе, он с еще большим интересом спросил:
– Ну, а как в Москве?
Получив не менее обстоятельный ответ насчет и этого, актер закричал:
– Ну, а в Художественном как? Как в нашем театре?
Мы рассказали и это.
– Мишка Яншин – заслуженный артист республики? – радостно охал он. – Так Мишка же мальчик! Мы же вместе с ним играли роли без слов. А Хмелев? Неужели играет царя Федора? Чудесно прямо! Хмелев же вместе со мной… Мы же просто дети были в двадцать втором году. Это ж факт, что были дети! Ну, а про Ильинского я все знаю! Знаменитый артист стал, а мы с ним вместе в студии учились. Это ж факт, что учились! С Игорем!
Он никак не мог привыкнуть к мысли, что Яншины и Хмелевы уже выросли, превратились в больших актеров. Не мог привыкнуть, потому что мерил по Голливуду. С ним ведь за эти тринадцать лет ничего, собственно, не произошло. Ну, стал больше денег получать, собственный автомобиль завел, но известным актером не стал. Только недавно – буквально месяц назад – начали хоть фамилию ставить в списке действующих лиц. А раньше и этого не было. Так просто – безымянный кинематографический гений с мексиканскими бачками и сверкающими глазами. А ведь очень талантливый актер.
Поздно ночью, провожая нас по затихшим голливудским улицам, он вдруг разъярился и стал все проклинать.
– Голливуд – это деревня! – кричал он страстным голосом. – Это ж факт! Дикая деревня! Тут же дышать нечем!
И долго еще на всю Калифорнию слышался густой русский голос:
– Деревня! Уверяю вас, деревня! Это ж факт!
Этот ночной вопль был последнее, что мы слышали в Голливуде. Наутро мы выехали поездом в Сан-Диэго по санта-фейской железной дороге.
Для этого мы сперва отправились в Лос-Анжелос, отстоящий от Голливуда… в общем, ни на сколько не отстоящий от Голливуда, а сливающийся с ним так же, как сам Голливуд незаметно переходит в Беверли-Хиллс, Беверли-Хиллс переходит в Санта-Монику, а Санта-Моника – еще во что-то.
Лос-Анжелос в переводе значит – ангелы. Да, это город ангелов, вымазавшихся в нефти. Здесь, как и в Оклахома-сити, нефть нашлась в самом городе и целые улицы заняты металлическими вышками – сосут, качают, зарабатывают деньги.
Лос-Анжелос – тяжелый город, с большими зданиями, грязными и оживленными улицами, железными пожарными лестницами, торчащими на фасадах домов. Это калифорнийское Чикаго – кирпич, трущобы, самая настоящая нищета и самое возмутительное богатство.
Перед самым отъездом мы увидели большую очередь людей, выстроившихся перед входом в ресторан. Надетое на постоянную вывеску полотнище извещало, что здесь Армия спасения дает бесплатный рождественский обед для безработных. Двери ресторана были закрыты, до обеденного часа было еще далеко. Очередь демонстрировала все виды и типы американских безработных – от бродяги, с давно не бритыми щеками и подбородком, до смирного служащего, еще не отказавшегося от галстука и не потерявшего надежду когда-нибудь снова войти в общество. Здесь стояли юноши – они выросли уже в то время, когда работа исчезла, они еще никогда не работали, ничего не умеют делать, им негде научиться работать. Они не нужны никому, полные сил, способные молодые люди. Здесь стояли старики, работавшие всю жизнь, но которые уже никогда больше работать не будут, отцы семейств, честные работяги, обогатившие за свою рабочую жизнь не одного хозяина, – они тоже никому не нужны.
Эптон Синклер, с которым мы встретились несколько дней назад в Пассадене, маленьком и красивом калифорнийском городке, сказал нам:
– Капитализм как строй, приносящий людям выгоду, заработок, как строй, который дает возможность существовать, давно кончился. Но к сожалению, люди этого еще не поняли. Они думают, что это – временная заминка, какие бывали и раньше. Они не понимают того, что уже никогда капитализм не даст работы тринадцати миллионам американских безработных. Ведь кризис за время с тридцатого года, когда он начался, заметно ослабел, дела идут гораздо лучше, а безработица не уменьшается. Людей заменили новые машины и рационализация производства. Самая богатая в мире страна, «божья страна», как ее называют американцы, великая страна не в состоянии обеспечить своим людям ни работы, ни хлеба, ни жилища.
И этот большой, страстный человек, всю жизнь метавшийся в поисках правды, бывший и либералом, и социалистом, и основателем собственной социальной теории, под флагом которой он баллотировался в губернаторы Калифорнии от демократической партии и даже собрал девятьсот тысяч голосов, – устало опустил голову. Мы сидели в его доме, темноватом, старомодном, пыльном и каком-то нежилом. Дом тоже был усталый и старый. Из попытки устроить в Калифорнии обособленный штат, где не будет безработицы, ничего не вышло. В губернаторы штата Синклер не прошел. Да ничего и не вышло бы, даже если бы он и сделался губернатором.
– С этим кончено, – сказал на прощанье Синклер. – Я возвращаюсь к литературной работе.
У Синклера красивая серебряная голова. Он был в сером фланелевом костюме и летних башмаках, сплетенных из узеньких ремешков. В руке он держал суковатую и искривленную палку. Таким он остался в нашей памяти – старый человек, стоящий в дверях своего скромного старого дома, освещенный калифорнийским закатом, улыбающийся и усталый.
Улицы праздничного Лос-Анжелоса были необычайно тихи.
На вокзале было пустовато. В киоске торговали газетами, цветными открытками, пятицентовыми пакетиками с леденцами. Эти круглые леденцы с дырочкой посредине похожи на мозольный пластырь. Вкус их подтверждает зрительное впечатление.
Какой-то железнодорожный чин храпел за своей перегородкой, надвинув на нос форменную фуражку с лакированным козырьком. Мы вошли в пульмановский вагон и уселись на вращающихся бархатных креслах с кружевными салфеточками на спинках. Проводник-негр неслышно внес наши чемоданы, неслышно поместил их на багажную сетку и безмолвно удалился.
Сейчас же за городом показались рощи апельсиновых деревьев. Их яркие плоды выглядывали из лохматой медвежьей зелени. Десятки тысяч деревьев стояли правильным строем. Почва между деревьями была идеально расчищена, и под каждым из них стояла керосиновая печка. Десять тысяч деревьев – десять тысяч печек. Ночи были довольно прохладны, и апельсины нуждались в подогретом воздухе. Как-никак, стояла зима.
Печки производили еще большее впечатление, чем сами апельсиновые плантации. Снова мы увидели безупречную и грандиозную американскую организацию.
Внезапно апельсиновые рощи сменились рощами нефтяными. Это были даже не рощи, а густые заросли нефтяных вышек. Они стояли на океанском пляже, иные из них уходили в самый океан.
Потом все перемешалось. Апельсиновые и нефтяные плантации шли одна за другой, и в окно одновременно врывались аромат апельсинов и тяжелый запах сырой нефти.
Наконец скрылись из виду все произведения рук человеческих и перед нами открылся океан, широкий, гордый и спокойный. Был час отлива, и океан далеко отступил от берегов. Мокрое морское дно отражало закатывающееся солнце. Оба солнца (настоящее и отраженное) во весь дух бежали за поездом. Солнце быстро опускалось на горизонт, краснело все больше, приплюснулось, смялось, потеряло форму. Теперь это было вялое, потерявшее всякую торжественность светило. А океан все шел рядом с поездом, накатывая легкую зеленовато-голубую волну, не суетясь и не набиваясь на внимание.
Пассажиры шумели газетными листами, спали в креслах, ходили в курительную комнату, где одновременно можно было выпить бокальчик какого-нибудь «Баккарди» или «Манхэттена», поговорить с соседом, покричать свое извечное «шурли» или просто подремать на бархатных диванах.
Уже стемнело, когда мы прибыли в Сан-Диэго. На вокзале нас встретили радостными воплями супруги Адамс. Адамсов распирали мексиканские впечатления, и супругам не терпелось поделиться ими.
– Мистеры! – воскликнул Адамс, едва мы ступили на перрон. – Вы знаете, кто был первый человек, которого мы увидели на мексиканской почве? Самый первый, который попался нам на пути! Да, да, сэры, это был терский казак! Самый настоящий терский казак, сэры! Отлично говорит по-русски. А по-испански – ни слова.
Адамсы повезли нас в «Калифорниа Ото Корт» (автомобильный постоялый двор, он же кэмп), в котором жили уже со вчерашнего дня и, подружившись с его хозяином, узнали все сан-диэгские новости: каков в этом году урожай апельсинов, как обстоят нефтяные дела, увеличился ли приток туристов в Калифорнию и еще много других полезнейших сведений, необходимых каждому вдумчивому путешественнику.
Хозяин кэмпа встретил нас, как своих любимых родственников. Надо полагать, что супруги представили нас ему в наивыгоднейшем свете. После радостных и долгих излияний мы оставили свои вещи в отведенной нам комнате и отправились обедать.
Сан-Диэго и расположенный поблизости город Сан-Педро являются базами тихоокеанского военного флота Соединенных Штатов. По улицам разгуливали матросы. Торжественные, долговязые и молчаливые, они вели под руку своих девочек. Веселые крошки цеплялись за кавалеров, болтая и хохоча.
Мы кружили в автомобиле вокруг выбранного нами ресторана, никак не находя места, где могли бы «припарковаться». Все обочины были заняты, всюду стояли автомобили. В поисках «паркинга» мы отъезжали от своего ресторана все дальше и дальше, перекочевывали с улицы на улицу. Но город был так переполнен автомобилями, что не находилось места еще только для одного, для одного маленького автомобиля благородного мышиного цвета. Черт знает что такое!
Мы заехали в самый конец Сан-Диэго, куда не доносился даже городской шум. Во мраке слышался лишь гул океана. Мы наконец «припарковались» и пошли в ресторан. До него было полчаса пути пешком. Вот какие иногда бывают казусы в стране, где двадцать пять миллионов автомобилей!
В ресторане, держа на вилке большой кусок бледной рождественской индейки, мистер Адамс торжественно воскликнул:
– Теперь, сэры, мы попали на самый край Юнайтед Стейтс. Дальше двигаться некуда. Отныне, что бы мы ни делали, куда бы мы ни ехали, – мы едем домой, в Нью-Йорк! Съедим, сэры, эту индейку за наше здоровье! Мы проехали уже шесть тысяч миль! Ура!
Назад к Атлантике
По старой испанской тропе
Щедрое декабрьское солнце изливало свой свет на веселый город Сан-Диэго, на его ярко-желтые особнячки, построенные в испанском стиле, с железными балконами и коваными решеточками на окнах, на остриженные лужайки перед домами и на декоративные деревца с жирной темно-зеленой листвой – у входных дверей.
В сиянии прозрачного утра стоял на рейде военный флот. Миноносцы расположились борт о борт, по четыре штуки вместе, тесно, как патроны в обойме браунинга. Светло-серые линии старых крейсеров и броненосцев тянулись к самому горизонту. Теплая зимняя дремота сковала бухту, и высокие тонкие мачты военных судов недвижимо торчали в бледно-голубом небе. Дредноутов и новейших кораблей здесь не было. Может быть, они сейчас стояли в Сан-Педро, а может быть, ушли в океан, на боевое ученье.
Мы выехали на глубоко уходящий в море мыс. Это была уже территория военной гавани. Часовой в шершавом зеленом мундире вышел из своей стеклянной будки и вежливо посмотрел на нас. Увидев фотоаппарат, он сказал:
– Прошу вас этим аппаратом ничего не снимать. Это запрещено.
Мыс был пустынен. Ни один человек не попался нам навстречу. Даже самый неквалифицированный японский разведчик мог бы без помехи сделать нужное ему количество снимков с военных построек, четко вырисовывавшихся внизу. Надо полагать, что снимки эти, конечно, давно сделаны и морские базы американцев так же хорошо известны японцам, как свое собственное Нагасаки. Когда мы ехали назад, часовой даже не вышел из будки. Он только подмигнул нам, как старым знакомым, и пропустил не осматривая.
В самом Сан-Диэго есть большой авиационный завод. Он интересен по двум причинам. Прежде всего – он построен за три месяца. Второе – возле него толкутся посторонние люди, словно возле популярного кафе. К заводу можно подойти вплотную, не нужны ни разрешения, ни пропуска. Можно не сомневаться, что эта беззаботность доставляет японцам истинное удовольствие.
По дороге к океану мы увидели великолепно нарезанные улицы с широкими асфальтированными мостовыми, с тротуарами, с фонарями, выкрашенными алюминиевой краской. Мы увидели целый городок, с канализацией и водопроводом, с подведенным на все участки газом и электричеством, одним словом – город со всеми удобствами. Но без домов. Еще ни одного домика не было в этом городке, где улицам были даны даже названия.
Так продаются в Америке участки для постройки домов. Какая-нибудь большая компания покупает землю, где, по ее соображениям, будет новый поселок или город, приводит его в только что описанное состояние, а затем с прибылью распродает участки. Другая компания, занимающаяся постройкой домов, возведет вам за два месяца чудесный испанский домик, с полосатыми маркизами, с ванной в первом этаже, с ванной во втором этаже, с балконом, с лужайкой перед домом и фонтаном позади дома – все сделает, отдайте только свои десять тысяч долларов, если они у вас есть. Можно и не наличными, можно и в рассрочку. Но не дай вам великий американский боже потерять работу и прекратить платежи!
– Мистеры, – торжественно говорил старый Адамс, – вы должны помнить, что вся растительность, которую вы здесь видите, – пальмы, сосны, апельсиновые и лимонные деревья, каждая травинка – посажена рукой человека. Калифорния вовсе не была раем. Это была пустыня. Калифорнию сделали вода, дороги и электричество. Лишите Калифорнию искусственного орошения на одну неделю – и этой беды нельзя будет поправить годами. Она снова превратится в пустыню. Мы называем Калифорнию «Золотым штатом», но правильнее было бы назвать ее штатом замечательного человеческого труда. В этом раю надо беспрерывно трудиться, иначе он превратится в ад. Помните, сэры! Вода, дороги и электричество.
У самого океана стояла прехорошенькая вилла, на дверях которой почище калифорнийского солнца сияла медная дощечка:
«Главная контора международного общества теософов».
– Но, но, сэры! – кричал мистер Адамс. – Пусть это вас не удивляет. Там, где уже есть вода, дороги и электричество, там легко жить. Как видите, теософы совсем не дураки.
Против многомильного прекрасного пляжа стояли длиннейшим рядом жилые кабины. Даже сейчас, зимой, некоторые из них были заселены. На их крылечках грелись девушки с какими-то независимыми мордочками – трогательные дикарки, бежавшие к природе от чопорных и богатых родителей, от безумия и грохота больших городов.
У старой испанской миссии мы повернули назад на восток, домой.
Высокий кирпичный крест стоит здесь на холме, в честь испанского монаха по имени Жюниперо Серра. Когда-то он захватил эту землю – «во славу бога и испанского короля». С холма виден весь город и залив.
Мы выехали на «Олд спэниш трэйл» – старую испанскую тропу. Бетон, асфальт и гравий сильно изменили старую дорогу. Конквистадоры, пожалуй, не узнали бы сейчас этих мест. Там, где свистела оперенная стрела индейца, теперь стоит «гэзолин-стейшен» и быстро дышит компрессор, нагнетая воздух в автомобильную камеру. И там, где испанцы, задыхаясь под тяжестью своего кожаного и стального вооружения, тащились по еле заметной тропинке, сейчас пролегает обычный американский «хайвей», дорога высокого класса, иногда даже с наклонными виражами.
Хотя мы двигались теперь к востоку, но солнца с каждым днем становилось меньше. Опять мы увидели далекие горы, синеющие и лиловеющие на горизонте, опять спустился сумрак, настала ночь, засверкали фары. Было уже поздно, когда мы прибыли в Эль-Сентро.
Дрянной городишко Эль-Сентро лежит в «Импириэл-валли» – «Имперской долине». Вся долина – размером тридцать на тридцать миль. Лимоны здесь снимают три раза в году, апельсины – два раза. В декабре и январе здесь выращиваются овощи, которые в это время нигде в Соединенных Штатах не произрастают. Сейчас начиналась уборка салата, затем пойдут дыни. И в этой райской долине, где зреют большие и бледные грейпфруты, в долине, насквозь пропитанной одуряющим запахом лимонов и апельсинов, в этой долине жестоко, как, может быть, нигде в мире, идет эксплуатация мексиканцев и филиппинцев. И еще больше, чем салатом и апельсинами, известна эта долина зверскими расправами с забастовщиками, с несчастными – многодетными, нищими и всегда голодными – мексиканцами-сезонниками. Отсюда до Мексики всего двенадцать миль.
«Лас-Пальмас», кэмп, в котором мы остановились, представлял собой нечто среднее между кэмпом и гостиницей. Здесь уже был холл с декоративными растениями в кадушках, с качалками и мягкими диванами, этим он походил на гостиницу и давал сердцу путника повод наполниться гордостью (помните? «Пусть ваше сердце наполнится гордостью, когда вы произносите имя отеля, в котором остановились!»). С другой же стороны, цена комнаты была невелика и явственно давала понять, что «Лас-Пальмас» – все-таки кэмп. В общем, это было удобное пристанище. Хозяином его был австрийский немец, тридцать лет назад приехавший в Америку в каюте третьего класса. Сейчас, кроме кэмпа, ему принадлежит еще «Калифорниа-отель», четырехэтажное здание, с кафе и табльдотом. Поэтому с его лица не сходит оптимистическая американская улыбка, роднящая его с мистером Максом Фактором и прочими счастливчиками.
Эль-Сентро с его разбитыми тротуарами и кирпичными аркадами, Эль-Сентро, мрачный город эксплуатации и большого бизнеса, находился еще в Калифорнии. Бенсон, куда мы приехали на следующий день вечером, был уже в Аризоне.
К Бенсону мы ехали через громадные поля кактусов. Это были «джайент-кэктус» – кактусы-гиганты. Они росли группами и в одиночку и были похожи на увеличенные в тысячу раз и поставленные стоймя огурцы. Они покрыты ложбинками, как коринфские колонны, и волосками, как обезьяньи лапы. У них есть короткие толстые ручки. Эти придатки делают гигантские кактусы необыкновенно выразительными. Одни кактусы молятся, воздев руки к небу, другие обнимаются, третьи нянчат детей. А некоторые просто стоят в горделивом спокойствии, свысока посматривая на проезжающих.
Кактусы живут, как жили когда-то индейские племена. Там, где живет одно племя, другому нет места. Они не смешиваются.
Пустыня кактусов сменилась песчаной пустыней, настоящей Сахарой, с полосатыми от теней или рябыми дюнами, но Сахарой американской: ее пересекла блестящая дорога с оазисами, где вместо верблюдов отдыхали автомобили, где не было пальм, а вместо источников текли бензиновые ручьи.
В Бенсоне восемьсот пятьдесят жителей. Что им тут делать, в пустыне? Зачем они собрались в этой точке земного шара?
Оказывается, здесь есть пороховой завод Дюпона, одного из подлинных властителей Америки, – Дюпона, который так замечательно делает кинопленку, гребешки и взрывчатые вещества!
Что можно тут делать, в обыкновенном американском городишке с несколькими газолиновыми станциями, с двумя или тремя аптеками, с продуктовым магазином, где все продается уже готовое – хлеб нарезан, суп сварен, сухарики к супу завернуты в прозрачную бумагу? Что тут люди могут делать, если не сходить с ума?
В магазине, где мы покупали нарезанный хлеб, сваренный суп и какой-то уже съеденный сыр (во всяком случае, у него был такой вид), нам сказали, что дела поправились, безработицы в городе нет, потому что пороховой завод стал работать полным ходом.
Когда мистер Адамс, схватив хозяина лавки за лацкан пиджака, принялся выспрашивать у него, что делают люди в Бенсоне, хозяин ответил:
– Известно, что делают. Курят «Честерфильд», пьют «Кока-кола», сидят в аптеке. Завелись деньги. Кому-то нужен порох.
Кому-то нужен порох, кому-то нужна медь, военная промышленность стала работать лучше.
На другое утро мы попали в Бисби, городок в горах. Здесь медные рудники Аризоны. Домики расположились на крутых склонах. К ним ведут длинные деревянные лестницы. На площади городка стоит красный, отлитый из сырой меди, памятник рабочему, неизвестному рабочему, который сделал большие деньги владельцу рудников. В аптеке на столиках красуются сахарницы, выштампованные из тонкой красной меди. Сейчас же за городком виден гигантский кратер, будто созданный природой. На самом деле его вырыли люди. Это – место старых разработок меди.
Затем мы попали в пустыню, заселенную кактусами, каких мы до сих пор не видели. Большой игольчатый шар выбрасывает вверх длинную цветущую ветку. Когда мы миновали эту пустыню, то попали в другую, где росли только телеграфные столбы и ничего больше. Прошел еще один день, и из пустыни телеграфных столбов мы попали в пустыню, поросшую объявлениями, плакатами, рекламами и всякого рода письменными, рисованными и печатными воплями о городе Уайт-сити.
Через каждые две мили, а потом еще чаще плакаты неистово приглашали путешественника в Уайт-сити. При этом плакаты обещали такие радости, что если бы даже под псевдонимом Уайт-сити скрывались Ницца или Сочи, то и тогда, кажется, это не могло бы оправдать сумасшедшего энтузиазма, с которым были составлены просьбы, требования и мольбы о посещении городка.
Смущенные такой требовательностью, мы несколько отклонились от своего маршрута. Из Аризоны мы проскочили в штат Нью-Мексико, и чем ближе мы подвигались к Уайт-сити, тем визгливее становились рекламы. Наконец выяснилось, что Уайт-сити основан знаменитым ковбоем Джимом Уайтом, открывшим еще более знаменитые ныне Карлсбадские пещеры.
Двадцать лет тому назад ковбой Джим Уайт, тогда еще не основавший города своего имени, заметил, что из какой-то расселины в земле подымается густой дым. Заинтересовавшись этим, он подъехал поближе и увидел, что это не дым, а невероятно большая стая летучих мышей, вылетающая откуда-то из-под земли. Ковбой смело спустился в расселину и открыл под землей колоссальные сталактитовые пещеры. Вскоре эти пещеры были объявлены национальной собственностью, и предприняты были меры для того, чтобы сделать их удобными для осмотра. Пещеры вошли в список национальных парков Соединенных Штатов. Что же касается Джима Уайта, то он не удовольствовался славой открывателя и географа, а возле самых пещер основал кэмп из нескольких домиков под гордым названием Уайт-сити, пространство же на сотни миль в окружности заполнил извещениями и изречениями о своем городе.
Оборудование сталактитовых Карлсбадских пещер дает очень хорошее представление об Америке, о стиле американской работы.
На сотни миль вокруг была пустыня, настоящая гадючья пустыня. И вот, когда мы, озабоченные тем, что придется, наверно, ползти куда-то под землю на карачках, подъехали к пещерам, мы увидели удивительную картину: два лифта, два превосходных лифта с красивыми кабинами, которые с приятным городским гуденьем опустили нас на семьсот футов под землю. Наверху были магазин, где продавались индейские сувениры, отличное информационное бюро и туалетные комнаты, которые сделали бы честь первоклассному отелю. Это был электрический, громкоговорящий, ультрасовременный кусочек пустыни.
Осмотр пещер занимает весь день, но мы опоздали и участвовали только во второй половине экскурсии. Спустившись в лифтах на дно пещер, мы попали в подземную столовую. Завтрак ничем особенным не отличался, но надо принять в расчет, что продукты сюда везут издалека. Все-таки это был завтрак с горячим кофе в толстых чашках, с безвкусным хлебом, завернутым в прозрачную бумагу, сэндвичами, апельсинами калифорнийского вкуса, то есть не слишком вкусными, – настоящий американский завтрак в месте, расположенном на семьсот футов ниже поверхности земли.
Потом всех собрали, построили в длинную цепь, впереди пошел руководитель в зеленой полувоенной форме служащих национальных парков. Шествие замыкал еще один служащий, присматривавший за тем, чтобы никто не отстал.
По мере того как мы двигались, переходя из одной залы в другую, впереди нас зажигалось электричество, а позади – потухало. Свет повсюду был замаскирован, источники его были скрыты и расположены так, чтобы наивыгоднейшим образом осветить залы.
Перед нами раскрывались грандиозные декорации: готические своды, маленькие, спрятавшиеся в нишах соборы, многотонные кружевные сталактиты, свисавшие с куполов. Залы были обширнее самых больших театров в мире. Сталагмиты образовали кудрявые миниатюрные японские садики или возвышались, как блестящие известковые монументы. Сталактиты висели громадными каменными складчатыми мантиями. Стояли меловые будды, макеты театральных постановок, виднелись окаменевшие миражи и северные сияния – всё, что может представить себе человеческое воображение, было здесь, включая маленький сталагмит, похожий на гангстерский пулемет.
Экскурсанты шли, растянувшись цепью, похожие на процессию монахов в постановке Макса Рейнгардта.
Перед выходом из пещер гостей посадили на сталагмитовый барьер, образовавшийся в одной из зал, и наш руководитель в зеленом мундире прочел трехминутную лекцию, пересыпанную цифрами. Немножко цифр в подкрепление к только что виденным чудесам природы – это американцам всегда нравится. Лектор сообщил, сколько лет сталактитам, какой величины самый большой из них и сколько стоила установка лифта (сто семьдесят пять тысяч долларов). После этого он огласил территориальный состав экскурсии. Всего сегодня в ней участвовало семьдесят два человека. Из них – четверо из штата Монтана, двое из Северной Дакоты, четырнадцать из Нью-Мексико, девять из Калифорнии и так далее. Здесь были представлены почти все американские штаты. Мы заметили это еще у входа в пещеры. Там стояли автомобили с голубыми, зелеными, желтыми, коричневыми номерами, обнаруживая этим свою принадлежность к самым различным штатам. Лектор закончил свою речь сообщением, что в числе экскурсантов имеются два русских путешественника из Москвы. Так как из нас четырех наиболее почтенными оказались супруги Адамс, то взоры собравшихся устремились на них.
Потом другой служащий, тот, который замыкал шествие, ушел в соседнюю залу, потушил свет и исполнил в темноте какую-то печальную песню, чтобы продемонстрировать нам акустику пещер. Служащий пел на расстоянии четырехсот футов, а мы слышали даже его дыхание.
Утомленные, мы повалились на сиденья нашего верного автомобиля, и он снова помчал нас. Мы ехали в Эль-Пасо, город на самой мексиканской границе. Тихое гуденье мотора и равномерный рев гравия под покрышками шин усыпляли. Мы сонно кивали головами, и даже мистер Адамс задумался.
Мы проснулись от внезапно наступившей тишины. Машина стояла. Мистер Адамс вопросительно смотрел на нас. Оказывается, к нам просился хич-хайкер. Мы взяли его – и сейчас же раскаялись. Он говорил как пьяный. Впрочем, несмотря на это, он оказался вполне трезвым. Такой уж был у него оригинальный недостаток речи. Свои взгляды на жизнь он изложил быстро и охотно. Они были такие же затрепанные, как его старый серый пиджак и слежавшиеся, покрытые пухом черные штаны.
– Дело идет к войне, – объявил он, непрерывно запинаясь и глотая целые слоги, – молодежь хочет воевать. Нужно же им чем-нибудь заняться. Им нужна какая-нибудь работа, работа и слава. Работы нет, ее отобрали у людей машины. Не худо бы хоть часть этих проклятых машин уничтожить.
Для исправления дел хорошо было бы, чтобы часть людей убили на войне, а часть машин уничтожили. Тогда все пойдет как по маслу. Мы слышали это уже много раз.
Когда мы проезжали мимо мексиканских лачуг с разбитыми стеклами и развешанными на веревках рваными перинами, наш нищий спутник бросил презрительный взгляд на кучку мексиканцев, собравшихся у крыльца одной из лачуг. Они были одеты в заношенные полушубочки из палаточной парусины с бараньими воротниками.
– Мексиканцы, – сказал наш спутник своим пьяным говорком, – любят жить в грязи. Дай им какой угодно заработок, они все равно будут грязные. Это уж такие люди. Дай им хоть пять долларов в неделю, хоть пять долларов в день – ничто не поможет.
Жить нашему хич-хайкеру было покойно с такими взглядами. Все решалось очень просто. Часть людей надо убить, часть машин надо уничтожить. А если есть бедные люди, то это особый народ, – они любят жить в бедности, все эти мексиканцы, негры, поляки.
– Плати им даже шесть долларов в день, – повторил он с упрямством пьяного, – они все равно будут жить как нищие. Они это любят.
День в Мексике
Эль-Пасо, город на самом юге Техаса, воспринимается словно какой-то трюк. После неимоверной по величине пустыни, после бесконечных и безлюдных дорог, после молчания, нарушаемого только гулом нашего мотора, вдруг – большой город, сразу сто тысяч человек, несколько сотен электрических вывесок, мужчины, одетые точь-в-точь как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, и девушки, раскрашенные так, словно рядом нет никакой пустыни, а весь материк заполнен кинематографами, маникюрными заведениями, закусочными и танцклассами.
Но ведь мы только что проехали эту пустыню! Мы двигались по ней со скоростью пятидесяти миль в час, и все-таки нам понадобилось несколько дней, чтобы ее пересечь, так она велика. Мы поддались ее очарованию и иногда бурчали себе под нос что-то вроде «пустыня внемлет богу». Но в Эль-Пасо о величии пустыни даже не думали. Здесь занимались делами. Скрежетали автоматические кассы и счетные машины, мигали рекламные огни, и радио тяжко ворковало, как голубь, которому подпалили хвост.
Подкрепившись в первом ресторане толстенькими кусочками мяса, называвшимися «бэби-биф», мы пошли пешком в Мексику. Она находилась тут же, на окраине Эль-Пасо. Надо было только перейти мост через полузасохшую по случаю зимы Рио-Гранде, а там была уже Мексика – город Хуарец.
Идти в Мексику было страшно. И вот почему. На наших паспортах имелась годовая виза на пребывание в Соединенных Штатах, выданная нам мистером Эллисом А. Джонсоном, американским вице-консулом в Москве. Но каждая виза автоматически кончается, как только вы покидаете страну. Что будет, если по возвращении из Мексики в Соединенные Штаты нам скажут, что правительство Соединенных Штатов Америки считает долг гостеприимства выполненным и больше не настаивает на том, чтобы мы были его гостями? Ужас охватывал нас при мысли о том, что остаток своих дней нам придется провести в городе Хуарец, находящемся в округе Чи-хуа-хуа. А с другой стороны, очень хотелось побывать в Мексике. В таких душевных треволнениях мы прибыли к мосту, соединяющему Эль-Пасо и Хуарец, и вошли в помещение пограничного пункта.
Близость Мексики давала себя чувствовать удручающим эвакозапахом – не то карболки, не то формалина, – которым было все пропитано в небольшом помещении пограничников. Иммиграционный чиновник, перекладывая сигару из одного угла рта в другой, долго с интересом рассматривал наши паспорта. Надо думать, что советские граждане очень редко появляются в пограничном пункте Эль-Пасо.
Чиновник неожиданно оказался благожелателен. Так же неожиданно такой чиновник может оказаться придирчивым. У них никогда не разберешь! Профессия эта, как видно, всецело построена на эмоциях, настроениях и тому подобных неуловимых оттенках. Наш чиновник разразился громкой речью, из которой явствовало, что два русских джентльмена могут совершенно безбоязненно идти в Мексику. Их визы сохранят свою силу. Двум русским джентльменам совершенно не надо об этом беспокоиться. После этого он вышел вместе с нами на мост и сказал человеку, сидевшему в контрольной будке:
– Это два русских джентльмена. Они идут в Мексику. Пропустите их.
Осторожный мистер Адамс спросил, будет ли наш шумливый покровитель здесь, когда мы будем возвращаться в Соединенные Штаты.
– Да, да, – ответил чиновник, – я буду здесь весь день. Пусть русские джентльмены ни о чем не тревожатся. Я буду здесь и впущу их назад в Соединенные Штаты.
Мы заплатили по два цента какого-то сбора и через минуту оказались на мексиканской почве.
На мексиканской стороне моста тоже находился пограничный пункт, но там никого ни о чем не спрашивали. Возле будки стоял, правда, шафраннолицый мужчина с грязноватой шеей, одетый в ослепительный мундир цвета темного хаки, с золотыми кантиками. Но на лице у мексиканского пограничника было начертано полнейшее презрение к возложенным на него обязанностям. На лице у него было начертано следующее: «Да, горькая судьбина вынудила меня носить этот красивый мундир, но я не стану пачкать свои изящные руки, контролируя какие-то грязные бумажки. Нет, этого вы не дождетесь от благородного Хуана-Фердинанда-Христофора Колбахоса!»
Мы, не запасшиеся мексиканскими визами по случаю отсутствия дипломатических сношений между Москвой и Мексикой, были очень довольны, что столкнулись со столь благородным гидальго, и быстро зашагали по главной улице Хуареца.
Привыкнув за долгое время к запаху бензина, господствующему в Соединенных Штатах, мы были очень смущены хуарецовскими запахами. Здесь пахло жареной едой, пригоревшим маслом, чесноком, красным перцем, пахло сильно и тяжело.
Множество людей наполняло улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие. Проходили молодые люди с гитарами. Несмотря на сверканье оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязноватый. Калеки громко вымаливали милостыню. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая пенни. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящичками для чистки ботинок. Это уж, как видно, правило, что чем беднее южный город, тем большее значение придается там зеркально-чистым ботинкам. Прошел отряд солдат, мордатых, начищенных, скрипящих боевыми ремнями, отряд возмутительно благополучных вояк.
Как только мы появились на улицах Хуареца, к нам подошел невеселый молодой человек, с бачками на худом лице. Он был в зеленых брюках и сорочке с расстегнутым воротом. Он предлагал купить у него сигареты, места на сегодняшний бой быков, контрабандный табак и еще тысячу предметов. Он предлагал все, что только продавец может предложить покупателю. Заметив, что мы поддаемся, он засуетился еще больше и потащил нас к зданию цирка, где будет происходить бой.
Наружные стены цирка были увешаны большими объявлениями об американском виски. Пройти внутрь цирка не удалось. Там сейчас происходил митинг рабоче-крестьянского союза, направленный против президента Кайеса, снова пытающегося захватить власть. Вся площадь вокруг цирка была заполнена людьми с красно-зелеными ленточками в петлицах (это эмблема союза). Внутри цирка играл оркестр, хрипло говорили ораторы, а у входа стоял военный отряд, который мы уже видели сегодня. Крики, доносившиеся из цирка, толпа, прислушивавшаяся к ним, стоя на незамощенной площади, ветер, носивший горячую, колючую пыль и солому, решительные и тупые лица солдат – все это создавало тревожное, пороховое настроение.
Мы прошли базар, где жарили, пекли и варили еду, один вид которой вызывал неутолимую жажду. У ларьков сидели люди. Пищу с тарелок они брали прямо руками.
Потом мы побывали в церкви. У входа в нее толпились нахальные нищие с грязными вдохновенными лицами пророков. В церкви шла величавая служба, и женщины в черном плакали над своей горькой, несчастной, неустроенной мексиканской жизнью. Церковь была узкая, длинная. Несколько зажженных свечей едва разгоняли мрак. Женщины сидели на деревянных скамьях с высокими спинками. Гудел маленький орган.
При сухом законе Хуарец служил для исстрадавшихся американцев спиртным оазисом. Даже сейчас в городке есть несколько больших ресторанов, рассчитанных исключительно на иностранцев. Все они расположены у самого моста через Рио-Гранде.
Бой быков был назначен на три часа, но начался с опозданием на сорок минут. За это время мы успели многократно осмотреть и арену и публику, собравшуюся в небольшом числе. Среди зрителей было несколько американцев, судя по оглушительным «шурли», которые время от времени слышались недалеко от нас.
Арена была окружена амфитеатром без крыши, очень красивым и грубо построенным. Здание было по характеру народным, простым, совершенно лишенным украшений. Зрителям, которые боялись простудиться на цементных сиденьях, давали напрокат плоские соломенные подушечки в полосатых наперниках. Большой оркестр из мальчиков, наряженных в темные пиджаки, зеленые галстуки, фуражки с большими козырьками и серые панталоны с белыми лампасами, громко и фальшиво трубил испанизированные марши. Круглая арена была засыпана чистым песочком.
Наконец за деревянными воротами началось движение, и показались люди – человек восемь-десять. Впереди шли две девушки в костюмах тореадоров. Сегодня был особенный бой. Из четырех быков, значившихся в программе, двух должны были убить сестры-гастролерши из Мексико-сити – Мария, по прозвищу «La Cordobestita», и Тереза, по прозвищу «La Gitanita». Оркестр гремел во всю мочь. За девушками шли мужчины в потертых, шитых золотом костюмах. У них был деловой вид, и на приветствия публики они отвечали легкими поклонами. Девушки-матадоры были взволнованы и низко кланялись. Шествие заключала пара лошадей в упряжке. Лошади были предназначены для того, чтобы увозить убитых быков.
По рядам ходили продавцы, разнося в ведрах бутылки с фруктовой водой и крошечные флакончики виски.
Маленький худощавый черный бык выбежал на арену. Игра началась.
Под самыми нашими местами стоял в особой деревянной загородке худущий мексиканец со шпагой, которую он вытирал холщовой тряпкой. Эту шпагу передают тореадору перед решительным ударом.
Не будучи знатоками и любителями тавромахии, мы воздержимся здесь от употребления специальных терминов, тем более что они нам не известны.
Первого быка убивали долго и плохо.
Зрелище стало мучительным с самого начала, потому что сразу же обнаружилось желание быка уйти с арены. Он явно понимал, что здесь ему хотят причинить вред. Он не хотел сражаться, он хотел в хлев, на пастбище, хотел щипать жесткую мексиканскую траву, а не кидаться на людей.
Напрасно его раздражали, втыкая в шею крючья с цветными лентами. Надо было долго мучить быка, чтобы вызвать в нем злость. Но даже когда он пришел в ярость – и тогда он немедленно успокаивался, как только его оставляли в покое.
Во всем этом зрелище самым тяжелым было то, что бык не желал умирать и боялся своих противников. Все-таки его разгневали, и он напал на девушку-тореадора. Она не успевала увертываться, и бык несколько раз толкнул ее своим сильным боком. Девушка делала гримасы от боли, но продолжала размахивать красным плащом перед глазами быка. Он толкнул ее рогами, повалил на песок и прошел над ней. Внимание быка отвлекли опытные спокойные мужчины. Тем временем девушка встала и, потирая ушибленные места, направилась к загородке, где находился хранитель шпаг. Теперь мы видели ее близко, на расстоянии метра. Она тяжело дышала. Ее бархатный тореадорский жилетик лопнул по шву. На скуле была царапина. Она приняла из рук мексиканца шпагу, немножко отошла от барьера и, обратившись лицом к балкону, где сидело городское начальство, сняла шапочку. С балкона махнули платком, и девушка, по-детски глубоко вздохнув, пошла к быку.
Наступил решительный момент. «La Gitanita» нацелилась и воткнула шпагу в шею быка, сейчас же за рогами. Шпага, ловко нацеленная и вошедшая на достаточную глубину, убивает быка. Говорят, это эффектно. Один удар – и бык падает к ногам победителя. Но девушка не могла убить быка. Она колола слабо и неумело. Бык убежал, унося на шее качающуюся шпагу. Девушке пришлось пережить несколько унизительных мгновений, когда бандерильеры гонялись за быком, чтобы извлечь из него шпагу. Так повторилось несколько раз. Бык устал, девушка тоже. Розовая пена появилась на морде быка. Он медленно бродил по арене. Несколько раз он подходил к запертым воротам. Мы услышали вдруг мирное деревенское мычанье, далекое и чуждое тому, что делалось на арене. Откуда здесь могла взяться корова? Ах да, бык! Он сделал несколько заплетающихся шагов и стал опускаться на колени. Тогда на арене появился здоровенный человек в штатском костюме и зарезал быка маленьким кинжалом.
Девушка заплакала от досады, стыда и боли. Публика была недовольна. Только потом, когда вторая сестра, «La Cordobestita», убивала следующего быка, первой дали возможность реабилитироваться, и она довольно ловко несколько раз пропустила быка мимо себя на сантиметр от бедра, обманув его красным плащом. Раздались аплодисменты, девушка снова расцвела и отвесила публике несколько балетных поклонов.
Худущий мексиканец деловито вытирал тряпкой окровавленную шпагу, которая вернулась к нему. Лошади уволокли мертвое животное, и на арену выпустили третьего быка, такого же небольшого и черного, как и первый. И этот бык знал, что с ним хотят сотворить что-то недоброе. Его тоже было жалко. «La Cordobestita» резала его тоже мучительно долго и неловко, и в конце концов его тоже добили кинжалом. Ужасен момент перехода от жизни к смерти. Внезапно бык падает, что-то внутри его грубого тела произошло, пришел ему конец. Смотреть на это стыдно и страшно, словно сам участвовал в этом убийстве из-за угла.
Может быть, бой с участием свирепых быков и знаменитого торреро имеет спортивную внешность, может быть! Но то, что мы видели в маленьком провинциальном мексиканском городишке, вызывало отвращение.
Однако самое худшее было впереди. Трое матадоров в клоунских масках и костюмах, защищенные от ударов подушечными грудями, боками и задами, полчаса издевались над четвертым быком. Поначалу это была обыкновенная цирковая интермедия, которая обычно кончается тем, что клоуны убегают с арены верхом друг на друге, а потом снова появляются, чтобы поклониться публике, снять маски и показать свои подлинные, ненакрашенные, умные лица.
Но здесь интермедия кончилась тем, что быка зарезали. Это было так неожиданно и ужасно, что мы поднялись со своих мест. Не успели мы подойти к выходу, как увидели, что быка увозят. Его благородная черная морда тяжело и позорно тащилась по песку, а ослепшие глаза внимательно и строго смотрели на мычащих и ржущих зрителей. Публика кидала тореадорам шляпы, и те ловко бросали их назад. Мы медленно шли по плохо освещенным улицам города Хуареца. Звучали гитары. Молодые люди перебирали струны, прислонившись к облупленным стенам одноэтажных хибарок. Из ресторана «Лобби № 2» неслась страстная мексиканская песня. На душе было мрачно.
Пройдя мимо Хуана-Фердинанда-Христофора Колбахоса, который по-прежнему не обратил на нас никакого внимания, и бросив последний взгляд на Мексику, мы перешли мост. К нашему удивлению и даже испугу, чиновника, который должен был пустить нас назад, не было. Вместо него стоял другой, с таким сердитым лицом, что мы не ждали ничего доброго. Но едва только мы предъявили свои паспорта, как сердитый чиновник закричал:
– Это те два русских джентльмена, которые сегодня утром пошли в Мексику? Да, да, мне уже говорили о них! Мне все передали. Два русских джентльмена могут свободно пройти в Соединенные Штаты. Пусть они не беспокоятся.
И он обратился к чиновнику в контрольной будке:
– Это те два русских джентльмена, которые из Мексики идут в Юнайтед Стейтс. Пропустите их!
Когда мы миновали пограничный пункт, мистер Адамс сказал:
– Нет, сэры, это организованная страна. Наш утренний чиновник ушел, но не забыл передать своему заместителю, что вечером придут из Мексики двое русских. Все-таки это сервис, не правда ли? И знаете, сэры, что я хочу вам сказать еще? Я хочу вам сказать, что это страна, в которой вы всегда можете спокойно пить сырую воду из крана, вы не заболеете брюшным тифом, – вода всегда будет идеальная. Это страна, где вам не надо подозрительно осматривать постельное белье в гостинице, – белье всегда будет чистое. Это страна, где вам не надо думать о том, как проехать в автомобиле из одного города в другой. Дорога всегда будет хорошая. Это страна, где в самом дешевом ресторанчике вас не отравят. Еда, может быть, будет невкусная, но всегда доброкачественная. Это страна с высоким уровнем жизни. И это особенно делается ясно, сэры, когда попадаешь, как сегодня попали мы, в другую американскую страну. Но, но, сэры, я не хочу сказать, что Соединенные Штаты – это совсем замечательная страна, но у нее есть свои достоинства, и об этом всегда надо помнить.
Перед тем как попасть в Эль-Пасо, мы пробыли в Соединенных Штатах довольно долгое время и порядком поездили по стране. Мы так привыкли к хорошим дорогам, хорошему обслуживанию, к чистоте и комфорту, что перестали все это замечать. Но стоило нам только один день пробыть в Мексике, как мы снова по достоинству оценили все материальные достижения Соединенных Штатов.
Иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть ее на один день.
Новый год в Сан-Антонио
Был канун Нового года, когда наш серый кар въехал в Сан-Антонио – самый большой город штата Техас.
– Я знаю этот город, – сказал мистер Адамс, – я был здесь в прошлом году. Уверяю вас, сэры, это прекрасный город.
Город был необычно оживлен. Его центр с десятком двадцатиэтажных домов выглядел после пустыни, как настоящий Нью-Йорк. Светились тонкие газосветные трубки реклам и витрины магазинов. Проезжая маленькие американские города, мы совсем отвыкли от толпы и теперь, как деревенские жители, удивленно глазели на тротуары, переполненные пешеходами. Среди обыкновенных мягких шляп и принятых в этих местах коротких бачек попадались широкие шляпы и совсем уже внушительные бачки, указывающие на близость Мексики и ковбойских ранчо.
Мы ехали в автомобиле уже около двух месяцев. Нам хотелось отдохнуть и развлечься. Оживленная толпа, открытые настежь фруктовые лавки, запах кофе и табачного дыма – весь этот чужой, суетливый мир вселял в сердца лирическую грусть и вместе с тем тайную надежду на чудо. А вдруг с нами произойдет что-то замечательное, что-то такое, что не случается с обыкновенными путешественниками в чужом городе, где нет ни одной знакомой души. В этот канун Нового года мы чувствовали себя особенно далеко от родной земли, от Москвы, от друзей и близких. По правде говоря, хотелось хлопнуть хорошую рюмку водки, закусить селедкой и черным хлебом, хотелось веселиться, произносить веселые бессмысленные тосты.
– Да, да, сэры, в Москве сейчас, наверное, снег, – сказал мистер Адамс, с участием поглядев на наши расстроенные лица.
Сэры застонали.
– Нет, серьезно, мы во что бы то ни стало должны сегодня хорошенько отпраздновать Новый год. Нет, нет, мистеры, у меня есть план. Сейчас всего восемь часов вечера. Я предлагаю ехать прямо в гостиницу «Роберт И. Ли». Я дал адрес этой гостиницы моим корреспондентам. Там мы побреемся, приведем себя в порядок, оставим в гараже автомобиль и выйдем на улицу. Я знаю в Сан-Антонио один прекрасный ресторанчик. Он недалеко от отеля. Там собираются поэты и художники. Сан-Антонио напоминает Санта-Фе и Кармел в том смысле, что его облюбовали люди искусства. Да, да, сэры! О, но! В этом ресторанчике хорошо кормят… И в этот день мы не будем особенно экономны. Мы сведем знакомство с поэтами и художниками и будем пировать. Сэры! Как вы смотрите на этот план?
И мистер Адамс хлопнул себя ладонью по бритой голове с удалью заправского кутилы.
Мы с энтузиазмом принялись выполнять этот прекрасный план. Не прошло и часа, как, бодрые, умытые, со следами пудры на бритых щеках и с надеждой в душе, мы вышли на улицу и смешались с толпой.
– Сперва отправим поздравительные телеграммы, – сказал мистер Адамс.
Телеграфное бюро «Вестерн Юнион» представляло собой небольшой магазин, разделенный на две половины широкой дубовой стойкой, за которой сидел молодой человек с заложенным за ухо карандашом. У входа в бюро дожидались два мальчика-велосипедиста в крагах, фуражках и курточках с погончиками и светлыми пуговицами. На их обязанности лежало развозить адресатам телеграммы. Велосипеды с очень широкими рулями и толстыми шинами были прислонены к фонарным столбам. Мальчики очень гордились своими мундирами и важничали, но оставались все-таки детьми и коротали свой досуг самым легкомысленным образом. Они закладывали в полую трубку велосипедного руля шутиху, поджигали ее и, отбежав к двери, следили за тем, как шарахаются прохожие, поравнявшись с велосипедом и услышав у самого уха выстрел. Если выстрел бывал особенно силен, а прохожий особенно нервно подпрыгивал, мальчики вваливались в бюро и, давясь от смеха, выглядывали на улицу, а молодой человек с карандашом за ухом укоризненно грозил им пальцем. Потом телеграфные мальчики вступали в бой с компанией обыкновенных мальчиков, без краг, погончиков и велосипедов. Враждующие стороны обстреливали друг друга шутихами, которые оглушительно хлопали.
Молодой человек принял телеграмму, вытащил из-за уха свой карандаш и, быстро пересчитав слова, сказал:
– Два доллара восемьдесят центов.
Мы достали деньги.
– Эта телеграмма, – сказал молодой человек, – будет доставлена в Москву еще сегодня. Но может быть, вы хотите, чтобы телеграмма пришла завтра утром? Ведь это поздравительная телеграмма, и я думаю, ваш адресат будет удовлетворен, получив ее завтра утром.
Мы согласились с этим соображением.
– В таком случае цена будет другая.
Молодой человек взял листок бумаги, произвел вычисления и сказал:
– Всего два доллара десять центов.
Семьдесят центов экономии! Молодой человек начинал нам нравиться.
– Но может быть, вы хотите, сэр, отправить телеграмму другим способом? У нас есть льготный тариф для телеграфных писем. Такая телеграмма придет не намного позже и будет стоить полтора доллара, и вы к тому же имеете право добавить еще восемь слов.
Мы пробыли в бюро «Вестерн Юнион» около часа. Молодой человек исписал цифрами несколько листов бумаги, рылся в справочниках и в конце концов сэкономил нам еще десять центов.
Он вел себя как добрый бережливый дядя, который дает легкомысленным племянникам уроки жизни. Он заботился о нашем кошельке больше, чем мы сами. Этот служащий – в канун Нового года, когда особенно тянет домой, – казался не только идеально терпеливым со своими клиентами. Он казался верным другом, на обязанности которого было не только обслуживать нас, но и опекать нас, спасать от жизненных ошибок.
– Нет, серьезно, сэры, – сказал нам мистер Адамс, – вы уже довольно путешествовали по Америке и должны понять, что такое американский сервис. Десять лет тому назад я совершал кругосветное путешествие и обратился за билетами в одно туристское бюро. Маршрут был очень сложный. Выходило что-то слишком дорого. В этом бюро со мною просидели целый день и в конце концов при помощи каких-то запутанных железнодорожных комбинаций сэкономили мне сто долларов. Целых сто долларов! Сэры! Сто долларов – это большие деньги. Да, да, да. О, но! Прошу не забывать, что бюро получает известный процент со сделки и что, удешевив мой билет, они уменьшили свой заработок. Вот, вот, вот! В этом-то и заключается принцип американского сервиса. Бюро заработало на мне меньше, чем могло бы заработать, зато в следующий раз я обязательно обращусь к ним же и они опять немного заработают. Вы понимаете, сэры? Меньше, но чаще. Это буквально то же, что и здесь, в телеграфном обществе «Вестерн Юнион». Нет, правда, сэры, вы просто не понимаете, вы не хотите понять, что такое американский сервис.
Но мистер Адамс ошибался. Мы уже давно поняли, что такое американский сервис. И если мы восхищались работой молодого человека с карандашом за ухом, то не потому, что она казалась нам исключением, а потому, что подтверждала правило.
Во время путешествия мы ежедневно в той или иной форме пользовались сервисом и научились очень высоко его ценить, хотя иногда он проявлялся в едва заметных мелочах.
Однажды в Нью-Орлеане мы оказались у фруктовой гавани. Была феерическая портовая ночь, пропитанная надтреснутыми гудками пароходов и лязгом сталкивающихся вагонов. Мы подошли к фруктовой лавке, чтобы купить груши. На грушах была цена – пять центов штука. Мы попросили четыре груши. Тогда продавец, укладывая фрукты в мешочек, сказал:
– С вас за четыре груши полагается двадцать центов, но шесть груш я продаю за двадцать пять центов. И если вы дадите мне еще пять центов, то получите не одну грушу, а две.
– Но об этой льготной цене нигде не написано!
– Да, но ведь я-то об этом знаю, – сказал продавец
«Это просто честный человек», – скажете вы. Да, правильно. Но сервис подразумевает честность. И можете быть уверены, что, укладывая в мешочек шестую грушу, продавец не думал о том, что совершает честный поступок. Он «делал сервис», обслуживал клиента.
В другой раз, в Чарльстоне (Южная Каролина) мы сели в пустой вагон трамвая, тащившегося по главной улице с грохотом, свойственным этому устаревшему виду транспорта. Вагоновожатый, исполнявший по совместительству обязанности кондуктора, дал нам билеты.
– Десять центов билет, – сказал он, – но за четыре билета сразу – скидка. По семь центов. Понимаете? По семь! Всего двадцать восемь центов! Двенадцать центов экономии! Понимаете? Всего по семь центов за билет!
Всю дорогу он оборачивался, показывал нам, как глухим, семь пальцев и орал:
– Семь центов! Понимаете? Семь центов за билет!
Ему доставляло огромное удовольствие дать нам скидку, сделать нам сервис.
Мы привыкли к тому, что в прачечных не только стирают, но и штопают белье, а если в рукавах грязной рубашки позабыты запонки, их приложат к выстиранному белью в особом конвертике, на котором будет напечатана реклама прачечного заведения. Мы перестали замечать, что в ресторанах, кафе и аптеках в стаканы с водой предупредительно кладется лед, что на газолиновых станциях бесплатно дают информацию и дорожные карты, а в музеях бесплатно дают каталоги и проспекты. Сервис тем и хорош, что он становится необходимым и незаметным, как воздух.
В нью-йоркском универсальном магазине «Мейзи» за спиной приказчиков висят плакаты, обращенные к покупателям:
«Мы здесь для того, чтобы вы нас беспокоили!»
К магазинному сервису относится и классическое американское изречение:
«Покупатель всегда прав».
Страховые общества в тех редких случаях, когда их интересы совпадают с интересами застрахованных клиентов, проявляют чудеса сервиса. Они за удешевленную плату лечат человека, застраховавшего у них жизнь, так как им невыгодно, чтоб он умер. Человеку со своей стороны безумно хочется жить, и, выздоровев, он прославляет страховой сервис.
В Америке существует интересное торговое заведение «Мейл-ордер-гауз». Собственно, такие учреждения известны и в Европе, но успехом обычно не пользуются и часто прогорают. Это – торговля по почте. Здесь все построено на сервисе. Если сервис будет плохой, то не поможет ни качество товаров, ни шикарный кабинет главы учреждения. «Мейл-ордер-гауз» обслуживает главным образом фермеров. В этом заведении можно заказать по каталогу все, от иголки до обстановки целого дома. Успех этого дела построен на том, что любой заказ выполняется в двадцать четыре часа, и ни секундой больше, независимо от того, что заказано – сотня папирос или рояль, и независимо от того, куда надо доставить заказ – на Пятую авеню или в маленький домик в штате Дакота. Если вещь не понравится, она может быть отправлена назад в «Мейл-ордер-гауз», а заплаченные за нее деньги будут немедленно возвращены, за вычетом лишь нескольких центов на почтовые расходы.
Если американец найдет, что его хорошо обслужил какой-нибудь работник или государственный чиновник, он в тот же день напишет письмо в акционерное общество или в министерство, и в письме будет сказано: «Тогда-то и там-то меня отлично обслужил мистер такой-то. Позвольте поздравить вас со столь прекрасным служащим». И такие письма не пропадают даром. Хороший работник или чиновник получает повышение. Американцы прекрасно понимают, что для хорошего сервиса важна не только «жалобная книга». Это не мешает им в случае плохого обслуживания тоже писать письма.
Иногда, в желании дать все и получить взамен кое-что, сервис становится комичным, а иногда и пошлым.
Есть целая книга уже готовых телеграмм, больших и убедительных, пышно составленных телеграмм на все случаи жизни. Послать такую телеграмму стоит всего двадцать пять центов. Дело в том, что по телеграфу передается не текст телеграммы, а только номер, под которым она значится в книге, и подпись отправителя. Это довольно смешная штука и напоминает аптекарский завтрак № 4. Все подано в готовом виде, и человек начисто освобождается от неприятной необходимости – думать, да еще к тому же тратить деньги.
Есть поздравления с днем ангела, с новосельем, с Новым годом, с рождеством. Содержание и стиль телеграмм приспособлены решительно ко всем надобностям и вкусам – поздравительные телеграммы для молодых мужей, почтительных племянников, старых клиентов, любовников, детей, писателей и старух. Есть телеграммы в стихах:
«Сиракузы Техас Смиту будет ваш торговый дом со счастливым рождеством, прошу привет супруге передать, а вам счастливый бизнес пожелать».
Для прокутившихся студентов существуют особенно большие и весьма художественно составленные трогательные телеграммы к родителям с просьбой прислать деньги раньше срока и с угрозой в случае отказа покончить жизнь самоубийством.
И все удовольствие – за двадцать пять центов!
Страна уважает и ценит сервис. И сервис – это не только уменье торговать и добиваться какой-то выгоды. Необходимо сказать еще раз: сервис вошел в самую кровь народа, он составляет чрезвычайно существенную часть народного характера. В сущности, это – стиль работы.
На этом чувстве уважения к сервису, как и на всех народных чувствах, отлично играют священники и банкиры. Считается, что священники дают народу сервис. Правда, церковная служба так и называется «сервис», но переносный, самый главный смысл этого слова церковь тоже любит применять. В мозги людей вдалбливается мысль, что церковь служит народу.
«Сервис» – любимое выражение разбойника с Уолл-стрита. Он, открыто грабящий людей, и не только отдельных людей, но и целые города и страны, обязательно скажет, что он – человек маленький, такой же простой парень и демократ, как и все хорошие люди, и что служит он не деньгам, а обществу. Он «делает» людям сервис.
– Итак, сэры, – сказал мистер Адамс, когда мы покинули «Вестерн Юнион», – сейчас мы будем кутить. Прошу следовать за мной. Тут, кажется, недалеко. Вперед! Гоу эхэд!
– Гоу! Гоу! Гоу! – вскричала миссис Адамс.
Так как было уже около десяти часов и всем очень хотелось есть, мы поспешно двинулись вперед.
– Это чудный ресторанчик, – говорил мистер Адамс. – Я думаю, сэры, мы возьмем по большому бифштексу и пару бутылок хорошего калифорнийского вина. Хотя – раз кутить, то кутить: возьмем французского или рейнского. Кстати, сэры, вы обратили внимание на то, что американцы пьют мало вина и предпочитают ему виски? О-о! Нет, серьезно, сэры, неужели вы не знаете? Это очень, о-очень интересно и будет полезно вам узнать. Это глубокий вопрос. Советую, мистеры, записать это в свои записные книжечки. Понимаете, бутылка хорошего вина предусматривает хороший разговор. Люди сидят за столиком и разговаривают, и тут одно дополняет другое – без хорошего разговора вино не доставляет удовольствия. А американцы не любят и не умеют разговаривать. Вы заметили? Они никогда не засиживаются за столом. Им не о чем говорить. Они танцуют или играют в бридж. И предпочитают виски. Выпил три стопки – и сразу опьянел. Так что и разговаривать незачем. Да, да, да, сэры, американцы не пьют вина.
Мы долго шли по какой-то очень широкой улице, с коттеджами по сторонам. «Бизнес-сентер» остался далеко позади. Мы попали в «резиденшел-парт». Здесь не было ни ресторанов, ни магазинов, ни даже аптек. Пошел дождь. Под светофорами висели плакаты: «40 смертей в результате автомобильных катастроф в Сан-Антонио за истекший год. Правьте осторожнее!»
– Может быть, вернемся? – сказала миссис Адамс.
– Ах, Бекки, – воскликнул старик, – ну как ты можешь так говорить – «вернемся»! До нашего ресторанчика совсем близко. Я хорошо помню это место.
Мы шли еще полчаса под дождем, мрачнея с каждой минутой. Прошли автомобильное кладбище, потом пустырь, где продавались подержанные машины. Навстречу нам промчались к центру несколько автомобилей, переполненных молодыми людьми, которые что-то орали и поджигали шутихи. У перекрестка были сооружены качели, иллюминованные электрическими лампочками. Веселящаяся парочка печально раскачивалась в металлической лодке. Только здесь мы заметили, что дождь заладил не на шутку. В электрическом свете были видны частые струи дождя.
– Ну, хорошо, – сказала миссис Адамс со свойственной ей рассудительностью, – если ты не помнишь, где находится твой ресторан, мы можем спросить у полисмена.
– Нет, нет, Бекки, – пробормотал мистер Адамс, – не говори так. Серьезно. Ресторан где-то здесь.
– Но все-таки – где? На какой улице?
– Нет, Бекки, серьезно, ты не должна так говорить.
– Сейчас я спрошу у полисмена, – решительно сказала миссис Адамс. – Как называется твой ресторан?
– Ну, Бекки, прошу тебя, не волнуйся. Нет, правда, сэры, не надо беспокоить полисмена.
– Я тебя спрашиваю: как называется ресторан?
– Бекки, не говори так, – бормотал мистер Адамс, – мне больно слушать, когда ты так говоришь.
– Ты забыл, как называется ресторан! – сказала миссис Адамс.
– О Бекки! Как ты могла это подумать! – простонал мистер Адамс, хватаясь за свою мокрую голову.
Разговаривая так, мы прошли весь город и увидели впереди темную, очевидно мокрую пустыню.
Мы повернули назад и, спотыкаясь, побежали к центру города.
– Хоть бы такси достать, – сказала миссис Адамс.
Но такси не попадались. Очевидно, все они были разобраны встречающими Новый год. Был уже двенадцатый час. Мы бежали под дождем, голодные, злые и утомленные. Чем ближе мы подвигались к центру, тем чаще проезжали машины с ревущими молодыми людьми. Центр города был переполнен. Наши нервы совсем расшатались, и мы вздрагивали от выстрелов, которые раздавались со всех сторон. Пахло порохом, как во время уличных боев. Повсюду продавались трещотки, издающие звук пулемета.
– Сэры! – закричал вдруг мистер Адамс. – Давайте веселиться.
Он молниеносно купил трещотку и с радостным видом принялся ее крутить. Какой-то воющий юноша треснул мистера Адамса хлопушкой по лысине, а мистер Адамс хлопнул его трещоткой по плечу.
Мы вошли в первую же аптеку и заказали сэндвичей.
Покуда нам их готовили, мы печально чокнулись помидорным соком и пожелали друг другу счастья. Как раз в эту минуту пробило двенадцать.
Так встретили мы Новый год в городе Сан-Антонио, штат Техас.
Мы въезжаем в южные штаты
Наутро после бурной встречи Нового года мы проснулись в гостинице «Роберт И. Ли» с одним горячим желанием – ехать! Ехать как можно скорее, сию минуту, сию секунду! Напрасно мистер Адамс уверял нас, что Сан-Антонио прекрасный город, что было бы непростительной глупостью не осмотреть его («Нет, серьезно, сэры!»), что мы ничего не понимаем и не хотим понять, – мы тоскливо твердили одно и то же:
– Да. Мы ничего не понимаем, не хотим понять и, вероятно, никогда уже не поймем. Мы охотно признаем все это. Сан-Антонио чудесный город, но мы хотим ехать. Кроме того, не забывайте, мистер Адамс, что вас ждет бэби.
При упоминании о бэби супруги Адамс тоже заторопились, и уже через полчаса мы катили по той самой широкой и длинной улице, где вчера под проливным дождем искали ресторанчик без названия.
Перед тем как покинуть Сан-Антонио, мы объехали Брекенридж-парк. Этого потребовал мистер Адамс.
– Вы не должны думать, сэры, – заявил он, – что Сан-Антонио плохой город. Это хороший, благоустроенный город, и вы должны увидеть Брекенридж.
Большой прекрасный парк был пуст. Только несколько деревьев в нем стояли обнаженными. Все остальные, совсем как летом, шелестели тесной зеленой листвой. Парк во всех направлениях пересекали оросительные каналы, оправленные в камень. Вода с тихим плеском переливалась из одного канала в другой, расположенный на несколько сантиметров ниже. Мы поглядели на верблюда и морских львов, полюбовались на мальчиков, игравших на почти совсем зеленой лужайке в футбол, на столы и скамьи, устроенные для пикников, и, получив солидную информацию по крайней мере в десяти газолиновых станциях, двинулись дальше, на юг Техаса, к границам Луизианы.
Каждый раз мы выезжали так из одного города, чтобы к вечеру попасть в другой город, проскочив за день сквозь десяток больших и маленьких Мейн-стритов, – супруги Адамс впереди, мы сзади, и между нами очередной хич-хайкер, с чемоданчиком на коленях. Но никогда еще мы так не торопились. Казалось, безукоризненный мотор нашего кара питается не только газолином, но и клокотавшим в нас нетерпением – скорей в Нью-Йорк, скорей на пароход, скорей в Европу! Подходил к концу второй месяц автомобильного путешествия. Это очень короткий срок для такой большой, интересной страны. Но мы были переполнены Америкой до краев.
Приближался негритянский Юг. Последние мили, отделяющие нас от Луизианы, мы ехали лесами. Выглянуло солнце. Было тепло и радостно, как весной на Украине. Стали чаще попадаться городки, поселки, газолиновые станции и вольно бегающие по полям лошадки с развевающимися гривами.
Наконец мы миновали столбик с надписью «Штат Луизиана» и помчались вдоль рыжих полей убранного хлопка.
Монументальные церкви Востока и Запада сменились деревянными выбеленными церквушками на столбах вместо фундамента, испанские и индейские названия сменились французскими, а на газолиновых станциях, где миссис Адамс «брала информацию», ей отвечали не «Иэс, мэм», а «Иэс, мам».
Проезжая городок Лафайет, мы увидели большой, протянутый поперек улицы, плакат с изображением неприятной, самодовольной физиономии и с жирной надписью: «Выберите меня шерифом. Я – друг народа!»
Этот вопль полицейского друга народа из штата Луизиана напоминал манеру недавно убитого луизианского сенатора Хью Лонга, который тоже считал себя «другом народа», всего народа, за исключением негров, мексиканцев, интеллигентов и рабочих, и требовал разделения богатств, всех богатств, за исключением пяти миллионов, которые, по мысли Хью Лонга, необходимо было оставить каждому миллионеру.
Здесь, на Юге, мы увидели то, чего еще ни разу не видели в Америке, – пешеходов, бредущих вдоль шоссе. Среди них не было ни одного белого.
Прошла старая сгорбленная негритянка в толстых желтых чулках, стоптанных грязных туфлях, в фартуке и старомодной шляпке с бантиком.
Мы предложили мистеру Адамсу подвезти старуху.
– Нет, нет, нет! – воскликнул он. – Что вы! Нет, серьезно! Вы не понимаете, что такое южные штаты. Подвезти негритянку! Да, да, сэры. Она просто не поверит, что белые хотят ее подвезти. Она подумает, что вы над ней издеваетесь.
На шоссе среди автомобилей неожиданно появилась серая лошадь, которая тащила двухколесный кабриолет с извозчичьим верхом (такие экспонаты мы видели в фордовском музее). В кабриолете сидела помещица с дочкой. Старинный экипаж свернул на проселочную дорогу, обыкновенную, представьте себе, проселочную дорогу, с полоской пожелтевшей травы посредине. Из всех проезжавших по шоссе автомобилей высунулись люди и смотрели на кабриолет, который удалялся, важно раскачиваясь на своих рессорах, высоких и тонких, как паучьи ножки. С таким же любопытством фермеры смотрели лет тридцать тому назад на дымный и тарахтящий автомобиль с неуклюжим кузовом, в котором высоко сидели пассажиры в волчьих шубах мехом наружу и громадных предохранительных очках.
Мы подъехали к большой реке. В сумерках она блестела, как металлическая.
– Миссисипи! – воскликнул мистер Адамс.
– Это не Миссисипи, – спокойно сказала Бекки.
– Это Миссисипи!
– Это не Миссисипи!
– Бекки! Не говори так. Мне тяжко слушать, когда ты говоришь, что это не Миссисипи.
– А все-таки это не Миссисипи.
Мистер Адамс застонал. Мы проехали мост и очутились в городке Морган-сити. Прежде чем отправиться искать ночлег, мы остановились у ресторанчика «Синий гусь», чтобы пообедать.
– Сэр, – спросил мистер Адамс у хозяина, подмигивая, – как называется эта река? Я-то знаю, но вот моей жене интересно.
– Это Ачафалайя, – ответил хозяин.
– Как? Как?
– Ачафалайя.
– Тэнк ю вери, вери, – пробормотал мистер Адамс, пятясь задом, – вери, вери, вери…
Это был первый случай за все путешествие, когда мистер Адамс допустил фактическую ошибку.
Весь обед мистер Адамс ерзал на стуле и тосковал. Наконец он извлек карту и путеводитель, некоторое время рылся в них и, наконец, не глядя на жену, робко сказал:
– Могу сообщить вам, сэры, интересную подробность. Эта проклятая Ачафалайя – самая глубокая река в мире. Запишите в свои книжечки.
Чтобы как-нибудь заполнить скучный вечер в скучном Морган-сити, мы сделали то, что и всегда в таких случаях, – пошли в кинематограф. Обычно, глядя на экран, мистер Адамс не столько сердился, сколько иронизировал по поводу сюжета и действующих лиц очередного голливудского произведения. Но тут он вдруг устроил целую демонстрацию. Уж через десять минут после начала мы заметили, что мистеру Адамсу не по себе. Он подпрыгивал на своем месте, стонал и довольно громко произносил:
– Черт, черт, черт побери!
Вдруг он выкрикнул свое «черт побери» на весь зал, вскочил с места и, бормоча проклятия и отплевываясь, выбежал на улицу. Миссис Адамс побежала за ним. Мы остались досматривать картину, чувствуя, что на улице в это время происходит большая семейная баталия.
Когда сеанс окончился, мы не нашли у входа в кино ни одного из супругов. С большим трудом мы разыскали их в разных концах города. К счастью, концы эти находились друг от друга не на таком уже большом расстоянии.
Мистер Адамс без шляпы (шляпа все еще ехала из города в город), с поднятым воротником пальто, широко шагал по темному шоссе по направлению к Мексиканскому заливу и продолжал бормотать: «Черт, черт побери!»
– Нет, серьезно, сэры, – сказал он нам жалобно, – я больше не могу этого переносить. Да, да, да. Это кино в конце концов сведет меня с ума. В Нью-Йорке я никогда не ходил в кино. И мне очень, о-очень тяжело с непривычки. Нет, правда. Мне хотелось стрелять в экран из пулемета.
Супруги быстро примирились, и вечер окончился задушевной беседой у газового камина в турист-гаузе.
До Нью-Орлеана оставалось около ста миль. Солнечным утром мы пустились в путь. Была нежная, совсем летняя погода. Мы ехали по новой, но несколько узкой бетонной дороге вдоль тихой маленькой речки. На той стороне тянулись рыжие хлопковые поля, на которых кое-где еще виднелись разбросанные кусочки белой ваты, и поля сахарного тростника, где негры большими кучами рубили его сухие стебли «мачетами» – специальными большими ножами.
Речку часто пересекали горбатые узенькие висячие мостики.
В течение нескольких часов навстречу нам попадались однообразные и жалкие дощатые халупы негров-батраков. Это было однообразие, вызванное предельной нищетой, какой-то стандарт нищеты. На пустых дворах, окруженных полуразвалившимися плетнями, не видно было не только коров, свиней или кур, но и клочка соломы. Это была самая последняя степень бедности, перед которой живописная нищета индейцев может показаться верхом благосостояния, даже роскоши. Это было на Юге Америки, в одном из самых плодородных мест земного шара.
Перед нами снова оказалась большая, гладкая и совершенно пустая река, напоминающая Волгу, но, пожалуй, не такая широкая.
– Это Миссисипи! – торжествующе сказала Бекки.
Мистер Адамс тяжело вздохнул. Он дорого дал бы, чтобы эта река носила другое название. Но сомнений не было. Уже показался мост – знаменитый новый серебристый мост с боковыми дорогами для автомобилей и центральной частью, предназначенной для поездов. Опять американская природа и американская техника соревновались друг с другом в могуществе. Самую длинную реку в мире пересекал самый длинный в мире мост на быках. Он был открыт только пять дней тому назад, строился три года и стоил пятнадцать миллионов долларов. За мостом началась широчайшая автострада, показались коттеджи. Мы въехали в Нью-Орлеан.
Нью-Орлеан можно было бы назвать американской Венецией (ведь он, подобно Венеции, стоит на воде), если бы только многочисленные его каналы не были упрятаны под землю.
Город широко распространился на низменном перешейке между Миссисипи и озером Пончертрейн. От места впадения Миссисипи в Мексиканский залив до города – девяносто миль. Ближе к заливу не нашлось ни одного местечка, где можно было бы построить город. Но и там, где он построен, почва представляет собой наносную илистую глину. Город всегда страдал от наводнений и лихорадок. Вода, которая принесла ему богатство, одновременно сделала его несчастным. В течение всей своей жизни город боролся с самим собой, боролся с почвой, на которой он построен, и с водой, которая его окружает со всех сторон. Борется он и сейчас. Но главное уже сделано. Пончертрейн отделен от города бетонной набережной, которая спускается к озеру ступенями. Подступы к городу на много миль покрыты системой плотин, по которым проходят безукоризненные автострады. В многолетней борьбе человека с природой победителем вышел человек.
Город распланирован необыкновенно просто. Улицы, идущие параллельно реке, повторяют изгиб, который река делает в этом месте, и имеют форму полумесяца. Их пересекают улицы совершенно прямые и очень длинные. Под одной из них, расположенной примерно в центре города, скрыт самый большой канал. В честь этого невидимого канала названа и сама улица – Канал-стрит. Это – главная улица. Она делит город на две части – французскую, неряшливую, как старый Париж, с узкими уличками, маленькими аркадами на тонких деревянных столбах, лавчонками, невзрачными на вид ресторанчиками с первоклассной французской кухней, портовыми кабаками, булыжником и уличными прилавками, заваленными овощами и фруктами, красота которых особенно выделяется благодаря соседству грязи и выплеснутых прямо на улицу помоев, – и новую, американскую часть, которая ничего не прибавляет к уже известному читателям облику американских городов.
Когда-то Луизиана принадлежала Франции, и Нью-Орлеан был основан французами. Трудно сказать, насколько в Нью-Орлеане сохранился французский дух, но на Канал-стрит выходят улицы Дофина, Тулузы, Рояль и есть даже Елисейские поля, а в старом городе, в ресторанчике Арно подают такое кофе, какого, уж наверное, не найти во всей Америке.
Город лежит на метр с лишним ниже уровня реки. В нем нет ни одного сухого места, где можно было бы хоронить умерших. Где только ни пробуют рыть землю, обязательно находят воду. Поэтому людей здесь всегда хоронили на манер древних египтян – в саркофагах, над землей.
Мы отправились на кладбище, которое расположено во французском городе, и некоторое время бродили по этому скучному и белому городку мертвых. Четырехугольные гробницы сложены из кирпича и побелены. Гроб вставляется в переднее отверстие, которое затем закладывается кирпичами. Над одной гробницей надстраивается вторая, иногда третья. По своей кирпично-двухэтажной скуке кладбище напоминает маленький американский город. Есть даже свой Мейн-стрит.
С кладбища мы пошли в фотографический магазин, чтобы починить аппарат. В то время как мистер Адамс беседовал с хозяйкой о перспективах дальнейшего развития города (перспективы были скверные) и о торговле (торговля тоже шла скверно), в магазин вошел очень красивый молодой человек с черными глазами и горбатым французским носом.
– Можно ли видеть хозяина? – спросил он.
– Его сейчас нет, – ответила хозяйка, тощая, рыжая, в очках, – но если вам что-нибудь нужно, можете сказать мне.
– Но я хотел бы говорить с хозяином, – пробормотал молодой человек, умоляюще посмотрев на нас.
– Это такое важное дело? – спросила хозяйка.
– Да… То есть не такое важное, но я думал… Впрочем, вы, конечно, тоже… Я могу вам сказать.
Он приблизился к хозяйке и очень тихо произнес:
– Я хочу вымыть в вашем магазине витрину всего за пять центов.
Хозяйка сказала, что, к сожалению, ей не нужна такая работа. Молодой человек извинился и, несколько раз споткнувшись, выбежал из магазина.
Мы некоторое время молчали, потом мистер Адамс бросился на улицу. Он вернулся минут через десять.
– Нет, нет, сэры, – сказал он, качая круглой головой, – не говорите мне ничего. Это ужасно! Вы не можете понять, до какой степени нищеты дошел этот мальчик. Нет, серьезно. Я с трудом догнал его, так быстро он бежал по улице. Я поговорил с ним. Это безработный художник. Заказов уже давно нет и не предвидится. Мальчик уже не рассчитывает на свою профессию. Он согласен на любую работу. Но это тоже безнадежно. Да, да, сэры, этот милый мальчик голодает уже несколько лет. И он ни за что не хотел брать доллара. Он даже сердился на меня.
– Как! И вы так и не смогли вручить ему…
– Нет, серьезно, сэры, не говорите так – «не смог вручить». Просто глупо так думать. Нет, правда. Не будем об этом говорить.
Мы давно уже вышли из магазина, прошли весь Канал-стрит и подходили к Миссисипи, а мистер Адамс все еще, кряхтя и охая, бормотал:
– Нет, серьезно, сэры, не будем об этом говорить.
Нью-Орлеан – красивый город. Он очень нам понравился, но чувство равнодушия и скуки, охватившее нашу автомобильную группу новогодним вечером в Сан-Антонио, подобно зарядившему надолго обложному дождю, и не думало проходить. Мы сняли пенки с путешествия. Человек не приспособлен к тому, чтобы наслаждаться вечно. Поэтому всю красоту Нью-Орлеана мы воспринимали умом. Душа безмолвствовала.
У Миссисипи, на большой площади, было довольно пусто. От деревянной пристани отходили к тому берегу такие же, как в Сан-Франциско, паромы с автомобилями. На парапете, свесив ноги к реке, печально сидел негр в надвинутой на нос соломенной шляпе. Рядом с ним стоял сумасшедший старик в черном пальто внакидку и дирижировал отходящими и приходящими паромами. При этом он издавал командные крики. К нам подошел фотограф-пушкарь и вяло, как будто он видел нас уже вчера и позавчера, спросил по-русски, не хотим ли мы сняться. Пушкарь приехал лет двадцать тому назад из Ковно, чтобы сделаться миллионером. И такой скепсис чувствовался в лице и во всей фигуре ковенского фотографа, что мы не стали спрашивать его, как идут дела и каковы дальнейшие перспективы.
Неожиданно из-за деревянной пристани выдвинулось очень высокое и длинное белое сооружение, в котором не сразу можно было опознать пароход. Он прошел мимо нас, вверх по реке. Совсем близко к носу высились две высокие трубы, поставленные рядом, поперек палубы, украшенные завитушками и похожие на чугунные столбы какой-нибудь монументальной ограды. Пароход приводился в движение одним громадным колесом, расположенным за кормой.
– Последний из могикан, – сказал мистер Адамс. – Теперь на таких пароходах ездят только для отдыха и развлечения, и то очень редко. Нет, нет, кончилась Миссисипи, кончилась!
Мы смотрели на реку, по которой шли когда-то баржи с товарами и невольниками. Это на ней познакомила Бичер-Стоу со своими читателями – старого Тома. По ней двигался плот Гекльберри Финна, прятавшего от преследователей негра Джима. Теперь эта река замерла. Речной транспорт оказался слишком медлительным для Соединенных Штатов. Поезда и автомобили завладели всеми грузами реки. Скорость – вот лозунг, под которым развивалась экономика Соединенных Штатов за последние годы. Скорость во что бы то ни стало.
И невольников нет уже в Соединенных Штатах. По закону, негры там – полноправные и свободные люди. Но пусть только попробует негр войти в кинематограф, трамвай или церковь, где сидят белые!
Вечером, блуждая по улицам Нью-Орлеана, мы увидели кинотеатр «Палас», над которым светилась огненная надпись: «Прекрасный южный театр. Только для цветных людей».
Негры
Чем дальше мы продвигались по Южным штатам, тем чаще сталкивались со всякого рода ограничениями, устроенными для негров. То это были отдельные уборные «для цветных», то особая скамейка на автобусной остановке или особое отделение в трамвае. Здесь даже церкви были особые – например, для белых баптистов и для черных баптистов. Когда баптистский божок через несколько лет явится на землю, для того чтобы уничтожить помогающих друг другу советских атеистов, он будет в восторге от своих учреждений на Юге Америки.
При выезде из Нью-Орлеана мы увидели группу негров, работающих над осушением болот. Работа производилась самым примитивным образом. У негров не было ничего, кроме лопат.
– Сэры! – сказал мистер Адамс. – Это должно быть для вас особенно интересно. Простые лопаты в стране величайшей механизации! Нет, нет, сэры. Было бы глупо думать, что в Соединенных Штатах нет машин для осушения болот. Но труд этих людей почти что пропадает даром. Это – безработные, получающие маленькое пособие. За это пособие им нужно дать какую-нибудь работу, как-нибудь их занять. Вот им и дали лопаты – пусть копают. Производительность труда равна здесь нулю.
Наш дальнейший маршрут лежал по берегу Мексиканского залива, через штаты Луизиану, Миссисипи и Алабаму. Эти штаты мы проехали в один день и остановились во Флориде. Затем из Флориды – к берегу Атлантического океана – в Джорджию, потом через Южную Каролину, Северную Каролину и Вирджинию – в Вашингтон.
Первая часть пути вдоль Мексиканского залива была пройдена нами с большой быстротой. Американская техника нанесла новый удар нашему воображению. Трудно удивить людей после фордовского завода, Боулдер-дам, сан-францисских мостов и нью-орлеанского моста. Но в Америке все оказалось возможным. Борьба с водой – вот чем занялась здесь техника. На целые десятки миль тянулись, сменяя друг друга, мосты и дамбы. Иногда казалось, что наш автомобиль – это моторная лодка, потому что вокруг, насколько хватал глаз, была одна лишь вода, а по ней каким-то чудом шла широкая бетонная автострада. Потом появлялся мост, потом опять дамба, и снова мост. Каких усилий, каких денег потребовалось, чтобы это построить! Самым удивительным было то, что в двадцати милях отсюда шла превосходная параллельная дорога, и в нашей дороге, постройка которой явилась мировым техническим достижением и обошлась в сотни миллионов долларов, не было никакой насущной необходимости. Оказывается, во времена «процветания» эту дорогу построили для привлечения в эти места туристов. Самый берег Мексиканского залива был покрыт набережной на несколько сот миль. К сожалению, мы не записали точной цифры, но мы отчетливо помним – на несколько сот миль. Этому трудно поверить, но мы ехали целый день вдоль моря, отделенного от нас прочной и красивой набережной.
Мы заночевали в небольшом курортном и портовом городке Пенсакола, во Флориде. Всю ночь шел дождь.
Наш автомобиль стоял под открытым небом, и утром никак нельзя было завести мотор. Мистер Адамс ходил вокруг машины и, всплескивая руками, говорил:
– Наша батарейка к черту пошла! Наша батарейка к черту пошла!
Дождь очень смутил мистера Адамса, и он удвоил свою автомобильную осторожность.
К счастью, батарейка не думала идти к черту. Просто немного отсырели провода, и, как только они подсохли, мотор стал работать.
– Сэры! – говорил мистер Адамс, поглядывая на мутное небо. – Я прошу вас быть как можно осторожнее. Лучше подождем с выездом. А вдруг дождь возобновится.
– А вдруг не возобновится? – сказала миссис Адамс. – Не будем же мы сидеть в этой Пенсаколе всю жизнь.
– Ах, Бекки, ты не знаешь, что такое Флорида. Здесь очень переменчивый и опасный климат. Здесь все может быть.
– Но что же здесь может быть?
– Нет, серьезно, Бекки, ты рассуждаешь как маленькая девочка. Здесь может быть все.
– В крайнем случае, если нас застанет дождь, будем ехать под дождем.
Всем так хотелось поскорее выехать, что мы не послушались мистера Адамса и, выбрав минуту затишья, тронулись в путь, вдоль залива, по новым дамбам и новым мостам.
Через час после выезда из Пенсаколы мы попали в тропическую грозу (вернее, это была не тропическая, а субтропическая гроза, но в то время она казалась нам такой ужасной, что мы считали ее тропической). Было все, что полагается по Жюлю Верну, – гром, молния и низвергающаяся с неба Ниагара. Теперь всюду была сплошная вода. Мы двигались почти вслепую. Иногда пелена воды делалась такой густой, что казалось – мы едем по дну Мексиканского залива. При каждом ударе грома мистер Адамс подпрыгивал и бормотал:
– Да, да, сэры. Спокойно… Спокойно.
Он, несомненно, боялся, что в автомобиль ударит молния.
Мы пробовали остановиться и переждать грозу, стоя на месте, но боялись, что вода зальет мотор и батарейка действительно «к черту пойдет». Мы с дрожью вспоминали газетные заметки об ураганах во Флориде и фотографии выдернутых с корнем гигантских деревьев и сброшенных с рельсов поездов.
В общем, как и у Жюля Верна, все кончилось благополучно.
Мы переночевали в городе Талагасси и уже утром были в Джорджии. Стоял январский, почти знойный день, и мы быстро забыли о вчерашних страхах.
Джорджия оказалась лесистой. Почему-то Южные негритянские штаты всегда представлялись нам в виде сплошных хлопковых полей и табачных плантаций. А тут вдруг выяснилось, что, кроме плантаций и полей, есть еще густые южные леса. Мы проезжали аллеями, над которыми свешивались на манер козлиных бород какие-то кудельные хвосты никогда не виданного нами дерева пикон.
Негры встречались все чаще, иногда по нескольку часов мы не видели белых, но в городках царил белый человек, и если негр появлялся у прекрасного, увитого плющом особняка в «резиденшел-парт», то обязательно со щеткой, ведром или пакетом, указывающими на то, что здесь он может быть только слугой.
Высокий американский стандарт не совсем еще завоевал Южные штаты. Он, конечно, проник очень далеко – южные Мейн-стриты, аптеки, квадратики масла за обедом и завтраком, механические бильярды, жевательные резинки, газолиновые станции, дороги, «ти-боун-стейки», девушки с прическами кинозвезд и рекламные плакаты ничем не отличаются от восточных, западных и северных квадратиков масла, девушек, дорог и плакатов; но есть в Южных штатах что-то свое, собственное, особенное, что-то удивительно милое, теплое. Природа? Может быть, отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии. Но зато нет и сухости пустыни, которая все же чувствуется там. Южные штаты – это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но конечно, не в одной природе дело.
Душа Южных штатов – люди. И не белые люди, а чер-ные.
Мы остановились в Чарльстоне, Южная Каролина. Осмотрев город и возвращаясь вечером домой по неизменному Мейн-стриту, мы увидели в темноватом переулке негритянскую девочку лет двенадцати. Девочка нас не видела. В руке она несла корзинку. Походка девочки сперва казалась странной. Но, вглядевшись пристальней, мы увидели, что девочка танцует. Это была талантливая импровизация, четкая, ритмическая, почти что законченный танец, который хотелось бы назвать так: «Девочка из Южного штата». Танцуя, негритяночка удалялась все дальше по темному переулку, скользила, делала повороты, небольшие прыжки и грациозно балансировала легкой и пустой корзинкой. Наторговавшись за день, город уснул, вокруг была полная тишина; но нам почудились звуки банджо, так ритмичен и музыкален был танец.
Негры талантливы. Что ж, белые охотно аплодируют им, продолжая считать их низшей расой. Неграм милостиво разрешают быть артистами. Очевидно, когда черный на подмостках, а белый в ложе, он может смотреть на черного свысока и его самолюбие господина не страдает.
Негры впечатлительны. Белые относятся к этому иронически и считают, что негры глупы. В самом деле! Для того чтобы хорошо торговать, не нужно никакой впечатлительности.
Говоря сейчас о белых людях, мы имеем в виду южных джентльменов, и не только их, но и тех джентльменов с Севера, которые тоже заражены психологией рабовладельчества. Мы также хотим сказать, что не все люди Юга считают негров низшими существами, но, к сожалению, таких большинство.
Негры обладают сильным воображением. Они любят, например, носить имена знаменитых людей, и иногда какой-нибудь швейцар, лифтер или батрак Джим Смит полностью произносит свое имя так: Джим-Джордж-Вашингтон-Абрагам-Линкольн-Грант-Набукаднезер-Смит.
– Ну конечно, – говорит южный джентльмен, в воображении которого днем и ночью стоит лишь одно прелестное видение – миллион долларов, – это же полный идиот!
Во всех кинокартинах и водевилях негры выводятся в качестве комических персонажей, изображающих глупых, но добродушных слуг.
Негры любят природу. Как свойственно артистическим натурам, они созерцательны. Южные джентльмены находят и этому свое объяснение. Негры, видите ли, ленивы и не способны к систематическому труду. Тут обязательно рассказывается случай, когда негр, заработав пять долларов, на другой день уже не идет на службу, а, подхватив под руку свою черную «герл», отправляется с ней на прогулку в лес или к речке. И делается глубокомысленный вывод, некоторым образом теоретическое обоснование эксплуатации черного человека:
– Ему сколько ни заплати, он все равно будет жить, как свинья. Поэтому нужно платить как можно меньше.
Наконец, негры экспансивны. О! Тут южный джентльмен серьезно обеспокоен. Он уже вытаскивает кольт, веревку и кусок мыла. Он уже раскладывает костер. Он становится вдруг невероятно благородным и подозрительным. Негры – это, видите ли, сексуальные преступники. Их надо просто вешать.
Негры любопытны. Тут у южного джентльмена есть тысяча объяснений. Ясное дело – это просто нахалы и беспардонные люди. Лезут не в свое дело. Всюду суют свой черный нос.
При всем том южный джентльмен считает, что негры очень его любят. В кинодрамах из жизни помещиков непременно фигурирует старый седой негр, обожающий своего господина и готовый отдать за него жизнь.
Ах, если бы южный джентльмен, благодушный зритель или участник суда Линча, понял бы вдруг, что для полной человеческой стопроцентности ему не хватает именно этих, осмеянных им негритянских черт! Что бы он сказал?
У негров почти отнята возможность развиваться и расти. Перед ними в городах открыты карьеры только швейцаров и лифтеров, а на родине, в Южных штатах, они бесправные батраки, приниженные до состояния домашних животных, – здесь они рабы.
И все-таки если у Америки отнять негров, она хотя и станет немного белее, зато уж наверно сделается скучнее в двадцать раз.
Верные своему правилу – брать в автомобиль людей, поджидающих на дороге оказии, уже недалеко от Вашингтона, в Северной Каролине, мы подобрали у захолустной газолиновой станции восемнадцатилетнего мальчика из лагеря «ССС». Эти лагери были устроены Рузвельтом для безработных молодых людей сперва на шесть месяцев – Рузвельт надеялся в течение шести месяцев покончить с безработицей, – а потом, когда выяснилось, что покончить с безработицей не так-то легко, – лагери были оставлены на неопределенный срок. Мальчику нужно было проехать восемьдесят миль, от лагеря до родного города Елизабеттаун. Шел довольно холодный дождик. Молодой человек совсем съежился в своей летней рубашке цвета хаки и широкополой фетровой шляпе с дырочками.
Наш последний хич-хайкер немного отогрелся в закрытой машине и принялся отвечать на вопросы. Он не прибавил ничего нового к сложившемуся у нас представлению о типе американского молодого человека – разговорчивого, самоуверенного и нелюбопытного.
История его обычна. Отец – фермер. Дела старика идут неважно. Мальчик окончил среднюю школу. Для поступления в колледж не хватило денег. Пошел искать работу. Не нашел. Пришлось записаться в «ССС». Там он вместе с другими мальчиками очищает леса, копает противопожарные канавы. Недурно кормят, одевают и дают тридцать долларов в месяц (пять – на руки, а двадцать пять – родителям). Собственно, это пособие. Что будет дальше – неизвестно. Он знает только одно: он молод, здоров, кожа у него белая, он играет в бейсбол. Значит, все будет в порядке – «олл райт» – и как-нибудь обомнется. В его сознании нет тумана. Наоборот, полная ясность. На большинство вопросов, которые мы ему задавали, он не мог ответить. Тогда он с очаровательной откровенностью говорил: «Этого я не знаю». Зато, когда вопрос был ему понятен, он отвечал сразу же, не задумываясь, готовой формулой, видимо твердо принятой в семье папы-фермера и в городке Елизабеттаун.
– Но вы все-таки хотите поступить в колледж?
– Конечно. Хоть я и знаю парней, которые с дипломами в карманах бродяжничают по стране в поисках работы, но все-таки после колледжа легче сделать карьеру.
– Какие науки вас интересуют в колледже?
– Как какие? Те, конечно, которые там проходят.
Мы проезжали мимо негритянской деревушки. Это был все тот же стандарт негритянской нищеты. Найти здесь хороший негритянский дом было бы так же странно, как увидеть плохую дорогу.
– Дома негров сразу можно отличить от домов белых людей, – сказал наш спутник с улыбкой.
– Неужели все негры живут так плохо?
– Конечно, все.
– Ну, вот вы выросли на Юге. Скажите, знаете вы хоть одного богатого негра?
Юноша подумал некоторое время.
– Нет, не знаю ни одного, – ответил он наконец.
– Почему же это так? Разве негры плохие работники?
– Нет, они умеют работать.
– Может быть, они нечестные люди?
– Почему нечестные? Я хорошо знаю негров. Негры – хорошие люди, есть среди них хорошие футболисты.
– Как же так случилось, что все негры бедные?
– Этого я не знаю.
– У вашего отца есть знакомые негры?
– У нас много знакомых негров.
– И вы к ним хорошо относитесь?
– Конечно.
– А посадили бы вы такого негра за стол в своей семье?
Юноша рассмеялся.
– Нет, это невозможно.
– Почему?
– Да так. Негр и белый не могут сидеть за одним столом.
– Но почему же?
– Вы, видно, из Нью-Йорка! – сказал молодой человек.
В представлении южан Нью-Йорк – это предел вольнодумства и радикализма.
– Теперь скажите нам вот что. Мы проехали несколько негритянских штатов и иногда видели довольно хорошеньких негритянок. Могли бы вы полюбить негритянку?
– Да, пожалуй, – ответил молодой человек, подумав, – это могло бы случиться. Действительно, среди цветных попадаются хорошенькие, в особенности мулатки.
– А если бы полюбили, то женились бы?
– Ну, что вы! Это никак невозможно.
– Почему?
– Это невозможно.
– Ну, а если б очень сильно полюбили? Или если б белая девушка полюбила негра и вышла за него замуж?
Юноша замахал руками.
– Нет, сразу видно, что вы из Нью-Йорка.
– А что? Такого негра, наверно, повесили бы?
– Думаю, что случилось бы что-нибудь в этом роде.
Молодой человек долго весело смеялся.
Этот разговор передан с совершенной точностью.
Не только здесь, но и в самом Нью-Йорке, о котором мальчик с Юга говорил с ужасом, почти невозможно увидеть негра в ресторане, кинематографе или церкви. Разве только в качестве официанта или швейцара. Мы видели в большом нью-йоркском зале «Карнеги-холл» на концерте негритянской певицы Мариан Андерсон сотню интеллигентных негров, которые сидели на галерке совершенно обособленной группой.
Конечно, по американским законам, и в особенности в Нью-Йорке, негр имеет право сесть на любое место среди белых, пойти в «белый» кинематограф или «белый» ресторан. Но он сам никогда этого не сделает. Он слишком хорошо знает, чем кончаются такие эксперименты. Его, разумеется, не изобьют, как на Юге, но что его ближайшие соседи в большинстве случаев немедленно демонстративно выйдут – это несомненно.
По закону негры – свободные граждане Соединенных Штатов, но на Юге их под различными предлогами лишают права голоса, а в самом Вашингтоне, и не только в самом Вашингтоне, а в самом здании, где писались законы, произошел такой случай.
В конгресс от города Чикаго был избран негр по фамилии Деприст. К огорчению белых конгрессменов, он сидел рядом с ними на заседаниях палаты представителей. Но это еще не все. Этот черный человек со своим черным секретарем повадился ходить обедать в столовую конгресса. Его нельзя было выгнать, а на тихие демонстрации негр не обращал никакого внимания. В конце концов придумали прекрасный выход из положения – закрыли столовую. Совсем закрыли столовую конгресса для того, чтобы негр не мог обедать вместе с белыми людьми.
– Вот, вот, сэры, – сказал мистер Адамс, когда, ссадив молодого человека из «ССС», мы ехали дальше, – я расскажу вам замечательную историю о моих друзьях с острова Тринидад. У меня там была знакомая американская семья. Она решила перебраться в Нью-Йорк. Я как раз должен был на год уехать из Нью-Йорка и решил сдать им на это время свою квартиру. Я отрекомендовал их хозяину дома и уехал. Когда я вернулся через год, хозяин набросился на меня чуть ли не с кулаками. «Это безобразие! – кричал он. – Я никогда не думал, что вы так подло меня подведете!» Я очень испугался и стал думать, не наделал ли я какой-нибудь беды. «Не понимаю, в чем я провинился?» – спросил я домовладельца. «Вы поселили в моем доме негров», – простонал хозяин. «Да позвольте, – говорю я, – я поселил у вас моих друзей с острова Тринидад. Это белые люди, такие, как мы с вами. Они прожили на острове тринадцать лет и теперь вернулись в Америку». – «Ах, зачем вы не сказали мне сразу, что ваши друзья жили на острове Тринидад! Я бы их ни за что к себе не пустил!» – «Что случилось?» – спросил я. «Случилось то, что все мои жильцы в один голос говорят про ваших друзей, будто в них есть примесь негритянской крови. Там есть бабушка, у нее чересчур курчавые волосы. Это установлено. Один жилец уже выехал. Остальные говорят, что, если я не выселю этих негров, они нарушат контракт и уедут». Нет, серьезно, сэры, было бы глупо думать, что неграм в Нью-Йорке живется хорошо. Вот в нашем доме есть лифтер-негр – это другое дело.
В Северной Каролине стало холодно, а в Вирджинии еще холоднее. Редкий дождик поливал крышу нашего кара весь последний день путешествия. До Вашингтона оставались считаные мили, и мистер Адамс боялся, как бы вода не начала подмерзать. Показались плакаты, рекламирующие вашингтонские отели.
– Стоп! Стоп! – закричал вдруг мистер Адамс.
Машина остановилась.
– Сэры! – торжественно сказал он. – Хотите знать, что такое Америка?
– Хотим, – ответили мы.
– В таком случае смотрите.
И мистер Адамс указал рукой на плакат, который мы чуть было не проехали.
Мы увидели большую картину чрезвычайно трогательного содержания. Была изображена прелестная молодая мать типа Греты Гарбо с прелестной девочкой (типа Ширли Темпл) на руках. Позади стоял чудный ангел-хранитель с лицом голливудского кинолейтенанта и с большими крыльями.
– Нет, нет, – кричал мистер Адамс, – подпись! Подпись! Вы знаете, что говорит ангел-хранитель этой доброй маме? Он советует ей положить деньги в банк на имя ребенка. Ангел так добр, что даже объясняет, в какой именно банк следует положить деньги! Нет, серьезно, сэры, вы не хотите понять, что такое Америка.
Когда мы въезжали в Вашингтон, спидометр нашего кара показывал ровно десять тысяч миль.
Мы в последний раз крикнули «ура».
Американская демократия
В дождливый зимний день к берегам Англии причалил маленький грузовой пароход. По мокрым сходням на берег сошел человек без шапки. Одной рукой он поддерживал жену, а другой прижимал к себе ребенка. Со всех сторон на него набросились фотографы, кинооператоры и журналисты. Человек шел напролом, ни на кого не обращая внимания. Только усевшись в такси, он оглянулся на следовавшую за ним толпу, и во взгляде его отразились ненависть и страх.
Этот человек бежал из Америки. Он покинул Америку ночью, когда страна спала, – обманув бдительность самых быстроногих репортеров из Нью-Йорка. Чтобы избежать преследования, он уехал не на комфортабельном пассажирском пароходе, а на старом дрянном грузовичке, где даже не было удобной каюты. И этот человек, покинувший свою родину, был счастлив, когда он очутился в чужой стране.
Это был Чарльз Линдберг, один из самых знаменитых людей на свете, а родиной его были Соединенные Штаты Америки, страна величайшей демократии, как это твердо считают американцы.
Всем, конечно, известно, каковы причины, приведшие Линдберга к необходимости совершить самый серьезный шаг в жизни человека – покинуть отечество. Оказалось, что Америка не в силах охранить неприкосновенность личности национального героя, не в силах отстоять его жилище от вторжения бандитов, не в силах охранить его семью.
Можно не сомневаться в том, что Линдберг любит Америку и что американцы обожают Линдберга. И если вчитаться в текст американской конституции, то легко обнаружить там величавые и справедливые пункты, казалось бы обеспечивающие общее благо. И все-таки Линдберг бежал, а конституция в капиталистической стране есть лишь красивая бронзовая таблица или не менее красивый пергамент, хранящийся в сейфе законодательного учреждения.
От истории знаменитого человека перейдем к истории обыкновенной американки, для которой, так же как и для Линдберга, писались громовые слова конституции Соединенных Штатов.
У этой американки были семнадцатилетняя дочь и взрослый сын. Однажды девушка не вернулась домой. Ее не было всю ночь. На другой день она тоже не явилась. Девочка исчезла. Ее искала полиция и не нашла. Мать считала свою дочь погибшей. Прошел год. И вот как-то приятель ее сына сообщил ему страшную новость. Он видел девушку, которую считали погибшей, в тайном публичном доме. (Официально считается, что в Америке нет проституции. На самом деле там есть множество тайных публичных домов.) Брат сейчас же под видом клиента отправился в притон. Там он действительно увидел свою сестру. Он узнал ее с трудом, так ужасно изменилась молодая девушка. То, что она ему рассказала, было еще ужаснее. Ее похитили и продали.
– Я погибла, – сказала девушка, – и не пытайся спасти меня. Люди, которые меня похитили, настолько сильны, что с ними никто не может бороться. Они не постесняются убить тебя или меня.
Тем не менее борьба началась. Мать обратилась в полицию – из этого ничего не вышло. За спиной бандитов стояли какие-то неизвестные, но необыкновенно сильные люди. Мать обратилась в суд. Адвокат бандитов доказал, что девушка является старой проституткой и что угрозу для общества представляет именно она, а не похитившая ее шайка. Верховный суд штата тоже решил дело в пользу бандитов. Не помогла матери и поездка в Вашингтон. Вашингтон просто не имеет власти над судом штата. Вот и все. Девушка осталась в публичном доме.
Это произошло в стране, где декларирована свобода слова. Матери девушки была предоставлена свобода не только говорить, но и кричать. Она кричала, но ее никто не услышал.
Это произошло в стране, где декларирована свобода печати. Но ни одна газета ничего не написала об этом деле. Где были эти ловкие, неутомимые, быстроногие репортеры, от проницательного взора которых не ускользает ни одно ограбление, ни одна богатая свадьба, ни один шаг кинозвезды даже четвертого класса?
Это произошло в стране, где декларирована неприкосновенность личности. Но бедная личность сидела в публичном доме, и никакие силы не могли ее вызволить. Кажется, встань из гроба сам Авраам Линкольн – и тот ничего не смог бы сделать. Вряд ли помогли бы ему даже пушки генерала Гранта!
Почему-то каждый раз, когда начинаешь перебирать в памяти элементы, из которых складывается американская жизнь, вспоминаются именно бандиты, а если не бандиты, то ракетиры, а если не ракетиры, то банкиры, что, в общем, одно и то же. Вспоминается весь этот человеческий мусор, загрязнивший вольнолюбивую и работящую страну.
Что может быть радостней свободных выборов в демократической стране, граждане которой по конституции обеспечены всеми правами на «свободу и стремление к счастью»? Принарядившиеся избиратели идут к урнам и нежно опускают в них бюллетени с фамилиями любимых кандидатов.
А на деле происходит то, о чем рассказывал нам чикагский доктор: приходит ракетир-политишен и шантажом или угрозами заставляет голосовать хорошего человека за какого-то жулика.
Итак, право на свободу и на стремление к счастью имеется несомненно, но возможность осуществления этого права чрезвычайно сомнительна. В слишком опасном соседстве с денежными подвалами Уолл-стрита находится это право.
Зато внешние формы демократии соблюдаются американцами с необыкновенной щепетильностью. И это, надо сказать правду, производит впечатление.
Генри Форд по положению своему в американском обществе – фигура почти недосягаемая. И вот однажды он вошел в одно из помещений своего завода, где находилось несколько инженеров, пожал всем руки и стал говорить о деле, из-за которого пришел. Во время разговора у старого Генри был очень обеспокоенный вид. Его мучила какая-то мысль. Несколько раз он останавливался на полуслове, явно пытаясь что-то вспомнить. Наконец он извинился перед собеседниками, прервал разговор и подошел к молоденькому инженеру, который сидел, забившись в далекий угол комнаты.
– Я очень сожалею, мистер Смит, – сказал мистер Форд, – но я, кажется, забыл с вами поздороваться.
Лишнее рукопожатие не ляжет тяжелым бременем на баланс фордовских автомобильных заводов, а впечатление – громадное. Этого молоденького инженера Форд никогда не пригласит к себе домой в гости, но на работе они равны, они вместе делают автомобили. Многих старых рабочих своего завода Форд знает и называет по имени: «Хелло, Майк!» или: «Хелло, Джон!» А Майк или Джон тоже обращаются к нему – «Хелло, Генри!». Здесь они как бы равны, они вместе делают автомобили. Продавать автомобили будет уже один старый Генри. А старый Майк или старый Джон сработаются и будут выброшены на улицу, как выбрасывается сработавшийся подшипник.
Итак, сделав десять тысяч миль, мы очутились в столице Соединенных Штатов.
Вашингтон – со своими невысокими правительственными зданиями, садами, памятниками и широкими улицами – похож немножко на Вену, немножко на Берлин, немножко на Варшаву, на все столицы понемножку. И только автомобили напоминают о том, что этот город находится в Америке. Здесь на каждые два человека приходится один автомобиль, а на все пятьсот тысяч жителей нет ни одного постоянного театра. Осмотрев дом Джорджа Вашингтона в Маунт-Вернон, побывав на заседании конгресса и на могиле неизвестного солдата, мы обнаружили, что смотреть, собственно, больше нечего. Оставалось только увидеть президента. В Америке это не так уж трудно.
Два раза в неделю, в десять тридцать утра, президент Соединенных Штатов принимает журналистов. Мы попали на такой прием. Он происходит в Белом доме. Мы вошли в приемную, где стоял громадный круглый стол, сделанный из дерева секвойи. Это был подарок одному из прежних президентов. Гардероба не было, и входящие журналисты клали свои пальто на этот стол, а когда на столе не осталось места, стали класть просто на пол. Постепенно собралось около ста человек. Они курили, громко разговаривали и нетерпеливо посматривали на небольшую белую дверь, за которой, как видно, и скрывался президент Соединенных Штатов.
Нам посоветовали стать ближе к двери, чтобы, когда станут пускать к президенту, мы оказались впереди, – иначе может случиться, что за спинами журналистов мы его не увидим. С ловкостью опытных трамвайных бойцов мы протиснулись вперед. Перед нами оказалось только три джентльмена. Это были седоватые и весьма почтенные господа.
Час приема уже наступил, а журналистов все не пускали. Тогда седоватые джентльмены – сперва тихо, а потом громче – стали стучать в дверь. Они стучались к президенту Соединенных Штатов, как стучится помощник режиссера к артисту, напоминая ему о выходе. Стучали со смехом, но все-таки стучали.
Наконец дверь открылась, и журналисты, толкая друг друга, устремились вперед. Мы побежали вместе со всеми. Кавалькада пронеслась по коридору, потом миновала большую пустую комнату. В этом месте мы легко обошли тяжело дышавших седовласых джентльменов и в следующую комнату вбежали первыми.
Перед нами, в глубине круглого кабинета, на стенах которого висели старинные литографии, изображающие миссисипские пароходы, а в маленьких нишах стояли модели фрегатов, – за письменным столом средней величины, с дымящейся сигарой в руке и в чеховском пенсне на большом красивом носу сидел Франклин Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки. За его спиной сверкали звезды и полосы двух национальных флагов.
Начались вопросы. Корреспонденты спрашивали, президент отвечал.
Весь этот обряд, конечно, несколько условен. Всем известно, что никаких особенных тайн президент журналистам не раскроет. На некоторые вопросы президент отвечал серьезно и довольно пространно, от некоторых отшучивался (это не так легко – отшучиваться дважды в неделю от сотни напористых журналистов), на некоторые отвечал, что поговорит об этом в следующий раз.
Красивое большое лицо Рузвельта выглядело утомленным. Только вчера Верховный суд отменил «AAA» – рузвельтовское мероприятие, регулировавшее фермерские посевы и являвшееся одним из стержней его программы.
Вопросы и ответы заняли полчаса. Когда наступила пауза, президент вопросительно посмотрел на собравшихся. Это было понято как сигнал к общему отступлению. Раздалось нестройное: «Гуд-бай, мистер президент!» – и все ушли. А мистер президент остался один в своем круглом кабинете, среди фрегатов и звездных флагов.
Миллионы людей, старых и молодых, которые составляют великий американский народ, честный, шумливый, талантливый, трудолюбивый и немножко чересчур уважающий деньги, по конституции могут сделать все, они хозяева страны. Можно даже самого Моргана, самого Джона Пирпонта Моргана-младшего вызвать на допрос в сенатскую комиссию и грозно спросить его:
– Мистер Морган, не втянули ли вы Соединенные Штаты в мировую войну из корыстных интересов своего личного обогащения?
Спросить народ может. Но вот как мистер Морган отвечает – это мы слышали сами.
И на этот раз все было очень демократично.
Вход в зал, где заседала сенатская комиссия, был свободен. Опять вы были вольны делать с вашим пальто все, что пожелаете, – класть его на пол, запихивать под стул, на котором сидите.
В одном конце небольшого зала находились стулья, в другом – стол, за которым происходил допрос. Стол не был накрыт ни красным сукном, ни зеленым. Это был длинный полированный стол. Все было очень просто. Рядом со стулом миллиардера лежал на полу его толстый, уже не новый портфель. Морган был окружен своими юристами и советчиками. Их было много, десятки людей. Седые и румяные, толстые и лысые или молодые, с пронзительными глазами, – они были вооружены фактами, справками, документами, фолиантами и папками. Вся эта банда моргановских молодцов чувствовала себя совершенно непринужденно.
Председательствовал сенатор Най, с худым вдохновенным, почти русским лицом. (К нему очень пошла бы косоворотка.) Допрос вел сенатор Кларк, круглолицый и веселый. Сразу было видно, что ему нравится допрашивать самого Джона Пирпонта Моргана-младшего.
«Младшему» было семьдесят лет. Это был громадный и тучный старик в долгополом темном пиджаке. На апоплексическом затылке Моргана виднелся цыплячий седой пух. Морган был спокоен. Он знал, что ничего худого с ним не приключится. Его спросят, он посмотрит на своих юристов, те бешено начнут копаться в книгах и подскажут ему ответ.
Это была удивительная картина. Несколько десятков советчиков что-то шептали Моргану на ухо, подсовывали ему бумажки, подсказывали, помогали. Это не Морган говорил – говорили его миллиарды. А когда в Америке говорят деньги, они всегда говорят авторитетно. Ведь есть в Америке любимая поговорка: «Он выглядит как миллион долларов».
Действительно, миллион долларов выглядит очень хорошо.
А Морган, в своем длинном темном пиджаке, похожий на старого толстого ворона, выглядел как несколько миллиардов.
За вызов в сенатскую комиссию вызываемому полагаются суточные, нормальные казенные суточные на прокорм. Джон Пирпонт Морган-младший взял их. Он воспользовался всеми правами, которые дала ему демократическая конституция.
Морган получил все, что ему полагалось по конституции, даже немножко больше. А что получил народ?
На территории Соединенных Штатов Америки живет сто двадцать миллионов человек.
Тринадцать миллионов из них уже много лет не имеют работы. Вместе с семьями это составляет четвертую часть населения всей страны. А экономисты утверждают, что на территории Соединенных Штатов сейчас, уже сегодня, можно было бы прокормить миллиард людей.
Беспокойная жизнь
Путешествие пришло к концу. За два месяца мы побывали в двадцати пяти штатах и в нескольких сотнях городов, мы дышали сухим воздухом пустынь и прерий, перевалили через Скалистые горы, видели индейцев, беседовали с молодыми безработными, старыми капиталистами, радикальными интеллигентами, революционными рабочими, поэтами, писателями, инженерами. Мы осматривали заводы и парки, восхищались дорогами и мостами, подымались на Сиерра-Неваду и спускались в Карлсбадские пещеры. Мы проехали десять тысяч миль.
И в течение всего пути нас не покидала мысль о Советском Союзе.
На громадном расстоянии, отделяющем нас от советской земли, мы представляли ее себе с особенной четкостью. Надо увидеть капиталистический мир, чтобы по-новому оценить мир социализма. Все достоинства социалистического устройства нашей жизни, которые от ежедневного соприкосновения с ними человек перестает замечать, на расстоянии кажутся особенно значительными. Мы поняли настроение Максима Горького, который, приехав в Союз после долгих лет жизни за границей, неустанно, изо дня в день, повторял одно и то же: «Замечательное дело вы делаете, товарищи! Большое дело!»
Мы все время говорили о Советском Союзе, проводили параллели, делали сравнения. Мы заметили, что советские люди, которых мы часто встречали в Америке, одержимы теми же чувствами. Не было разговора, который в конце концов не свелся бы к упоминанию о Союзе: «А у нас то-то», «А у нас так-то», «Хорошо бы это ввести у нас», «Это у нас делают лучше», «Этого мы еще не умеем», «Это мы уже освоили». Советские люди за границей – не просто путешественники, командированные инженеры или дипломаты. Все это влюбленные, оторванные от предмета своей любви и ежеминутно о нем вспоминающие. Это особенный патриотизм, который не может быть понятен, скажем, американцу. По всей вероятности, американец – хороший патриот. И если его спросить, он искренне скажет, что любит свою страну, но при этом выяснится, что он не любит Моргана, не знает и не хочет знать фамилии людей, спроектировавших висячие мосты в Сан-Франциско, не интересуется тем, почему в Америке с каждым годом усиливается засуха, кто и зачем построил Боулдер-дам, почему в Южных штатах линчуют негров и почему он должен есть охлажденное мясо. Он скажет, что любит свою страну. Но ему глубоко безразличны вопросы сельского хозяйства, так как он не сельский хозяин, промышленности, так как он не промышленник, финансов, так как он не финансист, искусства, так как он не артист, и военные вопросы, так как он не военный. Он – трудящийся человек, получает свои тридцать долларов в неделю и плевать хотел на Вашингтон с его законами, на Чикаго с его бандитами и на Нью-Йорк с его Уолл-стритом. От своей страны он просит только одного – оставить его в покое и не мешать ему слушать радио и ходить в кино. Вот когда он сделается безработным, тогда – другое дело. Тогда он будет обо всем этом думать. Нет, он не поймет, что такое патриотизм советского человека, который любит не юридическую родину, дающую только права гражданства, а родину осязаемую, где ему принадлежат земля, заводы, магазины, банки, дредноуты, аэропланы, театры и книги, где он сам политик и хозяин всего.
Средний американец терпеть не может отвлеченных разговоров и не касается далеких от него тем. Его интересует только то, что непосредственно связано с его домом, автомобилем или ближайшими соседями. Жизнью страны он интересуется один раз в четыре года – во время выборов нового президента.
Мы не утверждаем, что это отсутствие духовности есть органическое свойство американского народа. Ведь шли же когда-то северные армии освобождать негров от рабства! Такими сделал людей капитализм, и он всемерно поддерживает в них эту духовную вялость. Страшны преступления американского капитализма, с удивительной ловкостью подсунувшего народу пошлейшее кино, радио и еженедельное журнальное пойло и оставившего для себя Толстого, Ван-Гога и Эйнштейна, но глубоко равнодушного к ним.
На свете, в сущности, есть лишь одно благородное стремление человеческого ума – победить духовную и материальную нищету, сделать людей счастливыми. И те люди в Америке, которые поставили своей целью этого добиться, – передовые рабочие, радикальные интеллигенты – в лучшем случае считаются опасными чудаками, а в худшем случае – врагами общества. Получилось так, что даже косвенные борцы за счастье человечества – ученые, изобретатели, строители – в Америке не популярны. Они с их трудами, изобретениями и чудесными постройками остаются в тени, вся слава достается боксерам, бандитам и кинозвездам. А в народе, который видит, что с увеличением числа машин жизнь становится не лучше, а хуже, существует даже ненависть к техническому прогрессу. Есть люди, готовые разбить машины, подобно тонущему человеку, который в отчаянном желании выкарабкаться из воды хватает своего спасителя за горло и тащит его на дно.
Уже говорилось, что американец, несмотря на свою деловую активность, натура пассивная. Какому-нибудь Херсту или голливудскому дельцу удается привести хороших, честных, работящих средних американцев к духовному уровню дикаря. Однако даже эти всесильные люди не в состоянии вырвать у народа мысль об улучшении жизни. Такая мысль в Америке очень популярна. И вот большие и маленькие Херсты убеждают своих читателей, что американцы – натуры особенные, что «революция – это форма правления, возможная только за границей». А избирателю навязываются политические идеи, уровень которых не превышает уровня средней голливудской картины. И такие идеи имеют колоссальный успех.
Все эти политические идеи, которые должны облагодетельствовать американский народ, обязательно подаются в форме легкой арифметической задачи для учеников третьего класса. Для того чтобы понять идею, избирателю нужно взять только листок бумаги, карандаш, сделать небольшое вычисление – и дело в шляпе. Собственно, все это не идеи, а трюки, годные лишь для рекламы. И о них не стоило бы упоминать, если бы ими не были увлечены десятки миллионов американцев.
Как спасти Америку и улучшить жизнь?
Хью Лонг советует разделить богатства. На сцену выступают лист бумаги и карандаш. Избиратель, пыхтя, складывает, умножает, вычитает и делит. Это страшно интересное занятие. Ну, и молодчина этот Хью Лонг! Каждый получит большую сумму! Люди так увлечены этой начальной арифметикой, что совсем не думают о том, как эти миллионы взять.
Как улучшить жизнь? Как спасти Америку?
Появляется новый гигант мысли, вроде Сократа или Конфуция, врач мистер Таунсенд. Мысль, которая пришла в многодумную голову этого почтенного деятеля медицины, где-нибудь в маленькой европейской стране могла бы родиться только в психиатрической больнице, в палате для тихих, вежливых и совершенно безнадежных больных. Но в Америке она имеет умопомрачающий успех. Тут даже не надо возиться с вычитаниями и умножениями. Тут уж совсем просто. Каждый старик и каждая старуха в Соединенных Штатах, достигшие шестидесяти лет, получат по двести долларов в месяц с обязательством эти доллары тратить. Тогда механически увеличится торговля и механически исчезнет безработица. Все происходит механически!
Мы видели звуковую кинохронику собрания таунсендовского комитета под управлением самого мыслителя. Собрание началось с того, что мистер Таунсенд, тощий старик с веснушчатым лицом, в очках и старомодном сюртуке, сделал небольшое сообщение о своем плане.
– Леди и джентльмены, – начал он, откашлявшись, – я не спал многие ночи, пока придумывал свой план.
Если бы Марк Твен мог посмотреть на этого веснушчатого старичка, такого методичного, аккуратного и, вероятно, богобоязненного! Можно не сомневаться, что именно такой старичок, придя из церковного мюзик-холла сестры Макферсон, взвешивается сам и взвешивает свою семью, чтобы высчитать, сколько пенни с живого веса он должен заплатить через посредство уважаемой сестры господу богу.
После мистера Таунсенда выступали наполнившие зал старики и старухи. Они выходили на сцену и задавали вопросы, на которые мыслитель отвечал.
– Значит, выходит, я буду получать по двести долларов? – спрашивал старик.
– Да, если мой план пройдет, – твердо отвечал мыслитель.
– Каждый месяц?
– Каждый месяц.
– Ну, спасибо, – говорил старик.
И освобождал место для следующей за ним старухи.
– Скажите, мистер Таунсенд, – спрашивала она, волнуясь, – нас тут два старика – я и мой муж. Неужели мы оба будем получать по двести долларов?
– Да, оба, – важно отвечал мыслитель.
– Значит, всего четыреста долларов?
– Совершенно верно, четыреста долларов.
– Я еще получаю семнадцать долларов пенсии. У меня ее не отнимут?
– Нет, вы будете получать и пенсию.
Старуха низко кланялась и уходила.
Когда мы уезжали из Америки, количество почитателей Таунсенда росло с пугающей быстротой. Уже ни один политический деятель не осмеливался накануне выборов выступить против гениального доктора.
Но американские капиталисты понимают, что кинокартин, радиопередач, рассказов в еженедельниках, плакатов о революции, «которой в Америке не может быть», церкви и арифметических планов может оказаться недостаточно. И уже растут «американские легионы» и «лиги свобод», понемногу воспитываются фашистские кадры, чтобы в нужный момент превратиться в самых настоящих штурмовиков, которым будет приказано задушить революционное движение силой.
Америка богата. И не просто богата. Она богата феноменально. У нее есть все – нефть, хлеб, уголь, золото, хлопок – все, что только может лежать под землей и расти на земле. У нее есть люди – прекрасные работники, способные, аккуратные, исполнительные, честные, трудолюбивые. К своему обогащению Америка шла быстрыми шагами. Страна напоминает человека, делающего стремительную карьеру, который сперва торгует с лотка подтяжками на Ист-Сайде, потом открывает магазин готового платья и переезжает в Бруклин. Потом открывает универсальный магазин, начинает играть на бирже и переезжает в Бронкс. И наконец, покупает железную дорогу, сотню пароходов, две кинофабрики, строит небоскреб, открывает банк, вступает в гольф-клуб и переезжает на Парк-авеню. Он миллиардер. Всю жизнь он стремился к этой цели. Он торговал чем придется и как придется. Он разорял людей, спекулировал, с утра до вечера сидел на бирже, он трудился по шестнадцать часов в день, он делал деньги. С мыслью о деньгах он просыпался. С этой же мыслью он засыпал. И вот он чудовищно богат. Теперь он может отдохнуть. У него есть виллы у океана, у него есть яхты и замки. Но он заболевает неизлечимой болезнью. Он гибнет, и никакие миллиарды не могут его спасти. Стимулом американской жизни были и остались деньги. Современная американская техника выросла и развилась для того, чтобы быстрей можно было делать деньги. Все, что приносит деньги, развивалось, а все, что денег не приносит, вырождалось и чахло. Газовые, электрические, строительные и автомобильные компании в погоне за деньгами создали очень высокий уровень жизни. Америка поднялась до высокой степени благосостояния, оставив Европу далеко позади себя. И вот тут-то выяснилось, что она серьезно и тяжело больна. И страна пришла к полному абсурду. Она в состоянии сейчас, сегодня прокормить миллиард людей, а не может прокормить свои сто двадцать миллионов. Она имеет все, чтобы создать людям спокойную жизнь, а устроилась так, что все население находится в состоянии беспокойства: безработный боится, что никогда уже не найдет работы, работающий боится свою работу потерять, фермер боится неурожая, потому что цены вырастут и ему придется покупать хлеб по дорогой цене, он же боится урожая, потому что цены упадут и хлеб придется продавать за гроши, богачи боятся, что их детей украдут бандиты, бандиты боятся, что их посадят на электрический стул, негры боятся суда Линча, политические деятели боятся выборов, человек среднего достатка боится заболеть, потому что доктора заберут у него все его состояние, купец боится, что придут ракетиры и станут стрелять в прилавок из пулемета.
В основе жизни Советского Союза лежит коммунистическая идея. У нас есть точная цель, к которой страна идет. Вот почему мы, люди, по сравнению с Америкой, покуда среднего достатка, уже сейчас гораздо спокойнее и счастливее, чем она – страна Моргана и Форда, двадцати пяти миллионов автомобилей, полутора миллионов километров идеальных дорог, страна холодной и горячей воды, ванных комнат и сервиса. Лозунг о технике, которая решает все, был дан Сталиным после того, как победила идея. Вот почему техника не кажется нам вышедшим из бутылочки злым духом, которого в эту бутылочку никак нельзя загнать обратно. Наоборот. Мы хотим догнать техническую Америку и перегнать ее.
Америка не знает, что будет с ней завтра. Мы знаем и можем с известной точностью рассказать, что будет с нами через пятьдесят лет.
И все-таки мы можем очень многому научиться у Америки. Мы это делаем, но уроки, которые мы берем у Америки, эпизодичны и слишком специальны.
Мы первым долгом должны изучить Америку, изучить не только ее автомобили, турбогенераторы и радиоаппараты (это мы делаем), но и самые приемы работы американских рабочих, инженеров, деловых людей, в особенности деловых людей, потому что если наши стахановцы перекрывают нормы американских рабочих, а инженеры часто не уступают американским (об этом мы слышали от самих американцев), то многие наши деловые люди или хозяйственники значительно отстали еще от американских деловых людей в точности и аккуратности работы.
Мы не будем сейчас говорить о достоинствах наших хозяйственников, об их идейности, работоспособности. Это достоинства коммунистической партии, их воспитавшей. Не будем мы говорить и о недостатках американских деловых людей – об их безыдейности, алчности, беспринципности. Это недостатки воспитавшего их капитализма. Для нас гораздо важнее сейчас изучение их достоинств и наших недостатков, потому что нам необходимо у них учиться. У них должны учиться не только инженеры, но и хозяйственники – наши деловые люди.
У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своем офисе, сняв пиджак, и работает. Работает тихо, незаметно, бесшумно. Он никуда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приемной, потому что «аппойнтмент» (свидание) назначается обычно с абсолютной точностью и на разговор не уходит ни одной лишней минуты. Занимается он только делом, исключительно делом. Когда он заседает – неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко.
Если американец сказал в разговоре, даже мельком: «Я это сделаю», ему ни о чем не надо будет напоминать. Все будет сделано. Уменье держать слово, держать крепко, точно, лопнуть, но сдержать слово, – вот самое важное, чему надо учиться у американских деловых людей.
Мы писали об американской демократии, которая на деле не дает человеку никаких свобод и только маскирует эксплуатацию человека человеком. Но в американской жизни есть явление, которое должно заинтересовать нас не меньше, чем новая модель какой-нибудь машины. Явление это – демократизм в отношениях между людьми. Хотя этот демократизм также прикрывает социальное неравенство и является чисто внешней формой, но для нас, добившихся социального равенства между людьми, такие внешние формы демократизма только помогут оттенить справедливость нашей социальной системы. Внешние формы такого демократизма великолепны. Они очень помогают в работе, наносят удар бюрократизму и подымают достоинство человека.
Советский Союз и Соединенные Штаты – эта тема необъятна. Наши записи – всего лишь результат дорожных наблюдений. Нам просто хотелось бы усилить в советском обществе интерес к Америке, к изучению этой великой страны.
Мы выехали из Вашингтона в Нью-Йорк. Еще несколько часов – и поездка по американской земле окончится. В эти последние часы мы думали об Америке. Кажется, в нашей книге мы рассказали все, что думали.
Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка – не премьера новой пьесы, а мы – не театральные критики! Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней.
Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной?
Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется.
Прощай, Америка!
В Нью-Йорке было свежо, дул ветер, светило солнце.
Удивительно красив Нью-Йорк! Но почему становится грустно в этом великом городе? Дома так высоки, что солнечный свет лежит только на верхних этажах. И весь день не покидает впечатление, что солнце закатывается. Уже с утра закат. Наверно, от этого так грустно в Нью-Йорке.
Мы снова вернулись в этот город, где живет два миллиона автомобилей и семь миллионов человек, которые им прислуживают. О, это замечательное зрелище, когда автомобили выходят на прогулку в Сентрал-парк! Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом. В парке есть только автомобильные дороги, пешеходам места оставили очень мало. Нью-Йорк захвачен в плен автомобилями, и автомобили ведут себя в городе, как настоящие оккупанты, – убивают и калечат коренных жителей, обращаются с ними строго, не дают пикнуть. Люди отказываются от многого, лишь бы напоить своих угнетателей бензином, утолить их вечную жажду маслом и водой.
Кроме автомобилей, есть еще один ужасный властелин в Нью-Йорке. Это грохот. Грохот выделывается здесь в громадном количестве. Под землей воет сабвей, над головой гремит надземная железная дорога, сотни тысяч моторов одновременно гудят на улицах, а к ночи, когда шум немного стихает, явственнее слышатся тревожные и длительные сирены полицейских, пожарных и гангстерских автомобилей. Вой приближается, проносится мимо и пропадает где-то вдали. Кого-то застрелили из ревности, кого-то – из ненависти, кого-то – просто не поделив добычи. А может быть, кто-нибудь повесился, отравился, прострелил себе сердце, не вынеся жизни в городе автомобилей, грохота и головной боли.
«Бромо-зельцер» – напиток против головной боли – продается всюду, наравне с апельсиновым соком, кофе и лимонадом. Скоро «бромо-зельцер» будут ставить в меню. Обед будет выглядеть так: на первое – «бромо-зельцер», на второе – «чили», мексиканский суп, на третье – рыба «соль», а на сладкое – опять «бромо-зельцер». И если в одном Нью-Йорке телефонов больше, чем во всей Англии, то, безусловно, в этом же одном Нью-Йорке за день потребляют порошков от головной боли больше, чем в Англии за полгода. В более тихих районах Нью-Йорка квартиры стоят дороже не потому, что они лучше, а потому что здесь меньше шума. В Нью-Йорке торгуют тишиной, и этот товар стоит дорого. Это что-то вроде английского костюма. Дорого – зато хорошо.
В Нью-Йорке нельзя расстаться с чувством тревоги. По самой оживленной улице проезжает вдруг банковский броневик, выкрашенный в ярко-красный цвет. Пулеметы броневика направлены прямо на толпу молодых людей в светлых шляпах, которые прогуливаются с сигарами в зубах.
Так в Нью-Йорке перевозят деньги. Везти их можно только в броневике, иначе расхватают эти самые молодые люди в светлых шляпах. Что-то очень уж подозрительно и грозно они усмехаются, засунув руки в карманы своих узеньких пальто!
Несколько дней мы прощались с нью-йоркскими друзьями, улицами и небоскребами.
В день отъезда мы пришли на Сентрал-парк-вест и поднялись в квартиру мистера Адамса. Дверь нам открыла негритянка, показав такие сияющие африканские зубы, что в передней стало светло.
В столовой мы увидели мистера Адамса, который прижимал к своей груди маленькую бэби. Рядом стояла миссис Адамс и говорила:
– Ты уже держал бэби пять минут. Теперь моя очередь.
– Но, но, Бекки, – отвечал мистер Адамс, – не говори так. Мне больно слушать, когда ты так говоришь.
На столе и на полу валялись распакованные посылки. Среди веревочек и оберточной бумаги лежали самые разнообразные вещи: старый плед, бинокль, воротничок, несколько ключей с большими гостиничными бляхами и еще всякая всячина.
– Вот, вот, сэры, – сказал мистер Адамс, горячо пожимая нам руки, – мои вещи понемножку начинают стекаться ко мне. Остается разослать ключи по гостиницам – и все будет в порядке. Только шляпы нет.
– Все-таки было бы лучше получить ее в Вашингтоне, – назидательно сказала миссис Адамс, ловко выхватив из рук мужа девочку.
– Но, но, Бекки, – застонал Адамс, – ты не должна поступать так. Мы же дали на вашингтонский почтамт распоряжение прислать шляпу сюда. Отпусти бэби, ты чересчур долго держишь ее на руках. Ребенку это вредно. Дай ему побегать по комнате.
Но не успела Бекки спустить девочку на пол, как мистер Адамс с криком: «Нет, нет, серьезно!» – схватил бэби и прижал ее к груди.
Раздался звонок, и в комнату вошел почтальон с посылкой.
– На этот раз это она! – крикнул Адамс.
Да, это была она. Мистер Адамс с торжеством извлек из ящика свою старую любимую шляпу и сейчас же надел ее на голову.
– Идем! – закричал он звонким голосом. – Вы сегодня уезжаете, сэры, а до сих пор еще не подымались на вершину «Импайр Стейт Билдинг». Было бы глупо этого не сделать. Да, да, сэры, если вы хотите знать, что такое Америка, вы должны подняться на «Импайр».
Когда бэби увидела, что ее родителей снова уводят незнакомые джентльмены, которые уже утащили их однажды на два месяца, она заревела. Она топала ножками и кричала, заливаясь слезами: «No more trips!» – «Не надо больше путешествий!»
Родители клялись бэби, что уходят только на пять минут, но она с плачем твердила, что «в тот раз они тоже говорили, что уходят только на пять минут, и не возвращались очень долго».
Спускаясь в лифте, мы еще слышали плач ребенка. У папа энд мама был сконфуженный вид, но неистребимое любопытство светилось в их глазах.
– В шестнадцатый раз подняться на «Импайр», – бормотал мистер Адамс, – это очень, очень интересно, сэры!
В последний раз мы проехали на империале автобуса по Пятой авеню. Манекены с розовыми ушами смотрели на нас из витрин. Между автомобилями пробирались три цирковых слона, приглашая ньюйоркцев посетить вечернее представление. Жизнь шла своим чередом.
Мы поднялись на крышу «Импайр Стейт Билдинг».
Сколько раз, проходя мимо него, мы не могли удержаться от вздохов и бормотанья: «Ах, черт! Ну, ну! Ох, здорово!» – или еще чего-нибудь в этом роде. И поднялись на него только за два часа до отъезда из Америки.
Первый лифт поднял нас сразу на восемьдесят шестой этаж.
Подъем продолжается всего лишь одну минуту. Разумеется, здесь не было видно ни этажей, ни площадок. Мы мчались в стальной трубе, и только уши, как бы наполнившиеся водой, и какой-то странный холодок в области живота давали понять, что мы поднимаемся с необычайной быстротой. Лифт не лязгал и не стучал. Он двигался стремительно, плавно и бесшумно. Только вспыхивали крохотные лампочки у двери, отсчитывая десятки этажей. На площадку восемьдесят шестого этажа мы ступили немного ослабевшими ногами.
Второй лифт доставил пассажиров на крышу здания, и сквозь большие стекла галереи мы увидели Нью-Йорк. Вчера шел снег. На улицах он уже растаял, но на плоских крышах небоскребов еще лежал чистыми, нежными белыми квадратами. Горный воздух на вершинах небоскребов не давал снегу таять.
Невероятный город, оперенный гребенкой молов, лежал внизу. Серый зимний воздух слегка золотился от солнца. По черным узеньким улицам сигали крохотные автомобили и поезда надземных дорог. Городской шум доносился сюда слабо, не было слышно даже воя полицейских сирен. Кругом гордо подымались из полуденного сумрака нью-йоркских улиц небоскребы, сияющие бесчисленными стеклами. Они стояли, как стражи города, вооруженные сверкающей сталью. У мола компании «Кюнард Уайт Стар» виднелся пароход с тремя трубами. Трубы были желтые с черными колечками. Это был «Маджестик», пятьдесят шесть тысяч тонн стали, дерева, ковров и зеркал, – английский пароход, на котором мы сегодня должны были уехать. Но каким маленьким и беспомощным он казался с крыши «Импайра»!
Через два часа мы были уже на пароходе. «Маджестик» шел в свой последний рейс. После него этот еще совсем молодой пароход должен был пойти на слом. С появлением «Нормандии» и «Куин Мэри», новых колоссальных атлантических пароходов, «Маджестик» оказался слишком скромным и тихоходным, хотя он пересекает океан в прекрасное время – шесть дней.
Громада «Маджестика» уже отделилась от стенки мола, когда мы услышали в последний раз:
– Гуд-бай, мистеры! Да, да, да! О, но! Нет, серьезно! Я надеюсь, что вы поняли, что такое Америка!
И над головами провожающих бешено заметались старая верная шляпа мистера Адамса и платочек его жены, мужественного драйвера, – которая дважды перевезла нас через весь материк, никогда не уставая, терпеливая, идеальная спутница в дороге.
Когда «Маджестик» проходил мимо Уолл-стрита, уже стемнело и в небоскребах зажегся свет. В окнах заблестело золото электричества, а может быть, и настоящее золото. Это последнее, золотое видение Америки провожало нас до самого выхода в океан.
«Маджестик» набрал ходу, блеснул прощальный огонек маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер гнал крупную океанскую волну.
1
В текст романа при жизни авторов глава включена не была.
2
Глава была опубликована в первом книжном издании, но исключена из всех последующих.
3
По имеющимся у авторов сведениям, на карте, которая свела с ума бедного географа, Берингова пролива действительно не было. Отсутствие пролива было вызвано головотяпством издательства «Книга и полюс». Виновные понесли заслуженное нака-
зание. Глава издательства был снят с должности и брошен на низовку. Остальные отделались выговором с предупреждением. (Прим. авт.)
4
Временно исполняющий должность председателя Кубанского окружного суда.
5
Здесь: проявление грубости и невежества лицом, облеченным властью.
6
Коопинсоюз – союз кооперативных артелей инвалидов.
7
Центрального управления социального страхования.
8
Пич – символ «британского империализма».
9
Переиначенные культур-абенды: концерты, в которых по понедельникам, то есть по своим выходным дням, участвовали артисты московских театров.
10
Рабис – профсоюз работников искусства.
11
Грек Костано Касфикис (1892—1934) попал в Россию во время Первой мировой войны как военнопленный и в годы нэпа выступал в цирке.
12
Радиолюбителям, мастерившим самодельные приемники.
13
Название, скорее всего, выдуманное, но типичное.
14
Киножурнал, выпускавшийся французской фирмой Gaumont.
15
Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей.
16
АРРК – Ассоциация работников революционной кинематографии.
17
Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество.
18
Бакинская, Московская, Азербайджанская и Татарская ассоциации пролетарских писателей.
19
Здесь: центральное паровое отопление.
20
Ламутами называли тогда эвенов. Шутка связана с только что напечатанной им «Ламутской сказкой», записанной, как указал Сельвинский, со слов ламута Адуканова.
21
Вот конец этой истории. Он нашел машину. Не важно, какая она была – пятьдесят вторая или пятьдесят третья. Важно лишь то, что ее пассажир не заставлял себя просить, а тотчас же согласился помочь, хотя ехал по делу весьма значительному. Финиш был совсем неожиданный. На месте происшествия художник не нашел ни замороженной машины, ни жены. Он не нашел ее также в родильном доме. Только тогда он догадался вернуться домой. Оказалось, что жена ждать не могла, потащилась на свой четвертый этаж и немедленно родила у себя в комнате. Ребенка принимали перепуганные соседки. Пуповину перерезали обыкновенными ножницами, которые впопыхах забыли хотя бы вытереть спиртом. Ожидали заражения крови, гибели матери, гибели ребенка.
Но тут наконец повезло – все окончилось благополучно. Одна беда: ожидали мальчика, а родилась девочка. Но это уже общественного значения не имеет. – Примеч. авт.
22
ГОРТ – городской отдел распределения товаров.
23
Закрытый рабочий кооператив.
24
Матч Москва – Турция состоялся 18 июля и закончился победой Москвы – 7:2. Вечером турки взяли реванш в борьбе – 7:0.
25
Центральное управление народно-хозяйственного учёта.
26
Основатели первого рабочего кооперативного потребительского общества, учрежденного в 1844 году в городе Рочдейле (Англия) группой рабочих-ткачей.
27
Центральная комиссия по улучшению быта учёных.
28
Член коллегии защиты.
29
Оба – защитники сборной команды Киева. Первый раньше выступал за Харьков, второй – за Москву.